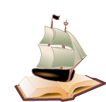По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.
И вот тогда — из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.
Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.
Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.
Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нём с мгновенностью любви.
Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.
Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех её обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.
Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была её ладони
вся невесомость быта и добра.
Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.
И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха иль цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.
Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пёс на свист.
Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите? — грянувший в ночи.
Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала сказала я:
— Не плачь, моё дитя.
— Что вам угодно? — молвил антиквар. —
Здесь всё мертво и не способно к плачу. —
Он, всё ещё надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.
Сведённые враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать всё, что я хочу.
— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, средь слабоумия сомнений,
в уме моём сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!
— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр!
— Фуляр? — Помилуйте, футляр из чёрной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О боже?
Всё, что хотите, но не тот футляр.
Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.
— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы. —
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.
Я сам служу её календарю.
Вот медальон, и в нём портрет ребёнка.
Минувший век. Изящная работа.
И всё это я вам теперь дарю.
…Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в лёгком.
И тьма небес, закрывшихся за ним…
— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?
— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озарённый. —
В нём сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решён.
— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.
Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чём веду я речь.
— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите всё! Мне всё осточертело!
Пусть всё моё теперь уходит к вам.
И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.
Не по чертам его — по черноте,
ожёгшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
ещё до зренья, в первой слепоте.
Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо её внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.
Там — соблазнять ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и всё. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.
— Я молод был сто тридцать лет назад, —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.
О, я любил её не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незваный гость.
Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.
Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.
Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло палёным и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.
Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощённый конь.
Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромен, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.
Три дня гостил, — весь кротость, доброта, —
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.
С тех пор явился горестный намёк
в лице её, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.
Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом её допущена была.
Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нимало,
я сватался второй и третий раз.
В столетие том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.
Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.
Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.
Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.
Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.
А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Всё это ложь, изложенная длинно, —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.
Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.
Но нет, портрет живёт в моём дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.
Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.
Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мненьем занят. И оса — дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.
Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвёт,
страшась, что весть окажется печальна.
Всё та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опалённый светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.
Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мёд и жало.
И у меня своя здесь жертва есть:
вот след в песке — здесь девочка бежала.
Я помню — ту, имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертней.
— Всё пишешь, — я с усмешкой говорю.
Брось, отступись от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.
Как тщетно всё, чего ты ждёшь теперь.
Всё будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.
И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.
Беги не бед — сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.
Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.
— Как поживаете? (О блеск грозы,
смиренный в тонком горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.
(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать: — Живу хоть суетно, но славно,
тем более, что снова вижу вас.)
Она произнесла:
— Я вас браню.
Помилуйте, такая одарённость!
Сквозь дождь! И расстоянья отдалённость! —
Вскричали все:
— К огню её, к огню!
— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, средь музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы:
— В огонь её, в огонь!
За всё! За дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки, с губ, как косточки черешни,
летящие без всякого труда!
Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!
— Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвлённый. —
Но, впрочем, слава поросли зелёной!
Есть прелесть в поколенье молодом.
— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Всё это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлёк меня в беду.
И вдруг я увидала — там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.
Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рождённое вблизи кровопролитья.
В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
ещё не гугенот и не католик.
Ещё птенец, едва поющий вздор,
ещё в ходьбе не сведущий козлёнок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казнённых.
Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твоё цветочным млеком мёда,
в его опрятной маленькой крови
живёт глоток чужого кислорода.
Он лакомка, он хочет пить ещё,
не знает организм непросвещённый,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресечённой.
Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далёких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для лёгких.
Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.
Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нём взойдёт отрава?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?
Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.
И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.
А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.
Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло
всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объяснённой в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.
Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —
при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли…
О чём, бишь? Да о друге знаменитом,
Свирепей дружбы в мире нет любви.
Весь вечер спор, а вам ещё не вдоволь,
и всё о нём и всё в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.
Когда б досель была я молодая,
всё б спорила до расцветанья щёк.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрёк.
О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.
Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.
— О нём? — О нём. — И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. —
Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознёсся над землёй.
Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошёл, а я ещё кричала.
Проходит жизнь, а я ещё кричу.
О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Всё остальное я переживу.
Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.
Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.
О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрёт, как снег, и превратится в грязь.
Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!
По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.
Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.
Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.
Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.
Я обращу в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу — но лишь на миг, на миг.
 - Стихотворения 117K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Белла Ахатовна Ахмадулина
- Стихотворения 117K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Белла Ахатовна Ахмадулина