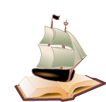| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Друг детства (fb2)
 - Друг детства 813K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Евгения Георгиевна Перова
- Друг детства 813K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Евгения Георгиевна ПероваЕвгения Перова
Друг детства
Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения считать случайными
Фото автора на обложке – С. Курбатов
В оформлении обложки использована репродукция картины художника Висенте Ромеро Редондо
Глава 1
Лялька и Сашенька
Едкий дымок мандариновой корки.Колкий снежок. Деревянные горки.Всё это видел я тысячу раз.Что же так туго натянуты нервы?Сердце колотится, слезы у глаз.В тысячный – скучно, но в тысяча первый…Александр Кушнер
Толстенькая маленькая девочка с короткими косичками, недоверчиво насупившись и выпятив животик, прижимается к ногам бабушки, которая подталкивает ее вперед:
– Ляля, посмотри, какой мальчик! Это Сашенька!
Мальчик Сашенька, спрятавшись за маму, смотрит на нее как перепуганный цыпленок.
– Ты уже большая девочка, а он еще маленький. Видишь? Ты же не станешь его обижать?
Мальчик и правда маленький, хотя младше Ляли всего на год – худенький, светловолосый и кареглазый. Он уже надул губы, собираясь заплакать, но тут Ляля решительно взяла его за руку:
– Пойдем. Я что-то тебе покажу.
– Что?
– Секретик!
И повела его в сад, где под кустом смородины в земле была ямка, прикрытая стеклышком, а там что-то яркое, блестящее и разноцветное – сокровища! Вот с этого момента Сорокин себя и помнил – как будто появился на свет только тогда, когда Лялька взяла его за руку. Он долго не задумывался, почему это они живут в доме Бахрушиных – живут и живут, надо же им где-то жить. Они – это мама Таня, папа Гриша и он сам, Сашенька. Сорокины заняли западную часть дома: две комнаты и веранду, а кухня была общая, одна на всех; общим был и сад-огород, где они с Лялькой прятали свои секретики, подъедали раннюю клубнику с грядок, строили шалаши и охотились на бабочек. А жили они у Бахрушиных потому, что в коммуналке, где у Сорокиных имелась комната, существовать было совершенно невозможно: соседи-алкаши устраивали бесконечные скандалы, и маленький Саша рос нервным, плаксивым, пугался громких звуков и все время болел. Сорокины провели у Бахрушиных лето, да так и остались – почти на десять лет.
Бабушка Наталья Львовна, пухлая, мягкая и огромная, как большая сказочная медведица, говорила басом, но была совсем не страшная, а очень добрая. Дедушку Михаила Ивановича Саша побаивался и не очень запомнил – тот почти не выходил из своей комнаты и умер, когда они с Лялей пошли в первый класс. Сначала Саша думал, что у Ляли никого больше нет, ни мамы, ни папы, но оказалось, мама есть, просто она приезжает только на выходные.
Ляля ждала ее с таким жадным нетерпением, что к пятнице просто заболевала: а вдруг мама не приедет?! Когда появился Сашенька, она слегка отвлеклась: надо было за ним присматривать, он же маленький, а она большая девочка. Постепенно Лялька научилась спокойней переживать разлуку с матерью и больше не рыдала по воскресеньям, а брала Сашу за руку и поворачивалась спиной: «Пока, мама!» – не видя, как Инна с тоской смотрит ей вслед.
Лялька действительно была большая – крупная, в бабушку, и с возрастом начала переживать, что не удалась в красавицу-мать. Увидев Инну Михайловну в первый раз, Сашка обомлел. Ему было всего четыре, но и тогда он очень хорошо почувствовал ее необыкновенную притягательность. Инна поражала не классической правильностью черт – трудно было даже понять, красива ли она на самом деле, но она так искрилась жизнью и энергией, что просто завораживала. Более мелкая и хрупкая, чем Наталья Львовна, она тем не менее очень на нее походила. Во всех них, бахрушинских женщинах, было нечто общее: удивительная женственность, покорявшая мужчин – даже таких маленьких, как Сашка! – с первого взгляда.
Саша называл ее, не умея выговорить правильно «тетя Инна» – «Тити€на», и это имя приросло к Инне намертво. Что-то французское, кафешантанное звенело в этом легком соединении двух «ти», хотя в характере самой Инны ничего от «Фоли-Бержер» и в помине не было: умная, насмешливая, даже язвительная, она недавно защитила диссертацию и преподавала на филфаке, где студенты лезли из кожи, чтобы заслужить ее улыбку или поймать смеющийся взгляд из-под слегка приподнятой брови – фамильная особенность бахрушинских женщин, действующая на мужчин подобно выстрелу в упор.
Так же долго Сашка не задумывался, кем они с Лялькой друг другу приходятся – только во втором классе они озаботились этой проблемой, решив срочно пожениться, и отправились к бабушке выяснять степень родства, а то Ляля, которая знала все на свете, говорила, что родственникам жениться нельзя! Бабушка, с трудом удерживаясь от смеха, долго объясняла им суть дела: оказалось, что его мама – Татьяна Сорокина – приемная дочь дедушкиного брата Николая Ивановича Бахрушина, его падчерица. Так что формально они с Лялькой троюродные брат с сестрой, а на самом деле – никто! Лялька поняла, а он нет, но решил просто поверить. Бабушка уговорила их подождать еще немножко, а к третьему классу срочная необходимость жениться как-то отпала сама собой. Конечно, они выглядели просто уморительной парочкой: толстушка Лялька, басовито гудевшая, как большая пчела, и мелкий хрупкий Сашенька со звонким голоском, еле достававший ей до плеча. Несмотря на детскую полноту, Ляля была очень резвая – все время куда-то бежала, лезла, прыгала и откуда-нибудь падала, а Сашенька еле-еле за ней поспевал и то и дело затевался плакать.
Саша так привык называть Наталью Львовну бабушкой, что и в классе продолжал – по привычке. Наталья Львовна взяла их напоследок: после смерти мужа ей тяжело было оставаться в школе, в которой он директорствовал больше двадцати лет. И на первом же уроке Сашка, подняв руку и гордясь, как он все делает правильно, спросил:
– Бабушка, а на перемене можно домой пойти? – Школа была совсем недалеко от дома. Все засмеялись, и Сашку начали дразнить «бабушкой», но скоро перестали, потому что Лялька живо расправилась с обидчиками, треснув одного портфелем, а другого книжкой – она и в классе была самой крупной, тем более что пошла в школу с восьми лет, проболев всю осень и зиму предыдущего года.
Все относились к их дружбе как к чему-то само собой разумеющемуся: в классе было несколько Александров, и когда хотели уточнить, всегда добавляли – «Лялькин» Саша! И даже учителя порой оговаривались, называя его Бахрушиным, но Сашке это даже нравилось – ему перепадал луч семейной славы: мало того, что учила их Наталья Львовна, а дед еще совсем недавно был директором, сама школа носила неофициальное название «Бахрушинской», так же как поселковые больница и библиотека, построенные Лялькиным прадедом, Иваном Евграфовичем.
Иван был третьим сыном Евграфа Дмитриевича Бахрушина – предпринимателя, дальнего родственника двух других Бахрушиных – Алексея Петровича и Алексея Александровича, прославившихся на ниве коллекционерства и меценатства. Потомственный почетный гражданин, выборный Московского биржевого общества, гласный Московской городской думы, а также попечительского совета Александровской больницы Московского купеческого общества – и прочая, и прочая, и прочая! – Евграф Дмитриевич с некоторым недоумением смотрел на своего младшего сына, который, вопреки сказкам, дураком никак не был, но тоже сильно выбивался из общей семейной картины, поскольку сызмальства увлекался исключительно наукой.
Смирившись, отец отправил его учиться в заграницы, надеясь, что со временем сын образумится и начнет приносить пользу семье. Сын не образумился, но пользу неожиданно приносить начал, внедряя в отцовские мануфактуры достижения современной европейской науки и техники. Некоторые достижения никак не желали сочетаться с русским менталитетом, а некоторые прижились и даже оказались вполне прибыльны. Но к предпринимательству сын так и не прибился, а служил главным инженером по железнодорожному ведомству, считая строительство железных дорог для России делом чрезвычайно важным и необходимым. Так что, когда дело дошло до продления линии Ранненбург – Павелец до самой Москвы, о чем подавали многочисленные ходатайства земства и городские общества Рязанской и Московской губерний, Иван Бахрушин безвозмездно передал дороге девять десятин из тех земель, что достались ему в наследство от двоюродной тетки.
Недалеко от будущей железнодорожной станции он построил дом, а остальную землю нарезал на участки по 500–600 квадратных саженей и стал продавать желающим под строительство дач – так что отцовская жилка в нем все-таки была. Правда, полученные деньги пошли на благоустройство того же самого дачного поселка, окрещенного жителями ближайшей местной деревни «Крольчатником» – почему именно, неизвестно.
Место было прекрасное, заповедное – сосновый лес, пруды, в трех верстах знаменитый монастырь, куда вела дорога, обсаженная плакучими березами. На пустоши Иван начал разбивать парк, построил водокачку и одним из первых в Московской губернии провел электричество. После Октябрьской революции он так и работал на железной дороге, а его жена Мария Никифоровна, окончившая в свое время Бестужевские курсы, учительствовала в им же построенной школе. Бахрушиных, к счастью, не затронули никакие партийные чистки, и они благополучно дожили до старости в своем доме, над которым – как и над всем поселком – нависала страшная тень Бутовского полигона смерти, находившегося совсем недалеко: расстрелов, слава богу, слышно не было, но черные воронки-душегубки порой встречались запоздалым путникам на ночных дорогах.
Детей у них было пятеро: Александр, Софья, Михаил, Николай и Машенька – поздняя, неожиданная, самая любимая и балованная, она умерла первой, провалившись весной под талый лед на пруду: вытащили, спасли, но воспаление легких все-таки свело ее через месяц в могилу. Александр погиб под Кенигсбергом; Михаил прошел войну без единой царапины и благополучно вернулся домой; Софья вышла замуж и уехала на край земли, на Камчатку; а Николай пошел в отца – стал крупным ученым и работал в «ящике», участвуя в разработке какого-то непостижимо мощного и засекреченного оружия, но довольно быстро умер, получив несовместимую с жизнью дозу облучения, чего родные, впрочем, так никогда и не узнали.
В такую вот семью и вошла летом 1946 года Наталья Львовна Гринберг. Впрочем, Гринберг она была по мужу, от которого ее за три дня увел лихой майор Мишка Бахрушин – кудрявый, усатый, вся грудь в орденах! – куда ее унылому штатскому супругу было с ним тягаться. Наталья выросла сиротой – ее родители получили по десять лет без права переписки и сгинули в Колымских лагерях. Воспитывала ее троюродная сестра матери, женщина добрая, но на всю жизнь напуганная, так что Наташа Соколова с радостью вышла за первого попавшегося Гринберга, лишь бы не сойти с ума вместе с теткой, у которой по всем углам были припрятаны котомочки на случай ареста.
С Бахрушиным они жили весело и шумно – оба были темпераментными, заводными, так что дым шел коромыслом: и дверьми хлопали, и тарелки били, все случалось. Но обожали друг друга страшно, и дочку свою любили и баловали, так что выросла Инна умной, уверенной в себе красавицей, и замуж вышла не сломя голову, как мать, а хорошенько подумав и рассчитав – поклонников тьма, но замужество дело серьезное. Однако никакие расчеты не помогли, и чуть ли не по науке заключенный брак развалился, не успев толком начаться. Инна не учла только одного: она как-то выпустила из виду любовь, а оказалось, что без нее невозможно.
Когда Саша с Лялей перешли в пятый класс и Наталья Львовна с облегчением ушла на пенсию, Инна неожиданно вернулась домой. Только став взрослым, Сашка узнал все подробности сложной жизни Тити€ны: оказывается, через пару лет брака Инна неожиданно – в первую очередь для себя самой! – влюбилась и ушла от мужа. Вопреки всякому рассудку и здравому смыслу. И как ни умолял ее муж вернуться, как ни валялся в ногах, она не изменила своего решения даже ради дочери. Отец приезжал к Ляльке по нескольку раз в год, а на день рождения обязательно – и каждый раз это кончалось мелодраматическими сценами между ним и бывшей женой – с заламыванием рук и рыданиями. Рыдал и заламывал руки – Сергей. А Инна, повернувшись к нему спиной, курила, выпуская дым в форточку. Ну не любила она его, не любила! И упряма была – вся в отца.
Ни мать, ни отец не одобряли ее нового выбора, но что было делать! «Тот человек», как называли его взрослые, был обременен семьей и почему-то не мог развестись, хотя они с Инной и жили вместе. Именно поэтому Лялька оставалась у деда с бабкой, а Инна приезжала к ней лишь на выходные – дед наотрез отказался принимать в своем доме «того человека».
А теперь «тот человек» умер, и Инна вернулась к родителям погасшая, тусклая. «Возвращение блудной дочери», – так называла она это событие.
Какое-то время она еще ездила в институт, где работала вместе с «тем человеком», но потом уволилась и пришла преподавать литературу в «Бахрушинскую» школу, став их с Лялькой классной руководительницей.
Надо сказать, Сашка ждал этого с некоторым ужасом – Тити€на очень его смущала и даже… пугала. Прежде она относилась к нему снисходительно, ласково дразнила «щеночком» и чесала за ушком, но не обращала особого внимания. А Сашка и впрямь словно щеночек таращил на нее свои карие глаза, «вилял хвостиком», перебирал лапками и пыхтел – только что язык не высовывал! Но однажды Саше пришлось простоять перед Инной целую вечность: как-то он случайно наступил ей на ногу и она, удержав его за руку, сказала:
– Ты должен извиниться.
Сашка окаменел. Он впал в какой-то обморок застенчивости и никак – никак! – не мог выговорить слова извинения. Инна что-то шила, сидя на садовой скамейке, а он стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу, как будто она и его пришила к себе крепкой ниткой. Соскучившись, прибежала Лялька:
– Мама, ну что ты его мучаешь! Давай я за него извинюсь! Он еще маленький!
– Маленький, но мужчина. Он должен отвечать за свои поступки.
Собравшись с силами, он буркнул: «Извините!» и опрометью помчался в дальние кусты – на нервной почве страшно захотелось писать. И вот теперь Инна Михайловна будет их учить! А вдруг она перед всеми назовет его щеночком?! Или опять так же унизит?! Но в школе Тити€на была совсем другая, более спокойная и не такая насмешливая. Конечно! Конечно, они все тут же в нее влюбились, смотрели ей в рот, трепетали, старались изо всех сил, чтобы заслужить пятерку, и дружно кинулись читать все, что она им велела, – даже те, кто отродясь книжки в руках не держал.
Инна проучила их три года, и это было последнее счастливое время уходящего детства: КВНы и школьные спектакли, где Сашка играл, как правило, какого-нибудь принца, а Лялька – то зайца, то медвежонка; поездки в Москву по театрам и музеям, однодневные походы, литературные вечера… И вся эта пионерская суета, тогда казавшаяся им чем-то обычным и вечным: советы дружины, линейки, слёты, красные знамена и галстуки, горны-барабаны, стенгазеты, сборы макулатуры, встречи с участниками войны и военные игры.
В новогодние каникулы праздновали день рождения Натальи Львовны, приглашая весь класс: писали сценарий и разыгрывали целое представление, в котором принимала участие даже сама бабушка. Лялька учила мальчишек танцевать, а Тити€на – девчонок, потому что мальчишки чудовищно ее стеснялись. Играли в ручеек и жмурки, разыгрывали фанты и шарады, а когда расходились по домам, еще долго кидались снежками и валяли друг друга в снегу бахрушинского сада.
Потом, оглядываясь назад, они видели это время сквозь золотую дымку ностальгии: пироги, елочные игрушки, грецкие орехи в серебряной фольге, конфеты, подарки, вишневое варенье в хрустальных вазочках и оранжевые мандарины, запах которых смешивался с ароматами хвои и корицы. Детство… Всегда ясное небо, всегда звенит в траве шмель, катится по зеленой траве упавшее яблоко, красное солнце садится меж черных сосен, сверкает на солнце снежный наст и так невероятно пахнут первые зеленые тополиные листочки!
А долгие семейные чаепития у пыхтящего самовара! С уходящими за полночь разговорами и даже пением романсов: по части романсов был дед, но порой и бабушка подпевала его тенорку своим гудящим басом, а Инна, у которой было хорошее контральто, петь не любила. Лишь изредка баловала она друзей и родных какой-нибудь «Калиткой», или, задумчиво глядя в пространство, заводила: «День ли царит, тишина ли ночная…» После смерти деда, правда, уже не пели. Петь не пели, но гости собирались по-прежнему часто – Бахрушины были гостеприимны и любили кипение жизни вокруг, да и красота Натальи Львовны, а потом и Инны притягивала поклонников.
А чтения вслух прохладными августовскими вечерами, когда бабочки летят на огонь и стелется по низинам туман! А осенние костры! Сидя у огня, так сладко пугаться страшных Лялькиных рассказов и обмирать от случайного шороха во тьме… Осенние костры и печеная картошка, запах опавших листьев и дыма, первые заморозки и сосульки – прозрачный обломок так сладко запихнуть в рот, пока бабушка не видит! И хрупкий круг льда, намерзающий за ночь в оставленном на терраске ведре, прозрачный и тонкий, как луна, что сказочным светом заливает сверкающий серебром снег. Однажды ночью в полнолуние Тити€на вывела Лялю с Сашкой погулять, и эту прогулку они запомнили на всю жизнь, тем более что больше так уже никогда не гуляли: летом 1982 года Инна Бахрушина умерла.
Это была такая невозможная, нелепая, чудовищная смерть, что оглушила всех надолго. У Инны несколько дней болел бок, она не обращала внимания, но потом боль стала нестерпимой, и бабушка вызвала «Скорую», та долго добиралась, а когда наконец добралась, Тити€на была почти без сознания. Придя в себя на носилках у машины, она позвала Ляльку и, когда та подошла, сумела только погладить ее по щеке и прошептать: «Доченька…» Бабушка уехала с Инной, а Ляля с Сашей остались одни – так и просидели, прижавшись друг к другу, до самого вечера, пока не вернулась с работы Татьяна Сорокина, которая тут же кинулась куда-то звонить. Она долго не оборачивалась к ним после того, как повесила трубку, и тогда Лялька спросила неожиданно высоким звенящим голосом:
– Мама умерла, да?
Татьяна обняла их и заплакала.
Инна умерла на операционном столе от обширного перитонита: лопнул аппендикс. Хирург ничего не смог сделать – было поздно. Через час Сашкин отец привез бабушку – он нашел ее в коридоре около отделения реанимации, где та сидела, безвольно опустив руки и глядя в пространство. Тяжело ступая, бабушка сразу ушла к себе. За ней поспешили Татьяна и Лялька. А Сашка поднял на отца испуганные глаза:
– Папа, это правда?!
Отец сильно обнял его и выругался сквозь зубы – Сашка никогда раньше не слышал, чтоб он так ругался.
– Ты отвлекай как-нибудь Лялю, ладно? – сказал отец.
Как отвлекать, Сашка не знал. Но Ляля придумала сама – они взяли первую попавшуюся книгу и ушли наверх. Сидя на дедушкином тулупе, они до ночи читали друг другу вслух «Большие надежды» Диккенса, пока Ляля не заснула. Сашка тихонько слез с лежанки, прикрыл Лялькины ноги полой тулупа, а потом нагнулся и легко прикоснулся губами к ее щеке, задев и краешек рта – ему так давно хотелось этого!
На похоронах Инны Бахрушиной плакали даже мужчины, а Лялькиному отцу, который еще не успел уехать в Израиль, стало плохо с сердцем. Бабушка стояла, все так же глядя в пространство, а слезы безостановочно лились по ее щекам. Не плакала одна Лялька – упрямо наклонив голову, закусив губу, она гневно смотрела на происходящее. Сашка подошел и взял ее за руку. Маленькая влажная ладошка дрожала. Но потом, посреди ночи, Лялька так страшно разрыдалась, что Татьяна Сорокина вскочила и, как была – в ночной сорочке и босиком, – помчалась на бахрушинскую половину, а Сашка накрыл голову подушкой, но все равно слышал Лялькин безумный крик:
– Мама! Мама! Мама…
Отец же так напился на поминках, что даже не проснулся. А Сашка лежал, захлебываясь от слез, и чувствовал, как черный звериный ужас заползает ему в душу. Вот это казалось ему и есть смерть: темнота, одиночество, пыльная духота подушки, слезы, крик…
Потом Лялька замолчала. К Сашке пришла мама, обняла его и поплакала вместе с ним. Утром он боялся увидеть Ляльку, но она была ничего, только бледная и опухшая от слез. И еще какая-то замедленная – от прежней резвости в ней не осталось и следа. До конца лета они продержались на Диккенсе, благо его было аж тридцать томов. Сидели все вместе на веранде и читали по очереди – даже бабушка постепенно настолько пришла в себя, что прочла им своим гулким басом целую главу из «Тайны Эдвина Друда». Татьяна взяла отпуск и помогала Бахрушиным, потому что бабушка хотя и читала Диккенса, но в остальном справлялась плохо. Она забывала самые простые вещи и порой сидела, с недоумением разглядывая нож и картофелину: что с ними надо делать, она не понимала.
А Сашка вдруг осознал, что тоже когда-нибудь умрет. Это был не тот детский страх, что накрыл его пыльной подушкой, нет! Они сидели на веранде все вместе, Ляля читала, а Сашка внезапно подумал: смерть – это же не когда ты один и никого больше нет! Наоборот! Все есть, а тебя больше нет! Он огляделся по сторонам и попытался вычесть себя из картинки мира: вот бабушка задумчиво позвякивает ложечкой в стакане с чаем – она всегда пила чай из дедова стакана в серебряном подстаканнике. Вот Лялька с Диккенсом, вот мать с вязанием, отец с газетой… Самовар, бабочка бьется о стекло, солнечный луч скользит по щербатому полу, тянет из сада ароматом позднего жасмина и полыни… Так же сидели они при Тити€не, а теперь ее нет! И ничего не изменилось – так же пахнет ее любимый жасмин, и бабочка так же суетится у стекла. И если его, Сашки, не станет… Тоже не изменится ничего?! Как же так?
Эти мысли были ему не по силам, но он не мог от них избавиться и долго мучился экзистенциальным страхом небытия, не понимая, зачем же тогда жить, если все равно умрешь?! В конце концов он спросил у Ляльки. Он привык спрашивать у нее обо всем, спросил и об этом. Она сидела с книжкой на качелях, лениво отталкиваясь босой ногой, и медленно покачивалась. Книжка была – стихи, которых он не понимал и не любил. Сашка сел рядом на доску – качели старые, но пока еще выдерживали их вдвоем – и спросил:
– Ляль… А ты… ты не боишься… умереть?
Она плавно повернулась к нему, медленно подняла ресницы и взглянула ясными – совершенно синими! – глазами, в которых отражалось летнее небо:
– Нет.
– Нет?! – поразился он. – А почему?!
– А я не умру.
– Как?!
– Так. Умирает только тело. А я, моя душа – никогда. Душа – вечная.
– Откуда ты это знаешь?!
С ними никто никогда не говорил о Боге, о бессмертии души, да и вообще о вере – это и в голову не приходило ни бабушке, ни тем более маме. Иконы в доме были – остались от прадеда Ивана, но никто из Бахрушиных никогда не ходил в церковь, не молился и не соблюдал постов, хотя праздновали Рождество, а на Пасху пекли куличи, красили и расписывали яйца. Наталья Львовна была великой мастерицей, и расписанные ее рукой «яйца Бахруже» – по аналогии с Фаберже! – бережно хранились у друзей и знакомых: бабушка рисовала нарциссы, желтеньких цыплят и даже целые миниатюрные пейзажи с церквами и березками, а то и с дымящим паровозом. Так что Лялька до всего додумалась сама. Даже не то чтобы додумалась, а как-то всегда это знала. Потому что иного просто и быть не могло.
– А куда девается душа?
– Ну, куда-то туда, где живут все души. А потом она опять может в кого-нибудь войти, в нового ребеночка. И опять будет жить на земле.
Эта перспектива Сашке понравилась. Он сразу поверил Ляльке – привык ей верить во всем, да и хотелось поверить!
– Вот смотри! – Лялька полистала книжку, нашла и прочла ему своим басовито гудящим голосом, в котором, однако, уже начинали звучать чистые контральтовые ноты:
Сашка слушал, мало что понимая, завороженный торжественным ритмом «Метаморфоз» Заболоцкого. Лялька дочитала стихотворение до конца:
«Бессмертие! – подумал Сашка. – Вот здорово!» Они сидели рядышком, очень близко, и медленно качались, отталкиваясь ногами. Сашкина загорелая рука казалась особенно смуглой на фоне Лялькиной бледной спины – она была в открытом сарафанчике, он в одних шортах. Сашка держался обеими руками за веревки, а Лялька прислонилась к его плечу. Что-то вдруг пробежало между ними, какая-то волна – на секунду встретившись взглядами, они отодвинулись друг от друга, а Лялька покраснела. Такое уже было однажды, и с тех пор они избегали прикасаться друг к другу, а теперь вот забыли. Но Сашке очень понравилось это новое чувство, которое он ни за что не смог бы выразить словами: впервые испытанное ощущение мужской власти над женщиной – в эту секунду он был сильнее обычно верховодившей им Ляльки, и они оба это поняли.
– Ты точно знаешь? – спросил он слегка охрипшим голосом. – Ну, что душа не умирает?
– Ага. Только тело.
– Но тело тоже жалко!
– Жалко, да. А что, лучше было бы, если б душа умирала, а тело жило и жило?! Как пустышка! Ты то-олько предста-авь… – произнесла она страшным голосом, каким всегда пугала его, рассказывая какие-нибудь жуткие сказки.
Но он дернул ее за косу и убежал, размахивая руками и подпрыгивая. Внутри у него все просто пело от счастья: я не умру! Никогда! А Лялька смотрела ему вслед, вся розовая, и улыбалась. Впервые после смерти матери.
Прошло и это горькое – со вкусом полыни – лето, а осенью к ним пришла новая учительница литературы. Все сразу же ее невзлюбили за то, что она не Инна Михайловна, и дружно принялись изводить. Учительница – Элеонора Павловна – была совсем юной и плохо умела с ними справиться, но держалась. После одного из уроков она выбежала из класса в слезах, а они притихли, понимая, что перегнули палку. Ляля вдруг встала и повернулась к классу. Сашка с тревогой на нее посмотрел: она не принимала ни в чем участия и вообще держалась особняком, а ребята тоже немножко сторонились ее, не зная, как теперь разговаривать и чем утешить. Ляля обвела класс рассеянным взглядом и сказала – рука, которой она держалась за парту, чуть дрожала, но говорила Ляля спокойно:
– Мне стыдно за нас. Она только из института и ничего еще не умеет, а мы ничем ей не помогаем. У каждого из нас в жизни будет свой первый урок. Каково нам будет, если… вот так встретят?
Класс притих в некотором даже испуге – словно сама Инна Михайловна говорила с ними! На следующей литературе Лялька сразу подняла руку.
– Да, Бахрушина? – осторожно произнесла бедная учительница, не зная, чего еще ждать.
– Элеонора Павловна! Я от имени класса прошу у вас прощения. Мы вели себя как свиньи. Больше такого не будет. Я надеюсь.
– Хорошо…
– И… можно мне уйти домой? А то я… что-то…
– Конечно, иди!
Сашка рванулся было за Лялей, но она отрицательно покачала головой – не надо! В последнее время она часто уходила гулять одна или подолгу сидела наверху на дедушкином тулупе, просто глядя в окно, хотя из него был виден только краешек неба да часть сосновой кроны вдалеке.
Лялька ушла. Учительница и ребята молча смотрели друг на друга – никто не знал, что делать дальше. Потом Элеонора сказала:
– Я рада, что вы нашли в себе силы попросить прощения. Я тоже прошу прощения, что сразу не поговорила с вами! Я просто не знала, как сильно вы любили Инну Михайловну, да и при Ляле не хотелось… Я понимаю, вам тяжело, вы потеряли любимую учительницу – но подумайте, каково Ляле? И вы совсем ей не помогали таким своим поведением! Не бойтесь проявить к ней сочувствие и любовь! Не надо ничего особенного, просто относитесь как всегда. Она сама все поймет.
Кто-то из девочек всхлипнул. Элеонора Павловна покачала головой:
– Не надо плакать. Это жизнь. А вы уже почти взрослые. И… вот что! Давайте мы забудем сегодня про урок, и я просто почитаю вам стихи! Я думаю, Инна Михайловна это бы одобрила. Эти поэты не входят в программу, но… просто послушайте.
До конца урока она читала им Ахматову, Гумилева, Мандельштама, Цветаеву, Пастернака, немножко рассказывая о судьбах поэтов. Это был странный урок – Инна Михайловна предпочитала держаться школьной программы. Впервые они почувствовали, что поэзия – это не просто текст в книжке, который надо зазубрить и отбарабанить, а быть поэтом совсем не так просто – «строчки с кровью убивают – нахлынут горлом и убьют». Они не все понимали в этих стихах – самыми простыми показались Ахматова и Гумилев, и Сашка долго еще повторял привязавшиеся гумилевские строчки:
Конквистадоррр! Но поэзию так и не полюбил.
А потом произошло два события, которые окончательно разрушили их уже и так неустойчивый детский мирок. Сначала Сорокины получили квартиру. Татьяна растерялась: они так давно этого ждали, так долго мечтали, но уехать теперь, оставив Наталью Львовну и Лялю одних?! Однако и Ляля, и Наталья Львовна так искренне за них радовались, что Сорокины начали потихоньку готовиться к великому переселению: Татьяна разбирала барахло, которого накопилось порядочно, а Гриша занимался всякими доделками и переделками. Квартиру им дали «на той стороне» – железная дорога разрезала город на две неравные части: одна «дачная», где кроме Крольчатника и остатков старых деревень сохранилось еще много бараков от разных московских фабрик; а другая – «городская». Там еще перед войной начали сооружать большой завод, в 50-е годы с помощью пленных немцев довольно быстро понастроили множество домиков с черепичными крышами – в один кирпич, а потом, тоже довольно быстро, возвели кучу однотипных пятиэтажек. Квартиру Сорокины получили в заводском доме, кирпичном, уже двенадцатиэтажном – к этому времени Григорий стал главным инженером одного из цехов.
До зимы они прожили у Бахрушиных, потом торжественно переехали, но Сашка остался: ездить в школу с новой квартиры надо было на двух автобусах. Туда он отправлялся только на выходные, и то выдерживал лишь субботу. Татьяна тоже часто приходила к Бахрушиным, жалуясь, что никак не может привыкнуть на новом месте: большая двухкомнатная квартира после бахрушинского приволья казалась Сорокиным тесной.
В этой беготне на два дома Сашка не сразу осознал, что очень редко стал видеть отца – вообще-то он, конечно, был «маменькин сынок»: Гриша очень много работал и сыном почти не занимался, но тот с младенческого возраста обожал папу и гордился своим с ним сходством. На всякие ёлки, в Парк культуры имени Горького, в зоопарк или цирк их с Лялькой возили мамы. Сашка не любил ездить в электричке и на метро, пугался грохота и гудков, быстро уставал, а Ляльке все нравилось и она умела его отвлечь, переключив внимание: ой, смотри, какая штука! Один раз, правда, отец съездил с Инной, Лялей и Сашкой на ёлку в Лужники – но потом уже больше не соглашался. Когда Сашка подрос, отец стал брать его с собой на городской стадион, где, чудовищно рыча и завывая, носились в клубах пыли мотоциклы – местная заводская команда была чемпионом России по мотоболу. Сашке не очень нравилось это действо – уж больно громко! Но зато – с отцом. Потом мужики пили пиво, а Сашка качался на качелях в детском парке…
На зимних каникулах Сорокин-старший совсем куда-то пропал, и Сашка, наконец, догадался спросить у матери: а что, отец в командировке? Они как раз были в новой квартире – разбирали книги. Мать ответила, не поднимая головы:
– Нет, не в командировке.
– А где ж он?
Мать ушла на диван и оттуда ответила тусклым голосом – и Сашка только тогда заметил, как плохо она выглядит:
– Он нас бросил.
Книги посыпались у него из рук:
– Как… бросил?..
– Так. Не знаешь, как бросают?
– Вы что… разводитесь?!
– Да.
– А почему вы мне не сказали?!
– Вот, говорю.
– Но почему?! – закричал Сашка. – Почему?! Что ты сделала?! Он же не мог просто так! Ты что-то сделала, раз он…
– Я?!
Мать вдруг засмеялась, и Сашка тоже неуверенно улыбнулся: а вдруг она его просто пугает?
– Я сделала?!
Татьяна поперхнулась смехом и закашлялась, страшно покраснев – махала руками и задыхалась. Сашка кинулся на кухню, притащил воды в кружке, мать отпила, продышалась и с силой отшвырнула кружку в сторону, плеснув водой.
– Я сделала?!
Сашка в испуге отступил и первый раз пожалел, что так похож на отца: ему показалось, что мать видит перед собой не сына, а мужа, такой яростью горели ее глаза.
– Ты хочешь знать, что я сделала?! Я всю свою жизнь его любила, я сына ему родила, прыгала вокруг него, пылинки сдувала, только что с ложечки не кормила! А он меня предал! Квартирой от нас решил откупиться… Предатель, иуда! И ты туда же – достойный сын своего отца! Что я сделала!.. Вот иди теперь к обожаемому папочке, давай! То-то ты его новой жене нужен! Как раз будешь там… за ребенком присматривать. Кто там у них ожидается… не знаю. Брат у тебя будет… или сестра…
Татьяна выдохлась, но смотрела все равно гневно, а Сашка совершенно растерялся:
– Мама…
– Что я сделала! Видеть тебя больше не хочу!
И ушла из комнаты, хлопнув дверью.
Мир рухнул.
Почему-то ему вдруг пришла в голову совершенно неуместная мысль: значит, они опять не поедут к морю. Давно собирались, вместе с Бахрушиными строили планы, выбирали маршрут, но все что-то мешало, то одно, то другое, и отец почему-то не желал ехать «всем колхозом», а Сашка не хотел без Ляльки…
И вот!
Прошлым летом… не вышло… и теперь… опять… не выйдет…
Сашка повалился на пол и зарыдал в голос, как рыдал в детстве, заходясь в истерике, – здоровый четырнадцатилетний парень с пробивающимися усиками и в тапочках сорок первого размера. Отец их подло предал, он сам чудовищно обидел мать, она теперь его никогда не простит, он остался совсем один и никому не нужен, если только Ляльке, но она далеко, а если бы сейчас была здесь… Если бы она сейчас была здесь, то он, может быть, так бы и не плакал.
Конечно, Татьяна тут же прибежала и обняла его, и заплакала вместе с ним, и утешала, и целовала, и отпаивала какой-то вонючей гадостью из темного пузырька, и кляла себя за то, что сорвалась на ни в чем не повинном сыне, а Сашка, давясь слезами, твердил только одно:
– Мамочка… прости… меня…
Потом они помирились и долго сидели, обнявшись, на полу среди рассыпанных книг.
– Ничего, не пропадем! – сказала Татьяна, взъерошив ему волосы. – Пробьемся!
– Ненавижу его!
Татьяна вздохнула:
– На ненависти, друг мой, не проживешь. Бог с ним, пусть… как хочет. А мы – сами по себе.
На следующий день Сашка пошел и постригся под нулевку. Лялька ахнула, а мать только покачала головой: «Дурачок мой маленький! Да разве в волосах и глазах сходство! Сам будь другим». Волосы отрасли, конечно. Чуть потемнее, чем были, но все равно светлые. Если бы не Лялька, он не справился бы. Начал курить, плохо спал по ночам, все его раздражало, и часто они с матерью кричали друг на друга, выплескивая отчаянье: Сашка грубил, Татьяна злилась. Мать взяла себя в руки быстрей – надо же было спасать сына. Но главной спасительницей оказалась Лялька: она хорошо умела его отвлечь, усмирить злобу и ненависть к отцу, найти что-то светлое и смешное в окружившем его мраке. А потом сказала как-то, грустно глядя ему в глаза:
– Он-то хоть жив…
И Сорокину стало стыдно.
Отец был жив и даже однажды позвонил в дверь. Увидев Сашку, Гриша неуверенно улыбнулся, но тот, сузив совершенно черные от ненависти глаза, точно такие, как у отца, не сдвинулся с места, а громко крикнул:
– Мама! К тебе тут пришли. По поводу развода.
Григорий поморщился, как от удара, но промолчал. Сашка ушел было к себе, но понял, что не может выносить присутствия отца даже за закрытой дверью, и решил пойти к Бахрушиным. Родители так и стояли в прихожей. Сашка старался на них не смотреть, но все равно заметил, что отец низко опустил голову, а мать, наоборот, выпрямилась – никогда в жизни не видел он у матери такого гордого и надменного выражения, никогда! Сашка вдруг впервые понял, какая мать красивая: не такая, как Тити€на, совсем другая, но красивая…
Отпуск Татьяна хотела провести, как всегда, у Бахрушиных, но потом, после очередной встречи с Гришей, вдруг передумала. Она не говорила сыну, но отец уже сто раз просил прощения, отказывался разводиться, клялся, что больше никогда, – но Татьяна не находила в себе сил простить: она так ему верила! Так верила! Всю жизнь! А ведь Инна пыталась как-то открыть ей глаза, и она, дура, еще на Инну обиделась. Так и дальше жила бы – знать ничего не знала, если бы эта… его… не заявилась к ней сама с таким животом, что не отопрешься.
А Гриша никак не мог поверить, что все кончено. Как же так?! Конечно, он виноват, он и не отпирается. Черт дернул его связаться с этой дурой! Кто ж знал, что так обернется?! Он прекрасно себе жил, тихонько развлекаясь на стороне – да разве можно устоять, когда бабы так и вешаются на шею! Мужик же он, в конце концов! А семья – дело святое. Танька – это одно, а прочее бабье – так. Ему почему-то казалось, что Танька… ну… поймет. Должна ж она понять! Нет, не поняла. Танька стояла как скала, и Гриша растерялся: как же он теперь… без нее?! Без Сашки?
Сашка, к счастью, ничего этого не знал – он и так переживал отцовское предательство и случайные встречи очень болезненно. Всегда отец был главным, все в семье вертелось вокруг него, и к матери отец относился как-то… слегка снисходительно, что ли? Ласково, но… снисходительно, словно она не дотягивала чуть-чуть до его совершенства: красавец, душа любой компании, на хорошей должности, за ним как за каменной стеной. А мать – слишком проста. И Сашке тоже так казалось! И вот все перевернулось с ног на голову: стало ясно, что каменная стена – это мать, весь мир держится на ней, а отец… Отец! Ничтожество и тряпка.
Сашка припоминал разные мелочи, на которые раньше не обращал внимания, и впервые вдруг подумал: а не было ли чего-то такого между отцом и… Тити€ной?! Отец всегда относился к Инне прохладно, словно побаивался, а один раз Сашка и Лялька оказались свидетелями скандала: играли в саду, на крыльцо вдруг выбежал отец, весь красный, потом выскочила мать, схватила его за руку, он вырвался и ушел в сад. Татьяна вернулась на веранду, где, помахивая стройной ножкой в изящной туфельке, курила Инна. И даже через дверь, которую Татьяна закрыла с грохотом, слышны были их голоса: раздраженный – Татьяны и спокойный, слегка насмешливый – Тити€ны. Сашка с Лялькой переглянулись и ушли от греха подальше, а потом он полночи не спал – несмотря на то что голову он накрыл подушкой, все равно слышал доносившиеся шепоты, всхлипывания, вздохи, характерные стоны и скрип кровати: это Григорий доказывал Татьяне свою любовь и преданность. Сашка был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, что к чему.
И что их так разобрало?! Спать не дают! – сердито думал он…
– Знаешь что? – в один прекрасный день сказала вдруг Татьяна, наливая Сашке второй половник его любимого харчо. – Давай поедем к морю? Что это мы тут киснем!
К морю!
Он так давно об этом мечтал, что не верил своему счастью, которое было бы совсем полным, если бы с ними могла поехать Ляля. Но она никак не могла, и даже Сашке было ясно: Наталью Львовну нельзя оставлять одну. Лялька тоже огорчалась, однако не подала виду и утешала Сашу:
– Зато ты мне все расскажешь. А то кому бы ты рассказывал? И ракушку привезешь! И камушков!
Но Саше больше нравилось все переживать вместе с Лялькой, а без нее он и половины не заметит и не разглядит, да и вообще с ней веселей. Они так привыкли друг к другу, так тесно приросли один к другому – словно две горошины в одном стручке, и не подозревали, что еще чуть-чуть – стручок лопнет, и разнесет их в разные стороны беспощадный ветер перемен.
Поехали Сорокины в Алупку – дикарями. Сняли крошечную комнатенку с двумя койками, до моря было далековато, обратно приходилось долго лезть в гору, но какая разница – море, солнце! Виноград, свисающий с лозы, что заплела весь внутренний дворик; инжирины, упавшие на жестяную крышу сарая и завялившиеся на солнце; молодые грецкие орехи; персики – огромные, как луна, встающая над морем; красное вино из бочки – его Сашка попробовал впервые; чайки, цикады, дельфины – дельфины! И летучие мыши по ночам, которых до визга боялась мать, а Сашка мужественно выгонял полотенцем. Они оба мгновенно загорели, Татьяна помолодела лет на десять, и к ней то и дело клеились какие-то мужики, а Сашка ревниво пыхтел. Один вообще пристал:
– Пацан, познакомь с сестрой-то!
– Это моя мама! – сказал с возмущением Сашка, а Татьяна хохотала.
Они съездили в Никитский ботанический сад и в Ливадию, гуляли по Царской тропе, катались на лодке по лунной дорожке и были так счастливы, как никогда в жизни; а когда Татьяне хотелось ночью поплакать, она тихонько уходила в сад, где в траве шуршали ежи и по огромному дереву грецкого ореха пробегали неугомонные белки. Сашка все время представлял, как удивлялась бы Лялька всему на свете: и морю, и Воронцовскому парку с лебедями и фонтанами, и дельфинам, и цикадам, и персикам; как боялась бы она слезать в море с громадных камней, а уж летучие мыши напугали бы ее и подавно! Две недели пролетели стрелой, и скоро уже Сашка, приплясывая от нетерпения побыстрее увидеть Лялю, стоял на автобусной остановке с пакетом абрикосов в руке и дыней под мышкой. Женщины, проходя мимо, оглядывались на него: длинноногий, стройный, загорелый, с выгоревшими до белизны волосами, он так и светился юностью, энергией, жаждой жизни! И очень похож на отца – нравилось ему это или нет.
Отдав дыню и абрикосы Наталье Львовне, Сашка побежал в сад, где Ляля собирала ягоды к чаю. Увидев Сашку, она чуть не бросилась ему на шею, но смутилась. И он тоже – однако как еще выразить свою радость, оба они не знали.
– Сашка! Какой ты красивый! А черный! Прямо негр! И гладкий такой! Можно потрогать?
Он с гордостью согнул руку в локте, демонстрируя ей мускулатуру, и Ляля осторожно погладила его теплой ладошкой, которая на фоне Сашкиного загара казалась совсем бледной. И когда она провела рукой по его коже от локтя до плеча, забравшись под короткий рукав футболки, он вдруг почувствовал что-то такое… странное, что весь покрылся мурашками. Лялька тоже резко отдернула руку, как будто обожглась:
– Ну что, пойдем чай пить?
Они стояли в заросшем малиннике, как в лесу – ягоды уже почти сошли, листья подвяли, редкие осы разочарованно кружили среди колючих веток, невидимая среди листвы птица четко выговаривала: «А ты Витю видел? А ты Витю видел?..»
– Ты поцарапалась…
– Где?
– Вот, на плече…
Она повернула голову, приподняв плечо:
– А, заживет! Пошли?
Но Сашка смотрел как зачарованный на ровную ярко-розовую царапину на ее белом плече, потом, не сознавая сам, что делает, нагнулся и провел языком по нежной, чуть солоноватой на вкус коже – по царапине…
– Ай! Ты что? Щиплется же! Зачем ты это сделал?!
– Не знаю…
Она смотрела на него во все глаза, медленно краснея, – у него тоже горели щеки и уши, а потом они неожиданно поцеловались неловкими, сладкими и чуть липкими от малины губами. И в ту же секунду бабушка закричала им из дома:
– Дети! Ляля, Саша! Чай готов!
Они пили чай, словно ничего такого не случилось, и Сашка рассказывал про Крым, а Ляля с бабушкой дружно ахали и смеялись, но потом, когда Лялька пошла провожать его до остановки, они еще раз поцеловались, уже более уверенно.
Он стал приходить каждый день. Порой Ляля была занята: она давала уроки немецкого языка маленькому очкастому пацану, сыну бабушкиного знакомого, – малец был очень серьезный, и Сашка веселился, видя его сосредоточенную мордашку: тот на ходу бормотал немецкие глаголы. Но чем бы они оба ни были заняты, в течение дня всегда выпадала минута, когда, осторожно соприкасаясь неумелыми губами, оба словно проваливались в темную, дышащую истомой бездну. Они даже не обнимались – прикоснуться друг к другу было страшнее, чем поцеловаться, только один раз Сашка нежно провел пальцем по Лялькиному белом горлу – до ключиц, хотя больше всего на свете ему хотелось потрогать ее грудь, которая так соблазнительно выглядывала из выреза сарафана, когда Лялька нагибалась. Потом они осмелели настолько, что поцеловались с открытым ртом, и это было так сильно и остро, что оба испугались и смутились. Неизвестно, куда бы завели их все эти поцелуи в кустах, но тут настало первое сентября.
Бахрушинская школа была восьмилеткой. На выпускном одноклассники чуть не плакали, расставаясь с Сашкой и Лялей: только они из всех «бахрушенцев» собирались учиться дальше в школе «на той стороне» – она, конечно, была лучшей в городе, но уж больно далеко ездить. Все остальные дружно перешли в местную школу недалеко от станции. Сашке-то было близко от новой квартиры, но как же он без Ляльки!
В новую школу они шли вместе, но когда попали на школьный двор, Сашка вдруг увидел Лялю как бы со стороны и… расстроился. Он сам был вполне ничего: загорелый, высокий, в новом костюме, с новым шикарным портфелем, подаренным отцом, – Сашка не хотел брать, но мать настояла. Девчонки уже бросали на него заинтересованные взгляды, и он расправил плечи. А Лялька… Она похудела за лето, но все равно выглядела самой… самой крупной из девчонок, а форма, из которой она выросла, делала ее совсем неуклюжей. На локтях платья были нашиты аккуратные заплатки, и воротничок простой, а у других девчонок кружевные, и косу уже никто не заплетал, и туфли у некоторых были на каблучках, а у Ляльки – поношенные босоножки и детские носочки. Эти носочки его совсем доконали, и он сказал ей тихо:
– Ляль, послушай! Давай ты с кем-нибудь из девчонок сядешь, ладно? А то как-то…
– Хорошо. – И она еще выше подняла голову.
Это было его первое предательство.
Как самые лучшие, они с Лялей и еще с пятью чужими ребятами попали в класс «б» – «ашники» были элитой школы, а в класс «в» собрали остальных учеников из двух школ-восьмилеток. Сашка сел вместе с другим новеньким – длинным носатым Калугиным, тоже Александром, а Ляля в результате осталась одна – пары ей не нашлось. Сначала они еще держались вместе – болтали на переменах, шли вдвоем из школы, перезванивались, а по выходным Сашка, как всегда, приходил к Бахрушиным, и они с Лялькой тайком целовались в уголке. Но потом она стала замечать, что в школе чаще видит Сашкину спину, – он сидел чуть впереди, а на переменах ускользал. Из школы она теперь ходила одна, а когда однажды зашла за ним утром, Сашка был не очень доволен и удрал от нее на полпути: ну что ты плетешься, как черепаха?!
Ляле приходилось очень трудно: в старой школе ее все любили и было совершенно неважно, как она выглядит. И Сашке это было все равно – поцеловал же он ее в малиннике! А здесь она вдруг неожиданно оказалась отверженной: никто не рвался с ней дружить, наоборот – над ней смеялись и даже потихоньку издевались. Особенно смешило всех ее детское имя: Ляля не сразу научилась отзываться на Ольгу. Она не сразу поняла, что Сашка не станет ее защищать, но потом, когда Светка Заварзина, признанная королева класса, довольно язвительно по ней прошлась и Сашка засмеялся вместе со всеми, Ляля наконец осознала это. Ей-то по наивности казалось, что Сашка просто по-мальчишески стесняется их дружбы, но скоро заметила, что с другими девчонками он «дружит» вовсю, ничего не стесняясь.
Сначала она молчала, не отвечала никак на насмешки, терпела Сашкины выкрутасы и просто училась – училась, как всегда, блестяще, довольно скоро обойдя всех. Она никогда не вызывалась сама, но, когда приходилось, отвечала обстоятельно и исчерпывающе. Классу осталось лишь признать, что «эта корова» Бахрушина вовсе не дура. Не все учителя тем не менее любили ее вызывать, потому что каждый раз складывалось странное впечатление, будто Ольга не учителю отвечает урок, а объясняет материал ученикам. В ее изложении становилась понятной любая, даже самая сложная тема, и постепенно некоторые ребята стали подходить к ней за помощью – она не отказывала никому, но списывать не давала. «Лучше я тебе объясню, и ты сделаешь сам, ладно?» – предлагала она.
Больше всего над ней смеялись на физкультуре, и Лялька тихо страдала: купить новый тренировочный костюм взамен старого, из которого она тоже выросла, было можно, но фигуру-то другую не купишь! Да и на костюм денег пока не было, а старый обтягивал ее так, что… Что в один прекрасный день штаны треснули по шву, и весь класс увидел ее розовые трусы. Как же все ржали! И Сашка с ними, это было самое обидное. Ольга не заплакала. Она тут же ушла с урока, а физрук заорал на класс в полной ярости:
– А ну замолчали все! – Ребята испуганно притихли, и он, оглядев строй грозным взглядом, произнес: – Как вам не стыдно!
– Да смешно же! – сказал Калугин.
– И что именно тебе смешно? Что девушка попала в неловкое положение? Что у нее нет возможности купить себе такой вот костюм, как на тебе? Что у нее нет богатенького папы, как у тебя, а мама умерла? И что живут они только на бабушкину пенсию? Это так все смешно, не правда ли, Калугин?
Класс молчал. Сашке было мучительно стыдно – ведь и он хохотал, как дурак, со всеми. Ляля держалась спокойно, никто ее не дразнил, а некоторые девочки даже подходили с утешениями. Только Калуга донимал ее, распевая:
– А у Бахрушиной розовые трусы!
Ляльке это надоело, и она, повернувшись к Калугину – урок еще не начался, сказала громко, на весь класс:
– Глупый маленький Калугин сделал научное открытие: девочки носят трусы! Что же с ним будет, когда он узнает, что там, под трусами, тоже кое-что есть?
Калугин остолбенел, класс дружно выдохнул. Сашка, сидевший с Калугиным, с трудом удержался, чтобы не засмеяться, – Лялька! Только она могла так отбрить! Как он гордился ею в этот момент – несмотря на неприятное чувство, что сам давно должен был заткнуть Калугину рот. Весь урок по классу гулял нервный шепоток: происходила дружная переоценка ценностей – никто из одноклассников в жизни не осмелился бы произнести такое вслух! Вот это Бахрушина! На перемене озлившийся Калугин прижал Ляльку в темном углу, но она не испугалась:
– Отстань от меня, придурок! Как тресну, мало не покажется!
Сашка шагнул было к ним, но его опередил Сережка Пименов, и они с Калугиным подрались. А Лялька царственной походкой прошла мимо них по коридору – Сашка проводил ее взглядом: похудела она, что ли? Или что? Как-то изменилась…
Да, Ляля изменилась. Она поняла, что надо защищаться, что никто просто так тебя любить не будет и что предать может любой, даже самый близкий человек. Теперь она и впрямь чувствовала себя Ольгой – сильной, уверенной, независимой. А маленькая нелепая Лялька осталась там, в малиннике детства.
Вера Федоровна, классная руководительница, предложила ей материальную помощь от школы, но Ольга гордо отказалась: мы справимся, спасибо. Тогда Вера Федоровна нашла ей платных учеников, и у Ольги теперь почти совсем не стало свободного времени: уроки, ученики, дорога – она все время старалась ходить пешком, чтобы похудеть. Дом тоже требовал и времени, и денег: то крыша протекала, то заваливался забор. Оля Бахрушина не бывала ни на школьных вечерах, ни в гостях у одноклассников, зато Саша Сорокин развлекался вовсю.
Оля видела его то с одной девчонкой, то с другой, но, когда он приходил к ней – а он еще приходил, – как-то размякала и забывала обо всем, уж очень одиноко ей было. И каждый раз надеялась, что Сашка, которому она, целуясь, позволяла все больше и больше, не отвернется от нее в школе и все поймут, что это она – его девушка! Она, а не Жанка! И не Светка. Но он отворачивался. И делал вид, что ничего особенного между ними нет.
И Оле вдруг перестали нравиться его поцелуи. Нет, она по-прежнему обмирала от малейшего его прикосновения, но… Но это-то ей как раз и не нравилось. Ляля долго не могла объяснить себе, что не так, потом дошло: она-то не хотела целоваться больше ни с кем! Только с ним! А он…
«Какая я все-таки дура!» – мрачно думала она, спускаясь вниз по Центральной улице. Пешком она ходила еще и потому, что по дороге можно было поплакать, а дома надо было держаться, чтобы не расстраивать бабушку. – Почему я это все терплю? Почему не выскажу ему все, что думаю?» Они так ни разу не сказали ни слова по поводу поцелуев, просто глядели друг другу в глаза, смущенно улыбались и целовались, как будто так и надо. И в следующий раз, когда Сашка обнял ее, Ляля позволила себя поцеловать, но тут же вывернулась из его объятий и села подальше:
– Все, хватит.
Сашка подвинулся ближе и попытался продолжить, но Ольга решительно его оттолкнула:
– Хватит, я сказала! Я не хочу больше.
– Да ладно! Тебе же нравится!
– Нравится, ну и что? Я не хочу, чтобы ты на мне тренировался, а потом целовался… со всякими Жанками.
– Да с какими еще Жанками, что ты выдумываешь…
– С такими. Очень хорошо вас разглядела.
– Ну что ты, Ляль! Это все так, глупости.
– А мне почему-то кажется – это я «так». Я у тебя что, только для домашнего пользования?! А в школе я никто и звать никак? Бахрушина? Ты даже Олей меня не называешь, не то что Лялькой!
Сашка был потрясен – он никак не ожидал, что Лялька вдруг взовьется! Так все было хорошо, он с понедельника начинал мечтать о субботе, ему ужасно нравилось с ней целоваться – что-то особенное было в этих тайных поцелуях, более жгучее и пряное, чем с другими девчонками, и он даже осмелился один раз осторожно положить руку ей на грудь… И вот вам!
Он как-то ловко договорился сам с собой: Лялька – это одно, а все остальные – так, погулять вышли. И думал почему-то, что ее это тоже устраивает, и Лялька, может быть, даже благодарна, что такой парень, как он, приходит к ней, нескладной и нелепой девчонке. Нескладная и нелепая, но действовала она на него так, как ни одна из этих складных красоток, что бегали за ним точно влюбленные кошки.
На самом деле он не слишком размышлял о происходящем – просто жил, словно летел на волне, как дельфин, балансируя и задыхаясь от восторга, в брызгах солнца. Молодость, сила, красота, поцелуи, объятия, свидания… И вдруг – бац! Его вынесло на песок, накрыло волной, и он бестолково машет руками, глотая соленую воду.
– Так ты что хочешь, чтобы я…
– Я хочу, чтобы ты сказал, кто я тебе.
– В каком смысле?..
– Саш! Тебе просто целоваться нравится или… именно со мной?!
Сашка покраснел – он чувствовал себя как на экзамене и боялся получить двойку.
– С тобой…
– А тогда зачем ты с Жанкой?! Я же больше ни с кем!
– Да кто еще захочет-то! – вырвалось у него.
С ужасом глядя, как изменилось выражение Лялькиного лица, он понял: «двойка»! И забормотал:
– Ляль, ну ты это… Я хотел сказать, что… понимаешь, ты просто… ну… ты не такая, как другие девчонки! Одета и вообще… Я-то знаю, что ты… а кто другой…
– Уходи.
– Ляль, ну не надо так! Прости, я ляпнул, не подумав! Ты же знаешь, что я… как я… к тебе отношусь!
– И как?
– Хорошо! Я очень хорошо к тебе отношусь! Правда!
– Ну да, пока мы с тобой тут на диване сидим. А в школе опять спиной повернешься. Хватит, надоело. Мне милостыни не надо. Либо все, либо ничего.
– Такая ты, да?
– А то ты не знал!
В понедельник они столкнулись в раздевалке, молча постояли друг перед другом, отражаясь в большом зеркале: высокий красивый мальчик и полненькая девочка в старой школьной форме. Постояли и разошлись. Сашка так и не нашел в себе сил признать перед всеми, что Лялька Бахрушина… что у них с Бахрушиной… что…
Да в самом-то деле!
Подумаешь!
Проживет он и без Лялькиных поцелуев!
Не очень-то и хотелось!
Хотелось. И очень.
Но… лавочка закрылась, как сказала ему Лялька, когда он, не поверив, что она вот так откажется от него, приперся в следующую субботу.
– Что тебе, Сорокин?
Он заморгал:
– Ну, Ляль… Я просто… как всегда…
– «Как всегда» кончилось.
– И что, ты со мной больше даже дружить не хочешь?!
– А мы вот так дружили? И тискал ты меня тоже по дружбе?
Она всегда все называла своими словами. Увидев, как он залился краской, Лялька смерила его насмешливым взглядом, совершенно материнским движением приподняв изогнутую бровь, и закрыла у него перед носом дверь.
Ах, ты так?! И Сашка пошел вразнос: он демонстративно пересел к Светке Заварзиной, а Жанка поджидала его после школы, устраивая сцены, и однажды чуть было не подралась со Светкой. Оля наблюдала все эти безобразия совершенно невозмутимо, а встречаясь с ним взглядом, смотрела с легким удивлением: а ты кто такой? К концу года у Бахрушиной в друзьях было уже полкласса, Сережка Пименов провожал ее из школы, Калугин при ней помалкивал, и все страшно жалели, что Ольга не поедет в школьный спортивный лагерь на Селигере. С Сорокиным она разговаривала, но точно так же, как с остальными мальчишками: чуть более ласково, чем с Калугиным, но гораздо более сурово, чем с Пименовым. «Ну и пожалуйста! – думал Сашка мрачно. – Еще пожалеешь!» Но так вышло, что пожалеть пришлось ему.
Глава 2
Темные сны
Кто я такой, чтобы лежать на этой кроватии целовать твои запястья?Завтра найдётся кто-нибудь повороватей,но и понесчастней.Михаил Гронас
Все лето они почти не виделись, а первого сентября Сорокин Ляльку не узнал: взглянул мельком, потом внимательнее и удивился: Ольга еще похудела и как-то подобралась – в темно-сером платье с кружевным воротничком, с уложенными вверх волосами, она выглядела очень взрослой и женственной. И портфель был новый, и туфли, но самое главное – у нее был другой взгляд, и когда Ольга, повернув голову, улыбнулась ему, чуть приподняв бровь, он тут же вспомнил Инну Михайловну. То таинственное, манящее, завораживающее, что было в ее матери, – и чего он по малолетству не мог себе объяснить, но очень чувствовал, – вся эта женская сила теперь проявилась и в дочери. С ней что-то случилось, думал он, следя за Ольгой напряженным взглядом. Что-то произошло! Он сам изменился и чувствовал себя совсем взрослым – на Селигере они со Светкой успели довольно далеко зайти в любовных экспериментах. И когда Саша глядел на Ольгу, которая стояла в окружении мальчишек – ты подумай, как их сразу притянуло! – его поразила страшная мысль: а вдруг и она… Вдруг она тоже с кем-то… экспериментировала!
У него потемнело в глазах. К Бахрушиной подошел физрук, и Ольга, мило улыбнувшись, подала ему лиловую астру из своего букета – и он взял! Взял и, обломав длинную ножку, сунул цветок в верхний кармашек пиджака! Придурок!
Но тут на Сашку обрушилась Светка, и им пришлось идти в класс.
– Бахрушина-то, смотри! На человека стала похожа! Только платье – фу-у, старье! Сейчас ей ка-ак вломят за то, что без формы!
Сашка промолчал. Платье действительно было бабушкино, перешитое. Но никто из учителей не обратил на Ольгин наряд ни малейшего внимания: как раз ввели новую форму, половина девчонок щеголяла в синих костюмчиках, часть так и донашивала старые коричневые платья с фартуками, а некоторые, посмелей, вообще наряжались по-своему. Привязалась только математичка, тощая и злобная старая дева по прозвищу Косинус, которая цеплялась ко всем хорошеньким девчонкам. Ольга отвечала у доски, и математичка, оглядев ее с ног до головы, спросила:
– Почему это ты не в форме, Бахрушина?
– Видите ли, Мария Петровна, дело в том, что на мой выдающийся… размер… школьную форму уже не продают…
Класс замер.
– А шить форму в ателье, ради нескольких последних месяцев, нам с бабушкой не позволяет материальное положение. Так что придется вам потерпеть меня в этом платье, тем более что Анна Семеновна не возражает.
Мария Петровна побагровела.
– Как ты смеешь мне дерзить!
– Я только ответила на ваш вопрос.
– Больно умная стала! Садись, «четыре».
Но Оля не села.
– Простите, Мария Петровна, не могли бы вы обосновать вашу оценку? Почему именно «четверка»? Я допустила какую-то ошибку?
Класс уже не дышал: во дает Бахрушина!
– Как ты… Как ты смеешь так со мной разговаривать?!
– Но должна же я знать, в чем заключалась моя ошибка! Должна же я совершенствовать свои знания.
– За дерзость! За дерзость я сняла с тебя балл! Распустилась совсем!
– Но мне всегда казалось, что педагог должен оценивать знания ученика, а не его внешний вид или манеру поведения. В чем заключается моя дерзость? Я разговариваю с вами вежливо, не повышая голоса, не хамлю…
– Вон! Вон из класса!
– Не вижу оснований.
И Ольга как ни в чем не бывало уселась за парту. К счастью, прозвенел звонок, а то бы неизвестно, чем все это кончилось. Но больше Косинус к Бахрушиной не вязалась. Потом Оля обломала Калугу, который вдруг решил сесть с ней рядом. Оля пожала плечами – сиди, если хочешь, место не купленное. Просидел он всего два дня – посреди урока физики Калугин вдруг со страшным грохотом свалился с парты на пол.
– В чем дело?! – возопил кроткий старенький физик Павел Ардалионович. – Что там такое, Калугин?
Но Калуга только пыхтел и возился на полу, пытаясь встать.
– Оля, что случилось? – Физик очень трепетно относился к Ляльке.
– Простите, Павел Ардалионович, но Калугин положил руку на мое колено, а мне это не понравилось. Вот я его и подвинула. Слегка.
– Вон из класса, мерзавец! И чтобы без родителей завтра не приходил!
Калуга, весь красный, опрометью выскочил из класса, а Ольга выглядела совершенно невозмутимой. Ее давно уже не рисковали задевать ни девчонки, ни тем более мальчишки: она все называла своими именами и умела ответить так, что оставалось только спасаться бегством, а стоило ей, улыбаясь, взглянуть парню в глаза, как любой из них совершенно терял соображение.
На физкультуру Ольга пришла в новом спортивном костюме, который сидел на ней прекрасно, но совершенно не позволял разглядеть ничего такого особенного, на что надеялись многие из мальчишек. Кудрявый молодой физрук, который был ниже Бахрушиной на полголовы, ходил вокруг нее кругами – Сашка тихо ярился. А на одном из занятий она так «уела» их всех, что слава ее вышла за пределы класса: просидев тихой толстенькой мышкой почти весь девятый класс, в десятом Бахрушина стала звездой школы. Они играли в баскетбол, и Сашка нечаянно попал в кольцо с противоположного края поля – все заорали в восторге, а Ольга насмешливо сказала:
– Подумаешь…
Стала на то же место и, небрежно кинув мяч, сразу же попала в кольцо.
– Да это ты случайно!
– А ты не случайно?
Они стали соревноваться – Сашка мазал раз за разом, а Ольга попала шестнадцать раз из двадцати.
– Шестнадцать к трем! Неплохо.
– Да я тебе поддался!
– Да что ты? И зачем же это ты мне поддался?
Она спросила это как-то так, что все навострили уши, и Сашка предпочел промолчать, хотя внутри все кипело от ярости. И – все одно к одному – вечером в магазине случайно встретил тетю Нюру, известную сплетницу с Крольчатника, которая тут же вклещилась в него с расспросами:
– А как мамка-то, замуж не вышла, нет? А что, отец-то появляется у вас? А про Ляльку-то Бахрушину слышал, нет?
– Что… про Ляльку?
– Не слышал?! Ну как же, как же! Скандал-то какой летом был, ты что! Дачники прямо так и съехали посреди сезона!
– Да что было-то?!
Нюра придвинулась поближе и зашептала:
– Любов у нее была с дачником, вот что! Что уж и как, не знаю, я свечку не держала, но съехать – съехали. Моментом. Коне-ечно, такая девка выросла – ядреная, кровь с молоком, глаз да глаз нужен…
Сашка не поверил.
И поверил.
Потому что сам о чем-то подобном догадывался – Ольга была так уверена в себе, так гордо несла себя по жизни и так насмешливо смотрела, словно знала что-то, о чем они все, несмышленыши, и понятия не имели. Так вот оно что, думал он. Вот, значит, как! Он смутно помнил этого дачника, отцовского приятеля – видел его мельком, когда зачем-то заходил к Бахрушиным перед отъездом на Селигер. Так, ничего особенного, мужик как мужик. Уже старый. У калитки Сорокина ждала Светка, не до посторонних мужиков ему было…
Весь следующий день он украдкой рассматривал Ольгу, а когда ехал домой, увидел в окно автобуса, что она идет в компании с физруком, и выскочил на следующей же остановке – Оля, заметив его мрачное лицо, насмешливо улыбнулась и ушла вперед, а физрук, которому Сашка загородил дорогу, недовольно спросил, глядя Бахрушиной вслед:
– Что тебе, Сорокин?
Сашка огляделся по сторонам – вокруг не было ни души:
– А вам что, Юрь Серьгеич? Вы что это – к Бахрушиной клеитесь? Она, между прочим, несовершеннолетняя, а вы вроде как женаты? Или я ошибаюсь?
– Ты… ты что себе позволяешь, Сорокин! Ты вообще в своем уме?!
– Я вас предупредил, так что смотрите!
И, бросив растерянного физрука, Сашка помчался догонять Ляльку. Она шла ровным размеренным шагом – Сорокин знал, что она ходит пешком каждый день в любую погоду. Услышав, как он пыхтит у нее за спиной, Ольга остановилась:
– Ну что это за цирк ты устроил?
Он никак не мог отдышаться:
– Какой… еще… цирк! Это ты… Что ты вытворяешь, а? Ты что с ним кокетничаешь?! Он тебе в отцы годится!
– Да ладно, он всего-то лет на семь нас старше!
– А я что говорю!
– А может быть, мне нравятся зрелые мужчины. И ничего я не кокетничаю. Просто Юрий Сергеевич сильно впечатлился моими выдающимися спортивными достижениями, только и всего.
– Да? А может, он твоими выдающимися сиськами впечатлился?!
– Может быть. Я смотрю, они и тебе покоя не дают, да, Сорокин?!
Лялька вдруг шагнула вперед и на секунду прижалась к нему крепкой грудью – он сразу взмок от пота, – а она посмотрела на него, сузив от злости глаза, и сказала:
– И вообще, тебе-то какое дело? Ты мне кто – брат, сват?
– Я? Я – друг…
– Да что ты? А мне казалось, ты Светке Заварзиной друг. Вы, говорят, так сладко с ней дружили на Селигере! А до этого с кем ты… дружил? С Надей Гавриловой? Или нет, с Жанной! Или с обеими сразу?
– Я парень, а ты девушка! Ты не должна…
– Ах вот оно что! Тебе, значит, можно, а мне нельзя, потому что я девушка!
– А может, ты уже и не девушка, а, Бахрушина? Что это там у вас летом было?
Рядом вдруг зашипели, раскрываясь, двери автобуса – оказывается, они уже стояли на остановке. Лялька села в автобус и уехала. А Сашка пошел домой, кипя от злости и ревности. А тут еще мать, вернувшись с родительского собрания, вдруг выдала:
– Да, славные вещи мне про тебя рассказывают!
Сашка смотрел на нее с недоумением – учился он хорошо, просто лез из кожи: Лялька ему больше не помогала, а он не мог себе позволить быть хуже Бахрушиной. Если уж не получалось быть лучше.
– Мам, ты о чем?
Мать разглядывала его с каким-то брезгливым недоумением:
– Как ты похож на отца, господи!
Как Сашка ни презирал отца, он до сих пор невольно расплывался в улыбке, когда знакомые, особенно женщины, говорили ему: «Ах, как на папу похож!» Но из материнских уст это звучало совсем по-другому: не похвалой, а осуждением.
– А на кого я могу быть похож, по-твоему?!
Но мать не слушала:
– Ты, говорят, у нас прямо герой-любовник? Меняешь женщин, как перчатки?
Сашка вспыхнул:
– Это тебе Лялька нажаловалась?!
– Нет, не она. А что, и Ляле есть на что жаловаться? Интересно! Нет, со мной мама Жанны поговорила. Страдает, говорит, девочка. Сын ваш, говорит, поматросил и бросил!
– Мам, ну кого ты слушаешь? Эта Жанка – такая же дура, как ее мать!
– А ты у меня такой умный, что дальше некуда! Смотри, сделаешь кому-нибудь ребенка, сам воспитывать будешь, копейки не дам.
– Мам, ну что ты такое говоришь, в самом-то деле! Просто кошмар какой-то. Что я, дурак?
– Уж и не знаю…
Он чуть не сгорел от стыда во время этого разговора, но ему даже польстило, что мать про него так думает: на самом деле он еще ни разу ни с кем не переспал. Он-то был вовсе не прочь, но девчонки как раз дурами не были. Дальше всего он зашел со Светкой, но ее он и сам побаивался – на ней точно пришлось бы жениться. Не-е, ни за что! Может, поэтому его так мучило предполагаемое Лялькино падение? Неужели и тут она его обошла?!
Пару дней он, словно маньяк, следил за Бахрушиной взглядом, пытаясь понять, правда или нет то, что ему мерещится. А потом попался. Шел урок химии, учительница что-то рассказывала о кремнийорганических соединениях, а он не мог отвести глаз от Ольги, которая, скромно опустив ресницы, прилежно писала в тетради – он видел ее в профиль. Сашка чувствовал, что Лялька уже давно поняла все, что с ним происходит, и знает, что он на нее смотрит, но не взглянула ни разу, а только иногда чуть улыбалась, и тогда на щеке вздрагивала ямочка. Тонкая прядь светлых волос падала на лоб, и Ольга заправляла ее за ухо небрежным жестом…
– Сорокин! Может быть, ты перестанешь пялиться на Бахрушину и ответишь на мой вопрос?!
Сашка встал, с трудом приходя в себя. Никакого вопроса он не слышал.
– Ну? Сорокин? Я, конечно, понимаю, что Бахрушина гораздо привлекательнее кремнийорганических соединений, но про них я рассказываю впервые, а Бахрушину ты имеешь возможность наблюдать каждый день.
Как он мог настолько забыться на химии! Вера Федоровна, их классная руководительница, была весьма остра на язык и могла так приложить, что «двойка» казалась подарком судьбы по сравнению с ее устным разносом.
– А Сорокина моя грудь очень волнует, Вера Федоровна. Он любитель крупных форм, как тут недавно выяснилось.
Класс грохнул от хохота, и даже химичка, сама обладавшая внушительным бюстом, улыбнулась.
– Садись, Сорокин. «Двойка» тебе, любитель крупных форм.
Сашка сел весь красный. На перемене к нему подошел Калугин:
– Пойдем, покурим?
Они ушли за угол и там, прикрываясь от ветра полами курток, с трудом прикурили – у Калугина всегда были какие-то необыкновенные сигареты, которые тот таскал у отца.
– Вот стерва, скажи, Сорока?
– Химичка?
– Бахрушина твоя!
– Да чем это она моя?!
– А хотел бы?
– Нужна она мне!
– Да ладно, такой бабец! Буфера и правда знатные… Только стерва.
– Стерва.
– Ну ладно я – на свой счет я уж никак не обольщаюсь, но ты-то ей чем не угодил?
– По возрасту не подхожу.
– Это как?!
– Как-как… Она нас в упор не видит, ей взрослых мужиков подавай…
– Ты что, правда?!
– Не знаю. Говорят.
У Калугина горели от любопытства глаза, а Сашка вдруг опомнился: что я делаю?! Зачем я все это говорю? И кому, главное! Но было уже поздно. Вечером ему позвонила Светка, которая сидела дома с ангиной, и хриплым шепотом закричала в трубку:
– Это правда?!
– Что?
– Что Бахрушина беременна?
– Откуда ты это взяла?!
Откуда! Это были его собственные слова, которые – с легкой руки Калуги – уже разошлись по школе, обрастая по дороге немыслимыми подробностями: оказалось, что кто-то из параллельного класса видел, как Бахрушина садилась в машину, ждавшую ее в переулке, а еще кто-то встретил ее поздним вечером на другом конце города…
Сорокин-то знал, в чем дело: Лялька бегала по урокам, зарабатывая деньги на новое пальто. Знал, но теперь и сам не понимал, чему верить. В школу на следующий день он пошел с некоторым даже ужасом. Все произошло на большой перемене: он стоял с ребятами около кабинета биологии, а в другом конце коридора физрук о чем-то разговаривал с Ольгой – Сашка увидел, как она вздрогнула и оглянулась на него, нахмурив брови. Потом повернулась и пошла в его сторону – время затормозило свой бег, и Лялька медленно, но верно приближалась к нему, подобно Немезиде, богине Возмездия, а все, мимо кого она проплывала, замирали и таращились на окаменевшего Сорокина. Бахрушина подошла и, резко взмахнув рукой, отвесила Сашке такую мощную оплеуху, что он чуть не упал – рука у Ляльки была тяжелая. Щека немедленно распухла и покраснела, все вокруг дружно ахнули, а Ольга повернулась и молча ушла в класс. Сашка хотел сразу сбежать домой, но это было бы уж полной трусостью, и он остался.
Посреди урока вошла секретарша Аллочка:
– Бахрушина, Сорокин – к директору!
В полной тишине они с Лялькой вышли.
– Пройди, Сорокин! А ты посиди, Бахрушина.
Директриса Анна Семеновна, вздохнув, спросила:
– Ну что, Сорокин? Это правда, что Бахрушина тебя ударила по лицу на большой перемене?
– Правда, – ответил он, глядя в пол.
– За что?
– За дело.
– Ах, вот как. А конкретнее?
– Вы у нее спросите…
– Спрошу. Но сначала я хочу услышать твою версию.
– Ну, за то, что я… Что я сказал, что она… Что…
– Ты сказал, что она беременна?
– Нет! Вы что! Я этого не говорил! Я только сказал, что она… может быть… встречается… с кем-то… а это уже потом… откуда-то взялось! Это неправда все!
– В общем, ты запустил эту грязную сплетню.
– Получается так.
– Я надеюсь, тебе стыдно?
– Да.
– Позови Бахрушину.
Сашка приоткрыл дверь и кивнул Ольге, она зашла.
– Ну что, красавица? Допрыгалась?
Ольга молчала.
– Есть хоть капля истины во всех этих сплетнях?
– Нет. Хотите, справку принесу от гинеколога? Что я девственница?
Ольга злилась – на щеках у нее горели красные пятна.
– Это ты вон Сорокину принеси, а то его этот вопрос, похоже, очень занимает. Значит, так. Сейчас мы пойдем в класс, и Сорокин перед всеми попросит у тебя прощения.
Сашка еще ниже опустил голову, но успел увидеть, как покосилась на него Лялька.
– Анна Семеновна, не надо! Пусть он здесь извинится, и хватит.
– Смотрите-ка, она его еще и жалеет! Хорошо. Давай, Сорокин!
– Оля, прости меня, пожалуйста… я… я…
– Ты трепло и подонок!
– Я трепло и подонок.
– Ладно.
– Помирились, стало быть?
– Да, – ответили они хором, глядя в разные стороны.
– И прекратите эту вашу войну раз и навсегда. Учиться осталось всего ничего, а тут такие шекспировские страсти. Разберитесь, наконец, что с вами происходит. Всё, свободны!
Сашка хотел только одного – провалиться немедленно сквозь землю и оказаться дома. Но пришлось возвращаться в класс и терпеть взгляды и перешептывания одноклассников. На следующем уроке – это была физика – Анна Семеновна вошла и, оглядев всех строгим взглядом, произнесла:
– Довожу до вашего сведения, что Сорокин извинился перед Бахрушиной и признал свою вину в распространении гнусных сплетен на ее счет. Инцидент исчерпан. И если я еще раз услышу – все равно, от кого! – нечто подобное, этот кто-то в мгновение ока вылетит из школы. Всем всё ясно? Калугин, тебе ясно?
Павел Ардалионович вызвал Сашку первым и с удовольствием поставил ему «два». Назавтра девчонки объявили Сорокину бойкот, Сережка Пименов полез драться, и они наставили друг другу по парочке синяков; на всех уроках Сашка получал «двойки» и, окончательно обозлившись, ушел из школы и не посещал ее целую неделю. В городе делать было нечего, он зайцем ездил в Москву, катался на метро, пару раз сходил в кино, а то просто шатался по улицам, возвращаясь домой только к вечеру.
Долго это продолжаться не могло – мать вызвали в школу. В воскресенье позвонила Вера Федоровна, мать ахнула, но Сашка признался только в двойках и прогулах, про остальное молчал. Вечером следующего дня Сорокин, с грехом пополам отсидевший все уроки, маялся на диванчике в приемной директрисы – мать уже целую вечность сидела у Анны Семеновны, и в какой-то момент ему даже показалось, что из-за двери доносится их дружный смех! Он прислушался – точно, смеются… Что ж это такое?! Он покосился на секретаршу Аллочку, но та только выразительно пожала плечами. Наконец, мать вышла.
– Спасибо, Анна Семеновна! Я с ним поговорю.
Директриса покачала головой, глядя на унылую Сашкину физиономию:
– Смотри, Сорокин! Другого раза не будет!
– Я знаю.
– Идем, двоечник. Прогульщик! Позор семьи…
Они пошли домой пешком по Центральной улице, засаженной липами. Таяли синие октябрьские сумерки, шуршала под ногами опавшая листва, с которой не в силах были справиться дворники, а липы все роняли и роняли на тротуар желтые листья. Татьяне было жалко сына – вроде и взрослый, а все равно дурачок! И что с ним делать? Весь в отца… Она вздохнула.
– И когда мы так с тобой гуляли последний раз?..
– Мам, не сердись, пожалуйста. Я все исправлю. Честное слово!
– Некоторые вещи исправить невозможно.
Почему-то ему показалось, что она говорит не про двойки. Но главное – не сердилась и вроде бы даже не сильно расстроилась, хотя и посматривала на него с жалостью, а один раз даже обняла за плечи, притянув к себе, потом отпустила:
– Эх ты, горе мое…
Они шли, не торопясь, и Саша совсем забыл, что этой дорогой всегда ходит Лялька, выбиравшая самый короткий маршрут, чтобы не терять зря времени. А мать как раз про нее вспомнила:
– Ляля стала такой красивой девушкой, правда? Я видела ее сейчас в школе. Она теперь больше похожа на Инну, тебе не кажется?
Сашка молчал – этот разговор был для него мучителен. Слова матери словно сдирали подсохшую корочку на зудевшей ранке.
– Как у вас с ней дела?
Он взвился:
– Какие еще дела?!
– Саш, ну что ты сразу в бутылку-то лезешь?
– Мне нет до нее никакого дела!
– Правда? А тогда почему бы тебе не оставить ее в покое?
– А что я?..
– Ты сам знаешь что. Послушай, мне кажется, чем так мучиться, лучше прямо ей сказать, и все!
– Что сказать-то?!
– Что ты ее любишь.
Сашка остановился, и матери пришлось повернуться к нему, и в ту же самую секунду, когда он в полной ярости закричал, что не любит Бахрушину и никогда не любил, и что вы все ко мне пристали с этой Бахрушиной, и пошли вы все… В эту же самую секунду мать ахнула, с ужасом глядя куда-то ему за плечо: мимо быстрым шагом проходила только что вышедшая из бокового переулка Лялька. Она шла, опустив голову, и было понятно, что Сашкины истеричные вопли достигли ее ушей. Татьяна кинулась за ней, догнала, обняла за плечи – та вырывалась, потом заплакала, уронив портфель и закрыв лицо руками…
Сашка сбежал.
Почему-то ему никогда не приходило в голову, что вся эта ерунда, связанная с Лялькой, которая мучает его и не дает спокойно жить, и есть любовь! Он думал, любовь – это что-то такое… взрослое. Книжное, киношное. Наполовину выдуманное. Ему нравились девчонки – Светка, Жанка, Надя, Катя. Да мало ли их! Они все казались ему одинаковыми и незатейливыми, с ними было очень просто общаться, приятно целоваться и обниматься. С Лялькой же все по-другому: трудно, сложно, больно. Страшно. Слишком остро и горячо. Он задыхался рядом с ней – думал, от ярости. Оказалось… от любви?! Вот это все – малинник, ее детские носочки и растоптанные босоножки, гордый поворот головы, падающая на лоб прядь светлых волос, насмешливый взгляд, приподнятая бровь, шестнадцать заброшенных мячей, пощечина – это и есть любовь?!
Нет, не может быть!
Нет…
А пряная сладость тайных поцелуев? А волнение, которое охватывало его, когда он прикасался к ее груди? А чудовищные картины, которые рисовала в его воображении слепая ревность? А желание убить всех этих Пименовых, Калугиных, Юрь Сергеичей и даже кроткого Павла Ардалионовича?!
А сны?!
Сны, в которых…
Нет!
Но темный огонь, разгоравшийся в нем при одном только воспоминании обо всех этих вещах, говорил – да!
Да.
Матери так долго не было, что Сашка совершенно изнемог – а вдруг она приведет Ляльку? Но мать вернулась одна. Они ужинали молча, потом, когда уже пили чай, мать сказала, задумчиво его разглядывая:
– Нам кажется, что мы всё всегда сможем исправить и переделать. Живем, как черновик пишем. А жить надо набело. Некоторые возможности даются только один раз. Другого раза – не будет. Все происходит здесь и сейчас. Никакого «потом» не бывает. Ты меня понимаешь?
Он пожал плечами.
Остаток года Сашка учился как одержимый, исправляя свои двойки. Со Светкой он поругался, потому что та, вернувшись в школу после ангины, – ну надо же, все пропустила, все! – защищала его слишком рьяно, поливая грязью Бахрушину, и он наорал на нее, но потом помирился, – одному было совсем уж хреново – и даже сел с ней вместе, а не с Калугиным; а Лялька разговаривала с ним как с чужим и сидела теперь вместе с Сережкой Пименовым. После зимних каникул скандал между Бахрушиной и Сорокиным окончательно забылся, но они оба помнили. Они больше не общались вне школы, да и там почти не разговаривали: льдина, на которой они плыли вдвоем, треснула, и полынья, полная ледяной черной воды, все расширялась и расширялась…
На выпускной Ольга пришла тоже в бабушкином платье – таком мягко-шелковом и нежно-цветочном, что сама напоминала цветущую ветку сирени или черемухи. После торжественной части по традиции зазвучал «Школьный вальс», и Сашка вдруг с изумлением увидел, как маленький седой Павел Ардалионович подходит к Ольге, чтобы пригласить ее на танец. Она легко встала и подала ему руку, улыбнувшись, – двигались они, несмотря на разницу в росте и возрасте, так красиво и слаженно, что никто больше не рискнул выйти к ним, и они танцевали вдвоем. У Сашки отлегло от сердца: он боялся, что будут смеяться над нелепой парой. Никто не смеялся, напротив, в конце все дружно аплодировали: физик, шаркнув ножкой, поцеловал Ляльке руку, а она, слегка покраснев, чмокнула его в щеку.
– Это и есть знаменитая Бахрушина? – спросил у своей соседки стоящий перед Сашкой высокий мужчина, провожая Ольгу глазами. – Хороша! То-то он голову потерял – как его, Грачев?
– Сорокин! Бедный мальчик…
Сашка тихо отошел подальше. Черт побери! Что ж это такое? Как сговорились все… Потом совершенно случайно в нижнем вестибюле он наткнулся на Ляльку с бабушкой.
– Что, уже уходите? – спросил он растерянно.
– Сашенька! – сказала бабушка, щурясь на него. – Как ты вырос! Давно тебя не видела, что-то ты к нам и не заходишь, забыл нас совсем!
– Да как-то все не получается.
– Ты заходи, заходи! А то вон Ляля скучает…
– Бабушка! – фыркнула Лялька.
– Ладно, я пойду к остановке, ты догоняй меня потихоньку.
Они были совершенно одни в пустом гулком вестибюле, куда иногда долетали из актового зала звуки музыки и голосов. Сашка вдруг осознал: все! школа кончилась. Они больше не будут видеться каждый день – ну, почти каждый. И пусть они в последнее время даже не разговаривали друг с другом, он знал – придет в школу и увидит Ляльку. А теперь что делать?!
Он откашлялся – что-то голос сел – и сказал с усилием:
– Ты… ты очень… красивая.
У него в душе словно поворачивалось тяжелое каменное колесо, которое толкало его изнутри, заставляя говорить то, что страшно было не только выговорить, но и подумать:
– Ты… самая красивая… из всех девчонок.
– Спасибо!
Лялька вдруг улыбнулась, ее лицо сразу осветилось и даже в сумрачном вестибюле стало светлей.
– Ты… прости меня… за все. Ты знаешь.
– Хорошо.
– Я… хотел сказать…
– Сашка! Ты где? – вдруг закричали сверху.
– Сорокин!
– Да вон он, внизу! С Бахрушиной!
– С Бахрушиной?!
– Сорока, ты осторожней, а то она тебе опять врежет!
Они с Лялькой молча смотрели друг на друга. «Помоги мне! – думал Сашка. – Ну, помоги же! Сделай хоть шаг навстречу! Пожалуйста…» Колесо не проворачивалось дальше, и ему стало нечем дышать. Лялька усмехнулась и сказала:
– Иди. Вон твои друзья.
Повернулась и исчезла. Светка попыталась было устроить ему сцену ревности, и они страшно поругались в пустом классе среди пыльных парт – так страшно, что Светка даже замахнулась на него, но Сашка, белый от злости, перехватил ее руку:
– Ты кем это себя возомнила? Бахрушиной? Да ты мизинца ее не стоишь!
Потом они напились на пару с Калугой, оприходовав бутылочку какого-то не то бренди, не то виски, которое Калугин как всегда стырил у папаши; директриса позвонила Калугину-старшему, и тому пришлось развозить приятелей по домам. Хороший получился выпускной, ничего не скажешь.
Они оба, и Бахрушина, и Сорокин, благополучно поступили в институты: Лялька, естественно, в пед, а Сашка пошел по стопам отца, в Бауманку. Летом и осенью они почти не встречались, занятые экзаменами и учебой, а в конце декабря Ольге исполнялось восемнадцать, и у Бахрушиных намечался большой праздник, даже Лялькин отец собирался приехать из Израиля.
– Что ты хочешь подарить Ляле? – спросила мать.
– Меня не приглашали.
– А ты ждешь особого приглашения?
Когда у матери становился такой голос, Сашка знал – лучше не возражать. Придется идти. Он волновался, и, как оказалось, зря: Лялька не позвала никого из новой школы, даже Пименова – были только старые друзья-бахрушинцы, которые знать ничего не знали об их столь усложнившихся отношениях, и они оба вдруг вернулись в прошлое, когда все было так просто и понятно, и Сорокин даже не покраснел, поцеловав Ляльку в душистую щеку. Она была необыкновенно хороша в бабушкином креп-жоржетовом платье и вся словно таяла, как облачко, – Сашка никак не мог хорошенько ее разглядеть.
Они уже закусывали после первого тоста, как вдруг сидевшая напротив Лялька встала, вся вспыхнув, Сорокин обернулся: вошел его опоздавший отец – он-то чего приперся?! – а с ним тот самый дачник. И для Сашки весь праздник кончился: ревнивым взором следил он за Лялькой, которая просто светилась от счастья, и за смущенно улыбавшимся гостем – тот даже не постеснялся пригласить Ляльку на танец! «И мать туда же!» – подумал он, глядя, как она танцует с отцом. Эти женщины! Он ушел первым, не в силах выносить такое безобразие, и всю дорогу размышлял: все-таки было между ними что-нибудь или нет? Между этим мужиком и Лялькой? Вон как она загорелась! И мужик явно смущался… А если было – как далеко она зашла?!
А Лялька в это время разговаривала с тем самым дачником, который довольно печально смотрел на ее сияющее лицо. Звали его Андреем Евгеньевичем Хомским. Он не хотел приезжать сегодня, но… не удержался. Не так много радостей дарила ему жизнь. Получилось совсем не так радостно, как он думал: увидев Олю, он опять испытал ту душевную боль, какую пережил при расставании с ней два с лишним года назад. И кто мог подумать, что такое обыкновенное житейское событие, как поиск дачи на лето, приведет его… Приведет его к самой большой в его жизни любви!
Пока ехал, все твердил привязавшееся стихотворение – Озеров, кажется: «Дождь в декабре, как любовь под старость, как-то не вовремя, что-то не так. Усталость? Нет, не сказать, чтоб усталость. Странность? Или попал впросак? Как совпадают: час непогоды и горевое житье-бытье, и неурочное время природы – запоздалое время мое…» И вздыхал, качая головой, и сам себе удивлялся: Олечка… Апрельский дождь в декабре.
Когда он впервые увидел Олю, она показалась ему гораздо старше, чем на самом деле, и он удивился, что она еще школьница. Потом узнал, что год назад она потеряла мать, и просто заболел от сострадания: он сам растил дочь один – его жена, обожаемая Машенька, умерла при родах. Нет, конечно, без бабушки они бы не справились, но отец всегда был для Леночки на первом месте – ее кумир, ее друг, ее защитник. Ее собственность.
Теперь Леночка была замужем, и внуку Митеньке недавно исполнилось целых три года, но Андрей Евгеньевич по-прежнему был главным мужчиной в семье, хотя с удовольствием бы уступил эту почетную должность зятю. Они по очереди брали отпуск, чтобы пасти Митеньку, но после месяца отпуска, который Андрей Евгеньевич провел рядом с Олей, он затосковал… Не хотел приезжать на выходные, но приехал. И на следующие тоже. На работе и в пустой московской квартире он не находил себе места и какое-то время довольно успешно обманывал сам себя, думая, что просто жалеет девочку. Как дочь.
Она ему нравилась, очень. Еще немного нескладная, но такая женственная и непосредственная, такая нежная и сильная духом: весь дом держался на ней, потому что Наталья Львовна после смерти дочери сильно сдала. Они подолгу разговаривали обо всем на свете – Оля много читала, была умна, наблюдательна и насмешлива. У нее был явный педагогический талант, передавшийся от многочисленных предков-учителей. Сам Хомский, преподававший не один десяток лет и легко справлявшийся со студентами, ничего не мог поделать с маленьким внуком. А Олю тот слушался беспрекословно. А что говорить о Леночке, которая выросла совершенной эгоисткой! Сейчас, общаясь с Олей, Андрей Евгеньевич это ясно видел.
Андрей не мог не любоваться ее слегка медлительной грацией, а когда Оля смотрела на него смеющимися серыми глазами, медленно моргая ресницами, его сердце обрывалось и падало куда-то вниз. Оля же совершенно не замечала своей власти над Хомским: все-таки она была еще совсем девочка и не очень хорошо понимала, какое действие оказывает на мужчин. Оля тоже привязалась к Хомскому, хотя он хорошо понимал: это привязанность дочерняя – ей просто не хватало отца! Когда он приехал к ним в первые выходные, она с такой радостью побежала к нему и повисла у него на шее, что он с огромным трудом удержался, чтобы не поцеловать ее всерьез.
И Леночка, дочь, тут же его раскусила – она очень ревниво относилась ко всем попыткам Хомского наладить личную жизнь. Успешно расстроила несколько его возможных браков и теперь затеяла страшный скандал, в который вовлекла и Наталью Львовну, упрекая ту в потворстве «преступной страсти» отца. Ляли, к счастью, не было – она ушла с девчонками купаться. Впервые в жизни Хомский поднял на дочь руку: Лена так грязно оскорбила Олю, что он не стерпел. Леночка зарыдала, Наталья Львовна, задыхаясь, повалилась на диван, зять метался между ними с валерьянкой, а Андрей Евгеньевич собрал сумку и ушел, надеясь перехватить Олю в парке.
Если бы Ольга была взрослой женщиной!
Если бы он не был старше ее на такое чудовищное количество лет…
Он не отступился бы так легко.
И если бы…
Если бы она не была так влюблена в своего Сашку!
Хомский ничего знать не знал, пока Оля посреди разговора – она помогала ему перебирать смородину для варенья – вдруг не замерла с широко раскрытыми глазами, а потом медленно поднялась, краснея. Он повернулся и увидел высокого светловолосого мальчика, который подходил к ним с каким-то пакетом в руках. Андрей сразу понял, кто это. Парень был просто копией Гриши Сорокина, давнего приятеля, который, собственно, и сосватал ему эту дачу. Саша, коротко переговорив с Олей, отдал ей пакет и пошел по дорожке к калитке, за которой его ждала тоненькая девочка в очень коротком платье, а Оля смотрела ему вслед. Потом села, прижав пакет к груди, и совершенно по-детски заплакала навзрыд – слезы, огромные, как та же смородина, так и брызнули! В конце концов Андрей Евгеньевич выведал у нее все и, вздыхая, стал гладить по голове, успокаивая. Он это уже проходил с Леночкой, но не ожидал, что будет так больно с Олей. Тогда он еще думал, что любит ее как дочь…
Ляля, ни о чем не подозревая, шла через парк, возвращаясь с дальнего пруда. Андрей Евгеньевич окликнул ее. Она подошла и присела рядом на деревянную лавочку:
– Ой, вы уже уезжаете? Вы же хотели на завтра остаться!
– Да, уезжаю. Вот решил тебя дождаться.
– Вы в следующие выходные приедете?
– Нет, Оля, не приеду. И мои завтра съезжают.
– Как?! Почему?
– Леночка так решила.
– Ах, Леночка…
Леночке было уже почти двадцать пять, но Ляле иной раз казалось, что она моложе ее самой, такой капризной была Елена Андреевна, заставляя отца и мужа суетиться вокруг. Ляля сначала подружилась с ней, но потом поняла, что Лена привыкла к слепому обожанию и патологически ревнива.
– Но ведь мы с вами еще увидимся, правда? Вы всегда можете приехать к нам в гости!
Он вздохнул.
– Боюсь, я не стану приезжать к вам в гости.
– Но почему?! Я что, больше вас не увижу?! А как же я без вас! – Глаза ее наполнились слезами.
– Господи, это такой трудный разговор…
– Что-то случилось?
– Случился небольшой скандал. Хорошо, что тебя не было.
– Так дело во мне?
– Ты же знаешь, какая Леночка ревнивая. А я слишком… привязался к тебе.
– Я тоже к вам привязалась! Но я же не собираюсь отбирать вас у Леночки! Она ваша дочь, а я… так.
– Ты – не так. Я был бы счастлив, если бы у меня была такая дочь, как ты, но…
– Ну говорите, Андрей Евгеньевич! Вы же знаете, со мной можно обо всем говорить!
– Да, ты удивительно взрослая для своих пятнадцати…
– Шестнадцати!
– И я все время забываю, что ты годишься мне в дочери. Только чувства мои к тебе… совсем не отеческие. Ты понимаешь?
Она смотрела на него во все глаза, слезы сразу высохли, и на щеках вспыхнул румянец.
– Андрей Евгеньевич…
– Вот видишь.
Оля растерянно моргала, потом выпалила:
– Ну и что?! Что в этом такого ужасного?
– Оля! Ты несовершеннолетняя…
– Через два года мне будет восемнадцать! В следующем году я закончу школу!
– И я старше тебя настолько, что даже страшно подумать!
– Это неважно…
– Ну что ты говоришь!
– Но я не понимаю! Почему тогда Лена ревнует? Я думала, она ревнует меня, как… как будто я набиваюсь вам в дочери! Но это же – совсем другое дело!
Он снова вздохнул.
– Как ты думаешь, почему я не женился второй раз? У меня было несколько попыток – Лена выжила всех. Я должен принадлежать ей целиком и полностью.
– Но сейчас у нее есть муж и сын!
– Это ничего не меняет. Все, что ее, – только ее. Я сам виноват, что Леночка такая, – никогда не мог ни в чем ей отказать…
– Вы очень любили ее мать, да?
– Очень. Мы были так молоды, когда поженились… И мне казалось – я виноват в смерти Маши…
– Андрей Евгеньевич! Я… я хочу, чтоб вы знали! Я так… восхищаюсь вами! Так… уважаю! Я… я не знаю…
– Олечка, ну не надо!
– Вы самое лучшее, что было у меня в жизни! Мне так тепло с вами! И я не знаю… как буду жить без этого, и я… так ужасно привыкла… к нашим разговорам… и к вам…
– Тебе просто не хватало отцовского внимания.
– Нет, подождите! Если вы… вдруг… через два года… Мне кажется, я могла бы… сделать вас счастливым. Вот.
– Девочка моя! – Он покачал головой. – Ты сама не знаешь, о чем говоришь…
Андрей смотрел на нее с тоской: юная, пылкая, с горящими щеками и влажными глазами – губы у нее дрожали от волнения, а пальцы лихорадочно заплетали конец косы, чтобы через секунду расплести его вновь.
– Да, ты могла бы сделать меня счастливым…
– Я же знаю!
– Но сомневаюсь, что смогу сделать счастливой тебя. И потом, как же Саша?
– Я ему не нужна!
– Поэтому надо принести себя в жертву?
– Ничего не в жертву! Я вас люблю… тоже…
Он засмеялся:
– Вот именно – тоже! Послушай, что я скажу. Тебе нелегко живется, и всегда так будет, потому что ты… Ты еще очень юная, но… Ты и ребенок, и женщина, потрясающая женщина, очень красивая…
– Ничего я не красивая! Я толстая и вообще…
– Ты не толстая, ты просто еще не совсем оформилась. И для своего возраста ты немножко слишком… женственная. Но ты – очень красивая. Твоя красота проявляется все больше и больше. Ты из тех женщин, которые с возрастом становятся только лучше…
– Правда?
– Тебе только нужно правильно одеваться. Жалко, что некому тебе подсказать! Бабушка не обращает внимания, а зря. Одежда много значит. Но это не главное. Главное – это ты. Не помню, кажется, кто-то из великих скульпторов говорил: те женщины, которых стоит лепить и писать обнаженными, обычно выглядят нелепыми в одежде. А ты просто еще не осознаешь, какая ты… желанная.
– Как это?
– Бывают женщины красивые, но… не притягательные, понимаешь? А ты – другая. Поэтому тебя ждет непростая жизнь – слишком многие мужчины будут тебя хотеть. И ты должна быть очень осторожной, ценить себя и беречь, а не размениваться на мелочи.
– Я понимаю.
– Другие девочки кокетничают, завлекают мальчиков…
– А я не умею…
– Так тебе это и не надо. Мальчишки сами будут бегать за тобой, вот увидишь!
Слова Андрея Евгеньевича, как золотые ключики, открывали у нее в душе один замок за другим, и Ольга вдруг почувствовала невероятную свободу – свободу полета! Она выпрямилась и словно вся осветилась изнутри, а Андрей Евгеньевич, которому на секунду вдруг примерещились крылья у нее за спиной, любовался ей с болью в сердце: прощай, моя чужая девочка, прощай!
– А переписываться мы с вами можем? Андрей Евгеньевич?
– Переписываться… Ну, почему бы и нет.
– Пожалуйста, не оставляйте меня совсем, пожалуйста!
– Я сам тебе напишу, адрес я знаю.
– Спасибо!
– А теперь все, иди. И я пойду.
Он встал, и Ляля поднялась тоже.
– Мы больше не увидимся? Никогда?!
– Может быть, когда-нибудь и увидимся. И запомни мои слова: ты – красивая, желанная и… любимая. Хорошо?
– Спасибо вам за все за все! Можно… можно я вас поцелую?
– Нет, нельзя.
– Но почему? В щеку?
– Потому что я захочу большего. Все, иди, девочка, иди! Прощай!
Он повернулся и быстро пошел по аллее. Лялька тоскливо смотрела ему вслед, а когда Андрей скрылся из глаз, повернулась и побрела в другую сторону, уныло пиная ногой сосновую шишку. Потом вдруг вспомнила: «красивая, желанная и любимая», распрямилась и, чувствуя какую-то веселую злость, побежала домой.
Скандал, судя по всему, случился совсем не маленький: Леночки было не видно и не слышно, от бабушки пахло валерьянкой, но она не сказала Оле ни слова. Раздевшись перед сном, она подошла к большому, в рост, зеркалу – и посмотрела на себя другими глазами – глазами Андрея Евгеньевича. «И правда, я вовсе и не толстая! – думала Оля, поворачиваясь в разные стороны. – Вон, и талия есть! И ноги длинные…»
И ноги были длинные, и талия на месте. Высокая грудь, сильные бедра, тонкие запястья и щиколотки, нежная, чуть тронутая загаром кожа, сияющие глаза и слегка вьющиеся волосы: Ляля не узнавала себя, словно этот разговор в парке изменил ее, превратив из лягушки – в царевну, из маленькой нескладной Ляльки – в царственную Ольгу, и тень красавицы-матери проявилась у нее за плечом. Оля усмехнулась, чуть приподняв бровь, и сама поразилась своему сходству с матерью.
– Ну, Са-ашенька! – пропела она, глядя в зеркало, а на следующее утро произвела ревизию бабушкиного шкафа в поисках подходящего платья: в материнские наряды она – при всем сходстве с Тити€ной – все-таки бы не влезла…
И вот теперь она с нежностью смотрела на Андрея Евгеньевича – он приехал, приехал!
– Я так рада вас видеть! Просто ужасно!
– Я тоже. Ты так расцвела…
– Это все вы! Вы меня… расколдовали.
– Как у тебя дела с Сашей?
– А! Никак. Вон, видели – взял и ушел.
– Да он тебя просто ревнует, это очень заметно.
– Не знаю. Никак у нас с ним ничего не получается. Может, я слишком гордая?
– Не думаю.
– Андрей Евгеньевич, а ведь мне уже восемнадцать, вы понимаете?
– Оля, перестань. Мы с тобой не раз это обсуждали.
– Обсуждали… Леночка и вообще. Все равно не понимаю!
Андрей разглядывал ее с мукой: да, расцвела. Теперь Ольга уже все про себя понимала и кокетничала с ним вполне сознательно, но он только качал головой. Ничего хорошего не могло получиться из того, к чему толкало его наивное Олино кокетство, ничего. На прощанье она поцеловала его в щеку, и Хомский на секунду прижал ее к себе сильной рукой.
– Поцелуйте меня, Андрей Евгеньевич! Пожалуйста! Один раз…
Искушение было слишком сильным. Да в самом-то деле! Ей действительно уже восемнадцать!
– Если ты поклянешься, что мы не будем больше это обсуждать и ты не станешь искать со мной встречи.
– Хорошо. Хотя цена слишком высокая…
И он поцеловал эту чертовку – легким нежным поцелуем, едва прикоснувшись губами к ее полуоткрытому рту.
– Это нечестно! Это не считается!
Андрей Евгеньевич еще раз поцеловал – в лоб – возмущенную его коварством Ляльку.
– Прощай! Береги себя…
И, пока ехал обратно, все сокрушался о своей опоздавшей любви: вот скинуть бы хоть десяток лет! Да, было времечко – целовали в темечко, а теперь – в уста – и то ради Христа… Он знал множество всяких поговорок.
Когда Лялька позвала Сорокина на традиционное бахрушинское Рождество, он взял и пришел с девушкой-однокурсницей, красивой татарочкой Диной. У Ляльки был полон дом народу – старые школьные друзья, новые институтские, и она не обратила особого внимания на его красотку, ей было некогда: Сережка Пименов выяснял отношения с кем-то из будущих педагогов, и они валяли друг друга в снегу посреди сада.
В октябре Сашка сам пригласил Ляльку в гости: теперь восемнадцать исполнялось ему. Маленьким он никак не мог понять: почему это Лялька старше, если его день рождения раньше? И где же он-то был все это время? Лялька была, а его – не было?!
Вообще-то Сашка не хотел никаких родственников, но мать сказала:
– Это последний твой день рождения с родней, потом сам будешь устраивать, по-своему. А пока это мой праздник!
– И что, отец тоже придет?!
Отец пришел и подарил ему безумно навороченные часы, страшно дорогие, и Сашка все поглядывал на руку, пока Лялька не заметила и не стала у него спрашивать через каждые пять минут: Саш, а который час? Она опоздала и устроила из своего прихода целый театр: торжественно вошла с огромным букетом, который, правда, вручила Татьяне, а Сашке достался швейцарский нож с множеством всяких штучек, тоже дорогой и навороченный. Потом она потребовала у него копейку выкупа за подарок – нельзя дарить острое! – и поцеловала так, что он даже вспотел. Целый вечер она дразнила его, то кокетничая, то вышучивая, а он пыхтел, потому что чувствовал себя совершенно беззащитным перед ней, такой блистательной и так невероятно похожей на покойную мать. Выйдя покурить на кухню – теперь он курил в открытую, мать ворчала, но терпела – наткнулся на отца. Они впервые оказались вдвоем после его ухода, и оба чувствовали себя неловко.
– Совсем ты стал взрослым! – с грустью произнес отец. – Ненавидишь меня?
Сашка пожал плечами.
– Прости, сынок, что так получилось! Мне очень жаль. Надеюсь, ты не повторишь моих ошибок…
Отец обнял его и ушел, забрав Ляльку с Натальей Петровной – вызвался отвезти их домой. Полночи Сашка не спал – вспоминал Ляльку: на прощанье она так поцеловала его в губы, что он ужасно покраснел и успел заметить, как мать с отцом переглянулись, усмехнувшись. Он прекрасно понял, что это было: Лялька дала понять, что забыла все и готова начать сначала. Позвонить ей завтра? Позвать на свидание? Он представил ее губы и медленный взмах ресниц и чуть не застонал. Сашка хотел ее – еще бы не хотеть, при одном воспоминании у него холодело в груди, но боялся, сам толком не понимая, чего именно боится. Ну, не Ляльки же, в самом деле?! Это был какой-то иррациональный страх, вроде детской боязни темноты, – иррациональный, но сильный.
В конце концов он заснул. Именно в эту ночь ему впервые приснился кошмар, преследовавший его потом всю жизнь – в разных вариациях, но неизменным было одно: бесконечная Центральная улица, засыпанная желтой листвой, и Лялька, уходящая по ней вдаль. Он бежал за ней из последних сил, но приблизиться не удавалось ни на шаг, хотя шла она медленно, помахивая портфелем, и была точно такая, как в девятом классе – нескладная, в старой школьной форме с залатанными локтями. В этот раз она оглянулась и, улыбнувшись, протянула ему руку, он подбежал, но между ними оказалась глубокая черная яма, через которую надо было прыгать. Он заглянул – глубоко! Сорвавшийся из-под его ноги камешек долго падал вниз, и у Сашки закружилась от страха голова – он всегда боялся высоты.
– Ну, давай, что же ты! – позвала его Лялька, а он все топтался, не решаясь прыгнуть, а яма становилась все шире и шире, и уже понятно было – все равно не перепрыгнуть…
Ляльке он так и не позвонил.
В Бауманке девушек было мало, но он, несмотря на высокую конкуренцию, к третьему курсу уже переспал с половиной из них. Ну, с теми, кто уступал, конечно. С некоторыми дело дальше поцелуев не продвигалось, а с одной, маленькой и хрупкой Тамарочкой, не дошло даже до поцелуев, хотя влюблена она была сильней всех и краснела до слез, когда он с ней заговаривал. Отец у нее был какой-то важной шишкой – они с матерью просто тряслись над своим поздним ребенком, и Сашка решил не связываться, но она так млела при виде его, так смотрела ему в рот, что он вдруг задумался: а может, на ней и жениться? Отец, опять же…
А Лялька?
Жениться на Ляльке?!
Это была какая-то просто даже… страшная мысль.
Переспать с ней – о, да! Об этом он мечтал. Иногда ему снилось что-нибудь такое, и он просыпался весь в поту. Он вспоминал ее улыбку, движение брови, завиток на шее, ложбинку в вырезе платья – в глазах темнело. Но жениться на ней… Он и сам не понимал, чем его так страшит эта идея, но, казалось, легче войти в клетку с тиграми! День за днем проводить под рентгеном ее насмешливых глаз? Да это будет не семейная жизнь, а… сплошная контрольная! Он легко мог представить себе Ляльку в виде учительницы – вот она язвительно на него смотрит и отчитывает: Прогульщик! Двоечник! Позор семьи! И Сорокина просто бесило, что все, как один, бывшие одноклассники из «Бахрушинской» школы, встречая его в городе и узнавая про скорую женитьбу, говорили: ну, слава богу, наконец вы женитесь! – имея в виду его и Ляльку.
Был самый конец июня, когда Сашка случайно наткнулся на Ольгу в метро – наткнулся в буквальном смысле слова, только не сразу понял, что это она. Какая-то парочка целовалась у колонны, загораживая проход, – он споткнулся и машинально извинился. Оглянувшись, увидел: высокий парень в бейсболке, надетой задом наперед, обнимает русоволосую девушку в голубых джинсах, а та, привстав на цыпочки, целует его. Нашли место, подумал он брюзгливо, а потом девушка в голубых джинсах обогнала его, и он, как привязанный, так и шел за ней к эскалатору, потом к электричке, и только когда она оглянулась, заходя в вагон, понял – это же Лялька!
Он сел рядом, Ольга улыбнулась ему, и Сашка заморгал, совершенно ослепленный: голубые джинсы крепко обтягивали ее сильные ноги, какая-то совершенно немыслимая рубаха с закатанными рукавами придавала ей чрезвычайно стильный вид, а волосы, уложенные с рассчитанной небрежностью, были разноцветные – с темными и светлыми прядями. На руке звенели тонкие браслеты, и Сашка в который раз поразился, какие у нее изящные и маленькие кисти рук – порода, девятнадцатый век! Он перевел взгляд на лицо – серые насмешливые глаза с длиннющими ресницами уже откровенно смеялись, так же, как и рот, подкрашенный неяркой розовой помадой.
Пока они ехали до станции, Сашка совершенно изнемог: он все время следил, как бы случайно не прикоснуться к Лялькиной ноге, потому что от соприкосновения с ее джинсовым коленом у него перехватывало дыхание; а когда Ольга наклонялась к нему, в вырезе этой проклятой рубахи с расстегнутыми верхними пуговицами во всей красе была видна нитка мелких коралловых бус и серебряные цепочки с висюльками, попадавшими как раз в ложбинку на груди, и его рука – вслед за взглядом – так и тянулась к этим… висюлькам. А Ольга откровенно веселилась – он знал, знал, что она все видит! – веселилась и играла с ним, как большая сытая кошка играет с несмышленым мышонком, то подцепляя его мягкой лапкой с убранными на время когтями, то отпуская.
Поезд остановился, Лялька встала, вагон качнуло и ее повалило на Сашку, но она, на секунду опершись о его плечо, легко выпрямилась и прошла вперед, а он с трудом поднялся: когда Лялька наклонилась в его сторону, ее грудь оказалась прямо у него перед носом. Выйдя из электрички, он так и пошел за Лялькой, словно в руке у нее был поводок. Свернув в тихий переулок, она остановилась около уличного колодца:
– Ты решил меня проводить?
– А почему бы мне тебя… не проводить?
– Ну, может быть, потому, что у тебя через два дня свадьба? И твоей невесте вряд ли понравится, что ты…
– Кто это был?
– Кто?
– Этот мужик в метро? С которым ты так непристойно целовалась!
– Непристойно?! Да что ты!
– Кто он?!
– Мой любовник.
– Любовник?!
Лялька смотрела на него с ненавистью:
– Что тебя так удивляет?! Почему у меня не может быть любовника? Или ты думал, я буду сидеть и ждать тебя до… до второго пришествия?!
Примерно так он почему-то и думал.
– Но ты же не такая!
– Откуда ты знаешь, какая я? Ты знать не знаешь! Вот он – знает, какая я, а ты не узнаешь, никогда!
Лялька так подчеркнула это «какая», что Сашка сразу понял, о чем она говорит, и вся кровь бросилась ему в голову. Он схватил ее за плечи и так толкнул к забору, что они оба чуть не упали. Ольга пыталась вырваться, но он с силой прижал ее к доскам и поцеловал с такой яростью, что сам себя испугался.
– Пусти!
Он поцеловал еще раз, еще и еще – и Лялька вдруг ответила так же яростно и пылко. Сашка чувствовал вкус крови во рту, но не понимал, кто кого укусил, не понимал уже вообще ничего, кроме одного: если он сейчас ее не получит, то умрет. Он уже тискал ее грудь, забравшись под рубашку, а другой рукой пытался расстегнуть свои джинсы, когда Лялька с силой его оттолкнула:
– С ума… с ума… сошел… что ли…
Оглядевшись по сторонам, она поправила лифчик, вытерла рот с размазанной помадой и, покосившись на его полурасстегнутые джинсы, отошла к колодцу. В ведре, стоявшем на полочке, было немного воды, она попила, зачерпнув ладошкой, потом умыла лицо, а остаток выплеснула на Сашку, который стоял к ней спиной, опираясь руками о доски и тяжело дышал.
– Охолонись!
Он вздрогнул, но холодный душ помог, и он смог повернуться. Лялька смотрела на него с таким странным выражением, что Сашка растерялся.
– Ты что?! У тебя свадьба в субботу, ты забыл?
Он забыл.
– Или это что, такой вариант мальчишника?
Он молчал.
– Прощай!
Ольга уходила от него навсегда, и невидимый поводок, на котором она его держала, растягивался и растягивался, как резиновый.
Оглянись!
Пожалуйста, оглянись!
Сашка загадал: если она оглянется, он…
Он бросит все и пойдет за ней, куда бы ни повела.
Ну, оглянись, что тебе стоит!
Она не оглянулась и завернула за угол, отпустив невидимый поводок, который, как оборванная резинка рогатки, ударил так сильно, что Сашка зарычал от боли и сел, где стоял, прямо на землю, обхватив голову руками. Он просидел там, у колодца, целую вечность, пока что-то холодное и мокрое не ткнулось вдруг ему в ногу под задравшейся брючиной джинсов – это была маленькая собачонка, которая приладилась его обнюхать и, когда он зашевелился, страшно испугалась, визгливо залаяла и помчалась прочь. Сашка с трудом встал и, покачиваясь, потащился к станции, не подозревая о том, что Лялька, которая тоже целую вечность простояла там за углом, надеясь, что он ее догонит, побрела наконец в сторону дома, продолжая плакать.
Сорокин приплелся на платформу и там, сидя на обшарпанной скамейке с неприличной надписью, потихоньку уговорил купленную в ларьке бутылку теплой водки, закусывая какими-то хрустящими штучками со вкусом пенопласта. Он время от времени с недоумением рассматривал пакет с этими штучками, потом забывал. Наконец его обнаружил молоденький милиционер, и Сашка вдруг рассказал ему все:
– Нет, командир, ты скажи! Как жить-то, а? Ты же… должен же… знать.
– Когда свадьба-то у тебя?
– Когда? Ну когда… В эту вот, как ее… в субботу, что ли!
– Ну и женись себе, разведешься потом, в случае чего.
– Во! Как ты прав, командир! Разведусь… в случае. Потом. Правильно!
Милиционер посадил его на автобус, наказав кондукторше высадить на нужной остановке – видишь, набрался напоследок, свадьба в субботу!
– Не боись, доставим!
Дома его окончательно развезло, а потом стало так плохо, что матери пришлось даже вызвать «Скорую» – то ли водка была паленой, то ли что. Через два дня Сорокин, облаченный в черный смокинг, бледный до зелени и злой, стоял рядом с Тамарой, прелестной, как куколка – при виде ее испуганных глаз и кружевной фаты его затошнило, – и слушал, какую официальную чушь несет фигуристая дама в красном платье с приклеенной улыбкой на щедро накрашенном немолодом лице. Сашка думал: что будет, если он сейчас вдруг развернется и уйдет? Вообразил, как разинет рот красная дама, как зальется слезами Тамара, заорут на разные голоса гости, не понимая, в чем дело, и только мать усмехнется ему вслед, а он прямо так, в смокинге, в рубашке с бабочкой и лаковых ботинках, помчится к Ляльке… Сашка улыбнулся, представив, как она станет над ним потешаться.
– Жених! Вы меня слышите?
Он очнулся.
Свадьбе не было конца, а он не мог ни пить, ни есть, все его раздражало, и когда закричали: «Горько!», он так поцеловал бедную Тамару, что та испуганно пискнула. Из первой брачной ночи тоже ничего хорошего не вышло. До сих пор они только целовались, и Сашка сам удивлялся своему благородству, но Тамара так пугалась любых его более настойчивых действий, смущаясь до слез, что он и не настаивал, с каким-то злорадным предвкушением ожидая этой самой брачной ночи. Усталый и голодный, с тянущей болью в желудке, он с отвращением посмотрел на приготовленную им роскошную кровать – тесть с тещей уехали на дачу, оставив молодых наедине в московской квартире.
Тамара вышла из ванной в нежной рубашечке персикового цвета – в меру скромной, в меру соблазнительной. Щеки у нее горели, а глаза подозрительно блестели, и когда он уныло сказал: «Прости, дорогая, давай мы сегодня отдохнем, а то я так хреново себя чувствую», – она даже обрадовалась. Правда, особенно радоваться, как оказалось, было нечему: у них очень долго ничего не получалось, и Сашка никак не мог понять, в чем же дело? Может, в том, что Тамара была неопытной девственницей – он никогда не верил, что такое чудо может существовать в наше время, так вот именно такое чудо ему и досталось. На самом деле, он прекрасно знал, в чем дело: он ошибся, ошибся, ошибся! Чудовищно и непоправимо. Поцеловав там, у колодца, Ольгу, он словно отравился – не помогли никакие промывания желудка, и яд тек по его жилам вместо крови. Он ненавидел ни в чем не повинную Тамару за то, что она не Ольга, хотя сам все это устроил, сам! Ладно, разведусь. Поживем немножко, и разведусь.
Жить в семье Тамары ему категорически не нравилось, но деваться было некуда. Они промаялись так полгода, и вдруг тесть предложил купить им квартиру – Сашка подозревал, что это Тамара поплакалась матери про их безрадостную семейную жизнь. В результате долгих взаимных уговоров квартиру купили в Подмосковье, в Сашкином родном городе, и даже недалеко от дома матери. Долго делали ремонт, покупали мебель, а Сорокин мрачно подсчитывал, когда он сможет расплатиться с тестем: как же тогда разводиться, неудобно.
Тамара питала большие надежды на отдельное жилье, и когда они, наконец, остались вдвоем в новенькой с иголочки квартире, попыталась применить на практике многочисленные сведения, почерпнутые из глянцевых журналов: красное вино, изысканные закуски, цветы, свечи, сексуальное белье, духи, макияж. Но Сашка вино отверг – после отравления водкой он вообще не переносил алкоголь, закуски забраковал, от ароматических свечей начал чихать, а ее дорогущее белье показалось ему чудовищным. Тамара ушла плакать в ванную, а Сашка, чувствуя себя последней сволочью, с удовольствием доел какую-то изысканную штучку, заботливо приготовленную бедной Тамарой, потом, вздохнув, отправился за ней.
И когда он открыл дверь в ванную, отделанную необыкновенной мраморной плиткой, за которой он ездил на другой конец Москвы, и увидел Тамару, сидящую на бортике ванны – тоже мраморной и необыкновенной, – у него что-то дрогнуло внутри: маленькая, худенькая Тамара казалась совсем ребенком, сдуру нарядившимся в непристойное красное белье с черными кружевами. Лицо у нее было зареванным, глаза несчастные, и Сашка вдруг пожалел ее какой-то болезненной жалостью: бедняжка, за что ей достался такой идиот, как я…
– Ну что ты, мурзик, не плачь! Прости меня!
Тамара несмело улыбнулась, он подхватил ее на руки, и они наконец обновили кровать. Сашка снял с «мурзика» это красное недоразумение и умилился хрупкому телу, настолько не похожему на Лялькино…
Стоп.
Оставь меня, уйди! – сказал он призраку Ляльки.
Дай мне жить!
Но призрак не желал уходить.
Сашка закрыл глаза и опять очутился у колодца, опять умирал от вожделения, кусая до крови Лялькины жадные губы, а Тамара чуть слышно стонала, принимая на свой счет эту неожиданно проснувшуюся в нем страсть.
– Томурзик, – сказал он, задыхаясь. – Мурзик ты эдакий…
А сам думал с тоской: Лялька… Лялька!
Глава 3
Как обещала, не обманывая…
О ты, последняя любовь!Федор Тютчев
Спустя год Ольга Бахрушина сидела в холле института, где работал Хомский. Внутрь пускали только по пропускам, но ее это не остановило: пара улыбок, нежный взгляд – и вот она, страшно волнуясь, следит за лифтами и отражается в бесчисленных зеркалах, которыми украшены колонны.
– Оля?! Оленька!
Ольга, улыбаясь, поднялась с низенькой лавочки и шагнула навстречу Хомскому.
– Как ты меня нашла?!
– Это оказалось совсем не трудно.
– Как же я рад тебя видеть!
Он жадно рассматривал Ольгу: похудела, похорошела невероятно, глаза сияют, но бледная, и чувствуется в ней какая-то нервность – вон, даже руки дрожат!
– Как ты? У тебя все в порядке?
– У меня все замечательно, просто лучше некуда! Институт закончила, работаю в школе с младшими классами, они такие смешные, милые! Бабушка здорова… более-менее. Все хорошо! Да я обо всем вам писала…
Она старательно улыбалась, но Андрей видел: все далеко не так просто. Ольга тоже разглядывала его. В первую секунду ей показалось, что Хомский очень постарел, но тут же она перестала это замечать, с нежностью узнавая забытое, но такое родное лицо.
– Мы можем поговорить где-нибудь? У вас есть время?
– Для тебя у меня всегда есть время. Пойдем-ка вон туда, во двор, ты не против?
– Нет-нет!
Они присели на щербатую деревянную скамейку, стоящую в крошечном скверике посреди внутреннего институтского двора, и с улыбкой глядели друг на друга – Ольга снова почувствовала волну любви и тепла, которой ей так не хватало все эти годы.
– Андрей Евгеньевич! Вы что-то так давно не писали – я забеспокоилась!
– Да я тут приболел немножко, полежал в свое удовольствие в больничке, отдохнул наконец. Я как раз собирался написать тебе письмо…
– Последнее?
Он помолчал, потом вздохнул:
– Да, ты меня хорошо изучила. Последнее, ты права.
– Почему?
– Ну, видишь ли… Годы идут, и мне не хотелось бы, чтобы наша переписка вдруг прервалась внезапно, и ты… переживала бы, не зная, что думать.
– А так я, стало быть, переживать не стану. Потрясающая логика. Что у вас со здоровьем? Это так серьезно?
– Ну, завтра я не умру, если ты об этом. Поживу еще.
– А как дела у Леночки?
– У Леночки? У Леночки все хорошо. Они в Канаде.
– И давно?
– Второй год.
– И вы молчали? Вы тут болеете совсем один и молчите?!
– Оля, ну что ты, в самом деле… Подожди! Ты… ты все знала?
– Ну да, я поговорила с дядей Гришей. Андрей Евгеньевич! Неужели я бы не приехала! Почему вы не написали мне ничего?
– Потому.
– Господи, вы такой же упрямый, как я!
– Да, мы похожи с тобой. Поэтому я знаю, что ты собираешься сказать, и отвечаю: нет.
– Но почему?! Только не говорите: потому! Вы знаете, как я к вам отношусь!
– Оля, за эти годы я не стал моложе. И между нами все та же разница в возрасте. И ты… ты меня не любишь.
– А вы? Вы меня еще любите? – Ольга с тревогой и надеждой смотрела ему в лицо, а потом вдруг ахнула: – Господи! Какая же я дура! Это все неправда, да? Это вы придумали? Для меня, специально, в воспитательных целях? Чтобы поднять мою самооценку! А я-то верила…
– Оля!
– Нет-нет, все правильно. Простите меня, ради бога, простите! Конечно, как я не подумала… За столько-то лет… Вы же наверняка не один, разве такой человек, как вы, может быть один, а я навязываюсь. Господи, как стыдно, простите, простите меня!..
Она вскочила, но Андрей поймал ее за руку и усадил обратно, обняв, – Ольга тут же зарыдала ему в плечо.
– Что, все так плохо? Бедная моя девочка… Ну скажи, скажи – что случилось?
Всхлипывая и шмыгая носом, Ольга рассказала, что у Сашки родился ребенок, неделю назад. Андрей погладил ее по голове:
– И ты не можешь это пережить?
Ольга горестно покивала. Это известие и в самом деле ударило ее очень больно: все это время она подсознательно ждала, вдруг Сорокин одумается и придет к ней, даже после его женитьбы эта дурацкая надежда не угасла, но теперь… Это был конец. Через ребенка она переступить не могла, даже если бы Сашка сто раз одумался, – она прекрасно помнила, как он переживал, оставшись без отца, да и сама натерпелась.
– Андрей Евгеньевич, помните, вы мне говорили: красивая, желанная, должна быть гордой, беречь себя, на мелочи не размениваться? Видите, как я все помню? И вот мне двадцать семь лет, а я одна, вся такая красивая и желанная, только никому не нужная!
– Олечка, но неужели за эти годы ты никого не встретила, кто бы…
– Да никого! Лучше вас я никого не знаю! Они все… как Сашка. Только его я люблю, а…
Хомский усмехнулся – вот именно!
– Андрей Евгеньевич, да я же понимаю, что человек он… никудышный! Он мизинца вашего не стоит, он предавал меня сто раз, а я все прощаю, все надеюсь, все жду чего-то! И что это – любовь? Это вот такая любовь? Это… помрачение какое-то, наваждение, морок! Мы всю жизнь с ним бежим друг от друга, потому что – боимся! Если нам вместе соединиться… не знаю… конец света будет!
Андрей слушал ее и думал: а может, и надо было вам хоть раз пережить вдвоем этот конец света? Глядишь, и успокоились бы. Или нет? А Ольга уже не плакала, а смотрела на него умоляющим взглядом, пытаясь объяснить все, что она чувствует:
– Андрей Евгеньевич, может, то, что мы с ним друг к другу испытываем, и не любовь вовсе? Меряемся гордынями, а жизнь проходит! Может, то, что между нами происходит – между вами и мной, – и есть настоящая любовь?!
– Олечка…
Он почувствовал, как в глубине его души что-то дрогнуло, как будто трещинка образовалась на ледяной корке – на той броне, которой он окружил свое беспросветное одиночество.
– Я не знаю, вдруг я и правда вам не нужна… Но вы-то мне – нужны! Я же к вам спасаться прибежала, от себя самой спасаться, а то я что-нибудь такое сделаю, что потом всю жизнь не разгребу. Помогите мне! Если вы для себя не хотите, может… для меня?
– Олечка, понимаешь… Я боюсь, меня надолго не хватит. Это такая болячка, что я могу прожить и десять лет, и… поменьше. И что тогда с тобой будет?
– Андрей Евгеньевич, да какая разница, сколько! Главное – вместе! А то ведь будет то же самое, только порознь! Ну как вы не понимаете-то!
– Ах ты Лялька-Лялька!
Хомский поцеловал ее в висок: горе мое луковое… Ольга почувствовала, что он сдается, – улыбнувшись одними глазами, она сказала:
– Я взрослая, Андрей Евгеньевич, меня можно не только в лобик целовать…
И поцеловала его сама, всерьез, так что он даже задохнулся от неожиданности и не сразу ответил: у Андрея было странное чувство, что Ольга пробует его на вкус и сравнивает – так смакуют вино перед тем, как выпить. И боялся, что сравнение будет не в его пользу. Но уже через секунду он забыл обо всем: о вине, сравнении, о разнице в возрасте, о том, что они обнимаются в скверике на виду у всех и что наверняка кто-то из преподавателей или студентов их заметил…
А Ольга сравнивала – конечно, сравнивала! Ничего, ничего даже близко похожего не было на тот яростный шквал, что настиг их с Сашкой у колодца, но и не так плохо, как она боялась. У Андрея были уверенные жесткие губы, сильные руки, слегка колючие щеки… Она принюхалась, как кошка, к его запаху – и вдруг все, что было в ней женского, рванулось навстречу его жадному мужскому нетерпению.
– И ничего страшного! – сказала Ольга смущенно.
– Да уж, никакого конца света, это точно…
– Не надо! – Потом, покраснев, прошептала ему на ухо: – Ты мне нравишься…
И это «ты», произнесенное ее низким с хрипотцой голосом, перевесило всё: колебания, сомнения, благие намерения и благородные помыслы.
– Хорошо. Ты меня победила.
– Ура! Наша взяла!
Андрей поцеловал ее в кончик носа и сказал:
– Ну ладно, так и быть: пока дает нам радость Бог, давай запутаем клубок! Ну, а распутаем потом, когда я сделаюсь котом. Такой вот стишок.
– Хороший стишок! Это вы сочинили?
– Нет, что ты! Это такой есть замечательный человек, психолог, Владимир Леви, я с ним знаком немножко, вот это он…
– Я читала Леви!
Они говорили о какой-то ерунде, улыбались, но думали об одном и том же – оба просили неведомо кого, может быть, того же Бога, в существование которого не очень верили: пожалуйста, пожалуйста, дайте нам немножко времени для любви!
Немножко времени для счастья!
С Машей не получилось…
С Сашкой не получилось…
Пусть у нас получится…
Пожалуйста…
И в то же самое мгновенье, когда они мысленно произносили свои мольбы, произошел маленький Конец Света. Время остановилось, и пространство исчезло. Они сидели, крепко обнявшись, все на той же скамейке, которая медленно кружилась в кромешной тьме, освещенная неведомо откуда исходящим лучом, как от театрального софита. Тьма словно рассматривала их со всех сторон, изучала, измеряла и взвешивала. А потом бестелесный, равнодушный и холодный голос произнес:
– Пять лет. Вам отпущено пять лет. Время пошло.
Ольга с Андреем очнулись все в том же скверике: верещали в кустах воробьи, пыльная собака спала под соседней лавочкой, и деловитый шмель, невесть как залетевший сюда, еще жужжал над ярко-оранжевым цветком, растущим на некоем подобии клумбы. Ни Андрей, ни Ольга так и не решились рассказать друг другу об этом странном переживании, но внутри у обоих теперь бесперебойно работал таймер, отсчитывая секунды, минуты, часы и дни – пять лет, это так мало! Это так много…
Сашка сидел, согнувшись, на полу и чертыхался: проклятый вентиль никак не желал поворачиваться, того и гляди, сорвется…
– Сто раз говорил, вызови ты слесаря! Я ж не специалист!
– А то слесарь специалист! Думаешь, он лучше тебя сделает? Вечно пьяный.
Мать позвала его поменять кран, а он никак не мог перекрыть воду.
– Да, я забыла тебе рассказать: Ляля замуж вышла.
Сашка с размаху шарахнулся головой о край тумбочки под раковиной и зашипел от боли:
– А, черт! Что ты сказала?!
– Ляля вышла замуж. На прошлой неделе. Больно? Бедный! На-ка, приложи…
Мать подала ему пакет замороженной фасоли в полотенце, и он сидел, как дурак, с фасолью на башке и ничего не понимал. Мать разглядывала его с интересом:
– А что ты так удивился? Не думал же ты, что она будет всю жизнь сидеть в девках?
– Вот уж этого я как раз и не думал! Такая, как Лялька…
– Что значит – такая?! Что ты имеешь в виду?!
– Мам, да ничего я не имею в виду, просто так сказал! И что, тебя пригласили на свадьбу?
– Ну да. Мы с отцом свидетелями были.
– Вы с отцом?! А он-то тут при чем?!
– Ну как – друг ее мужа…
– А кто у нас муж? Подожди… Так это что… Это – тот самый дачник?! Приятель отца?! Да ему же сто лет в обед!
– Что ты несешь, он только чуть старше отца!
– Вот я и говорю – сто лет…
Значит, подумал Сашка, все-таки между ними что-то было тем летом! Не зря он тогда с ума сходил от ревности. Ах ты, старый хрен! И не смог сдержать самодовольной усмешки:
– Что ж она, никого помоложе не нашла?
Взглянул на мать и невольно отшатнулся – такой яростью вдруг полыхнули ее глаза:
– Ах ты… дрянцо ты эдакое! Так бы и ударила! Прямо рука чешется!
– Да что я-то?! Мам, ты чего?!
– Ничего. Иди уже, хватит. Все равно от тебя толку никакого.
Он сделал вид, что обиделся – ну и пожалуйста! Но домой не пошел, а долго сидел в соседнем дворе на качелях, пока его оттуда не выжили двое маленьких ребятишек, которым приспичило именно на качели, хотя рядом вертелась пустая карусель и на горке не было ни души.
Замуж вышла! Ну почему, почему это так его задевает! И с Томурзиком сейчас все хорошо, и сын вот родился, и что ему Лялька?! Почему он не может думать о ней просто как о бывшей однокласснице? Или как о подруге детства, практически родственнице?! А еще лучше – вообще не думать. Почему сразу темнеет в глазах, стоит только представить ее с кем-то другим? Когда же это закончится!
Он хорошо помнил, когда это началось. Была ранняя весна, Лялькин отец приехал прощаться перед отъездом в Израиль – вызов устроили родственники его новой жены. До этого он несколько лет уговаривал Тити€ну вернуться к нему, но, в конце концов, отступился. Увидев Лялькины несчастные глаза – она всегда очень тяжело переживала отцовские приезды, – Сашка увел ее наверх. Там было холодно, они забрались с ногами на кушетку и накрылись огромным дедовым тулупом, пахнущим овчиной, – это было их любимое место, их необитаемый остров.
Они сто раз сидели так под тулупом, прижавшись друг к другу, сто раз обнимались и хватали друг друга в шуточных потасовках, держались за руки, целовали друг друга в щеку при встречах и прощаньях, но сейчас вдруг между ними возникло что-то новое, ни на что прежнее не похожее. Лялькина голова лежала, как всегда, у него на плече, и Сашка зачем-то понюхал ее волосы, ткнувшись носом в макушку, а потом вдруг увидел, какие у нее красивые руки: изящные тонкие запястья и маленькие пальчики с аккуратными овальными ноготками. Он задумчиво примерил свою руку к ее ладошке:
– Какая маленькая!
– Правда? Бабушка говорит, это порода такая! Девятнадцатый век! У меня и ноги маленькие, смотри!
Лялька ловко стянула шерстяной носок, связанный бабушкой, и повертела в воздухе действительно маленькой розовой ступней. И хотя Сашка не раз видел Лялю босой, сейчас при виде ее смешно шевелящихся пальчиков ему стало как-то не по себе: тяжело дышать и неудобно сидеть. Он покашлял и поерзал на кушетке, а Лялька, очевидно, тоже что-то такое почувствовала, потому что страшно покраснела и быстро натянула носок. И вовремя – к ним поднялась Тити€на:
– Так и знала, что вы здесь! Иди, Ляля, попрощайся с отцом.
Лялька убежала вниз, а он все сидел, не в силах отвести взгляд от Инны, стоявшей у окна с сигаретой. Она всегда его… смущала, но сейчас он как-то совсем по-новому разглядывал ее стройные ноги и высокую грудь. Она тоже рассматривала его, довольно скептически:
– Вырос, щеночек! Совсем стал большой. Такой взрослый и красивый… песик.
Это было как-то обидно, и он слез с кушетки.
– Такой же будешь, как все вы… – сказала она Сашке вслед, и он скатился по ступенькам вниз, недоумевая: чем он так нехорош?
Больше они с Лялькой не сидели под тулупом, не обнимались, не держались за руки, а уж тем более не целовали друг друга в щечку – ее босая ножка словно нажала какую-то кнопку, запустив химический процесс, таинственный, сладостный и необратимый. И только спустя год, в малиннике…
И вот – она вышла замуж! Сашка чувствовал себя обиженным и брошенным, хотя прекрасно знал: сам отказался от Ляльки. Сам. И ночью ему опять приснился его привычный кошмар: бесконечная Центральная улица, засыпанная желтыми листьями, и удаляющаяся Лялькина фигурка, которую он никак не может догнать, как ни старается и сколько ни бежит, спотыкаясь, следом. Но сейчас Лялька не уходила от него, а ждала у автобусной остановки – в белом подвенечном платье и летящей по ветру фате она протягивала к нему руки и улыбалась.
Он задохнулся от счастья и побежал к ней, но тут, откуда ни возьмись, ему преградила дорогу целая толпа мрачных людей в черных одеяниях. У них у всех были одинаковые пустые лица с трагически поднятыми вверх черными бровями и скорбно поджатыми алыми ртами – клоуны, догадался Сашка во сне. Это же переодетые клоуны! Он расталкивал их, они равнодушно расступались, словно стадо коров, и никак не кончались. Наконец он выбрался из черного стада, но Лялька уже уходила – как всегда! – уходила вниз по Центральной, но не одна: ее обнимал за плечи кто-то светловолосый, в черном плаще и высоких сапогах со звенящими шпорами.
– Лялька! – закричал он. – Лялька! Куда ты?
Пара остановилась и обернулась, но Лялька смотрела, сияя от счастья, на своего спутника, а у того – Сашка похолодел – было его собственное лицо! Двойник подмигнул Сашке с наглой улыбкой и отвернулся. Они снова пошли вперед, а Сашка застыл на месте, крича:
– Лялька! Это не я! Я вот он, Лялька! Я здесь! Это самозванец, не верь ему! Он погубит тебя!
Двойник, не оборачиваясь, поднял вверх правую руку с непристойно вытянутым средним пальцем, и Сашка заплакал от горя и бессилия. Он так и проснулся, повторяя: «Это не я! Это не я! Это не я…» Долго лежал с колотящимся сердцем, потом встал и ушел на кухню – попил воды, покурил, глядя в окно. Ни один фонарь почему-то не горел, и, вглядываясь в эту непроглядную тьму, Сашка размышлял: интересно, а где они будут жить? В Москве? Нет, Лялька бабушку не оставит. Значит, «дачник» переедет к Бахрушиным?
В глубине квартиры Тимошка сначала захныкал, потом завопил в полный голос – Сорокин поморщился и притворил кухонную дверь. Он закурил новую сигарету и опять уставился в темное окно: а фамилию Лялька поменяла или нет, интересно…
Фамилию Лялька взяла мужа – Хомская. Она решительно вошла в новую жизнь и закрыла за собой дверь на засов. После того как Андрей сдался на ее милость, она совершенно успокоилась, зато он, наоборот, волновался все сильнее: он так давно жил один, что сильно сомневался в себе. Свадьба была очень скромной – расписались да выпили немного шампанского в компании бабушки и Сорокиных – Татьяны и Григория.
– Ты видел, как Андрей нервничал? Бедный! – спросила Татьяна, когда Гриша вез ее домой.
– Еще бы не нервничать! Вон, Лялька какая красавица выросла – занервничаешь. И куда наш дурак смотрел…
– Куда! Куда вы все смотрите?! Туда и он.
Гриша поморщился, но промолчал.
– Бедная Ляля, столько слез по нему пролила!
– Правда?
– А самое печальное, что наш охламон тоже ее любит!
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
– Тогда зачем же он?..
Тогда зачем же он женился на этой козе? – хотел спросить Григорий, но вовремя прикусил язык, уж больно тема была скользкая. Татьяна прекрасно его поняла, но тоже смолчала. Подъехав к дому, они некоторое время посидели в задумчивости, и у Татьяны мелькнула шальная мысль пригласить Гришу на чашечку чаю, но она вовремя себя одернула – еще чего выдумала! Когда она уже взялась за ручку дверцы, Гриша вдруг тихо спросил:
– Тань, а почему ты замуж больше не вышла?
«Да все тебя, дурака, дожидаюсь, вдруг одумаешься!» – чуть не выпалила Татьяна, но вовремя опомнилась: сама ведь его выгнала.
Она пожала плечами:
– Да что-то я никому особенно не нужна…
– Мне нужна! – твердо сказал Гриша, и Татьяна мгновенно вспыхнула и даже как-то помолодела.
– Ну что ты говоришь такое…
А сама не удержалась и погладила его по щеке – Григорий придержал ее руку и поцеловал в ладонь.
– Перестань! Это мы с тобой просто от чужой свадьбы расчувствовались…
Она убежала, а Гриша отъехал, улыбаясь: может, еще не все потеряно? Сказала же Танька: «мы с тобой…»
Андрей же к ночи совсем впал в панику: Оля пошла проверить бабушку, а он уныло раздевался в спальне, ненавидя себя, свое нескладное и старое, как ему казалось, тело, и вообще всю эту безумную затею. Он долго не мог решить, совсем раздеться или нет, потом, окончательно расстроившись, улегся в трусах. «И почему я решил, что на что-то гожусь?!» – мрачно думал он. Но тут пришла Ольга, скользнула ему под бок, голенькая, теплая и уютная, все про него поняла, подышала ему в шею, потом поцеловала в ключичную ямку:
– И что это вы грустите, Андрей Евгеньевич? Вы уже не рады, что связались с такой настырной девицей?
– Я рад…
Ольга засмеялась и передразнила его:
– «Я ра-ад» – сказал он тоскливо! Знаете, какой у вас был вид?
– Какой?
– Как у Варенухи!
– У кого?!
– У Варенухи! Помните: связали, посадили в машину, повезли – гудел Варенуха…
Андрей тоже засмеялся, и его слегка отпустило.
– Ну, что ты? – спросила Ольга ласковым шепотом, и от этого интимного «ты» у него опять побежали по коже мурашки. – Что ты, милый? Ты… боишься, да?
– Немножко… – признался он.
– Неужели я такая страшная?
– Ну что ты говоришь! Просто… понимаешь… я так давно…
– Ну и что, разучился, что ли? Да ладно! Это же… как на велосипеде ездить! Умеешь, и все!
– На велосипеде я тоже сто лет не ездил…
– Ну вот, прямо не знаю, что с тобой и делать – и на велосипеде-то ты не умеешь!
Ольга поддразнивала его, и Андрею это нравилось.
– А помнишь, как я собиралась тебя поцеловать? Тогда, в парке? А ты не разрешил?
– Еще бы!
– А ты правда хотел меня тогда?
– Правда, – вздохнул он. – Ужасно мучился.
– Кошма-ар, уважаемый человек, профессор, а такие желания…
– Ну, тогда я еще не был профессором…
Он затаил дыхание, потому что ее теплая рука продвигалась все ближе и ближе к этим дурацким трусам – и почему он их не снял!
– И потом обманул…
– Когда?!
– А на моем дне рождения. Схалтурил с поцелуем…
Он поцеловал ее с чувством:
– Я исправляюсь…
– То-то же! Ты обо мне думал? Все это время?
– Я о тебе мечтал!
– И что это были за мечты? Надеюсь, непристойные?
– Ах ты… хулиганка!
Она подвинулась еще ближе и зашептала, целуя его:
– Ты только подумай: теперь я твоя жена! Я – твоя женщина! Твоя собственная! И ты мне нравишься, правда! Мне нравится… с тобой целоваться… и я хочу… чтобы ты меня приласкал… я хочу тебя…
– Подожди! – сказал он хриплым голосом, повернулся и перехватил ее настойчивую руку. – Подожди, не спеши! Теперь я сам…
– Только ты… осторожней, ладно? Я… первый раз.
И Андрей просто задохнулся от счастья: она и правда сберегла себя! Для него!
Сберегла, да. Хотя не очень, честно говоря, понимала, почему эта физиологическая преграда ассоциируется у мужчин с невинностью – уж невинной Ольга никак не была. Сначала она самоутверждалась. Надо же было доказать Сашке, да и себе самой, что она красивая и желанная: Сашкины слова «Да кто еще захочет?!» – очень долго звучали у нее в ушах. Но если в школе самоутверждаться было весело, то во взрослой жизни это оказалось совсем не так забавно, а порой и опасно: мужчины понимали все очень однозначно, и пару раз она с трудом унесла ноги, чудом сохранив пресловутую невинность. Довольно скоро она научилась держать поклонников на расстоянии, и так же скоро поняла, что главная опасность исходит вовсе не от мужчин, а от нее самой: слишком горячая кровь текла у нее в жилах, слишком быстро она вспыхивала в ответ на чужую страсть, слишком нужны ей были мужская любовь и ласка.
Бахрушинские женщины не умели жить без любви.
Ольга помнила, как погасла мать, потеряв «того человека», и сочувствовала ей, хотя отношения у них всегда были непростые. Страстная детская любовь сохранилась, но обида на мать, променявшую ее на чужого мужчину, зависть к материнской красоте и чувство собственной несуразности никак не способствовали их сближению, и со всеми своими печалями Ляля шла к бабушке, которая утешала ее, как могла:
– Ну что ты, Лялечка! Ты обязательно выправишься! Еще такой красавицей станешь, вот увидишь! И я кулёма в детстве была, а потом расцвела, как розан!
Лялька не очень верила в «розан», глядя на грузную Наталью Львовну, а фотографий юной бабушки у них не было: дед увез Наталью от мужа в одночасье, в чем была – хорошо, успела захватить единственную свою ценность, фамильный медальон! Завернул Наташу в собственный тулуп, поднял на руки и увез. Но Лялька прекрасно помнила, как молодело и расцветало бабушкино лицо, когда дед, который уже не вставал, звал ее к себе:
– Наталочка, поди ко мне! Я соскучился! Красавица моя…
Сразу после смерти мужа Наталья Львовна обрюзгла и потускнела – все следы былой красоты, которые Лялька по малолетству и привычке не замечала, пропали с ее лица. Так и Лялька – без мужского внимания она начинала чахнуть, но была все-таки слишком умна, чтобы совсем потерять себя, да и Андрея Евгеньевича было стыдно: они переписывались все эти годы, и его письма отчасти давали ей то тепло, которого так не хватало в жизни. Иногда она мечтала, чувствуя себя гоголевской Агафьей Тихоновной: вот если бы соединить Сашку и Андрея Евгеньевича в одного человека! Каждый из них был по-своему нужен ей: Андрей отвечал на зов ее души, а Сашка…
Сашка!
Она давно могла бы выйти замуж – претендентов хватало. Не так много, как можно было надеяться, судя по ее успеху у мужчин – многие побаивались ее резкого насмешливого ума. Ни один Ляльке не нравился – никто не любил ее так, как Андрей Евгеньевич, и никого из них она не хотела так, как проклятого Сорокина!
Как ни странно, Ольгино замужество, так сначала поразившее Сашку, постепенно принесло ему некоторое освобождение – чувство, что их разделяет непреодолимая двойная преграда, заморозило бурлящую между ними химию: он знал, что на измену Ольга не способна. Однажды они случайно встретились все вчетвером – даже впятером, потому что в коляске верещал недовольный чем-то Тимошка. Оля нагнулась к нему – ну, что это ты бузишь? – и тот вдруг мгновенно замолчал, вытаращив на нее глаза. Ольга представила мужа, Сорокин – Тамару, которая совершенно ничего не заподозрила, да и не знала ничего, в отличие от Андрея Евгеньевича. Хомский окинул Сашку внимательным взглядом и внутренне вздохнул, покосившись на Ольгу: да, хорош, черт его возьми! Но Ольга была совершенно невозмутима и, как всегда, не оглянулась, уходя. Сашка оглянулся. Оглянулся и увидел, как «дачник» хозяйским жестом обнял Ляльку за плечи и поцеловал в висок. Видел, но не слышал, как она тихо сказала Хомскому:
– Не переживай! Я с тобой.
А вечером, когда он, прикрываясь газетой и тоскуя, смотрел, как она проверяет тетради, Ольга вдруг встала, пришла к нему на диван, отобрала газету, поцеловала и сказала, глядя в глаза:
– Перестань. Немедленно перестань страдать. Я. Тебя. Люблю. Я люблю тебя с шестнадцати лет. Ты же это знаешь.
– А как же?..
– А так же. Я не знаю, как объяснить! Понимаешь, я, может быть, и не умею никого разлюбить, но зато я умею полюбить. У меня столько любви, что на всех хватит. То, о чем ты говоришь, – да, оно никуда не делось. Оно там… за стеной. Но это… наваждение. Это мука мученическая! А ты – радость. Я счастлива с тобой, правда! Так что – не страдай. Все у нас хорошо. Мне только ты нужен.
Все и правда было хорошо. Андрей Евгеньевич тоже начал новую жизнь: неожиданно для всех – и для себя самого в первую очередь! – ушел из института. Этот таймер, тикавший внутри, заставил его по-другому взглянуть на мир, и физика, которой он с юности посвятил свою жизнь – вернее, ту ее часть, на которую не посягала Леночка, – вдруг перестала его занимать. Квартиру он сдал знакомому аспиранту, а сам перебрался к Бахрушиным и с огромным удовольствием занимался хозяйством – домом, в котором все время что-то надо было чинить, и садом-огородом, где его, человека городского, чрезвычайно удивляли сложности личной жизни растений. Хомский развлекал Наталью Львовну, которая звала его «Андрюшечка-душечка», готовил обед, ходил встречать Ольгу из школы, но часто просто сидел в саду, то читая книгу, то «наблюдая жизнь», а потом рассказывал Ольге про разных увиденных пичужек и даже купил определитель птиц Московской области. Ольга журила его:
– Зачем ты меня ждал! Надо было с бабушкой пообедать!
А Хомский, улыбаясь, отвечал:
– А мне без тебя не вкусно. Цукерброт не лезет в рот, пастила не хороша – без тебя, моя душа!
На осенних каникулах они съездили в Питер, зимой – на три дня в Прагу, оставляя бабушку на Татьяну Сорокину. Татьяна давно предлагала помощь, но Ляля все отказывалась, а тут вдруг согласилась, и то только ради Андрея Евгеньевича, которому очень этого хотелось: ведь Ольга никогда еще нигде не бывала! В Питере у Хомского оказалось много друзей, и по вечерам они ходили в гости: седые и лысые профессора и доценты, его ровесники, с такой завистью смотрели на Ольгу – а их жены с такой ревностью! – что Андрей приосанился, расправил плечи и помолодел, чувствуя себя минимум Суворовым, взявшим Измаил. Или кто там его взял? Кутузов? Один из профессоров так впечатлился, что даже заработал от жены шутливый подзатыльник и, пока Лялька «пудрила нос» в туалете, сказал, хлопая Хомского по плечу:
– Слушай, повезло тебе! Роскошная женщина! Просто роскошная! И как оно у вас?
– Да ничего, все нормально.
Но не удержался и добавил:
– Она довольна!
Тут же, правда, и устыдился своего петушиного хвастовства.
В гостиницу они пошли пешком по ночному Петербургу, который Хомский по старой привычке все называл Ленинградом. По дороге заглянули в маленький ресторанчик – обоим захотелось кофе. Играла негромкая музыка, и Андрей вдруг протянул ей руку – потанцуем? Они бросили куртки на стулья и медленно закружились на маленьком пятачке среди столиков.
– Если б не было тебя, – подпевал Андрей Джо Дассену, а Ольга улыбалась, – зачем я жил бы, вот вопрос? Год за годом бесцельно влача жизнь без надежд, без снов, без грёз…
– У тебя совершенно нет слуха! – сказала нежно Ольга и поцеловала его.
«Et si tu n’existais pas, j’essaierais d’inventer l’amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naitre les couleurs du jour et qui n’en revient pas», – пел Джо Дассен, они танцевали и целовались, а молодой бармен смотрел на них, задумавшись о чем-то своем.
Летом Андрей повез ее в город, где прошли его детство и юность и где никого из родных давно уже не осталось: родители умерли, братьев-сестер не было, а знакомых он растерял. Город сильно изменился, и Андрей ничего не узнавал: бывший рабочий пригород, где жили Хомские, стал почти центром, а метро, которое при нем только начиналось, раскинуло уже целых три линии. Их деревянного барака давным-давно и в помине не было, да и пятиэтажка, возведенная на этом месте, выглядела уже не лучше. Школа еще стояла, но в ней располагалось какое-то учреждение. Они с Ольгой пожили туристами – ходили по музеям и театрам, даже в зоопарке побывали. Просто наслаждались свободой, как школьники, сбежавшие с уроков. Ольга чувствовала себя любимой и защищенной, кокетничала напропалую и однажды сонно сказала Андрею, который еще не спал, горестно размышляя об ушедшем навсегда детстве и стрелой пролетевшей юности:
– Мне нравится…
– Что, милая?
– Нравится быть замужем за тобой…
Андрей усмехнулся – он все никак не мог до конца поверить своему счастью. И повторил про себя тютчевские строки, которые вспоминал чуть не каждый день: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней… Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней…» Ольга вздохнула и повернулась спиной – Андрей обнял ее и легонько поцеловал в шею под косой.
– Щекотно, – пробормотала Ольга, засыпая.
«Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность…» – это было единственное стихотворение, которое Андрей не рисковал читать Ольге: она не любила никаких намеков на разницу в возрасте и всегда пресекала его жалкие разговоры «в пользу бедных», как она это называла. Ольга даже пару раз втихомолку поплакала от обиды, что Андрей никак не может поверить в ее искреннюю любовь, но потом поняла: он просто не привык, чтобы о нем заботились! Некому было…
Больше они никуда не ездили, потому что бабушке без них становилось хуже: она беспокоилась и пугалась. А так все было хорошо, правда, Ольга никак не могла забеременеть – рождение ребенка было их обоюдной страстной мечтой, о которой они даже не говорили друг с другом, чтобы не расстраиваться. Андрей иногда с горечью думал, что жадная Леночка забрала все, что в нем было отцовского, – все, без остатка.
Сорокин с Ольгой изредка случайно встречались, иногда говорили по телефону, и все исключительно по делу. Сашка стал надеяться, что как-нибудь все образуется, рассосется, забудется, выдохнется, иссякнет; что перегорит, наконец, этот чертов бикфордов шнур, связавший их насмерть! Какие еще шекспировские страсти, на самом-то деле: семья, дом, строящаяся дача; бизнес, который вдруг неожиданно сдвинулся с места и теперь отнимал все время; легкие увлечения на стороне – так, ничего серьезного, просто для поддержания формы! Сашка вернул, наконец, все долги тестю, купил новую машину и подумывал о другой квартире, потому что в этой становилось тесно: ему не очень нравилось спать в одной постели с Томурзиком, и он втайне мечтал об отдельной спальне.
А потом увидел Ольгу в вагоне электрички – она сидела, прислонившись к окну, с каким-то серым лицом и пустыми глазами. Сашке сначала показалось, что она на него смотрит, и он помахал рукой, но бесполезно: она смотрела, не видя, а он просто оказался на траектории ее взгляда. Выходя, она прошла мимо него, не заметив. Сорокин хотел было окликнуть, но не решился и долго смотрел ей вслед. Он заехал к матери и мимоходом спросил:
– А как там дела у Бахрушиных? Я сегодня Лялю видел, что-то она плохо выглядит…
Мать, не оборачиваясь – резала лук для супа, – сказала:
– Умер Андрей Евгеньевич.
Сашка чуть было не спросил: «Кто это?» – но опомнился. Мать покачала головой:
– Очень жалко Лялю! И Андрея! Такой человек! Редкий… замечательный…
– И что в нем такого замечательного?
– Ну как же! Интеллигентный, умный, ответственный… надежный… верный… благородный… мягкий… любящий…
Мать задумчиво перечисляла достоинства Хомского, словно низала на суровую нитку разноцветные бусины, а Сашка, насупившись, слушал. Он испытывал сложное мучительное чувство, некую, как ему казалось, смесь ревности и упрямой детской обиды: поду-умаешь, ответственный! А я что – не ответственный?! На самом деле это был стыд – даже уши загорелись. Стыд и чувство вины. Каждое материнское слово звучало упреком ему, Сашке, хотя он никак не мог понять: чего ему стыдиться? Нет, конечно, если поискать, найдется… Но виноват-то он в чем? В том, что умер Андрей Евгеньевич?! Но то же самое болезненно саднящее чувство вины он пережил, увидев в электричке Ляльку с мертвым от горя лицом. Выйдя от матери, он долго стоял в задумчивости у подъезда, пока на него не наткнулась та же Татьяна, выносившая большой синий мешок с мусором:
– О! Что это ты тут стоишь?
Он рассеянно спросил:
– Ты думаешь, я неправильно устроил свою жизнь?
– Твоя жизнь. Тебе и решать.
И пошла, однако тут же вернулась и, подойдя к нему, сказала, глядя в глаза:
– Саша, я тебя прошу, не лезь туда! Оставь Лялю в покое раз и навсегда. Не осложняй жизнь. Ни ей, ни себе.
– Да я и не собирался… Я просто спросил! Что ты, в самом деле…
– Ты спросил, я ответила. – Татьяна сунула ему пластиковый мешок: – На-ка вот, отнеси. Хоть какой-то прок от тебя будет.
Ну тут уж он с полным основанием обиделся!..
Когда начался пятый год совместной жизни, и Андрей, и Ольга забеспокоились: то странное видение постепенно потускнело, таймер затих, и они давно уже думали, что все это им просто примерещилось от волнения, хотя Ольга стала пристальней следить за мужем, уговаривая себя, что все это ерунда, полный бред, и быть ничего такого не может – надо просто пережить этот пятый год, и все будет хорошо! Но тревога не отпускала. Андрей же стал явственно чувствовать подступающую к нему со всех сторон кромешную тьму, которая терпеливо ждала своего часа, и тщательно скрывал от Ольги усилившиеся головные боли и участившиеся мгновенные обмороки. Ему не было страшно – только безумно жаль Ольгу. Он плохо спал по ночам – слушал, как Оля дышит, как бьется ее сердце, и тихонечко, чтобы не разбудить, шептал всякие нежные глупости, которые обычно стеснялся произнести вслух. Казалось, чем больше нашепчет, тем дольше ей хватит, и Ольга сможет продержаться, пока не встретит достойного мужчину, который будет ее любить и ценить так же, как он. И, может быть…
Может быть, даже доставит ей побольше чисто физической радости, чем удавалось ему. Он давно уже понял, что слишком слаб и стар для такой горячей женщины, как Ольга, и был благодарен, что она сама ни разу даже не намекнула на это, ловко делая вид, что все хорошо. Сначала он ревновал ее к мальчишке Сорокину, но потом понял – напрасно. Ольге действительно удалось – и даже без особых усилий! – закрыть эту дверь. Словно в сердце у нее был компас, и стрелка смотрела только на Северный полюс – на него, на Андрея.
Весной, в самом начале апреля, когда появились первые клейкие листочки, Хомский осознал, что видит их в последний раз, и начал писать Ольге письма – то пару строчек, то страничку, а то и две, но почти каждый день. К августу их набралось сто шесть, и он, лежа без сна рядом с Ольгой, как раз сочинял сто седьмое, как вдруг резко повеяло холодом. Андрей поднял голову и увидел, что на краешке кровати сидит Маша, его покойная жена, точно такая, молодая и прелестная, как в день их первого знакомства: они вместе сдавали вступительные экзамены и влюбились друг в друга с первого взгляда. Всего-то им досталось полтора года счастья – после ее смерти Андрей остался с крошечной Леночкой на руках, и если бы не теща, он бы, конечно, не справился. Впрочем, теща без него тоже бы не выжила – Маша была ее единственной радостью в жизни. Маша, а потом Леночка с Андреем…
Маша улыбалась, но Хомскому стало жутко:
– Что, пора?
Маша кивнула.
– И когда? – спросил Андрей.
Маша пожала плечами, встала и ушла, послав от двери воздушный поцелуй. Ольга завозилась, теснее прижимаясь к нему, и пробормотала во сне:
– Холодно… Зачем ты открыл окно…
Утром Андрей, улучив минуту, когда Оля была в саду, позвонил в Канаду – Леночка, как всегда, засы€пала его своими новостями, но он все-таки сумел пробиться:
– А вы не собираетесь приехать?
В ответ опять потекло серебристое Леночкино журчанье, из которого он понял, что не раньше следующего года.
– Лена, я… очень плохо себя чувствую. Приезжайте сейчас. Пожалуйста! До следующего года… я могу… не дожить.
– Ну, папа! Господи, какой ты мнительный! Вечно ты носишься со своим здоровьем! Что же молодая жена за тобой плохо смотрит?
Повесив трубку, он вздохнул:
– Прости меня, Маша! Это я вырастил нашу дочь такой эгоисткой…
Весь день Андрей провел в рассеянной задумчивости, чувствуя, что темный окоем его жизни еще немного сузился. Потом присел в саду на любимую скамейку и вдруг вспомнил, что сегодня – 19 августа, Преображение! И, глядя на единственное яблоко, чудом налившееся на старой яблоне, стал тихо читать любимого Пастернака:
Он не видел, что со стороны дома к нему подходит Ольга: давно пора было обедать и она пришла его звать. Не видел и продолжал размеренно и торжественно читать:
Ольга подошла совсем близко, услышала, что он читает, и побледнела.
Оля обняла его сзади за плечи, и Андрей, закрыв глаза, тихо сказал, горько усмехнувшись:
Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа…
– Андрюшенька, что ты?! Зачем ты это читаешь?!
– Присядь!
Ольга села, глядя на него полными слез глазами.
– Помнишь, когда тебе было шестнадцать, ты обещала сделать меня счастливым?
– Да…
– Тебе это удалось. Я был счастлив с тобой.
– Был?!
– Сегодня ночью за мной приходила Маша.
– Господи… Так, значит, это правда?! Про пять лет?
– Ты тоже знала?!
– Да, но я не верила, не хотела верить! И не хочу! Я не хочу, не хочу! Это нечестно! Несправедливо… Я не хочу…
– Поклянись мне!
– В чем еще?
– Поклянись, что ты…
– Что?!
– Что ты справишься без меня.
– Я не хочу, не хочу без тебя! Это все бред какой-то! Ты же хорошо себя чувствуешь, правда? Разве у тебя болит что-нибудь? Давай сходим к врачу!
– Олечка, но я же тебе все объяснил про эту болячку.
– Откуда, откуда ты можешь знать, что именно сейчас?!
Но он почему-то знал.
Андрей обнял ее, и они долго сидели молча, думая одно и то же: если бы не случилось того странного виденья про отпущенные им пять лет, была бы их жизнь так же наполнена любовью и нежностью? Или нет? Они, как завороженные, все глядели на яблоко – крупное, красно-желтое, наливное, а оно смотрело на них, потом вдруг оборвалось, упало и покатилось по траве.
Хомский умер через три дня, на рассвете. Они оба не спали – тихонько разговаривали, обнявшись. Андрей вдруг замолчал на полуслове и судорожно вцепился пальцами в ее руку. Ольга схватила его за плечи и, глядя в глаза, из которых стремительно уходила жизнь, закричала:
– Я люблю тебя! Слышишь, я люблю тебя! Я люблю тебя…
Ей показалось – он услышал.
Леночка на похороны не приехала. Все те же Сорокины помянули вместе с Ольгой раба Божьего Андрея, а бабушке она ничего не сказала: та все равно забыла бы через пять минут. Но Наталья Львовна еще долго спрашивала у Оли:
– А где же Андрюшечка? Почему не приходит ко мне?
И Ольга, каждый раз чувствуя, как в сердце ей вонзается ледяная игла, терпеливо отвечала:
– Бабушка, он в Канаде. Он поехал проведать дочь и внука. У него там дочка, Леночка. Ты же помнишь Леночку?
Леночку Наталья Львовна помнила: «А что она делает в Канаде?» Но через пару часов – или через день – спрашивала опять: «А где же Андрюшечка?» И Ольга думала: такой казни я точно не заслужила.
Хотя Сорокин честно не собирался ничего предпринимать, Лялька, которую он до этого полтора года вообще не видел, стала, как нарочно, все время попадаться ему на глаза: ехал домой, а она своим размеренным шагом шла из школы; приходил к матери – а она как раз уходила; однажды заметил ее в аптеке, но пока, приплясывая от нетерпения, расплачивался в кассе, Лялька получила свои лекарства и исчезла. В другой раз возвращался из магазина, а Лялька сидела на автобусной остановке на той стороне улицы – он остановился, постоял, потом несмело помахал ей рукой и подумал: перейти? Но подошедший автобус загородил от него Ольгу, а когда отъехал, ее уже не было, и Сорокин не сразу сообразил, что на этом автобусе она и уехала.
В одну из суббот Сорокин возвращался из «Ашана» и притормозил у парка, за которым был дом Бахрушиных: кто-то позвонил, а Сашка не любил разговаривать за рулем. Лялька шла ему навстречу и остановилась передохнуть, поставив в снег тяжелую сумку как раз у его машины. Она подняла голову вверх и зажмурилась под лучами еще не жаркого мартовского солнца: после долгой оттепели вдруг пошел обвальный снег, потом ударили нежданные морозы и все деревья стояли в инее и снегу под нестерпимо-синим небом. Сорокин, пока ехал, все любовался серебряными лесами вдоль дороги: настоящее Берендеево царство! А сейчас залюбовался Лялькой, забыв про верещащий мобильник: она была в коротеньком полушубке, джинсах и валеночках, в ярком крестьянском платке, такая справная и уютная, такая родная, что у него защемило сердце. Щеки горели румянцем, она улыбалась, а брови, ресницы и волосы, выбившиеся из-под платка, совершенно заиндевели… Ольга подняла сумку, перешла дорогу и скрылась в парке. Сорокин машинально приложил к уху мобильник, в котором уже никого не было, послушал, ничего не понял и поехал дальше – а лицо Ляльки-Снегурочки так и стояло перед глазами. И только у переезда, пережидая товарняк, сообразил, что вполне мог бы подвезти ее до дому!
А Ольга медленно брела по парку, наслаждаясь солнцем, хрустом снега под ногами, звонким теньканьем синиц, которые не верили ни в какие морозы, и думала: это Андрюша! Это он для меня устроил такую радость. Это он! Жить ей было не просто. Бабушке день ото дня становилось хуже, она порой путала внучку с покойной дочерью, и, уходя в школу, Ольга не знала, к чему вернется. В оттепель ужасно протекла крыша, и она с тоской думала: летом придется чинить. У старых яблонь обледенели и обломались толстые сучья – надо будет спилить. Прогнил мостик через овраг, так что ей приходилось ступать осторожно, помня о двух сломанных досках…
На самом деле, работа по дому ее только отвлекала: времени вдруг стало так много, что некуда было девать, но оно сгустилось и застыло, как желе, и Ольга с трудом продиралась от утра к полудню и дальше к вечеру. Особенно неподвижными были ночи, в которых она тонула, как в глубоких черных колодцах, почти не различая света вверху. Последние письма Андрея она скоро выучила наизусть и шептала по ночам, как молитву: «Милая моя, желанная, счастье мое, любовь моя…» Ей так чудовищно не хватало Андрея, что она все время с ним разговаривала: рассказывала, как провела день, советовалась, жаловалась и благодарила за каждую малюсенькую радость, случившуюся в течение дня, потому что была уверена: это он! Это он помогает ей – оттуда. Кто же, кроме него…
Зима медленно перевалила в весну, весна – в лето, в августе Ольга поставила памятник Андрею Евгеньевичу, обновила ограду и цветочницу. Она часто туда приходила, сидела на лавочке, смотрела в родные лица на фотографиях, просила, чтобы дед и мама поддержали там Андрюшу, помогли ему на первых порах. Иногда тихонько читала вслух – Андрей был большим любителем поэзии, много стихов знал наизусть и сам читал замечательно и проникновенно.
Разбирая бумаги, Ольга нашла старую тетрадку в черном дерматиновом переплете, всю исписанную его мелким острым почерком – синими подвыцветшими чернилами. Это оказались его собственные юношеские стихи, просто ужасные. В конце была поздняя приписка черной шариковой ручкой: «Читал и огорчился: зачем читать учился! Да, брат, ты точно не Байрон!» Лялька засмеялась и поцеловала тетрадку – прямо в Байрона.
В сентябре Тимоша Сорокин пошел в первый класс, а в середине октября умерла Наталья Львовна. Когда то, что еще совсем недавно было бабушкой, увезли, дом замолчал. Лялька сидела в самом его центре, на кухне, и не слышала ни звука: ни скрипа половиц, ни треска рассыхающихся балок, ни шороха мышей, ни стука форточки от ветра. И дом, и все они – кресла, шкафы и кровати, книги на полках и картины на стенах, чашки в буфете и старый неработающий патефон в углу – все они молча смотрели на Лялю и чего-то от нее ждали. Надо им сказать – подумала она и громко произнесла:
– Бабушка умерла!
Кто-то горько вздохнул. Тогда Лялька побрела по дому и каждой комнате, веранде, крыльцу и лестнице объяснила: бабушка умерла. Только в ту комнату, где последнее время безвыходно обитала Наталья Львовна, она не вошла.
Сорокин же узнал совершенно случайно – позвонила мать:
– Ты не заезжай за мной, меня отец захватит…
– Куда захватит?
Оказывается, Наталья Львовна скончалась и похороны уже завтра, а Лялька ему даже не сообщила! Конечно – Саша понимал – ей было ни до чего, но уж ему-то могла бы! Он не смог отменить важную встречу и приехал прямо на кладбище, к самому концу церемонии, даже горсть земли бросить не успел. Долго метался среди могил – давно не был, все изменилось. Потом углядел отца, который махал ему рукой, подошел, увидел мать, она обнимала за плечи Ляльку – бледную, некрасивую, в неуклюжих черных одеждах. Она не плакала, смотрела куда-то мимо всех. Сашка пробился к ней, идя против течения – все уже потянулись к выходу, к автобусу и машинам. На секунду ему показалось, что это уже когда-то было – он бежал к Ляльке, проталкиваясь среди темных фигур. Когда?
Наталью Львовну в городе помнили и любили, поэтому народу было много, но Саша не видел никого, кроме Ляли – только ее мертвенно-белое лицо и невидящие глаза. Она, наконец, заметила Сашку, протянула к нему руки, они обнялись, вцепившись друг в друга так, что перехватило дыхание, – и в ту же секунду рухнула, не выдержав, та крепостная стена, которую он старательно возводил все эти годы, и громадная волна любви накрыла его с головой. Вся защитная броня, все доспехи, кольчуги и латы осыпались, зазвенев, – голым и бо€сым стоял он на пронизывающем ветру горя и любви.
На поминках народу было меньше – только самые близкие. Сашка с тревогой смотрел, как Лялька пьет, почти не закусывая, одну рюмку за другой, – но она словно бы и не пьянела, только глаза все наливались и наливались слезами. Она смаргивала, вытирая пальцами щеки, а слезы подступали опять. Наконец, народ разошелся. Сашка пересидел всех: ушел на второе крыльцо и курил, рассеянно глядя в сад. У него было странное состояние, какой-то озноб, но не тела, а души. Это было похоже на мгновенный приступ пронзительного страха, когда стоишь где-нибудь на высоте и смотришь вниз, представляя, что сорвался и падаешь. Такое состояние часто накатывало на железнодорожном мосту – Сашка никогда не любил там ходить и норовил перебежать по рельсам…
– Вот он где!
Ляля присела к нему на ступеньку, мать с отцом стояли напротив, и у Сашки вдруг возникло забытое детское чувство покоя и уюта. Все дома. Вот мама, вот папа, вот Лялька, вот он сам – вся семья в сборе. И было так чудовищно несправедливо, что сейчас они разойдутся в разные стороны. Впервые за последние годы они с отцом взглянули друг другу в глаза, и Сашка понял, что отец думает о том же самом.
– Саш, ну скажи хоть ты ей! Я предлагаю Ляле поехать ко мне, раз уж она не хочет, чтобы я с ней оставалась! – сказала мать.
– Не хочешь? – спросил Сашка у Оли.
– Не хочу.
– Мам, она не хочет. Ты поезжай с… папой. – Он сто лет не называл так отца и запнулся. – А я еще побуду. Если Ляля захочет, я потом ее к тебе привезу. Правда, Ляль?
– Да нет, я не поеду. Теть Тань, вы не волнуйтесь, все будет нормально! Я так устала. Я сейчас спать лягу. Спасибо вам за все!
– Ну ладно, береги себя! Саш! Ты тут смотри…
Мать взглянула на него, нахмурив брови – Сашка знал, о чем она думает.
– Мам, я все знаю, что ты хочешь сказать. Поезжайте!
Они, наконец, ушли. Сашка обнял Лялю за плечи, и она тут же положила голову ему на плечо:
– Дай мне сигаретку…
– Не знал, что ты куришь!
– Да я и не курю, так…
Они долго сидели молча, глядя в темнеющий сад. Потом Лялька вздохнула и поднялась:
– Пойдем, чаю попьем? Пить хочется.
– Пойдем.
– Поставишь чайник? А я переоденусь, а то это черное меня душит.
Ушла и пропала. Сашка поставил чайник, прибрал со стола забытое блюдо с остатками салата, пару рюмок и мятые салфетки; домыл, усмехаясь, остатки грязной посуды – видела бы жена! Потом приоткрыл дверь: Ляля стояла посреди комнаты, в длинной мужской рубашке – старинной, дедовой – и в носках, а джинсы держала в руках.
– Ты как, Ляль?
– Ты знаешь, я только сейчас поняла, что бабушки нет. Совсем нет, нигде. Никого больше нет…
Лицо ее вдруг скривилось совершенно по-детски, и Лялька заплакала навзрыд, обняв его за шею. Она всегда так плакала: горько и бурно, огромными, как горошины, слезами – у Саши тут же промокла рубашка на плече.
– Никого, никого нет! Я совсем одна осталась, совсем…
– Ну что ты! Как же ты одна, когда есть мы? Мама, я! Что ты, Лялька!
Он гладил ее по голове, по спине, по длинным неприбранным волосам и так любил, что было больно под левой лопаткой. Потом поцеловал – в висок, в щеку и, повернув ладонью ее голову, в мягкие соленые губы. Поцеловал слишком серьезно для простого утешения, но Лялька словно не заметила и все стояла, прижавшись к нему, всхлипывала, вздыхала и шмыгала носом.
– Дать тебе носовой платок?
– Да у меня есть…
– Ну, давай: гром победы раздавайся!
Лялька засмеялась сквозь слезы: бабушка так дразнила деда, который всегда сморкался чрезвычайно трубно и громко.
– Ладно, пусти-ка, пойду умоюсь…
Она подобрала упавшие на пол джинсы и вышла, а Сашка все стоял, ощущая странную пустоту – в руках, в теле, в душе…
– Саш? Ты чего тут стоишь? Чай остывает.
Он обернулся – Ольга подошла поближе:
– Саш, что ты?
– Я люблю тебя.
Он наконец сорвался в пропасть. Ольга молчала.
– Вот видишь, я все-таки смог это сказать. Не прошло и двадцати лет.
– Тебе просто меня жалко.
– Мне тебя жалко. И я тебя люблю. И всегда любил. И я не знаю, что с этим делать. И никогда не знал. Что делать, Ляль, а?
– Чай пить, что ж еще…
Сашка сидел за столом, мрачно глядя на Ольгу, которая все помешивала и помешивала остывший чай, все звенела и звенела ложечкой, пока он эту ложечку у нее не отобрал. Она сказала, глядя в сторону:
– У тебя совершенно замечательный мальчик.
– Какой… мальчик…
– Сын! Твой сын, Тимоша. Ты забыл, что у тебя есть сын?
– Откуда ты знаешь… моего сына?!
– Саша! Ау! – Лялька помахала у него перед носом растопыренной ладошкой. – Я второй месяц учу твоего сына! Что с тобой?
– Ты учишь моего сына?! То есть… Ты что хочешь сказать… Ольга Сергеевна – это ты?! Тимофей нам все уши прожужжал: Ольга Сергеевна, Ольга Сергеевна! А мне и в голову не пришло, что… И фамилия другая… Так это ты – Хомская?!
– Я.
– Бахрушина – лучше.
Лялька пожала плечами:
– Фамилия как фамилия. Ты разве не видел меня первого сентября?
– Первого сентября? Первого сентября…
Первое сентября он не запомнил. Ему так не хотелось, чтобы Тимофей шел именно в эту школу, но она была лучшей в городе. Сорокин ужасно разволновался, оказавшись на школьном дворе посреди толпы галдящих детей с букетами: тут же ожили все воспоминания, и Лялька мерещилась ему за каждым углом – может, и видел ее на самом деле, но не осознал. Он ужасно жалел Тимофея, который выглядел крошечным и беззащитным, и Александр вдруг подумал, что впервые, пожалуй, так сильно ощущает свое отцовство: на каком-то глубинном – физическом, зверином уровне. Горло перегрызу, если кто обидит, думал он, даже как-то гордясь собой. Просто на все был готов! На все, только не на то, чтобы ходить в эту школу. Поэтому на родительское собрание отправилась Томка…
– У тебя милая жена. Похоже, очень тебя любит. Я не хотела брать вашего сына, правда. Но она так настаивала. Ей сказали, я лучшая учительница. Я не смогла придумать, как отказать…
Он молчал.
– Не могла же я заявить: не возьму вашего сына, потому что… потому что сто лет назад целовалась с его отцом в малиннике.
Они посмотрели друг другу в глаза, и Сашка отвернулся первым. Малинник – это было лучшее, что с ними произошло за эти годы, – первое чувство, самое чистое и светлое.
– Ладно, Саш. Поздно.
Он предпочел не понять:
– Да, конечно, поздно, ты устала. Я пойду. Ты справишься? А то, может, все-таки поедешь к маме? Тебе не будет страшно одной?
– Саш, все нормально. Не волнуйся за меня. Мне не будет страшно. Это мой дом. Это моя жизнь. Я сильная, я справлюсь.
– Я знаю, – сказал он с тоской. – Ты сильная. Ты всегда справлялась… без меня.
Она проводила его до калитки и поцеловала целомудренным сестринским поцелуем – в щеку.
– Поезжай. Все будет хорошо.
Саша все стоял у машины, и Лялька не уходила – как будто тоже чего-то ждала. В темноте он не видел выражения ее лица.
– Ляль?
– Ну что, что? – В ее голосе звенели слезы. – Поезжай ты, ради бога!
И ушла в темноту. Он не выдержал – догнал:
– Ляль… Может… я останусь?
– Зачем это?
– Лялька, прости меня! Прости меня за все, прости, прости…
Она отворачивалась, и Сашка целовал куда придется – в щеку, висок, в шею под ухом…
– Саш, прекрати! Ну перестань… Не на… не надо… ах…
Они целовались так, словно это была последняя секунда их жизни. Потом Ольга оттолкнула его:
– Больше никогда, ты понял? Никогда! Уходи.
Он понял. Никогда.
Глава 4
Вкус мандарина
Душа моя, оглянись, но во сне не надо,Во сне я тогда не пойму, как же мне обратно.Начинаешь помнить, как снег начинает падать,Полчаса еще не прошло, и уже ни ворот ни сада.Ася Климанова
Сорокин вошел в класс, где проходило родительское собрание, – Ольга Сергеевна взглянула на него смеющимися глазами:
– А это у нас папа Тимофея Сорокина! Присаживайтесь, рада вас видеть.
Он сел за непривычно маленькую парту и целый час любовался Ольгой, совершенно не слушая, что она там говорит. Саша видел, как смотрят на нее остальные папаши, которых было довольно много, гордился красавицей и умницей Лялькой и вспоминал, как они целовались. Время от времени Ольга взглядывала на него, и Сашке каждый раз казалось: она читает все его мысли. Он переждал двух папаш, которые никак не хотели уходить и все что-то выясняли у смеющейся Ольги Сергеевны. Наконец она освободилась:
– Привет! Что это ты вдруг?
– Должен же я знать, как учится мой сын!
– Да что ты?
Она улыбалась и так явно была рада его видеть, что Сашка приободрился.
– Я тебя отвезу?
– Думаешь, это хорошая идея?
– Ляль, ну чего такого-то? Почему бы мне не отвезти домой любимую… любимую учительницу моего сына, а?
Ольга только покачала головой.
– Как ты?
– Да так… Неважно. Ты знаешь, мне всегда казалось – я сильная…
– Так и есть!
– Я сильная, на мне все держится. А когда бабушки не стало… Как будто какую-то опору вынули, зашаталось все. И я тоже… зашаталась.
Сашка слушал.
– Ничего решить не могу, ничего не понимаю. Растерялась. Может, бабушка и была опорой? А ведь она даже не всегда узнавала меня в последнее время.
– Это пройдет! Ты справишься.
– Да куда я денусь…
Когда сели в машину, он вдруг сказал:
– А хочешь, покатаемся?
– Как это?
– Ну, просто покатаемся! А то тут ехать – десять минут…
– И где мы будем кататься?
– Да где угодно, хоть по кольцевой! Сейчас машин мало.
– Ну, давай…
Он покатал ее по пустым трассам, а когда подъезжали к дому, Лялька заснула, привалившись к дверце. Сашка улыбнулся и осторожно погладил ее по шее – сзади под волосами. Она вздохнула и открыла глаза, зевая:
– Господи, я заснула, что ли?
– Ну да.
Руку он не убрал.
– И давно я сплю?
– Да минут десять.
– Даже снилось что-то…
Она опять зевнула.
– Понравилось кататься?
– Понравилось…
– Так, может, шофер заслужил чашечку кофе?
Он слегка потянул ее к себе, запустив руку в волосы на затылке.
– Кофе тебе дома жена нальет – через пять минут, потерпишь. Саш, прекрати!
Она опять закрыла глаза и так вздохнула, что он понял – действует! И обнял уже за плечо, и притянул к себе, и хотел было поцеловать, но Лялька вывернулась и выскочила из машины.
– Поезжай! Тебя дома ждут. Поздно.
И ушла.
Подъехав к дому, Сашка долго сидел в машине, так не хотелось никого видеть, так не хотелось потерять ощущение, которое еще хранили его пальцы: от Лялькиной нежной кожи и тонких завитков волос на шее. Он даже понюхал руку, но пахло резиной и бензином.
А Ольга еще долго стояла в полутьме на дорожке, размышляя: приснилось ей или нет, что здесь, вот на этом самом месте, она целовалась в прошлый раз с Сорокиным?! Она плохо помнила день похорон, все как-то путалось в голове, а потом ее совсем развезло от водки, выпитой на голодный желудок, хотя внешне – она знала эту свою особенность – внешне было совершенно не заметно: чем пьянее она становилась, тем более трезвой казалась. Проводив Сорокина, она тут же заснула и спала до вечера следующего дня – разбудил ее звонок тети Тани, которая беспокоилась, как она там…
Теперь ей почему-то все время мерещилось, что на похоронах был отец, который уже сто лет как не приезжал из Иерусалима, – был и рыдал в голос, а потом обнял Ляльку так крепко, что даже больно стало – от невыносимой силы любви! Но отец рыдал на похоронах матери, а обнимал и любил ее так пронзительно вовсе не он, а… Сашка?!
Не может быть…
И кто это сказал: я люблю тебя и всегда любил? И – прости меня за все?
Тоже… Сашка?!
Она смутно помнила разговор про Тимофея и школу, но вот поцелуи! Было это или нет? Похоже, что было – с чего бы это Сорокин вдруг полез ее обнимать? Какой кошмар…
Через неделю Сашка ждал Ольгу у школы – Тимофей приболел и сидел дома. Шел проливной дождь, Сашка долго стоял на крыльце, наконец Ольга вышла, раскрывая на ходу зонтик.
– Ольга Сергеевна! Персональная машина подана!
– Саш, ну зачем это! Никуда я с тобой не поеду.
– Посмотри, какой дождище, ты вымокнешь в момент!
– Ничего, высохну. Саш, я прошу: не надо этого ничего, пожалуйста!
– Ляль, я просто отвезу тебя домой, и все. Я что, не могу тебя даже подвезти?!
– Ну, хорошо, – сказала она с угрозой в голосе. – Вези.
Ехали они молча, и Ольга собиралась сразу выскочить и удрать, но не успела – Сорокин обнял ее так решительно и крепко, что не сбежишь. Он слышал, как судорожно она дышит, как колотится ее сердце, и целовал – уже знал, куда целовать, где самое чувствительное местечко: на шее под ухом.
– Отпусти меня. Немедленно.
– Лялька… Но я же чувствую… Ты тоже меня хочешь…
– Ну и что?! Что это меняет? Пусти! Господи, как я тебя ненавижу! Чего тебе нужно? Чего?!
– Тебя! Я жить без тебя не могу…
– Ты сто лет прекрасно жил без меня! А теперь… когда я… когда я себя не помню… ты пользуешься! Отпусти, я сказала!
– Я люблю тебя! Лялька, пожалуйста…
– Что – Лялька?! Я давно уже не Лялька, а Ольга Сергеевна! Чего ты хочешь от меня – секса раз в месяц? После родительских собраний, да?! А как я в глаза твоему сыну смотреть буду, ты подумал? Как ты сам ему в глаза будешь смотреть?!
Лялька выскочила из машины, но Сорокин догнал ее на дорожке, схватив за плечи. Они стояли под проливным дождем – оба мгновенно промокли, но не замечали этого и кричали друг на друга:
– Где ты раньше был со своей любовью?!
– А ты?! Хоть бы раз дала мне понять, что я тебе нужен!
– Ага, ты хотел, чтобы я бегала за тобой, как все эти Светки и Жанки!
– А ты гордая, да?!
– Да. Гордая.
И она повернулась, чтобы уйти, но Сашка удержал и, не давая ей вывернуться, поцеловал – один раз, другой… третий…
– Прости меня, прости! Я не знаю, что делать… Ты мне каждую ночь снишься… Ну почему, почему?! Почему ты тогда не оглянулась…
– А ты? Почему ты меня не догнал…
– Ты никогда не оглядывалась!
– А ты никогда меня не догонял…
– Ну как же! Один раз догнал!
– Когда это? Ах да… Это когда ты меня допрашивал, девушка я или нет?
– Да, примерчик неудачный… Ляль, что нам делать?!
– Давай… ты постараешься… взять себя в руки, а?
– Я предпочел бы взять в руки тебя…
– Да что ты? Ты никак шутить научился?
– Ты не поверишь, но я даже научился любить…
– Ну, говоришь ты об этом очень даже бойко!
– Лялька! Господи, как я соскучился по тебе! Просто безумно!
– Я тоже…
Они стояли, обнявшись, мокрые насквозь, и не знали, что делать с этой обрушившейся на них, подобно ливню, любовью.
– Давай мы попробуем… просто быть друзьями? Друзья детства, а что?
– Ты сама-то веришь в то, что говоришь?
– Саш, а что делать?! Я не вынесу! Я не могу. Я все время помню про Тимошу, про…
– Не надо. Молчи.
– Они-то не виноваты, что мы с тобой такие идиоты…
– Я виноват. Я один.
– Ну да, а я белая и пушистая…
– Ты самая лучшая, а я ноготочка твоего не достоин…
– Ну ла-адно, а то я сейчас заплачу…
– Не плачь.
– Саш, пожалуйста, иди! Уходи! Я сама с собой еле справляюсь, а еще ты. Пожалуйста, уезжай домой. Я прошу тебя! Не надо приезжать в школу, и ко мне не надо, ничего не надо! Ты же видишь, выхода нет. Пусть все будет как было, пожалуйста! Я прошу тебя, умоляю! Я уйду в другую школу, я так и хотела, меня в Москву звали, но из-за бабушки не вышло, а теперь… Нам не надо, нельзя видеться, не надо, не на…
А сама не могла оторваться от него, никак не могла! Стоило только Сашке ее обнять, как сознание отключалось напрочь и оставалось одно молодое, голодное и жадное тело, жаждущее любви.
– Все. Уходи.
– А жить как?
– Так и жить. Иди.
На следующий день Лялька свалилась в гриппе, толком не долечилась и в конце декабря опять заболела, теперь уже надолго. У Сашки тоже болели все: первой подхватила грипп Томурзик, за ней Тимошка, потом мать, его же самого ничто не брало, и он волей-неволей суетился по хозяйству, вспоминая, как сладко было болеть в детстве – можно было валяться в постели с книжкой, мама давала малиновое варенье, все тебя жалели…
Правда, один раз он болел очень тяжело и долго, уже не помнил чем, но когда выздоровел, оказалось, что за время болезни перерос Ляльку на целую голову. Как ему понравилось смотреть на нее сверху вниз и чувствовать себя – наконец! – большим. Но Лялька его быстро догнала. Так они и росли наперегонки, пока не выровнялись окончательно к восьмому классу, и дверной косяк с зарубками в Лялькином доме был тому свидетелем…
Когда он заехал к матери, та попросила, чихая в платок:
– Саш, съезди, пожалуйста, к Ляле. Она уже третью неделю болеет, бедная. Я сама хотела, даже сумку собрала, но вот видишь…
– Съезжу, конечно, о чем ты говоришь!
– Саш, только ты смотри…
– Мам, не начинай! Я сам все знаю.
Он поехал с честным намерением отдать материнскую посылку и тут же уйти, но когда увидел засыпанный не тронутым снегом участок Лялькиного дома, испугался: сколько же она не выходила? Снег шел… когда? Дня три назад?! Лялька открыла ему и сразу отошла в глубь комнаты, кутаясь в шаль. Он взглянул мельком: бледная, а глаза красные – ему показалось, она только что плакала. Лялька была в дедовой пижаме и бабушкиной шали, огромной, с длинными кистями. Он прошел на кухню, разобрал сумку, Ольга следила за ним равнодушным взглядом:
– Зачем столько всего… Мне и есть не хочется…
– Как ты себя чувствуешь?
– Да в общем ничего, но страшная слабость… Мандарины! Вот мандарин хочу…
– Подожди, они холодные!
– А я в руке пока погрею…
– Смотри: вот тут курица, а это бульон в банке…
– Ты что… ты сварил мне бульон?!
– Лялька, опомнись! Разве я на это способен? Конечно, мама. Помнишь, какой у нее вкусный бульон? Хочешь, я разогрею тебе? Это-то я могу!
– Ну, разогрей…
Он налил горячий бульон в широкую чашку и смотрел, как она пьет, вздыхая и закрывая глаза от удовольствия: щеки порозовели и в глазах появилась жизнь. Осунувшаяся, с кругами под глазами и свалявшимися волосами – она была прекрасней всех, и он хотел ее так, что… что надо было немедленно уходить.
– У тебя есть лопата? – спросил он севшим голосом и слегка покраснел: что-то ему это напомнило, какой-то фильм. Кто там рубил дрова, чтобы отвлечься? Челентано?
– Лопата? Зачем тебе лопата? – В сонном взгляде Ляльки, осоловевшей от горячего бульона, мелькнула искра смеха, и Сашка подумал, что все она про него понимает, черт ее побери!
– Дорожки расчистить, а то снегу по колено.
– А… Там стоит, в сенях…
Сашка вышел на крыльцо, схватил горсть снега и приложил к лицу: что ж такое-то?! Дорожки он расчистил в рекордный срок и пошел обратно, отряхиваясь и уговаривая себя: «Сейчас ты придешь, поставишь лопату, попрощаешься и поедешь домой, понял, придурок?» Но, когда он нашел Ляльку, оказалось, что она спит – прилегла на кровать и заснула, зажав в руке оранжевую шкурку. Сашка покачал головой – все-таки съела холодный мандарин! – и присел на пол около кровати. Он жадно рассматривал ее бледное лицо: опущенные длинные ресницы, мелкие морщинки в углах глаз, тонкие изогнутые брови, нежная щека, обметанные губы… У Ольги были удивительные губы: как будто она приготовилась к поцелую, а в последнюю секунду передумала и вот-вот улыбнется. Лук Амура – говорила бабушка. Черт бы его побрал, этого Амура!
Сашка не выдержал и поцеловал – едва касаясь! – самый краешек рта, потом щеку, потом еще и еще. Ольга вздохнула, открыла глаза, затуманенные сном, увидела его, расцвела в счастливой улыбке: «Сашенька! Ты уже приехал?» – и обняла за шею теплой рукой. Он прекрасно понимал, что Лялька наполовину спит, что ей примерещилось что-то из прежней жизни, но удержаться не мог, и они поцеловались – у ее губ был вкус мандарина. Лялькина ладошка залезла под воротник его рубашки и погладила по плечу, эта немудреная ласка вдруг произвела в нем что-то вроде небольшого атомного взрыва, и хотя Лялька в какой-то момент опомнилась и попыталась его оттолкнуть, Сорокина уже ничто не могло остановить.
Очнулся Сашка только тогда, когда все уже, собственно говоря, свершилось. Ему казалось, они занимались любовью во время бомбежки и, открыв глаза, он увидит одни руины, так все грохотало, гудело и звенело вокруг них. Или это в нем все грохотало и звенело?! Никаких руин не было. Они лежали рядом – когда, каким образом он избавился от одежды и вынул Ольгу из этой дурацкой пижамы, он не помнил. Он покосился на нее, не зная, чего ждать: слез, упреков, пощечины? Ольга улыбалась. Потом тихо засмеялась.
– Ты что?!
– Потрясающая женская логика! Сначала она говорит ему: уходи, видеть тебя не хочу, а потом вешается на шею…
– Когда это ты вешалась мне на шею?! – возмутился Сашка.
– Когда! Вот сейчас.
– Не выдумывай! Это я во всем виноват. Я коварный и подлый соблазнитель!
– И лопата не помогла…
– Какая лопата? Тут бульдозер бы не помог!
Они оба чувствовали невероятную легкость – все раскаянья и сожаления придут потом, а эта минута принадлежала им, только им двоим, и Сашка с каким-то чувственным восторгом трогал и ласкал ее горячее и нежное тело.
– Ты подожди, – прошептал он. – Это еще не все!
– Да что ты? Будет второй акт Марлезонского балета?
Сашка засмеялся:
– Лялька! Это ты!
– Ну да, а ты кого хотел? Мэрилин Монро?
– Да при чем тут Мэрилин Монро-то?!
Они хохотали, как сумасшедшие, Ольга уткнулась ему в бок, вздрагивая, и вдруг оказалось, что она все-таки плачет – сердце у Сашки просто разрывалось от любви и боли, и, не зная, как еще ее утешить, он приступил ко второму акту «Марлезонского балета». Все получилось, как он и хотел: медленно, сильно, глубоко, и Ольга стонала под ним, и хватала за плечи, и целовала его сама, и даже укусила за верхнюю губу.
Как только он ушел, Ольга заснула и спала почти сутки, и, когда Сашка приехал опять, ей все казалось, что это во сне. Очнулась она только на третий день, безумно проголодавшись. Поставила разогревать бульон, схватила кусок холодной курицы, жадно в нее вгрызлась – и вдруг вспомнила все, что случилось. Так и замерла с надкушенной куриной ножкой в руке, а все неминуемые последствия их совместного безумства тут же выстроились перед ней ровной линейкой: на первый-второй рассчитайсь! Болей – не болей, но в школу идти придется – и что с ней будет при виде восторженных глаз Тимоши Сорокина, устремленных на нее с обожанием?! А если – не с обожанием? С ненавистью?
Ольга перестелила постель, прибралась, ежеминутно присаживаясь от слабости – хотя в голове все прояснилось, сил не прибавилось. Она оделась, причесалась, посмотрела на себя в зеркало – ну почему? Почему все так… Почему?!
Сашка приехал через пару дней, привез продуктов. Он сразу заметил, что Ольга настроена сурово, да и сам был тоже какой-то другой – серьезный, тихий и все время отводил глаза.
– Зачем ты опять столько всего натащил? Я еще то не съела.
– Да ладно. Пусть будет.
Они помолчали – Лялька за столом, Сашка напротив, у окна.
– Ты хочешь сказать, что нам… больше не надо… – начал он.
– Да.
– Наверно, ты права. Прости меня.
– И ты прости.
– Не за что.
– Всегда найдется.
Когда Сашка произнес то, что она собиралась сказать сама, Ольга испытала такое огромное разочарование, что чуть не заплакала: неужели она надеялась, что…
Получается, надеялась.
И что, сейчас он уйдет, и все?!
И как жить дальше?
Так и жить.
– Ну что, я поехал? Или… может… а? Последний раз? Все равно уже…
– Ладно… давай.
Он раздел Ольгу, потом разделся сам – она сидела, обнаженная, на постели, поджав ноги, и смотрела, как он стаскивает джинсы:
– А ты помнишь, как мы с тобой…
– Я думал, ты забыла!
Им было тогда лет по пять, и Сашка демонстрировал Ляльке свое маленькое хозяйство, она с любопытством разглядывала и уже было протянула руку – потрогать, как вдруг вошла бабушка. Мудрая Наталья Львовна как-то ловко отвлекла их от этого пока еще невинного занятия, и оно осталось в памяти как нечто курьезное.
Лялька усмехнулась:
– Ну, сейчас хоть есть на что посмотреть.
– Ты меня смущаешь…
– Да что ты?
Они долго просто лежали, грустно глядя друг на друга. Сашка нежно провел пальцем по Лялькиным бровям:
– Сделай так!
– Как?
– Ну, как ты умеешь, бровью!
Она улыбнулась и приподняла бровь.
– А у меня никогда не получалось…
– Тебе и не надо. Не смотри, у меня морщинок небось полно!
– Ни одной не вижу! – ответил он искренне.
– А откуда у тебя этот шрам?
– Шрам? – Он потрогал подбородок. – Не помню…
У них было странное чувство, что все эти годы, проведенные врозь, вдруг куда-то делись и малинник был только вчера. Последняя малина, первые поцелуи…
Уже уходя, Сашка сказал:
– Ты представляешь? Отец решил вернуться.
– Да что ты! Вот здорово!
– Он уже четыре года живет один, а мы и не знали. Та его выставила. Нашла помоложе и побогаче. Они с матерью с октября встречаются. С бабушкиных похорон. А я думаю, что это мать такая чудная в последнее время…
– Саш, но это же хорошо!
– Не знаю. Как-то странно.
Он посмотрел на Ляльку и улыбнулся, довольно жалко. У нее получилось лучше.
– Ну что, прощай? – сказала она.
– Прощай.
Родители Сашку раздражали: отец прыгал вокруг матери, как дрессированный кролик, мать выглядела возмутительно молодой и счастливой, а Сашке почему-то было обидно. Как будто всю жизнь ему говорили, что… что дорогу надо переходить на красный свет, он и переходил, и презирал тех, кто ждет зеленого, а потом вдруг выяснилось, что все переходят на зеленый, только он один, как дурак, прется на красный! Он долго вспоминал, когда с ним такое уже бывало, – вспомнил и не обрадовался. Это было в десятом классе, когда вдруг оказалось, что никакой линии фронта между Лялькой и остальным классом нет: все относятся к ней вполне нормально, а некоторые так просто и обожают. Окопы осыпались, колючая проволока заржавела, все уже забыли о бывшей войне, и только он один сидит в блиндаже под прошитым пулями знаменем измены…
Потом они с Ольгой совершенно случайно встретились в магазине – стояли в соседние кассы. Был канун Восьмого марта и в магазине пахло мимозой: ее продавали у входа две толстухи восточного вида. Многие девушки уже были с цветами – Сашка, заметив Ольгу, отбежал из очереди и тоже схватил из стоявшего рядом стеллажа букет бледных тюльпанов. Они взглянули друг другу в глаза над головами покупателей, на выходе Сашка, не говоря ни слова, взял у нее из рук сумки, положил в багажник, Ольга села на переднее сиденье, в полном молчании они доехали до ее дома и начали целоваться еще в прихожей, раздеваясь на ходу. Опять была бомбежка, канонада, атомный взрыв, конец света.
– Я не буду больше приходить в этот магазин.
– Хорошо.
– Это я на всякий случай, а то вдруг ты тоже решишь. И мы опять встретимся… в другом месте.
– Я понял.
Сашка ушел, а Ольга долго сидела, положив бессильно руки на стол и глядя в круглое усатое лицо старых настенных часов, которые вдруг принялись важно отбивать какое-то невозможное время, потом сказала вслух:
– Я что, сломалась? Или нет?
Часы сразу затихли.
– Он навязал мне свои правила? Я готова сдаться?
Фарфоровая маркиза, к которой она обращалась, испуганно присела, прикрываясь веером. Ольге было стыдно. И даже не оттого, что она сразу потеряла всякое соображение, встретившись глазами с Сорокиным, и с трудом дожила до дома, сгорая от нетерпения. Ей было стыдно, что она все это время – и последние пару часов особенно – ждала и надеялась: вдруг Сашка скажет, что все-таки решил развестись и…
И они поженятся?!
Ольга прекрасно помнила свои клятвы и зароки по поводу Сашкиного сына, но…
Но все уже произошло!
Хуже быть не может.
Каждый день она шла в школу как на казнь, с ужасом открывая дверь класса – вдруг маленький доверчивый Тимоша Сорокин посмотрит на нее волчонком?! Все равно он узнает – рано или поздно. Ольга давно решила, что ей делать, и за это время предприняла кое-какие шаги, но шла по выбранному пути слишком медленно, запинаясь и оглядываясь, хотя прекрасно знала: Сашка ее не догонит. Никогда. Так это и будет тянуться: случайные встречи раз в месяц, бурный секс, беспросветное одиночество, слезы по ночам, ощущение собственного ничтожества…
Как она могла?!
Как могла, после того, что было у нее с Андреем? Опять увязнуть в этой трясине – и так быстро?
Ольга тяжко вздохнула: и башмаков-то я еще не износила, в которых шла за гробом мужа…
Она встала и в задумчивости переставила какие-то безделушки на комоде, уронила, не заметив, салфетку, поправила вазу на столе, перешла в другую комнату и там тоже что-то рассеянно переставила, поправила и уронила. Ей казалось, за ее спиной они все тихо перешептываются и следят тревожными взглядами, предчувствуя грозящую им беду, – все эти вазы, зеркала и комоды, семейные фотографии в рамочках и выгоревшие абажуры с кистями. Ольга чувствовала, как нарастает в ней ненависть: к себе, к своему жалкому телу, так подло ее предающему, к Сорокину, который вынуждает ее совершать то, что она собирается сделать. И даже к Тамаре, уж совершенно ни в чем не виноватой. Но должен же кто-то быть виноват! Хоть кто-нибудь… Почему он не остался в Москве? Зачем было возвращаться сюда? Чтобы быть все время у нее на глазах? Тыкать ей в нос своим семейным счастьем? Зачем надо было отдавать Тимошу именно в эту школу?
Ляля взяла тюльпаны – они так и лежали на столе в прозрачной целлофановой упаковке – и выбросила ни в чем не повинные цветы в мусорное ведро. Потом добрела до комнаты, в которой они с Андреем провели столько счастливых ночей. Она убрала все, что могло об этом напоминать – слишком больно. Остался один серый свитер, Андрей его так любил, что доносил до дырок. Ольга легла на кровать, прижала свитер, обняла себя его вязаными рукавами, уткнулась носом – запах еще оставался, еле заметный – и спросила тихонько:
– Ты меня теперь презираешь, да?
– Ну что ты, не выдумывай! – ответил Андрей.
– Ведь мы были счастливы, правда?
– Правда.
– Мне так тяжело без тебя! Видишь, что я наделала…
– Бедная моя девочка!
– Что мне делать, Андрюша?
– Ты знаешь.
– Но это так больно!
– Ты справишься. Ты сильная. Ты мне обещала, помнишь?
– Помню…
На следующий день Ольга пошла к директору. Вера Федоровна, их бывшая классная руководительница, любила Ольгу Сергеевну Хомскую, называя ее по старой привычке Бахрушиной, и с тревогой замечала, что она день ото дня все бледнеет и худеет.
– Вера Федоровна, я должна… Мне нужно… Боюсь, мне придется подать заявление об уходе.
– Так я и знала! Переманили! Куда, в Москву? Но до лета-то ты доработаешь?
– Дело не в работе…
– Оля, расскажи толком, что у тебя случилось!
Ольга горько усмехнулась:
– Сорокин у меня случился.
– О господи! И что, все так плохо?
– Хуже некуда.
Вера Федоровна отошла к окну, посмотрела, качая головой, на безрадостную картину за окном: начало марта – слякоть и дождь со снегом. Спросила, не оборачиваясь:
– Ты что, беременна?
– Нет! Не знаю…
Ольга с ужасом осознала, что и не думала о возможной беременности! Просто позабыла – они с Андреем никогда не предохранялись в надежде завести ребенка. А теперь… А что, если?!
– Пока нет. Но это ничего не меняет.
– М-да. Бахрушина и Сорокин наконец осознали, что любят друг друга. И ста лет не прошло.
– Вроде того.
– Почему, почему у вас все так сложилось?! От вашей любви чуть школу не сносило! Все понимали, кроме вас…
– Что, так заметно было?
– Да от вас же искры летели! Неужели за столько лет не перегорело?
– Выходит, нет.
– И что вы решили? Он разведется?
– Я не знаю! Как он разведется? Сына бросит?
– Ну, почему бросит… Разводятся же люди!
– Это ужасно! И так невозможно… Поэтому лучше… мне уехать.
– Да, замечательное решение. А ты не думаешь, что у них счастья все равно не будет? Если он тебя любит? А он тебя действительно любит?
– Не знаю…
И Ольга заплакала.
– Не плачь, не плачь! Ты не решай с бухты-барахты. Мальчику и так плохо будет, и так нехорошо. Все-таки развестись, на мой взгляд, было бы честнее.
– Как вы не понимаете?! Я же не могу настаивать на этом! Они же ни в чем не виноваты! Я и так себя чувствую… последней сволочью…
– Зато ты будешь счастливой сволочью, а не несчастной. И Сорокин твой счастлив будет, а мальчик… Это в ваших силах, так все устроить, чтобы мальчик не пострадал. Давай ты не будешь пороть горячку и доработаешь до лета? Оля? Ну, где я возьму сейчас, посреди года, новую учительницу?
– Я не знаю…
Ольга приходила домой и ложилась, свернувшись калачиком, – не думала ни о чем, просто вспоминала, как они жили с Андреем. Детство она старалась не трогать: найти воспоминания, в которых не было бы Сорокина, не получалось. Из памяти вылезала то история про волка, которым она долго донимала маленького Сашеньку, то поездка в зоопарк, закончившаяся тем, что Сашка испугался не вовремя закричавшего павлина, а Лялю, доверчиво протянувшую руку лошадке, укусил за ладонь старый пони, на котором катали детей по кругу. Или происшествие с воздушными шариками…
Инна привезла из Москвы два воздушных шарика – синий и оранжевый, никогда потом Лялька не видела шарика такого яркого апельсинового цвета. И Сашка тут же упустил свой – тот бодро взлетел и быстро исчез из виду, растворившись в синеве летнего неба. Сашка заревел, но Лялька толкнула его в бок:
– Смотри! – Она отпустила оранжевый шар. – Смотри, как здорово полетел! Он сейчас догонит твой, и они вместе полетят в дальние страны! Вместе – не страшно!
Они долго таращились в небо, задрав головы, а потом сидели на веранде и, болтая ногами, ели из кружечек ленинградское мороженое, тоже привезенное Тити€ной. Мороженое подтаяло, но все равно было вкусным, и тоненькие пластиночки шоколада были как коричневые льдинки в белом молочном море. А Инна смотрела на дочь с нежной печалью, предчувствуя, сколько раз придется той отпускать на волю ветра свой воздушный шарик…
Ольга пыталась как-то разобрать вещи, решая, что стоит взять с собой, а что выбросить, но хотелось забрать все – как она будет жить вот без этого стеклянного графина с потерянной пробкой? Или без любимой диванной подушки с выцветшей вышивкой крестиком? Без книг, которые собирали десятилетиями? Без старых детских игрушек, которые до сих пор жили на втором этаже, заботливо рассаженные на полках? Надо было либо забирать с собой все, либо не брать вообще ничего. Ольга медлила и медлила, рассеянно бродила по дому, прощалась и просила прощения у каждой комнаты и веранды, у каждого кресла и шкафа, у каждого бабушкиного платья в шкафу и у каждой книги на полке. Но к концу апреля ей стало окончательно ясно, что ждать больше нечего. Надо торопиться. И теперь по вечерам в дальнем углу сада горел костер, на котором она сжигала свое прошлое. А девятого мая, на кладбище, Ольга случайно встретила Татьяну Сорокину. Поговорили о том о сем, потом Ольга вспомнила:
– Ой, я же не поздравила! Дядя Гриша вернулся, правда?
И тут же опомнилась – рассказал-то ей об этом Сашка! Господи, сейчас тетя Таня догадается обо всем! Но та не догадалась, а покраснела и смутилась:
– Вернулся! Представляешь, мы заявление подали, старые дураки! Второй раз жениться собираемся…
– Ну почему же дураки-то! Что вы! Это так замечательно! Я ужасно рада!
– Спасибо тебе, а то Сашка как-то странно реагирует. Правда, ему сейчас не до нас…
И, нахмурясь, взглянула на Ольгу так пристально, что той стало зябко – догадалась! А Татьяна вдруг обняла ее крепко-крепко, и Ольга совсем испугалась.
– Ляль, я до сих пор не знаю: правильно поступила или нет, когда Гришу выгнала. Он уходить-то не хотел, в ногах валялся, клялся, что любит, что бес попутал. А я подумала: один раз предал и еще предаст… Может, простить надо было? Может, тогда и Сашка другим бы вырос…
Ольга ничего не понимала, а Татьяна погладила ее по щеке и спросила, глядя прямо в глаза:
– Он сказал тебе, что Тамара беременна?
Ольга смотрела на нее, окаменев.
– Не сказал, вижу.
– Когда ей… рожать? – выговорила Лялька через силу, не чувствуя под собою ног.
– В начале сентября. Она так давно хотела второго ребенка… Ляля! Ах ты, господи…
Ольга долго сидела на скамеечке у семейной могилы, пережидая противную слабость – не завалиться бы в обморок при тете Тане! Она смотрела на мраморную стелу с фотографиями, с которой на нее глядели дед с бабкой, мама и Андрей Евгеньевич, и просила у них прощения за то, что собралась совершить. Ночью, плача от безысходности, она с еще большей страстью ненавидела, ненавидела, ненавидела Сорокина за то, что он заставляет ее делать: она с мясом и кровью отрывала себя от себя самой, прежней.
От прошлого.
От дома, построенного прадедом.
От сада, посаженного бабушкой.
От скамейки в саду, где они любили сидеть с Андреем Евгеньевичем, от любимого маминого жасмина, от заката над соснами, от ближнего пруда, из которого по весне вылезало великое множество крошечных лягушат…
И в который однажды свалился маленький Сашка: он долго уговаривал Ляльку поплыть с ним вместе на широкой доске в дальние страны, но умная Лялька не захотела, тогда он решил один – доска тут же перевернулась, он свалился в ледяную весеннюю воду, вылез и с ревом побежал домой:
– Это ты во всем виновата! Это ты!
А кто же еще…
Это я виновата во всем.
Это я.
Первоклассников распустили по домам через неделю после майских праздников, и на родительском собрании, которое проводила директриса, объявили, что в следующем учебном году будет новая учительница, потому что Ольга Сергеевна, к всеобщему великому сожалению, вынуждена покинуть школу – по семейным обстоятельствам. Татьяна Сорокина, ходившая теперь на собрания, только вздохнула, услышав это.
Сашка узнал совершенно случайно: столкнулся около мусорных баков с дамой, проходившей под условным названием «ребенкиной мамы» – она жила в соседнем доме и ее сын учился в одном классе с Тимошей. Своего мальчика она иначе чем ребенком не называла, и его даже дразнили так в школе. Ребенкина мама – толстая и громогласная – спросила у Сашки, воинственно наступая на него мощным бюстом:
– Вы уже знаете, кто будет дальше учить наших детей?!
– Как – кто?!
– Такая безответственность! – Ребенкина мама никогда никого не слушала, только себя. – Уволиться ни с того ни с сего! Теперь придет какая-нибудь недоучившаяся молодка! Эх, если б знать, куда уходит Ольга Сергеевна! Вы не знаете, нет? Я тут же перевела бы ребенка к ней!
Как был, в старых, измазанных краской домашних джинсах и растянутой футболке, Сорокин рванул на ту сторону, к Ляльке. Он забыл про машину и помчался пешком: на одном автобусе, бегом через мост, на другом, бегом через парк…
Можно было и не бежать: старый забор сломан, наполовину возведен новый, все завалено досками и кирпичом. Он попытался объясниться с флегматичным таджиком в рабочем комбинезоне, но добился только одного: хозяина нет, и ничего не знаю! Уныло побрел обратно и присел в парке на скамейку, потом вдруг вспомнил, что именно здесь…
Это было месяца через три-четыре после ухода отца. Они с матерью как раз шли к Бахрушиным, а отец ждал их на этой самой скамейке и встал, робко улыбаясь. Мать обняла Сашку за плечо, как будто отец хотел его отнять, а Сашка насупился. Они помолчали, потом мать отпустила его и сказала:
– Саш, ты… иди. Мы тут… поговорим немножко, ладно? Иди!
Сашка пошел, но шагов через десять оглянулся: отец стоял перед матерью на коленях и у него было такое лицо, что Сашка тут же отвернулся и побежал бегом, плача на ходу. «Зачем, зачем я оглянулся?!» – думал он в панике. Зачем? На это нельзя было смотреть, он знал. Он прибежал к Бахрушиным и, хотя Лялька сразу увидела, что он плакал, не сказал ей ни слова – понимал, что об этом нельзя рассказывать. Нельзя видеть такое, нельзя рассказывать, нельзя вспоминать, нельзя думать об этом! Но не думать не мог. Эта сцена поразила его так же сильно, как смерть Тити€ны, и так же, как тогда, в его неокрепшей душе поселился страх – теперь перед Любовью. Настоящей Любовью. «Ну ее к черту!» – думал он. Любовь – это, оказывается… больно! И страшно.
Сашка всегда гордился отцом и своим с ним сходством, а увидев его стоящим на коленях, испытал такое болезненное унижение, словно сам стоял там перед матерью, жалкий и ничтожный.
Мужчина – перед Женщиной.
Вечно виноватый мужчина перед гордой женщиной, которая все про него понимает.
И не прощает.
Или прощает?
Он с трепетом ждал прихода матери, сам не зная, чего хочет больше: чтобы вернулась одна или чтобы простила отца и привела его с собой – как теперь вести себя с отцом, он не представлял. Но мать вернулась одна. Именно тогда поселился в нем первобытный, ирреальный страх сильного мужчины перед слабой женщиной. Именно тогда почувствовал он различие между женщиной дневной – той, что шьет, вяжет, стирает, готовит, смотрит в глаза и слушает приоткрыв рот; и женщиной ночной – той, что видит тебя насквозь, сводит с ума одним движением брови и знает то, чего ни один мужчина не ведает. И всегда потом выбирал себе женщин дневных, простых и незатейливых, которые если что и знали, так только про кастрюльки и колготки, не догадываясь, что в каждой есть частица этой Женщины Ночи. В каждой из них, как бы они ни были заняты кастрюльками и колготками…
Конечно, ни тогда, ни теперь он не думал об этом именно такими словами, но ясно чувствовал, что, владея сокровищем, разменял его на горсть пятаков. Как раз такой пятак и валялся перед ним в пыли – Сашка нагнулся, поднял монетку, повертел между пальцами, а потом встал и быстро пошел к железной дороге, направляясь к матери, которая наверняка все знала. Она всегда была на Лялькиной стороне, всегда!
– Почему ты не сказала мне ни слова?!
Отец смотрел на него с сочувствием, и Сашка отвернулся.
– Саш, я ничего не знала! Ты говоришь, дом продала?
– Что ты врешь! Ты не могла не знать! Ты всегда! За моей спиной!
– Не кричи на мать!
– Ладно, Гриш, ничего… Саш, я знала только, что она уволилась, и все.
– Почему ты мне не сказала?!
– Зачем?
– Мы даже не простились! Как я буду жить без нее…
– А как ты жил до сих пор?
Голос у матери стал жестким, и отец тихонько погладил ее по руке: не надо, мол.
– Как ты жил?! Ты бы раньше подумал!
– Мам, я все знаю! Лучше дай мне адрес московской квартиры! У него же была квартира, у этого человека… ее мужа? Может, она там? Ты знаешь адрес? Пап? Он же твой был приятель?
Родители переглянулись, и отец сказал:
– Саш, я дам тебе адрес, но это бесполезно.
– Почему?!
– Ну, если уж она дом продала…
Умом он понимал, что родители правы, но все равно поехал на эту московскую квартиру, где полноватый молодой человек с собачонкой на руках, которая все тянулась лизнуть Сорокина в нос, с сочувствием его выслушал, но помочь ничем не мог: ну, мужик, это ж не обмен! Сашка долго сидел в машине и рассеянно таращился в пространство. Потом включил зажигание, но машина никак не заводилась, и Сашка не мог понять: что? Что он должен сделать, чтобы машина завелась? Что он должен делать, черт побери?! Он вышел из машины и пошел куда-то, ничего не понимая: вокруг него на разные голоса гудели гудки, визжали тормоза, кричали водители – он пер поперек движения и волок свое одиночество как тяжкий груз: одиночество полное, окончательное и беспросветное.
Всегда, сколько себя помнил, рядом была Лялька. Да он и помнил-то себя только с того момента, когда Лялька взяла его теплой ладошкой за руку и повела в сад – показывать секретик в земле. Они десять лет прожили в одном доме, восемь лет сидели за одной партой, они читали вслух Диккенса, дружили, ненавидели друг друга, убегали вместе «в дальние страны», вместе засыпали – на диване в гостиной или прямо на полу, как заигравшиеся щенята. И ели вместе, наперегонки, и строили всякие каверзы, и дрались, и мирились, и Лялька дразнила его, и морочила ему голову, а он верил; утешала, когда он плакал, а сама плакала очень редко. Лялька защищала его и не давала в обиду: она долго была крупнее и сильнее, пока Сашка наконец ее не перерос…
И пусть потом они не виделись годами, но они – были!
Они были всегда.
Всегда, всегда Лялька маячила где-то на горизонте его жизни, и все, что он делал, имело значение только потому, что об этом знала Лялька.
И вот он остался один.
Сашка остановился: надо развестись, вот что! Как он раньше не сообразил! Развестись, найти Ляльку, и все опять станет хорошо.
Под ту же какофонию звуков он вернулся к машине и поехал, улыбаясь: разведусь! Господи, как просто. Сейчас приеду, расскажу все Тамарке, и она меня выгонит, как мать когда-то выгнала отца. То, что отец вернулся к матери, а она его приняла, сбивало Сорокина с мысли, и он опять возвращался к спасительному слову «разведусь». Сашка представил, как найдет Ляльку – она обрадуется и кинется ему на шею…
Неужели он никогда больше не увидит ее серых глаз, сияющих ласковой насмешкой, не услышит ее низкого медленного голоса, не коснется ее нежной бледной кожи, не почувствует вкуса ее губ?! Никогда?!
И вдруг Сорокин вспомнил совсем не те четыре безумных любовных припадка, что выпали им на долю – вернее, четыре с половиной, если считать и то, что было у колодца! – и которые с огромной натяжкой можно было обозначить этим стыдливым эвфемизмом: «спали вместе». Какой там сон! Нет, Сашка вспомнил одну из своих первых ночей в доме Бахрушиных, когда родители куда-то уехали и его уложили в Лялькиной комнате. Он проснулся посреди ночи – все чужое, незнакомое, странное: что-то поскрипывало и вздыхало, шептались невидимые голоса и проплывали неясные тени. Кто-то бродил там, в темноте, страшный! Сашенька даже побоялся громко заплакать и тихонько хныкал, накрывшись одеялом, когда к нему пришла Лялька и спросила своим детским баском:
– Чего ты скулишь? Ну, подвинься же!
И толкнула его в бок ладошкой. Он послушно подвинулся, и Лялька залезла к нему под одеяло – тепленькая, плотненькая, в мягкой фланелевой пижамке. Сашка прижался к ней и сразу успокоился.
– Может, ты щеночек?
– Я мальчик! – сказал он обиженно.
– А зачем скулишь? Давай ты лучше будешь щеночек? А то Полкан старый и щеночков не ро€дит!
– Я не скулю, я плакаю. И вовсе я мальчик!
– Мальчики не плакают!
– А если я боюся…
– Да что ты? Кого тут бояться? Тут волка нету!
– А где есть? – спросил Сашка, обмирая от сладкого ужаса.
– В огороде! Там нора, и он там живет!
– Правда?! А как он там живет?
Лялька еще что-то говорила про волка, но Сашка уже стоял в огороде у большой черной норы. В норе был домик с красной крышей, а в окошко выглядывал волк, совсем не страшный! Волк посмотрел на Сашу и сказал красивым женским голосом, чем-то похожим на Лялькин:
– Вы только посмотрите! Ишь, как устроились!
– Мама! – восторженно закричала Лялька, и Саша, открыв глаза, увидел…
Впервые увидел Лялькину маму, тетю Инну – Тити€ну. Она так поразила маленького Сашку своей необыкновенной красотой, что он сидел раскрыв рот и в полном потрясении таращил на нее глаза. Инна подхватила на руки радостно вопящую Ляльку – та тут же повисла на ней, обняв руками и ногами, как толстенькая обезьянка, а Инна улыбнулась Сашке над ее головой:
– А это кто у нас такой?
– Это мой щеночек! – сказала Лялька и показала ему язык.
– Я мальчик! – И Сашка насупился, готовясь заплакать.
– Мальчик? Как же тебя зовут, мальчик?
Мама спустила Ляльку на пол, и та запрыгала, гудя, как пчела:
– Щеночек! Щеночек! Он скулил, мама! Он волка боялся!
Инна вынула его из кроватки, и он тут же доверчиво обнял ее за шею:
– Я Сашенька…
– Сашенька! Мальчик Са-ашенька! Да такой красивый ма-альчик! Как на папу-то похож! – И с чувством поцеловала его в розовую со сна щечку…
Застряв в бесконечной пробке на МКАД, Сорокин рассеянно смотрел на соседнюю машину такого ядовито-зеленого цвета, что сводило скулы. На крыше у нее был прикреплен оранжевый самолетик, и Сашка долго размышлял, зачем там самолетик, который вдруг начал резво от него удаляться, и сзади загудели – пробка наконец сдвинулась с места и поползла, как огромная чешуйчатая змея, окольцевавшая Москву. Он подал вперед и перестроился – проезжая мимо, прочел на зеленом боку: «Такси в аэропорт». Ах, вот к чему самолетик. Через двести метров пробка встала опять. Он включил было радио, но оттуда так душераздирающе завопили: «Ну что тебе мои порывы и объятия!», что он поймал другую станцию, но там Филипп Киркоров сладко и вкрадчиво сказал ему: «Зайка моя!» Сорокин выключил радио и дальше ехал в полной тишине, с ненавистью глядя на оранжевый самолетик, целую вечность маячивший у него перед глазами.
Глава 5
Yellow submarine
Я хочу вам рассказать,Как я любил когда-то,Правда, это было так давно…
Ольга взглянула на светящийся циферблат часов: полпятого, с ума сойти. Она вздохнула, осторожно встала, покосившись на спящего мужа, надела халат и вышла из спальни, привычно поддерживая живот. Заглянула в детскую – конечно, одеяло сбилось. Поправила, поцеловала спящего сына в лоб, отведя светлую челку. Он что-то пробормотал во сне – Ольга улыбнулась: все воюет с кем-то! Пошла на кухню, прикрыла за собой дверь и поставила чайник. Потом высыпала на стол фотографии из бумажного пакета.
От прежней жизни у нее осталось совсем немного, все уместилось в старинном маленьком сундучке, некогда принадлежавшем ее прабабке: дедушкины очки с дужкой, замотанной изолентой; коралловые мелкие бусы, подарок отца; мамин шифоновый шарфик со слабым ароматом ее любимых духов; бабушкин черепаховый гребень – один зубец отломан; связка писем Андрея Евгеньевича, тетрадка с его нелепыми и милыми стихами, да две горсти земли, в старой фляжке, принадлежавшей прадеду, – две горсти земли, взятые из сада и с кладбища.
И еще золотой медальон с сердечком, выложенным из мелких бриллиантов. На обороте у него гравированная надпись – «La femme créé pour l’amour»[1]; а внутри овальная миниатюра: юная красавица в белом платье с розой на пышной груди – она улыбается одними глазами, чуть приподняв бровь. Когда художник писал с нее миниатюру, она уже носила под сердцем своего первенца. Это та самая прапрабабка, в свои шестнадцать лет безоглядно влюбившаяся в сорокалетнего русского князя, с которым она случайно повстречалась в Риме и которого тут же насмерть сразила. Она бросила мать, семерых братьев-сестер, отца-антиквара и, переодевшись в мужское платье, уехала с возлюбленным в далекий северный город на Неве. Князь любил ее страстно, задаривал жемчугами и бриллиантами, носил на руках, называл Армидой, но так и не женился, несмотря на то что она родила ему двоих детей.
Конечно, ровня ли была потомку Гедиминовичей эта юная parvenu, да еще с такой кипучей смесью кровей: итальянцы, поляки, французы, чуть ли не цыгане – кого только не было у нее среди предков! К тому же Гедиминович слегка разорился на жемчугах, бриллиантах и породистых рысаках, а Голицына, на которой он женился, весьма кстати оказалась наследницей огромного состояния. Армида любила князя вовсе не из-за бриллиантов, хотя и они, конечно, потом пригодились. Князь, женившись, предполагал сохранить и Армиду, но она, почувствовав себя оскорбленной из-за того, что он променял ее на знатную Голицыну, вышла замуж за страстно влюбленного в нее кавалергарда. Сына князь признал и оставил себе, тем более что других наследников у него так и не появилось, а дочь осталась с матерью. Бывший кавалергард вскорости был этапирован в Сибирь вместе с прочими участниками смуты на Сенатской площади, и Армида поехала за ним. Там она и умерла от чахотки, а ее дочь вместе с рожденным уже в Тобольске мальчиком вырастила сестра кавалергарда.
Последнее, о чем Армида бредила под завывание метели, был апельсин: мерещился ей знойный итальянский полдень, настоянный на ароматах моря, лавров, пиний и апельсинов. Она сорвала один и подала князю, а он взял его у нее и поцеловал, хотя на самом деле больше всего мечтал прикоснуться губами к розовой щечке этой прелестной насмешницы…
Именно от нее, от этой итальянской Армиды, и унаследовали они все – и Наталья Львовна, и Тити€на, и Лялька – щедрость души, способность к беззаветной любви, горячую кровь, изогнутые луком Амура губы, смеющиеся глаза и умение так приподнять бровь, что мужчина терял голову раз и навсегда. Умение редкое и приносящее очень мало счастья самим умелицам.
Вот и все сокровища – да еще фотографии, среди которых так мало ее собственных. Ольга выбросила те, где рядом с ней был Сашка. Оставила только одну, самую первую – толстенькая девочка с короткими косичками, недоверчиво насупившись, держит за руку маленького мальчика с испуганными черными глазами.
– Надо же, как ты похожа – сама на себя! Маленькая, а уже видно, что это ты, – сказал ее муж, в первый раз разглядывая снимки. – А кто этот мальчик?
Она провела пальцем по начинающей уже желтеть фотографии и ответила:
– Да так, никто. Просто друг детства.
Больше он не спрашивал, но Ольга подозревала, что сразу обо всем догадался: он такой, ее муж! Сдержан, скуп на слова, надежен, как скала, и проницателен – Ольге часто казалось, что он видит ее насквозь. Да и бровь поднимать умеет не хуже, чем она сама.
А сначала он показался Ольге простым и недалеким: так, работяга. Вместе с напарниками – мелким суетливым Егорычем и красавчиком Эльдаром – он по-быстрому ремонтировал ее новую квартиру. Сосватала его администраторша гостиницы, где Ольга поселилась, и вовсю нахваливала: руки золотые, надежный, да ты не пожалеешь, такой хороший мастер! Оказалось, ее младший брат. Администраторша, жалевшая Ольгу пронзительной бабьей жалостью – ты подумай, такая молодая, а вдова, да еще беременная! – пела еще что-то о его незадавшейся личной жизни, но это Ольга уже пропустила мимо ушей: ее собственная личная жизнь тоже не слишком задалась, да и чувствовала она себя неважно.
Мужики, одетые в синие фирменные комбинезоны, работали быстро и хорошо. Егорыч, привычно подпустив матерка, испуганно прикрывал рот рукой и говорил: «Извиняйте!», а совсем еще молодой Эльдар краснел, опуская длинные, как у девушки, ресницы. Ее же будущий муж молча делал свое дело, не обращая на нее, как Ольге казалось, особенного внимания. Она никак не могла запомнить его имя – такое простое, русское: Кирилл? Денис? Глеб? Клим? И несколько раз ошибалась, а он поправлял.
Он был чуть помоложе, чем Ольга: темноволосый, крепкий, немного нескладный и такой высоченный, что приходилось запрокидывать голову, глядя на него. Потом Ольга попросила помочь с мебелью, и он согласился. Они отправились по магазинам, где продавцы упорно принимали их за семейную пару, но потом Ольге стало плохо в очередном «Мире Диванов», и мастер – не то Кирилл, не то Денис – повел ее в кафе.
Мастер с никак не запоминающимся именем, ведя Ольгу в кафе, вовсе не собирался ничего такого предпринимать, хотя решение созрело у него уже давно. Но он всегда долго раскачивался, и обычно женщины, когда понимали, что нравятся ему, сами делали первый шаг. Или не делали. Да и какие вообще-то женщины! Анька, сестра, конечно, все время пыталась его женить, поэтому он сначала даже слушать не стал ее рассказы о загадочной москвичке, решившей поселиться в их городе, но потом заинтересовался и решил посмотреть, что там за ремонт надо делать в только что купленной ею квартире:
– Ну ладно, уговорила! Только отстань.
– Вот и молодец! – Анька была непривычно серьезна. – Ты знаешь, мне кажется, эта женщина… Она – для тебя.
Увидев Ольгу, он страшно удивился, потому что ожидал встретить существо хрупкое, отрешенное, неземное, с глазами вполлица – только такое, не от мира сего, создание могло сорваться в никуда, бросив родные места, где наверняка остались хоть какие-то родственники и друзья, которые могли бы помочь в ее положении!
Глаза были, да. Не вполлица, но тоже очень даже… неземные и отрешенные, потому что смотрела Ольга рассеянно, как бы не видя, и он, пользуясь этим, пристрастно ее разглядел: крупная женщина, высокая, но совсем не кажется громоздкой или толстой. Просто такая порода. Все заметил, сам над собой подсмеиваясь: и высокую грудь, и крутой изгиб бедра, и удивительно тонкие запястья, и маленькие кисти рук, и нежную бледную кожу, и завитки волос на шее, и улыбку в уголках рта – глаза тоскливые, а губы вот-вот улыбнутся…
– Ну что? – вдруг спросила низким хрипловатым голосом Ольга, и он чуть не подпрыгнул от неожиданности. – Рассмотрел? Может, пойдем теперь квартиру посмотрим?
Оказалось, она все видит, хоть и не смотрит, и он смутился. Вроде бы ничего такого особенного в ней не было, но его работяги так взволновались, когда Ольга пришла их навестить: Егорыч приосанился, а Эльдар сразу же вспыхнул. Она побродила по комнатам – он делал все на свой вкус, потому что ей было все равно, лишь бы побыстрее: устала жить в гостинице. Но в детской Ольга так и ахнула, увидев обои с белыми облаками и бабочками – какая прелесть! Глаза засияли, на щеке вдруг появилась ямочка, и в Ольге проглянула та маленькая девочка, какой она была когда-то. Они все смотрели на нее и тоже улыбались, как три клоуна в синих комбинезонах и оранжевых рубашках: большой, поменьше и совсем маленький.
Ольга стала приходить к ним каждый день во время обеда, и он привез для нее табуретку из дома – мебели не было никакой, и сами они сидели просто на полу. Ольга приносила им что-нибудь вкусненькое, мужики таяли и лезли из кожи, только бы улыбнулась, а у него каждый раз щемило сердце: она приходит просто потому, что больше идти некуда! Он подозревал, что в гостинице Анька уже достала ее своими бабскими разговорами. Один раз Ольга засиделась на кухне, и он зашел сказать, что лучше бы ей уйти, а то пора красить – она глубоко задумалась, сложив руки на животе, а он видел все ее мысли: вот подняла бровь, вздохнула, покивала, закрыла глаза, усмехнулась… Потом медленно повернулась и взглянула, как всегда, не видя. Он проводил ее, постоял, рассеянно глядя на дверь, а когда обернулся, оказалось, что мужики тоже стоят и очень серьезно на него смотрят.
– Вы чего? – спросил он и слегка покраснел.
– Ты это, того, ушами-то не хлопай! – сказал сурово Егорыч. – Не упусти! Такая женщина, ты что!
И Эльдар, плохо говоривший по-русски, кивнул:
– Редкий зенчин!
– Ладно вам! Так я ей и нужен…
– Да ты же ей нравишься, не видишь, что ли! Ну, ты вааще!
– Выдумывай!
– Да стала бы она каждый день сюда ходить! К нам, что ли?
– А может, ей вон Эльдар нравится.
– Это ты зачем сказал? Ты ей нравишься! Что стоишь? Да мне бы такой зенчин… эх! Я бы за ним бегом бежал…
– Во! Слышал? Парень верно говорит.
Он не очень поверил мужикам, но стал ловить себя на мыслях об Ольге, хотя предаваться размышлениям было особенно некогда: на самом деле его фирма не занималась такой мелочевкой, как у Ольги, да и сам он давно уже не работал у клиентов. Но Ольга его… задела. Зацепила. Как навязчивая мелодия, от которой невозможно отделаться, и ты против собственной воли все повторяешь и повторяешь про себя… эту женщину: медленный поворот головы, взмах ресниц, тонкая прядь волос, улыбка в уголках рта, движение изогнутой брови, низкий голос с грудными виолончельными нотами… «Да что ж это такое?!» – подумал он, поймав себя в очередной раз на этих мыслях. Влюбился, что ли?! Он разглядывал в зеркале свою несколько помятую утреннюю физиономию – отражение в зеркале покивало: влюбился.
– И я всю тебя, от гребенок до ног! – заорал он в полном восторге. – Как трагик в провинции драму Шекспирррову…
Потом вздохнул и, покачав головой, дочитал скороговоркой:
– Носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал. Вот так-то. Пастернак, между прочим, Борис Леонидович, – объяснил он потрясенному отражению. – Стихотворение такое, чтоб ты знал. «Марбург» называется.
Звучание виолончели, да и ее женственный вид всегда вызывали у него ощущения, близкие к эротическим. Он привык сравнивать всех с музыкальными инструментами – давно, еще с музыкалки, в которой так и не смог доучиться, хотя тянул до последнего: какая музыкалка, деньги надо было зарабатывать. Ольга – точно виолончель, Анька, конечно, балалайка; Егорыч – пастуший рожок, а он сам… он сам когда-то был гитарой. Простой семистрункой. Потом струны оборвались. А сейчас… Сейчас! Сейчас веник с мотором, вот кто. Он жил без музыки уже лет десять, но до сих пор сердце замирало при виде черно-белых клавиш! Конечно, он первым делом купил себе фортепьяно, но еще ни разу не играл – боялся, что не сможет изобразить ничего сложнее простой гаммы своими огрубевшими от работы руками.
Когда Ольга попросила его помочь с мебелью, он согласился, решив про себя, что не станет торопиться. Пусть обживается, рожает, а он просто будет все время рядом. И, может быть, потом, когда она отойдет, успокоится, привыкнет к нему… Тогда он, может быть, решится и скажет… И скажет, что… Ну, тогда и видно будет, что он скажет.
Но так испугался, когда в очередном магазине Ольга вдруг побледнела и мягко на него навалилась, теряя сознание, что совершенно забыл о своих благоразумных намерениях. Он вывел ее на улицу и хотел было отвезти домой, где из мебели еще не было ничего, кроме кровати, столика на кухне и его собственной табуретки. Но Ольга заупрямилась: лучше пройдусь. Хорошо, я провожу. Она упиралась, но он не отстал, и Ольге ничего другого не оставалось, как взять его под руку.
– А ты завтракала сегодня? – спросил он осторожно.
– Я? Наверно… Не могла же я не завтракать? – Ольга не помнила, и он подумал: наверняка забывает поесть и вообще плохо о себе заботится, а у нее ребенок, и когда ей рожать, интересно, и была ли она у врача, и… Господи, как же она будет одна! Это просто не укладывалось у него в голове.
– Слушай, а давай зайдем в кафе? Я бы кофе выпил. Хочешь кофе?
– Нет, кофе не хочу. И так жарко…
– А мороженое?
– Мороженое! – Ольга остановилась и взглянула на него снизу вверх радостным детским взглядом. – Мороженое хочу!
– Ну, пойдем. Ты какое любишь?
– Любое! Сто лет не ела…
Он купил ей самое навороченное мороженое, какое только было, и, пригорюнясь, смотрел, как она сосредоточенно ест и вздыхает от удовольствия, а когда Ольга слизала с верхней губы налипшую шоколадную крошку, отвернулся.
– А где ты обедаешь?
– Да где-то обедаю. А что?
– Вот что ты ела вчера на обед?
– Вчера…
Ольга задумалась, машинально облизывая ложечку, а он решительно допил остывший кофе.
– Да что-то такое ела, не помню… Что ты меня допрашиваешь?
– Ну как же! Тебе надо хорошо питаться, витамины всякие. Ты принимаешь витамины? А у врача ты была?
Ольга опять побледнела и прикрыла на секунду глаза, отложив ложечку, – он встревожился, но встретил жесткий взгляд:
– Какое тебе дело? Тебе не все равно?
– Мне не все равно.
– Ты просто на меня работаешь, и все.
Он усмехнулся:
– Уже не работаю.
– Я заплачу тебе за потерянное со мной время.
– А я не возьму. Я просто тебе помогаю. Можешь вон за мороженое свое заплатить, если ты такая щепетильная!
Она просто бесила его своим упрямством и на самом деле отнимала уйму времени. И тут Ольга заплакала, прикрыв лицо рукой, – слезы так и брызнули прямо в мороженое. Черт! Вот идиот! Он пересел поближе, обнял за плечи и сунул в руки бумажную салфетку:
– Придется тебе новое мороженое купить, это теперь соленое…
– Нет, не надо. Хватит с меня мороженого.
Она попыталась было отодвинуться, но он не пустил.
– Ну что ты хочешь от меня? – спросила Ольга с тоской. – Чего тебе надо? Ты посмотри, я же ни на что не гожусь. Я и жива-то только потому, что ребенок…
Он так и знал! Ему ли было не знать!
– Скажи, зачем я тебе нужна, а? Я же вижу, как ты… подбираешься!
– Да думал, может, я тебе нужен?
– Я прекрасно справлюсь со всем сама. Спасибо.
– Пожалуйста.
Они помолчали.
– Ты понимаешь, мне нужно быть сильной, а когда ты меня жалеешь, я раскисаю! Сразу прислониться хочется, спрятаться… за широкую спину. А ты пожалел и дальше пошел.
– Я не собираюсь никуда уходить. Без тебя.
– Объясни мне: зачем тебе это?
– Что – это?
– Я. Зачем ты со мной возишься?
– Потому что ты без меня пропадешь. И как я тогда буду жить?
– Ты же меня совсем не знаешь! И я тебя не знаю! Мы и знакомы-то меньше месяца!
– Так давай узнаем! Может, сходим куда? А то ты совсем заскучала…
– Ты меня на свидание, что ли, приглашаешь?!
– Ну да.
– И куда мы пойдем?
– Хочешь в кино? Или нет… в театр! У нас хороший театр, правда. Первое место занял на конкурсе, забыл каком. Честно, хороший!
Он с надеждой заглянул ей в глаза, тут же расстроился и забормотал:
– Нет, я понимаю… Я тебе не пара… Ты москвичка, образованная… красивая! А я пень пнем. А ты такая красивая! Я ж от одной ревности с ума сойду…
– Я правильно поняла, что ты меня в театр приглашаешь? Или еще куда?
– Могу и еще куда! В смысле – замуж.
– Господи… А тебя не смущает, что я немножко беременна?!
– Ну и что – беременна? Тем более! Как ты одна-то справишься? Тяжело одной! А я детей очень люблю, своих только нет. Да я бы тебя на руках носил!
– Ну да. И ревновал бы к каждому столбу.
– Да нет, не к каждому. Через раз.
Ольга взглянула повнимательней и подумала, что он вовсе не так прост, как ей показалось сначала.
– А что знать не знаешь – так я расскажу. Женат был, да. Не сложилось у нас. Еще кое-что было потом, так, несерьезно. Сейчас один. Детей нет. Ну да, это я говорил… Зарабатываю прилично, на семью хватит. Что еще? Не пью, не курю. И вообще.
– Да, жених завидный. Послушай, Кирилл…
Он не поправил, и Ольга решила, что попала правильно.
– Мой муж умер почти два года назад. Моему ребенку четыре месяца с небольшим.
Он посмотрел на нее, слегка нахмурившись, потом опустил голову. «Ну вот, сейчас все сватовство и закончится!» – подумала Ольга и продолжила:
– Отец моего ребенка женат и разводиться не собирается. Когда я спала с ним, я все это знала. Теперь и ты знаешь.
Он все молчал. «Господи, как я устала! – подумала Ольга. – Я не могу больше. Не могу. Сил нет. Вот как он скажет, так и будет. Пусть». Он вздохнул, а когда поднял голову, Ольга удивилась: он улыбался!
– Вообще-то я Данила. Но если тебе больше нравится Кирилл, можешь звать меня так. Всю оставшуюся жизнь. Ну что?
Ольга не ответила.
– Я знаю, ты меня не любишь. Пока.
Она усмехнулась:
– А ты меня любишь?
– Да. Я тебя как увидел, сразу понял – моя женщина.
– Твоя женщина… Но ребенок-то – не твой.
– Если ты… если ты выйдешь за меня, то и ребенок будет мой. Наш.
Ольга смотрела на него, сдвинув брови, и напряженно думала: правду говорит? Или нет? Зачем ему обманывать? Вон, и волнуется не хуже ее… Что ж это такое?!
– Просто поверь мне.
– Данил, но ведь так не бывает!
– Как?
– Вот так: мороженое и сразу жениться…
– Да где ж сразу-то! Мы еще в театр сходим.
Ольга подумала: может быть, поверить? Может, и правда… любит?! И его любви хватит на двоих? То есть… на троих. Пока. А потом… А потом видно будет?
«Андрюша! – мысленно позвала она мужа, прикрыв глаза. – Андрюша! Что мне делать? Поверить?»
«Попробуй, – ответил Андрей. – Посмотри, какой он!»
Данила вдруг нагнулся к ней совсем близко, но не поцеловал, а просто потерся щекой о ее щеку, и они принюхались друг к другу, как два диких зверя при первой встрече. На секунду Ольга вдруг увидела его внутренним зрением – цельный, сдержанный, глубоко чувствующий, верный, надежный… любящий. Они всё смотрели друг на друга, и Ольга впервые заметила, какие у Данилы глаза – карие, как… Как у Сашки! Но другого оттенка: темный янтарь, а не черный шоколад. И брови у него красивые, соболиные… Зачем она вспомнила Сашку?! Зачем! У нее вдруг задрожали губы, и Ольга поняла, что сейчас опять заревет самым позорным образом.
– Ну-ну-ну! Перестань! – Данила обнял ее.
А Ольга, горько рыдая, думала: «Во-от, все держа-алась, а стоило только появиться крепкому и надежному плечу, так я тут же обливаю его слезами…» Хотя прекрасно знала: держалась она плохо. Она с таким трудом, с такой болью оторвалась от дома – когда шла на станцию, казалось, за ней кровавый след тянется, как за раненым зверем! И рана эта кровоточила и кровоточила, жизнь утекала и утекала – еще немного, и ей станет совсем все равно. Она успокаивала себя – и ребенка, обещая, что справится, непременно справится! Но уже не была так уверена.
Если бы не Андрей! Его письма, ночные разговоры с ним… Любимого свитера Андрея уже не было, и она не могла обнять себя его руками-рукавами, но часть рукава Ольга распустила и смотала в клубочек – ночью она сжимала в кулаке мягкую серую пряжу, и ей становилось легче.
И вот появился… Кирилл? Или Денис? Ах да, Данила. Она видела, как он на нее смотрит, догадывалась, что опекает, и никак не могла понять, что ему надо – ну, не влюбился же, в самом-то деле? Но выбора не было. Он прав: одна она пропадет.
– Не плачь. Плюнь ты на него. Плюнь и забудь. Он слезинки твоей не стоит. Успокойся. Все будет хорошо. Я обещаю.
– Вот, всю рубашку тебе… уплакала…
– Ой, горе какое – рубашка мокрая! Высохнет, ничего. Ну? Все?
Ольга покивала, шмыгая носом.
– Послушай, а может, ну его, этот театр, а? Что мы, театров не видели?
– Действительно…
– Поедем ко мне? Там хорошо, кондиционер есть, ты отдохнешь, придешь в себя, а я пока все тебе куплю, что ты хотела. Давай попробуем? А потом видно будет, что и как.
– Ну ладно, давай, – сказала Ольга. – Ты прости, что я все время твое имя путала – то Кириллом назову, то Денисом…
– Да хоть горшком назови! Сейчас-то выучила?
– Данила…
– Вот и хорошо.
Он привез ее к себе домой, и Ольга мгновенно заснула в гостевой комнате – там стояла обычная кровать – «нормальных человеческих размеров», как сказала Анька, впервые увидев то, что он купил для себя:
– Это что ж такое-то? Аэродром прям какой-то…
А ее муж засмеялся:
– Аэродром! Скажи уж – сексодром!
Но Данила вовсе не собирался устраивать там никаких оргий – он так настрадался за всю жизнь от своего нестандартного роста, что просто купил самую большую кровать, какую смог найти, и такой же гигантский диван, на котором чаще всего и засыпал от усталости, присев на минутку. И в «гостевой» у него никто никогда не жил – он и сам-то дома почти не бывал…
Ольга проснулась утром и долго не могла понять, где это она, потом вспомнила – о боже! Уныло поплелась по огромной квартире, нашла ванную, умылась, мрачно поглядела на себя в зеркало: краше в гроб кладут. Она чувствовала себя бездомной собачонкой, подобранной из жалости. Вот до чего дошло. Ольга набралась решимости и пошла дальше. На кухне ей навстречу поднялась маленькая кругленькая женщина, слегка поклонилась и запела, улыбаясь всем своим розовым личиком:
– Ольга Сергеевна, голубушка! Встали уже? Сейчас я вам сырничков разогрею! Чего вам хочется: чаю, кофию? Может, молочка?
– А вы кто?!
– Я-то? Антонина. Да можно просто Тоня! Меня Данечка позвал вам в компанию. Я готовлю ему, убираюсь, а теперь вот с вами буду. Ну что, кофейку выпьете?
– Что-то ничего не хочется. А… Данечка… это кто?
– Ну как же! – Антонина даже всплеснула руками. – Данечка! Данилка наш! Позвонил мне вчера, приди, говорит, Тонь, помоги Ольге обжиться. Да вы кушайте, кушайте! Смотрите, какие сырнички – прям улыбаются!
Ну да, Данила. Ольга посмотрела – сырнички и вправду улыбались, и она нехотя съела один, потом другой, и кофе выпила, и еще один съела, подумав.
– Спасибо! Очень вкусно.
– Ну, вот и хорошо! А то, что такое – зеленая вся.
– А вы ему кто? Даниле? Сестра?
– Я-то? Нет, не сестра. Я его брата троюродного жена. Вдова, верней сказать. Пятый год, как нет Коли-то моего. Дети все разъехались, вот Данечка и позвал за ним приглядывать, а то ему некогда, все работает. Видишь, какие хоромы отгрохал, а сам только ночевать и прибегает. А мне что? Мне и хорошо, я при деле…
Она была такая уютная, теплая, румяная, улыбчивая – сама как сдобный сырник, и Ольга вдруг совершенно успокоилась и, подперев щеку рукой, слушала ее журчащий голосок:
– Данечка, он такой! Они с сестрой рано одни остались, вот он все и крутится, зарабатывает, а как же, мужчина, глава семьи! Заботится обо всех. Нас тут знаешь сколько, родственников-то – ой, тьма! И все мы к нему: Дань – то, Дань – это. Вот и меня не бросил, спасибо ему! А то я без Коли расстраиваться очень начала…
– Тоня, а вам сколько лет?
– Мне-то? Ой, и не говори! – и засмеялась кокетливо: – Сама не верю! Седьмой десяток уже.
– Как… седьмой десяток?! – Ольга даже выпрямилась. – Да быть этого не может! Никогда бы не дала!
Тоня улыбалась, довольная.
К обеду примчался Данила – красный, потный, злой: что-то у него там не ладилось на работе. Забегал по квартире, потом пропал в душе, вернулся и схватил было пирог, но Антонина пирог отняла:
– Ну-ка сядь, поешь нормально. Не сгорит там у тебя. Давай.
– А вы?
– А мы уже. Ешь.
Данила стеснялся Ольги, но есть хотел страшно, поэтому смел все в момент. Утром он трусливо сбежал, бросив спящую Ольгу на Тонечку, и теперь боялся, что Ольга опять начнет свою песню: спасибо, ничего не надо. Но она молчала, улыбалась и выглядела получше, чем вчера.
– Ой, хорошо…
– Ну! Со мной хоть на человека стал похож – смотри, как отъелся на пирогах! А был-то – без слез не взглянешь…
– Тоня! – сказал Данила строго и откусил еще пирога. – Да, вот что! Завтра я вас отвезу, по врачам пойдете. УЗИ там, анализы. Тонечка с тобой походит. Ладно, Тонь?
– Конечно! А как же, обязательно надо врачу показаться.
Ольга вдруг встала и ушла. Они с Тоней переглянулись, и Данила отложил надкусанный пирог.
– Ты это, Дань, уж больно того… напористо. Помягче… – сказала Тоня.
– Да с ней только так и надо! Упрямая, как не знаю кто.
– Гордая!
– Гордая… А как она тебе, Тонь? Вообще?
– Вообще – хорошая. Интеллигентная такая, хорошая. Только… больно несчастная.
Тоня хотела сказать – жалкая, но, посмотрев на Даньку, передумала говорить.
– Красивая, правда? – спросил он, задумчиво дожевывая пирог.
– Красивая, конечно, – согласилась Тоня, а сама опять на него покосилась: вот кто этих мужиков разберет? Такие красотки вокруг него прыгали, а понравилась эта, да еще с чужим ребенком. Бледная рыхлая Ольга совсем не показалась Антонине красавицей.
Данила с опаской вошел к Ольге в комнату, не зная, чего ждать. Она смотрела в окно. Дотронулся до плеча:
– Оль?
Она повернулась и вдруг обняла его – так обхватила руками, что он аж задохнулся.
– Прости меня! Я не поняла! Я ж не знала, какой ты…
Он слегка испугался – что там успела наговорить Антонина?!
– Да ладно, что ты…
– Спасибо!
– Пойдешь к врачу, вот и будет спасибо.
– Пойду. Я буду слушаться, правда.
Но хватило ее ненадолго. В разгар разборки с заказчиком, недовольным криво уложенной плиткой, позвонила Тоня, и Данила вышел на лоджию, оставив мастеров доругиваться.
– Дань, слушай, тут Ольгу в больницу хотят класть, а она ни в какую. Расписку требуют!
– А, черт! Скажи, сейчас муж приедет, разберется.
«Муж! – покачала головой Антонина. – Уж больно ты торопишься. Муж, объелся груш».
Данила примчался, полчаса уговаривал толстую врачиху, терпеливо кивая головой на ее упреки – совсем запустили жену, молодой человек. Разве можно так легкомысленно относиться! В ее состоянии…
– Виноват. Сознаю. Исправлюсь. Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну…
Врачиха удивилась и замолчала. В конце концов он договорился обо всем – о медсестре, что будет ставить дома капельницу и делать уколы, о лекарствах, витаминах, анализах, черте лысом, и, утирая пот со лба, вышел в коридор, где Ольга уже готовилась заплакать:
– Прости меня, я не могу в больницу… Я там помру…
– Так, отбой воздушной тревоги! Все тебе будет дома, успокойся. Только чтобы слушалась!
– Хорошо-хорошо, я буду. Только… я за все сама заплачу…
– А как же. Я тебе счет представлю! – Данила опять разозлился.
В тот день домой он вернулся поздно, и утром видел Ольгу только мельком – честно говоря, боялся. Все решилось так быстро, как он и не ожидал, готовясь к долгой осаде, постепенным маневрам и бесконечным ухаживаниям. И теперь не очень понимал, что же делать-то? А? На третий день он приехал вообще за полночь, и Тонечка ушла к себе, не дождавшись, а Ольга уже спала. Данила долго стоял под душем, потом достал из холодильника бутылку пива, пошел на любимый диван и вытянул с наслаждением ноги. Допил пиво и закрыл глаза, закинув руки за голову, – хорошо! Устал. Потом прислушался: что-то прошелестело и замерло, тихонько сопя.
– Ой, кто это? – спросил он, не открывая глаз.
– Это я…
Он посмотрел.
На Ольге был новый халат ярко-оранжевого цвета.
– Это что ж за апельсин такой?
– Правда, похоже? Я знала, тебе понравится!
Она улыбалась и смотрела на него совсем другими глазами – тоже смеющимися, а когда кокетливо приподняла бровь, Данила только крякнул.
– Можно к тебе? Подвинься! Нет, я хочу к стенке.
Он растерялся. Как-то не был готов к такому вот повороту событий, но виду не подал, а подобрал ноги, и Ольга ловко залезла к спинке дивана и легла рядом с Данилой. Он почувствовал, что краснеет: вот черт! Что ж такое-то?!
– А ты поел?
– Я? Нет… не поел…
– Хочешь, я тебя покормлю? Там такая запеканка вкусная, мы с Тонечкой сделали. Она милая, твоя Тонечка! Никогда б не поверила, что ей уже за шестьдесят! Она сказала, у тебя фирма! А я-то, дура, думала – так, ремонт делаешь, и все. А у тебя и перевозки, да? Как интересно…
– Ну да, грузовые…
– А ты правда в музыкальной школе учился?
– Правда…
Данила ее просто не узнавал: что ж там ей наговорила Антонина? Неужели… Он же просил!
– А как твои дела? Докладывай.
– Докладываю: чувствую себя хорошо, витамины принимаю, уколы пережила, капельницу выдержала, теперь как новая! Вот!
Она продемонстрировала Даниле руку с воткнутой на сгибе локтя иголкой, и он поморщился – брр! Ольга уютно приткнулась к нему, потом еще повозилась, поднявшись повыше, чтобы оказаться вровень с его лицом, – каждый раз, когда она двигалась возле него или дотрагивалась, Данила стискивал зубы: черт, черт, черт!
– А что это ты такой красный? – вдруг спросила она невинным тоном, внимательно разглядывая его смеющимися глазами. – Тебе плохо?
– Да! Плохо! Послушай, Оль…
– Что такое?
– Ну что ты делаешь?! Зачем?
– Не надо?
– Не надо. Я же не для того тебя сюда привез!
– Ты не хочешь?
– А, черт!
Он вскочил и ушел от нее на другой конец комнаты.
– Хочу! Но ты же… ты же меня не любишь.
– А тебе это так важно?
– Да.
Она вдруг быстро слезла с дивана и, опустив голову, пошла к двери – постояла и сказала тоном провинившейся школьницы:
– Прости меня, пожалуйста. Я больше не буду.
И ушла. Нет, ну что это такое, а?! Данила потоптался, не зная, что делать, потом пошел и с горя съел всю запеканку. Слегка успокоился и хотел было зайти к Ольге… но не решился.
А Ольга и правда чувствовала себя обновленной: то ли помогли лекарства и витамины, то ли возникшее чувство защищенности, то ли признание в любви сыграло свою роль. Но после того вечера она вообще перестала видеть Данилу – он явно ее избегал, и Ольга не знала, что и думать: вроде бы замуж позвал, и она согласилась, раз приехала к нему, а Данила струсил! Она-то хотела просто прижаться, полежать рядом, узнать его поближе – ну что такого-то?! Немножечко тепла и ласки! А он… А он сразу так ее захотел! Ну и что? Она бы уступила. Ольга хорошо знала себя, свою горячую кровь, легко закипающую от чужого желания. А почему бы и нет?! Данила нравился ей…
Ну да, нравился, нравился!
Больше, чем нравился: Ольга вдруг с изумлением осознала, что… влюбилась! Ей тридцать четыре, за плечами пять лет брака и сто лет страданий по Сорокину, пятый месяц беременности, а она – влюбилась как дура. Просто как дура. Ей вдруг захотелось наряжаться, по утрам она придирчиво разглядывала себя в зеркале: располнела, конечно, а так вполне ничего! И прижимала ладони к горящим щекам – с ума сошла! Просто сошла с ума. Это было совершенно новое чувство, совершенно новое состояние – ничего подобного она не испытывала раньше! То, что связывало их с Сашкой, – оно было всегда и просто росло вместе с ними, чтобы однажды выплеснуться наружу. То, что Ольга ощущала по отношению к Андрею, было очень сильным чувством, но как бы отраженным от его великой любви. И вот впервые в жизни она осознавала рождение любви в душе – словно в пустыне вдруг забил сильный родник. И мало того, что влюбилась! Она просто изнемогала от желания, и с каждым днем все больше и больше. «Это гормоны, – сказала ей врачиха, когда Ольга набралась смелости рассказать о своих мучениях. – Второй триместр, самое время. Да и мальчика носите. А какие проблемы? Или муж вас не хочет? Боится? Можно, только осторожненько, не увлекайтесь».
Боится! А может, и правда? Или… Раз он такой щепетильный – может, вообще передумал?! А что? Решил, что она слишком… легкомысленная?
И Ольга расстроилась: наверно, не надо было ему говорить, что ребенок не от мужа! И не знал бы…
Она много думала над тем, что скажет сыну, если тот спросит про отца, когда подрастет, и решила назвать отцом Андрея Евгеньевича, подарив тому лишних полтора года жизни. Андрей был бы не против. Может, и Даниле надо было так объяснить? А то решила, видите ли, честной быть!
Она плохо спала ночами, а рядом, за стенкой, точно так же изнывал Данила, который как-то рано утром даже пришел на нее посмотреть – Ольга спала на боку, спиной к нему, и Данила увидел только маленькую ступню, не прикрытую простыней. Ольга меняла каждый день платьица, надевала к завтраку коралловые бусы, и вообще все хорошела и хорошела, так что Данила уже совершенно не мог на нее смотреть и только краснел. Антонина лишь качала головой, наблюдая за их мучениями, и обдумывала, как бы оставить их одних на пару дней, но боялась: скажи она об этом Даньке, он вообще перестанет приходить домой, а Ольга и так тоскует, поминая его через слово. «Ах ты, господи! – думала она. – Вот глупые какие! И что с ними делать? Надо же, как их забрало…»
Наконец Данила повез Ольгу смотреть новую обстановку – она походила, полюбовалась, похвалила, а потом сказала, глядя ему в глаза ясным взором:
– Ну вот, теперь и жить можно! Спасибо тебе! – И села на диван, аккуратно сложив руки на животе.
– Пожалуйста! – Данила растерялся. – А ты что, тут хочешь жить?
– А для чего ж ты все это делал?
«И правда, на кой черт я все это делал?!» – помрачнел Данила.
– Так ты что… прямо тут и останешься?!
– А ты как хотел?
Ольга смотрела на него, слегка улыбаясь, и Данила вдруг догадался:
– Ты обиделась на меня, да?
– Да нет, чего обижаться. Кто ж на такую польстится…
– Ну что ты говоришь! Ты же видела, что со мной стало! Просто… ну… слишком быстро все.
– Ты же вроде как замуж меня звал? Или я неправильно поняла?
– Звал.
– А теперь уже не зовешь, да? После того, что узнал… про меня. Про ребенка. Ты подумал и решил, что я недостойна? Раз я такая, с женатым спала! Я понимаю, ты просто из жалости меня терпишь…
– Перестань! Перестань. Все не так. Я подумал тогда… что ты хочешь… ну… расплатиться.
– Расплатиться?!
– Я деньги у тебя брать не хотел, а ты решила – так. Мне это как-то обидно было…
– Хорошенького ты обо мне мнения!
– Ну вот, опять обидел! Черт, не мастер я разговоры разговаривать…
– Да ты и не разговариваешь! Ты вообще от меня бегаешь! А я… соскучилась…
– Правда? Ты прости, я не специально бегаю, просто сейчас у меня запарка. Я сам соскучился!
– Давай, у тебя будет выходной? И мы просто поговорим? Я не буду к тебе приставать, честное слово!
– Как это не будешь?!
– Нет, ты уж разберись, чего ты хочешь! А то ромашку устроил: сначала – уйди, противная, а потом – приставайте ко мне, приставайте!
– Да когда ж я говорил, что ты противная! Ты приятная. Ты красивая. Ты… желанная…
И ужасно смутился, а Ольга смотрела на него с нежностью. Вглядываясь в лицо Данилы, она непроизвольно подняла бровь, и он тут же повторил – они отражались друг в друге, как в зеркале.
– Ты не думай, что я… Я говорить не мастер, а так все понимаю. Я, знаешь, такой как… как подводная лодка.
– Почему – подводная лодка?
– Ну как: залег на дно, а все локаторы включены! Я все детство играл в подводную лодку – под столом. Мечта была на подлодке служить, но не вышло – куда с таким ростом!
И, улыбнувшись, напел:
– We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine…
– Он еще и поет, вы подумайте…
– А то! У нас, знаешь, какая группа была, что ты! С седьмого класса зажигали. Потом на городских дискотеках пели, по кабакам… Даже в электричках приходилось! Ой, и чего только не пели! И попсу, и рок, и «битлов», и черта лысого! Если что покруче, типа хэви-метал, так это Серега… – И Данила, скроив зверскую рожу и сделав рукой «козу», хриплым басом изобразил что-то рычащее-воющее.
– С ума сойти…
– Ну! А я больше по части лирики…
– Ты?!
Ольга смотрела на него во все глаза – господи, чего еще от него ждать?! Лирика!
– Я. Не веришь? Это я сейчас так… заматерел. А в школе, знаешь, какой был? Во! – И Данила показал Ольге мизинец. – Длинный, тощий. Мать говорила: дунь – переломится! Волосы до плеч, томный такой, прямо Ленский. Как там, у Пушкина? И… и что-то… и бессвязна речь, и кудри черные до плеч. Вот, точно – про меня. Говорить я и сейчас не мастер, а тогда еще и застенчивый был, ужас!
– А как же ты пел?
– Ага, трусил страшно перед сценой. Ну, потом выйдешь, гитарой прикроешься, и пошел завывать!
И он, слегка утрируя, спел ей сладким тенором:
Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay? She’s the kind of girl you want so much It makes you sorry Still, you don’t regret a single day Ah girl…
Ольга ахнула – вот это да!
– Ну? Первый парень на деревне. А потом… песни кончились.
Данила замолчал, опустив голову. Он не понимал, как его вынесло на это: он вообще не хотел говорить Ольге о тех страшных днях. Прошло и прошло.
– Что-то случилось, да?
– Да. У меня девушка была. Марина.
Он еще помрачнел. Вздохнул, но продолжил:
– Она… она погибла.
Ольга ахнула и погладила его по щеке – он закрыл глаза и кивнул:
– Пьяный врач сказал мне – тебя больше нет…
Так все и было: и пьяный врач, и все остальное. Целыми днями он слушал эту проклятую песню и орал вместе с Бутусовым: «Я хочу быть с тобой! Я так хочу быть с тобой… Я хочу быть с тобой и я буду с тобой…» А потом взял и перерезал себе вены. Если бы не Анька, которая чуть не поседела в те дни из-за него! Она вдруг примчалась домой с работы: сердце подсказало – беда. Выжил, и слава богу. Нарастил себе шкуру, как у носорога, и ничего…
Ольга с тревогой смотрела на Данилу: ей так жалко было бедного мальчика, чуть не умершего из-за любви! Она давно заметила шрамы на запястьях, но только сейчас осознала, что они означают.
– Да. Ну, вот. А потом женился. На ее подруге – уж больно бегала за мной. А мне все равно было. Жить не хотелось. Думал, спасусь как-то. Нет, не вышло у нас ничего. А сейчас думаю, знаешь, может, и с той… первой… ничего бы не вышло. Первая любовь… она такая. Редко, когда получается. А с тобой – другое дело. Что ты красивая – это дело десятое…
– Ничего себе! – притворно возмутилась Ольга.
– Главное – ты родная. Понимаешь? Словно я сто лет тебя знаю!
Ольга помолчала, потом сказала, глядя Даниле в глаза:
– Я буду с тобой. В комнате с белым потолком… с правом на надежду. С верою в любовь.
Данила на мгновенье сильно прижал ее к себе, потом отпустил, а Ольга провела рукой по его волосам, так коротко остриженным, что было колко пальцам.
– Сто лет не вспоминал. Думал, заросло.
– Такое не зарастает. Я знаю.
Ольга все гладила его по лицу, едва касаясь кожи самыми кончиками пальцев, и чувствовала, как он волнуется сильнее и сильнее. И сама волновалась так, что у нее ежесекундно что-то дергалось: то краешек рта, то уголок глаза, то мускул на щеке, да и пальцы заметно дрожали. Впрочем, у него – тоже. Они вроде бы разговаривали друг с другом, но машинально – самое важное говорилось вот этими дрожащими пальцами, нервными улыбками и тревожными взглядами:
– Надо же, какой ты…
– Какой?
– Такой! И поет… и фирма у него… и локаторы…
– Вроде того…
– А что ж ко мне пришел полы красить?
– Да мы полы-то и не красили…
– Ну, что вы там красили?
– Анька все уши про тебя прожужжала, вот и решил посмотреть.
– Анька?
– Сестра моя старшая. В гостинице которая. Так что… видишь… это она. Ее рук дело.
– И что ж она тебе говорила?
– Хвалила. Жалела. Такая, говорит, женщина – прямо для тебя.
– И что?
– Так и есть. Я ж сразу тебе сказал.
– Что ты сказал?
Ольгины глаза уже смеялись, и ямочка появилась на щеке, и пальцы перестали дрожать, а Данила опять покраснел:
– Ты знаешь…
– Скажешь – поцелую!
Он поцеловал ее сам.
– Ну вот. – Данила еще слегка задыхался, а Ольга прикрыла лицо рукой, и он видел только прикушенную нижнюю губу. – Я знал, что ты моя женщина.
– Похоже на то, – сказала Ольга из-под руки. – А ты уверен, что существуешь на самом деле?
– До сих пор был уверен.
– Точно? А то вдруг я тебя выдумала?
– Да у тебя фантазии не хватит, такого выдумать! Давай еще раз попробуем? Надо же проверить! А то вдруг… нам показалось…
И они проверили. И еще раз. И еще, но потом Даниле вдруг пришла в голову одна страшная мысль, и он попытался затормозить, но удалось с большим трудом, потому что Ольга тормозить никак не желала.
– Подожди, подожди! Ну, Ляль, подожди! А тебе вообще-то можно?
– Что?
– Ну… это самое?
Застрелите его – он был не в силах произнести «это» вслух!
– Что ж оно такое – «это самое»? Обниматься? Нет? А, целоваться! Опять нет?!
Он был как на иголках – Ольга уже расстегнула его джинсы, и он с ужасом перехватил ее шуструю руку, пробиравшуюся дальше.
– Что же имеет в виду этот загадочный незнакомец? Может быть, он хочет заняться со мной любовью? И правда хочет! Да еще как сильно…
– Лялька! Да что ж ты делаешь-то…
– Ну конечно – можно, можно, все можно!
– Ты точно знаешь?
– Да знаю! Ну, давай, а то я с ума сойду! Я так хочу тебя…
– Мы ему не повредим?
– Нет! Ну же…
Но он еще пару раз спросил у нее серьезным тоном, хотя сам держался из последних сил: «Нет, ты уверена? Точно можно?»
– Ты подумай, это ж надо! – произнес Данила спустя полчаса. – Дома кровать размером с Гондурас, а мы тут дурака валяем! Я себе уже все вывихнул, что можно!
И Ольга засмеялась ему в плечо:
– Так поехали в Гондурас!
Никуда они не поехали – и так было хорошо. Диван для Ольгиной квартиры сам Данила и покупал – выбрал побольше, не такой, как у него, но тоже очень удобный, так что насчет «вывихнул» он, конечно, присочинил. Так было хорошо, томно и лениво, что Данила даже слегка задремал, но Ольга легонько толкнула его в бок:
– Послушай, а как ты меня называл?
– Когда…
– Не спи! Вот сейчас! Когда я к тебе грязно приставала, а ты из последних сил защищал рубежи своей добродетели!
Тут он совсем проснулся:
– Да что ты врешь! Когда это я… Да не было этого!
– Было-было! Я к нему вся такая пылающая – ах, возьмите меня! А он: нет-нет, на это я пойти никак не могу! Я человек высоких нравственных правил и со всякими легкомысленными беременными девицами… Ай!
– Лялька! Что я сейчас с тобой сделаю!
– Вот! Что ты сказал?!
– Лялька…
– Почему?!
– Само как-то вырвалось. Странно… Если тебе не нравится, я больше не стану. Ты что?
– Ты не понимаешь! Это же я – Лялька! Это мое имя, детское! Меня все так и звали, а тут никто этого не знает! Я не говорила тебе, правда?
– Не говорила.
– Значит, точно, все не случайно! А я-то никак понять не могу: почему мне так хорошо?! А это ты меня Лялькой назвал!
– Ну во-от, а я-то думал, что это я так постарался, – обиженно протянул Данила и улегся, закинув руки за голову. – Но с другой стороны… как удобно, смотри-ка! Назвал тебя пару раз Лялькой – и все, готова! И стараться не надо…
– Надо! Надо стараться! Как это – не надо!
И Ольга полезла его целовать, а потом улеглась к нему на грудь.
– Я вернулась, понимаешь? Я к себе вернулась, прежней. А ведь я за тебя уцепилась сначала просто от отчаяния. От полной безысходности. Тоже думала – может, спасусь. А потом – влюбилась! Как я удивилась, ты не представляешь! Я думала, мне уже нечем влюбляться. Оказалось – есть. И знаешь когда?
– В кафе? Когда я мороженое тебе купил? Ты тогда меня вообще впервые по-настоящему увидела.
– Ну вот! Все-то ты знаешь! Ничем тебя не удивишь.
– Что ты! – Данила поцеловал ее. – Да ты меня каждую секунду удивляешь! Лялька…
«Из него получится такой хороший отец! – думала Ольга. – Он и со мной-то как с маленькой. Может быть… сейчас и спросить?»
– Ты знаешь… Я хотела… Может быть…
Нет, не выговаривалось никак. Умом она понимала, что Данила принял ее вместе с ребенком, но чувствовала порой просто животный, звериный страх за своего сына – все-таки он Даниле чужой! И она жалела своего малыша, которому досталась такая непутевая мать. Сколько ему уже пришлось пережить вместе с ней! А вдруг… А вдруг Данила не полюбит его, как своего?! Не сможет? Или упрекнет ее потом… Или…
– Данил, а вот ты не хотел бы… Я подумала, что…
Не выговаривалось еще и потому, что Ольга понимала: как только она произнесет эти слова, что никак не шли у нее с языка, дверь в прошлое захлопнется окончательно и навсегда. Она-то хотела назвать сына Сашкой, но теперь… Теперь, когда Данила сказал: это наш ребенок… Он сам должен дать ему имя. И тогда…
Тогда – все.
Сорокин исчезнет из ее жизни окончательно.
И хотя Ольге казалось, что она давно оборвала все нити, тянущиеся к Сашке, одна, последняя, все еще резала сердце – слишком много жизни и души было связано с ним. Она в последнее время даже не вспоминала Сорокина, но какая-то фантомная боль от ампутированной любви мучила ее все равно.
Данила, слушая Ольгино бормотание, страдал – он давно догадался, о чем она хочет его попросить, и, наконец не выдержав, сам быстро сказал:
– Послушай, а что, если нам назвать нашего сына Иваном? В честь отца моего, а? Ванечка, Ванька! Будет Иван Данилович, хорошо, складно. Как ты думаешь? Ляль, ну что ты… Не надо…
Ольга выдохнула и так вцепилась в него, так затряслась всем телом, что Данила понял – да, правильно. Правильно он сказал. И вовремя. Она не плакала, а только глубоко дышала, стараясь успокоиться, а Данила молча гладил ее по голове.
– У меня прадед был… Иван Бахрушин… замечательный человек. Я тебе потом… расскажу.
– Ну, вот и хорошо.
– Мне нравится… это имя.
– Я же тебе говорил – просто поверь мне.
– Думаешь, это легко?..
– Трудно. Ну что, решили – Ванька?
– Ванька! Иван Данилович… Подожди, а как твоя фамилия?!
– Ничего себе! Замуж собралась, а за кого – не знает!
– Правда, какая фамилия?
– Ты знаешь, фамилия у меня сложная, редкая очень. Ты такой небось и не слышала никогда…
– Ну ладно!
– В общем, Даниловы мы.
– Да что ты? Выходит, ты – Данила Данилов?!
– Ага. Отец пошутил.
– Слу-ушай, а давай Ваньку тоже Данилой назовем?! Представляешь, как здорово будет!
– Нетушки! Ванька, и все! Кто, в конце концов, здесь отец?!
– Ты.
– То-то же! А дочку сама назовешь.
– Дочку! – Ольга засмеялась. – Ты этого еще роди, а то – дочку!
– И рожу, – серьезно сказал Данила. – За мной не заржавеет. Да мне это… раз плюнуть!
Ни сейчас, ни потом – ни разу за всю свою долгую жизнь – Данила с Ольгой так и не вспомнили самую первую встречу. Хомские тогда остановились в той же самой гостинице, в которой поселилась Ольга, снова приехав в этот уральский город – одна и навсегда. Куда она еще могла поехать? И Москва, и Петербург казались ей слишком близкими к Сорокину. Не в Прагу же ей было, в самом деле, ехать? А больше она нигде и не была. Хотя с ее деньгами – за дом заплатили столько, что ей и не снилось! – Ольга вполне могла купить себе не то что квартирку в Праге, а, пожалуй, и домик в Испании. Она не привыкла к большим деньгам и по старой памяти все экономила – кто знает, что ждет впереди?
Сюда она приехала с одной сумкой – ничего лишнего. Барахло сожгла, часть мебели продала, а другая пошла вместе с домом. Весь огромный семейный архив, в свое время приведенный в порядок дедом, она отдала в городской музей, который просто не верил своему счастью: количество фондов сразу выросло вдвое! Книги подарила в библиотеку, которая одна еще существовала из бахрушинских заведений: школу давно упразднили, и она стояла немым укором, полуразрушенная, а больница сгорела. Лялька боялась даже подумать, что станет с ее домом – вокруг, за двухметровыми заборами, уже возводились потихоньку особняки самых причудливых конфигураций.
Тогда же, семь лет назад, все еще было на месте – и дом, и сад, и бабушка: еще только подходил к концу первый год их совместной с Андреем жизни. А Данила, совсем не похожий на себя нынешнего – худой, длинноволосый, еще толком не опомнившийся, в то время раздумывал, стоит ли жениться на подруге погибшей Марины: любить он ее не мог, но одному было так тоскливо! Они встретились совершенно случайно посреди улицы в центре города: Хомский с Ольгой и Данила с Анькой и ее двумя пацанами – Анькин муж отошел за сигаретами, Данила только что поймал близняшек и тащил их, ухватив поперек животов, а мальчишки радостно визжали, дрыгая ногами.
– Дань, Дань, посмотри! Скорей! Вон, пара идет! У нас в гостинице живут! Он ее знаешь на сколько лет старше?! А такая любовь!
– Где? Кто? – Данила завертел головой, но тут увидел Ольгу и остолбенел. Он отпустил близняшек, и они прыгали рядом, хватая его за руки, а Данька не видел ничего вообще, кроме смеющихся серых глаз и лукаво приподнятой брови. Спроси его, как она выглядит, во что одета – Данила бы не ответил.
– Здра-авствуйте! Гуляете?
Ольга с Андреем приостановились, поздоровались с Аней и пошли было дальше, но потом оба оглянулись.
– Ну все, свела парня с ума! – сказал Андрей, а Ольга засмеялась.
Она была счастлива. Ей так нравилось сводить с ума, быть красивой, все время чувствовать любовь Андрея и любить его самой, что она иной раз нарочно кокетничала с кем-нибудь, чтобы доставить Хомскому это невинное мужское удовольствие: все восхищаются моей женщиной, а она принадлежит только мне! Но тут она не успела даже пококетничать – молодец сразу разинул рот и покраснел. Он понравился им обоим – длинный, смешной, растерянно моргающий, обвешанный детьми: близняшек было всего двое, но они так мельтешили, что казалось, их целая куча. Ольга улыбнулась ему, и Данила покраснел еще пуще.
– Лялька! Не хулигань! А то у молодого человека инфаркт будет!
– А я что, я ничего…
– Вот такого тебе надо, – сказал, посмеиваясь, Хомский, когда они отошли подальше. – А то выбрала какую-то старую перечницу…
– Никого мне не надо, не выдумывай! Мне и с тобой хорошо!
Но на потрясенного Данилу оглянулась еще раз. И вздохнула – так, легонько. Хомский и не заметил. Или заметил? Данилу она несколько раз вспоминала, а потом забыла: столько их было, сраженных ее красотой, всех и не упомнишь! Один такой, сообразив, что ему не обломится, ехидно сказал Хомскому, когда тот расплачивался с ним за обед.
– А это вашей дочери! – И дал для Ольги конфету.
Ольга засмеялась и тут же, пока официант не отошел, поцеловала Андрея так не по-дочернему, что молодой человек смутился. Хомский тоже посмеялся, но укол почувствовал очень болезненный: ему и так все время казалось, что Ольга видит в нем в большей степени отца, чем мужа… или любовника.
Аня тоже забыла ту случайную встречу: в Ольге совсем не осталось былого блеска, она осунулась и подурнела от переживаний. Правда, когда Данила рассматривал Ольгин семейный альбом, лицо Андрея Евгеньевича показалось ему странно знакомым и он долго вспоминал, где мог видеть этого седого человека, с улыбкой смотрящего на него поверх очков. И главное, такое ощущение, что совсем недавно видел! В кафе, что ли, где они мороженое ели? Точно! Данила уговаривал Ляльку, а тот сидел за соседним столиком и кивал ему: правильно, мол, давай! А когда уходили, его уже не было… Да нет, не может быть! Просто похож! Показалось! И Данила потряс головой, прогоняя наваждение.
Когда Ольга с Андреем выбирали имя своему сыну, за полторы тысячи километров от них в маленьком подмосковном городе Сорокин вдруг проснулся так резко, что голова закружилась и затошнило. Он посидел, положив руку на выпрыгивающее из груди сердце, и подождал, пока не перестала вертеться вокруг него карусель шкафов и кресел, потом встал и пошел на кухню. Достал из холодильника бутылку минералки, налил и долго сидел, глядя на пузырьки, шипящие в стакане.
Сегодня улица была пустая.
Совершенно пустая: ни Ляльки, ни желтых листьев, ни машин, ни собак, ни птиц. Голые липы, мокрый после дождя асфальт, автобусная остановка. Подошел, скрежеща, автобус, открыл со скрипом двери, постоял. Потом, словно пожав плечами – ну, как хочешь! – закрыл двери и уехал. Автобус тоже был пустой – ни пассажиров, ни кондуктора, ни водителя. И Сашка вдруг увидел, что улицы больше нет: остались одни тротуары, а между ними провал, который все расширяется и расширяется, и вот уже из-под его ноги отваливается и падает вниз кусок асфальта! Потом ему показали все сверху, с высоты – крошечный островок, торчащий, как гнилой зуб, из пасти страшной пропасти. Крошечный островок с автобусной остановкой и с его мелкой фигуркой… И только через пару дней он понял, о чем этот сон: Лялька его разлюбила. Совсем. Навсегда и бесповоротно.
Сорокины развелись через пять лет, когда Томурзику окончательно надоели бесконечные Сашкины измены. Он тут же женился на своей последней любовнице, которую по иронии судьбы звали Олей. Все у него было хорошо, у Сорокина: бизнес процветающий, квартира большая, спальня отдельная, машина дорогая, жена молодая, всё в шоколаде. Но время от времени он просыпался посреди ночи, задыхаясь от отчаяния: опять! Опять он бежал по бесконечной Центральной улице вдогонку за Лялькой, зная, что она идет где-то там, впереди, невидимая в круговерти осенней листвы, нескладная и прекрасная в своей старенькой школьной форме – идет ровной походкой, помахивая портфелем. И как бы он ни бежал за ней, как бы ни звал, она не оглядывалась.
Никогда.
Примечания
1
Женщина создана для любви (фр.).
(обратно)