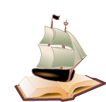| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Сибирская эпопея (fb2)
 - Сибирская эпопея (пер. Елизавета Эдуардовна Бабаева,Фёдор Александрович Романенко,Яна Сергеевна Линкова) 5137K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Эрик Хёсли
- Сибирская эпопея (пер. Елизавета Эдуардовна Бабаева,Фёдор Александрович Романенко,Яна Сергеевна Линкова) 5137K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Эрик ХёслиЭрик Хёсли
Сибирская эпопея
В память о моем большом друге Эмми Голдакер-Аттингер (1919–2017), которая пережила 10 страшных лет в ГУЛАГе и смогла вернуться с любовью к России в своем сердце
Артюру, Эмилю и Полин со всей моей любовью
© Éditions des Syrtes, Genève, Suisse, 2018
© Éditions Paulsen, Paris, 2018. Les éditions Paulsen sont une société du groupe Paulsen Media
© Cartographie originale: Léonie Schlosser
© ООО «Паулсен», 2021
От автора
Завоевание Запада: прерии, колонны повозок, атаки сиу или ирокезов, наплыв золотоискателей… Любой европеец может немедленно проассоциировать с этими словами великие имена, названия романов или известные фильмы. А на Востоке? От Урала, там, где текут глубокие реки, до Китая и Тихого океана или даже до Аляски. Назовите мне несколько имен! Обычно в ответ на этот вопрос возникает неловкая тишина. И все же! Сколько невероятных приключений, трагедий, актов самопожертвования связано с продвижением русских к Великому Океану!
Путешествуя в течение многих лет по огромной матушке-Сибири, знакомясь с русскими и зарубежными источниками, высоко оценивая труд несправедливо забытых местных историков, а также пользуясь помощью сегодняшних жителей Сибири, я взялся изложить в максимально доступной форме эту фантастическую эпопею. Казаки, промышленники, миссионеры, моряки, ученые, купцы, ссыльные, художники, заключенные, геологи, инженеры и полярные исследователи – они герои глав истории великих открытий, еще не завершенных в начале XXI века. Восторженный прием читателями этих неизвестных, ранее проигнорированных страниц как русской, так и мировой истории лишний раз убедил меня в том, что европейцам явно есть чему поучиться у России. Судьбы Строганова, Дежнёва, Шелихова, Сидорова, Сибирякова, судьбы узников сталинской стройки 501/503 или геологов XX века стоят всех вестернов. То, что эпос о покорении Сибири теперь доступен на русском, в конечном счете лишь воздает должное этим героическим людям. Кроме того, моя книга – дань уважения всем тем, кто помог мне реализовать мою идею.
Ваш Эрик Хёсли
Первая часть
«Встречь солнцу»
Строгановы: купцы из тридевятого царства
Здесь начинается сибирская одиссея. Величественное зрелище, от которого захватывает дух. На правом берегу Вычегды, всего в нескольких десятках метров от реки, высоко над миром несет золоченые купола Благовещенский собор. Мощные и величавые белые стены с бойницами поднимаются в бескрайнее небо, и нет ни одной возвышенности – ни искусственной, ни природной, – которая осмелилась бы бросить ему вызов. Рассветы и закаты отражаются в воде, и их отблески окрашивают церковь то розовым, то абрикосовым цветом. Центральный купол символизирует Спасителя, а остальные четыре, более скромные, обращенные на четыре стороны света, – евангелистов.
Благовещенский собор возведен в 1560 году, когда в России было не так уж много каменных зданий. Это был мир деревянного зодчества, и удивительный собор воспевал не только мощь Церкви, но и могущество своих основателей. Все в нем – пропорции, элегантность, сводчатые часовни – словно напоены флорентийским духом. Чем не соперник Благовещенскому собору, стоящему в самом сердце Кремля, который как раз в эту эпоху подновляет Иван Грозный? Московский Благовещенский собор – домовая церковь русских царей. А собор на берегу Вычегды в 830 км от столицы – храм купцов Строгановых, символ головокружительного взлета этой семьи и знак ее благодарности Всевышнему.
К собору подступает скромный городок Сольвычегодск. Сейчас он лишь бледная тень торгового города XVI века, в котором кипела жизнь. Шли десятилетия, и на этом далеком берегу поднялись друг за другом еще 12 церквей и монастырей. В конце XVIII века некий местный житель, глядя из окна своего дома на противоположном берегу набросал своего рода панорамный вид Сольвычегодска. Тонкие линии, детально отражающие вереницу колоколен, куполов и множество православных крестов, усеивающих берег и прилегающие земли этого северного лесного края, – единственное известное нам изображение того времени.1 Большевики в своей разрушительной ярости стерли с лица земли десять церквей и все монастыри. Но в начале XVI века Сольвычегодск мог стать одной из опор русского мира. Этот город у северо-восточных пределов тогдашней Руси выпестовал Строгановых – землевладельцев, сыгравших важную роль в развитии страны. Никто не мог тягаться с богатством и могуществом этого рода, давшего свое имя множеству дворцов и улиц по всей России. Именно здесь, на Вычегде, в «семейном гнезде» Строгановых, как говорили они сами, родился план завоевания Сибири.
Во времена Ивана Грозного Сольвычегодск, находясь очень далеко от больших городов, служил своего рода аванпостом российской границы. Восточнее, вверх по течению Вычегды, простирались дикие, мало изведанные земли. В верховьях реки находились небольшие Михайло-Архангельский Усть-Вымский и Троице-Стефано-Ульяновский монастыри, основанные Стефаном Пермским в конце XIV века За ними Вычегда еще судоходна на протяжении нескольких сотен километров. Она берет начало в предгорьях Урала, «Каменного пояса», как называют его в России. Не очень высокие (самая высокая вершина Народная, высотой 1 895 м, лежит далеко к северу) Уральские горы разделяют Европу и Азию, образуя естественную границу между ними. Севернее, на границе тундры, вдоль Печоры, можно обнаружить несколько зимовок охотников. Никаких других следов обитания русских здесь не сыскать. Леса и болота, занимающие огромную территорию, – это земли зырян (современные коми), черемисов (марийцев), вотяков (удмуртов) или вогулов (манси) – кочевников, живших, главным образом, охотой. Коренные жители этих мест для обмена или продажи своей добычи иногда добирались до Сольвычегодска. Но в целом просторы, лежащие в верховьях Вычегды, – terra incognita.
Западнее узкая лента Вычегды впадает в Северную Двину, которая катит свои воды еще 700 км в сторону Белого моря – Арктики. Это Поморье – край поморов, русского населения бассейнов Двины и Белого моря. На берегах реки – деревни поселенцев, оказавшихся здесь лет четыреста или пятьсот назад. Они живут летней и зимней рыбалкой, охотятся и обрабатывают дерево. Поморы прибыли из Великого Новгорода во времена гремевшей по всей северной Европе Новгородской республики. Они славятся как первопроходцы, смелые и независимые. Если подняться вверх по течению Двины, можно достичь Великого Устюга, второго торгового центра русского Севера. В Вологду и Москву нужно добираться сначала по реке, а затем волоком – всего несколько недель. Возведенный на восточной границе обжитого мира городок Строгановых отмеряет две трети пути от столицы до берегов Белого моря и устья Двины, единственного в то время выхода к морю, открытого кораблям всех стран.
Откуда пошел род Строгановых, неясно; во всяком случае, у историков нет общего мнения по этому поводу. Довольно долго ходила легенда, повторявшаяся и в XVIII веке, что род этот имел татарские корни: якобы предки Строгановых отреклись от мусульманской веры ради того, чтобы приблизиться к великому князю, и навлекли на себя строгую кару хана (отсюда и фамилия Строгановы). Упоминались также и предки, бежавшие от междоусобиц, терзавших Россию в XV веке. C XI века огромное пространство, покрытое лесами и реками, на северо-востоке современной европейской России, осваивали жители Великого Новгорода, торгового города, входившего в Ганзейский союз. Когда Новгород пал, побежденный соперницей – Москвой, в городе начались жестокие казни, и многие его жители, ища спасения, бежали в отдаленные земли. Были ли Строгановы в их числе? Недавние исследования позволяют лишь утверждать, что семья происходила из крестьян и что уже несколько поколений Строгановых жило на берегах Вычегды прежде, чем шагнуть в историю.
* * *
Сага начинается в 7023 году по старому русскому православному календарю, в 1517 году – по европейскому. Анике (Аникею, Иоанникию) Фёдоровичу Строганову идет восемнадцатый год, когда он решает завести совершенно новый для Сольвычегодска промысел: добычу соли из небольшого соляного озерка, примыкающего к его владениям. Извлекая подземные рассолы с помощью кустарной системы труб и желобов, выпаривая их на нагреваемых противнях (цренах, или чренах), Аника сумел получить достаточно соли, чтобы начать торговлю. Этот товар бесценен. Московская Русь практически совсем не производила соли и вынуждена была закупать ее втридорога в Европе. Соль – продукт первой необходимости, она нужна, чтобы сохранять продукты, тем более в стране долгой зимы, где любая нехватка, если она затягивается, – предвестник возможного голода, и следовательно, таит угрозу немалых социальных потрясений. Инициатива Строганова дорогого стоит, и местные власти тут же замечают ее и сообщают об этом начинании в Москву. Юный Строганов без труда получает высочайшее дозволение на добычу соли.
Аникей Фёдорович Строганов – человек весьма необычный. До нас не дошло ни одного его портрета. Однако современники описывают Строганова как упорного, трудолюбивого, аскетичного, прижимистого чуть ли не до скупости, охотно носившего кафтан, в который рядились еще его дед и отец. Русь из-за татаро-монгольского ига лишена была Возрождения, не знала ни школ, ни университетов. Но Аника, живший на самом краю обжитого мира, был одержим книгами. Он покупает рукописи, обзаводится первыми печатными изданиями, которые привозят на ежегодную ярмарку по реке вместе с другими товарами. В основном это религиозная литература, поскольку Аника – человек глубоко верующий. На протяжении всей жизни он щедро одаривает Церковь. Он мечтает закончить свои дни простым безымянным монахом и, действительно, умирает в иночестве. Каждый его успех – коммерческий, политический или юридический – венчается тем, что на просторах, к освоению которых напрямую причастен род Строгановых, вырастает еще один монастырь или еще одна церковь. Благовещенский собор – всего лишь один тому пример. На стенах собора начертано, что он был возведен Аникой Строгановым, сыном Фёдора, а также его детьми, Яковом, Григорием и Симеоном, и внуками, Максимом, Никитой, Андреем и Петром, – «в вечную память» «отныне и присно и во веки веков».
Успехи Аники не в последнюю очередь объясняются тем, что в его делах принимала участие вся семья. От двух жен у Аники родилось тринадцать детей, но из сыновей выжили только трое. В семье Строганова царил патриархат. Летопись сохранила сцену отеческого гнева, обрушившегося на строптивую дочь: в наказание она была сброшена прямо с крыльца в реку. Однако трудилась семья на редкость спаянно. До самой смерти патриарх твердил о первостепенной важности «cоюза братского», в котором видел залог преуспевания. Впоследствии сыновья и внуки разделят огромные владения, однако сохранят общее семейное дело, систему взаимной страховки рисков, преемственность привилегий и совместность начинаний. Об этом свидетельствует множество найденных писем, контрактов, взаимных гарантий, которые сплетают личные и коммерческие судьбы наследников в единое целое. Повинуясь воле отца, Яков, Григорий и Симеон уже в отрочестве принимают участие в управлении делами. На протяжении почти 20 лет они по очереди руководят целыми предприятиями. Даже дальние родственники, двоюродные и троюродные братья, работают в семейном деле, многие занимают высокие должности. Компания «Строганов и сыновья» быстро пошла в гору. Но в Сольвычегодске не только Аника с семейством выкачивают прибыль из соляных источников. Другие кланы тоже бросились добывать соль. Очень быстро число соляных варниц достигло девяноста.2 Строгановы владеют тридцатью из них, а во второй половине века – уже пятьюдесятью. Они знакомятся с заезжими специалистами и, следуя их советам, совершенствуют технологию выварки соли. Производство расширяется. Строгановы заводят кузницы и начинают изготавливать оборудование для солеварен; они также ссужают деньгами конкурентов, постепенно попадающих в зависимость от них, погрязнув в долгах. Аника и его сыновья не жалеют для дела сил, однако они не чураются и куда менее достойных способов обогащения. Документы свидетельствуют, что семейство занималось «скупкой, закладами, ростовщическими сделками, подбирали посадские варницы, посадские лавки, амбары, кузницы и дворы».3 Пользуясь зависимым положением конкурентов, Строгановы скупают их солеварни одну за другой, щадя лишь дорогие им монастыри, которые кормятся этим же промыслом. Постепенно Строгановы прибрали к рукам весь местный соляной промысел. В солеварнях, разбросанных вокруг Сольвычегодска, им удавалось вываривать до 500 тонн соли в год, что составляло почти две трети всей добычи в стране.4 По сути, это первый опыт отечественной индустриализации, и Строгановы обязаны соли большей частью доходов. О неуклонном росте их оборотов свидетельствуют архивы, сохранившие великокняжеские грамоты, договоры, акты, залоговые документы, выданные по доброй воле или по принуждению.
Помимо соляного, Строгановы развивали и другие промыслы. Аника заинтересовался производством железа. Для кристаллизации соли необходимы большие прямоугольные противни (црены), разные желоба и трубы. Железо в те времена стоило очень дорого: из документа 1562 года о приобретении Строгановыми солеварни одного из конкурентов следует, что изделия из металла стоили в шесть раз больше, чем само помещение и земля, на которой оно находилось.5 Неподалеку были обнаружены железные руды, Строганов, сумев заполучить высочайшее дозволение на их добычу, открывает кузницы. Он занимается и сельским хозяйством, хотя и ограниченным долгой и суровой зимой. Зерна не хватает, и Строгановы налаживают его доставку по реке.
Пшеницу завозят, соль и лен вывозят. У подножия Благовещенского собора строится пристань, где разгружают и загружают суда Строгановых. Их тоннаж очень быстро увеличивается от 160 до 1 000 тонн.6 Корабли с товарами бороздят реки, отправляются в бассейн Волги и Оки, ближе к Москве. Торговые дома Строгановых открываются и в крупных городах на междуречьях, которые преодолевают волоками.
Под Холмогорами, в Устюге, Вологде и, конечно, в Москве, Рязани, Твери и Нижнем Новгороде, где устраивались крупные ярмарки, Строгановы заводят свои отделения. За несколько десятилетий они покорили все крупные города России. После нескольких веков неподвижности, замечает историк Лев Гумилев, наступают новые времена и внезапно появляется поколение русских, для которых мир оказывается «слишком мал». Они ищут себя, они провидят новые цели. Строгановы жадны до знаний, им нужен весь мир, они мечтают повидать его, и торговля – лишь средство достичь желаемого. По Волге они плывут на юг, где закупают пшеницу. Первые каботажные суда, кочи, как у поморских рыбаков, снаряжаются для путешествия на север. Строгановы устремляются в Скандинавию и на Кольский полуостров, где находится самый северный пункт обмена товарами. Много позже археологические раскопки показали, что промысловые экспедиции Строгановых добирались до западных берегов Новой Земли, лежащей далеко в Северном Ледовитом океане.7 Сыновья Аники приглашают на службу Оливье Брюнеля, мореплавателя и путешественника из Брюсселя, и один из них отправляется с ним в Антверпен и Амстердам. Вместе они строят головокружительные планы проложить новый путь вдоль русских арктических берегов, добраться до Китая. Почему бы и нет? Строгановы берутся за все: продажа железа, изготовление разных приспособлений, в частности для бурения, управление крупными ярмарками, – словом, приобретают самый разнообразный опыт. Ни один товар, который можно купить или продать, не ускользает от их внимания.
Строгановы– великолепные организаторы. Они упорны и добросовестны. Список попадающего в сферу их интересов постоянно растет. В эпоху Ивана Грозного во всем царит произвол, но семья тщательно ведет и хранит свою документацию. Большая ее часть впоследствии обнаружена в лабиринтах «подпапертных» подземных помещений Благовещенского собора, превращенных в архив семейного дела. Во время раскопок там же были обнаружены темницы, куда Строгановы бросали своих врагов.
Чтобы вести учет делам, они находили специально обученных людей: нанимали конторщиков, «дьячков у письменных дел».8 Роль этих работников колоссальна. Все договоры и торговые соглашения переписывались столько раз, сколько это было необходимо, чтобы обеспечить копиями партнеров, клиентов или же отделения, которые в XVI веке стремительно открываются одно за другим по всей стране. У каждого дьяка свой круг обязанностей, своя зона ответственности, своя «печатка», легко узнаваемая и столетия спустя. Во владениях Строгановых построена специальная «административная» изба, где находились «дьячки большие», стряпчие, казначеи, торговые представители, готовые сопровождать товары в многодневном или даже многомесячном пути к месту назначения. Верхушку служащих, дьяков, особенно обхаживали и холили. Среди них были и крепостные, научившиеся всему на практике, и люди ученые, которых удалось обнаружить в крупных городах. Лучшие из них получают хорошее жалованье или другое вознаграждение: так, стряпчему Жданко Воронину, «бившему челом во двор» Строгановых, «было дано высокое жалование – 30 рублей на год», «да платье ему сулено праздничное по воскресным дням и носильное платье сулено ему всякое, как и иным ево брате всякое платье давано на Москве, а на однорядку на носильную и на зипун и на нагавицы в штанов место посулены ему у Соли настрафильные или англинские».9 Служащие, которым доверяли сопровождать товары по рекам и доставлять их на ярмарки, имели право параллельно завести свое дело. Для вербовки лучших специалистов Строгановы самолично ездят в Ярославль или в Москву, где можно заполучить какого-нибудь пленника, захваченного в Швеции, в Польше, в Литве, – в одной из стран, с которыми Россия воюет. Так называемые «пленные немцы» часто оказываются шведами или литовцами, их выкупают у тюремщиков и делают крепостными. Среди них есть инженеры, переводчики и даже врачи, и всем им, хотели они того или нет, пришлось направить свой талант на служение клану северных олигархов.
* * *
По мере расширения круга деятельности Строгановых вокруг Благовещенского собора вырастает настоящий городок. Это семейное гнездо вскоре становится центром всего Сольвычегодска. Они планируют строительство укрепленного дворца для размещения управляющих служб и многочисленной родни. В 1565 году вплотную к собору Аника возводит крепостную стену с тремя башнями. В его каменных стенах укрыты потайные ходы, ведущие в ров и связывающие часовни с покоями. Внутри стены разрастаются склады, мастерские, мельницы, кузницы. Снаружи, в городе и пригородах, расселяются работники Строгановых, число которых, согласно подсчетам исследователей,10 достигало примерно шестисот. В самом семейном гнезде, настоящем средневековом поместье, отводятся помещения для особо приближенных – деревянные дома или флигели, похожие на амбары. Они находятся на переднем и заднем дворах. Пройдя по крытым переходам и лестницам, можно оказаться в господском доме, где собирается все семья во главе с ее главой. В столовых комнатах – огромные дубовые столы, оловянная, серебряная и стеклянная посуда. Стены украшены шкурами бурых и белых медведей. В комнатах множество пышных икон, выполненных по заказу Строгановых самыми знаменитыми иконописцами эпохи. В особом помещении расставлены книги, которыми Аника и его сыновья очень дорожили. Они составили одну из богатейших библиотек своего времени. В ней не меньше двух с половиной тысяч томов. Поскольку чтение – любимый досуг Строгановых, появилась небольшая походная библиотечка из двадцати – двадцати пяти книг, сопровождавшая коммерсантов во время частых и долгих путешествий.
Перед Благовещенским собором – торговая площадь, запруженная лавками мелких торговцев. Есть тут и кабаки, запасы горячительных напитков которых хранятся в специально отведенных подвалах собора. Летописец замечает, что в соборе витал благородный дух вина. Не обходилось, конечно, и без неприятных казусов: некоторые ретивые любители выпивки повадились осушать свои чарки прямо в подвале, и гул от их пирушек, бывало, нарушал церковное пение, внося беспорядок в дневные и вечерние службы. Дважды в год, в ноябре и июле, на площади и на прилежащих к ней улицах устраивали большие ярмарки. На них продавали северные и уральские меха. Июльская ярмарка была знаменита тем, что проходила одновременно с «ярмаркой невест», во время которой можно было быстро заключить брак. Вот что рассказывает очевидец Алексей Со-скин: «Приезжают в то время крестьянские дочери, девки, для избрания себе женихов и выхода замуж, который обряд состоит в таковой церемонии. Как те невесты приплывают по Вычегде в лодках и квартируют более на берегу с родственники и знакомцами своими при тех лодках у продажи своих продуктов. Хотящии ж видети их женихи приходят к тем невестам и смотрят их. И естли покажется или пондравится, тогда желания от невест спрашивают, также и о приданном. И буде стыдливые невесты сами сказывать не хотят, тогда отвествуют вместо их находящиеся при них родственники и знакомцы. И когда согласное условие положат, тогда в церкви обыкновенно и венчаются. А в противном случае, естли их некто не возмет, или сами по себе не изберут, тогда отъезжают обратно восвояси со своим изготовленным приданным».11
Анике удалось передать сыновьям любовь к тому, что было дорого ему самому. В холодное время года службы проходят в небольших боковых приделах собора, которые легче отапливать. Для украшения ансамбля приглашают самых талантливых мастеров – в Сольвычегодск приезжают живописцы и иконописцы из Москвы, Пскова и других художественных и религиозных центров. Благодаря Строгановым в небольшом торговом городке возникает школа иконописи и писания золотом, слава о которой распространилась по всей стране. Стены приделов украшают иконы – Страшный суд, Смоленская икона Богоматери или Троица c пунцово-красными красками, от которых невозможно отвести взгляд. Аника и двое его внуков, Никита и Максим, лично следят за всеми работами.12 Они даже устраивают в своих покоях особые помещения, где хранят самые почитаемые иконы. Внутренняя часть собора также преображается: огромные суммы идут на создание великолепных «царских врат» в центре иконостаса. Фрески поднимаются по стенам до самых куполов, обещая верующим райские кущи.
Но интерьеры собора – еще не все. Строгановы интересуются и пением. Они часто приглашают в Сольвычегодск знаменитого певчего времен Ивана Грозного Стефана Голыша. Его хоральные аранжировки, известные как Усольский распев, и сейчас исполняются наряду с другими древними православными песнопениями.
Женщины семьи Строгановых также не обделены талантами: в своих покоях они изобретают особую технику шитья золотыми и серебряными нитками, которая будет передаваться из поколения в поколение. Постепенно развивается торговля речным жемчугом. Наконец, палитру художественных достижений, которыми Сольвычегодск обязан Строгановым, дополняет крашенная деревянная скульптура на религиозные темы.
В коллекции Строгановых есть немало икон, посвященных митрополиту Алексию, в 1354–1378 годах возглавлявшему русскую Церковь. Митрополит Макарий, ее глава в 1542–1563 годах, центральная фигура русского общества той эпохи, заметил особую любовь семьи к этому очень почитаемому святому. Одна из таких икон была заказана иконописцу Истоме Савину. Это не только шедевр православной религиозной живописи, но и символ поддержки Строгановыми политики объединения православной Церкви – главной цели митрополита.14 Макарий известен не только как религиозный лидер. Он – единственный, кто имеет огромное влияние на Ивана Грозного. Макарий – духовный наставник царя, его исповедник и собеседник. Иван Грозный уважает и опасается Макария. До самой смерти в конце декабря 1563 года Макарий поддерживал замыслы Ивана Грозного. Объединение русских земель, признание Москвы третьим Римом, ставшее возможным после падения Константинополя в 1453 году, избавление от угрозы со стороны волжских и крымских татар – вот божественное предназначение, как полагал митрополит, Ивана IV.
Митрополит Макарий, духовный пастырь верующих, в том числе и Строгановых, ходатайствует за них в Москве. Строгановы старались изо всех сил, чтобы привлечь его внимание. Вслед за Благовещенским собором в Сольвычегодске строятся еще два. Потом – два монастыря, один из которых – монастырь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы выпадает на ноябрь, он знаменует начало зимы. Именно в этом монастыре Аника, принявший после смерти второй жены иночество под именем Иоасаф, закончит свой жизненный путь. По мере того, как расширяются владения Строгановых, по мере того, как царь дарует им или отдает в управление все новые и новые земли, повсюду на них возводятся монастыри, тотчас же поступающие в ведение московского митрополита. Благодаря Строгановым влияние православной церкви распространяется на восток, вдоль торговых путей.
Не только сам Аникей Строганов, но и его сыновья оставались искренними союзниками и апологетами Церкви. Но в еще большей степени они стали апологетами самого Ивана Грозного.
Иван Грозный и «олигархи» Строгановы
К середине XVI века Московская Русь уже стала самым обширным государством Европы. Но не самым мирным. И не самым стабильным. Посмотрим на карту. На западе и северо-западе страна граничит с морем. Шведы контролируют устье Невы и небольшую крепость, которая через полтора столетия даст начало Санкт-Петербургу. Они занимают также большую часть берегов Балтии, Ливонию (современную Латвию), портовые Нарву и Ригу. Оставшееся побережье – литовское и польское владения. Польша к тому же перегораживает сухопутную дорогу к немецким княжествам и герцогствам. Все эти государства – противники Московской Руси.
Отсутствие прямого выхода к морю – огромное неудобство для русского государства. Падение Ганзейской Лиги – мощной средневековой торговой корпорации – вызвало коммерческий бум во всей Балтии. Общий устав, а также особые права и привилегии городов – членов Лиги (в частности, Великого Новгорода) перестали действовать, и это развязало руки голландским, английским, французским, скандинавским и немецким мореплавателям, бороздившим северные моря. Если раньше учитывались лишь торговые интересы городов – членов Лиги, то теперь на первый план выдвинулись приморские государства, чья политическая и военная мощь была на подъеме. Королевство Дания установило высокую пошлину на проход через пролив Зунд («Зундскую пошлину») – практически единственный путь из океана в Балтийское море. Польша, Литва и Швеция заключили союз, чтобы не допустить русских купцов на балтийское побережье и помешать их непосредственным контактам с кораблями лидеров мировой торговли, бросившими якорь в портах этих стран.
У Московской Руси, имевшей гигантские территории, но находившейся в изоляции, не было другого выхода, кроме как прибегнуть к помощи торговых посредников, в качестве которых выступали соседние страны. Без портовых городов и без флота русские купцы не могли торговать самостоятельно на крупных ярмарках в Брюгге, в Антверпене, в Амстердаме, в Лондоне, в Бресте или в Дьепе. Ввозя товары, Московская Русь не пользуется таможенными правами, а при вывозе ей приходится подчиняться требованиям посредников – шведов, литовцев, поляков и их агентов. Положение усугубляло еще и то, что и драгоценные металлы. золото и серебро, позволявшие осуществлять денежные операции, Московская Русь также ввозила из соседних стран. К тому же она импортировала большое количество оружия, и, конечно, соседи были не в восторге от того, что оно проходит через их порты. Не удивительно, что русские купцы, чувствовавшие себя отрезанными от дразнящего процветанием мира, пребывали в унынии. Крупнейшим русским купцом являлся сам царь. Русская концепция государственности предполагала, что царь – главный собственник и владелец всех прав на то, что производят его земли. Он мыслит себя ultima ratio (предел разума – лат.) всей торговли.
Сложившаяся на юге и на юго-востоке ситуация также не особенно благоприятна для страны. Золотая Орда, мощное средневековое государство, основанное Чингисханом, – сюзерен русских великих князей на протяжении многих веков – по-прежнему сторожит у границ. Оно разделилось на два: одно со столицей в Казани, в среднем течении Волги, а другое – со столицей в Астрахани, неподалеку от дельты этой же реки. На побережье Чёрного моря Крымское ханство контролирует пути в Константинополь. Хуже того, ногайские татары, кочевники, присягнувшие на верность крымскому хану, господствуют в просторных южных степях, выступая то партнерами русского государства в торговых делах, то грабителями и наемниками врагов – в зависимости от сиюминутных интриг и заключаемых союзов. Давление со стороны татар создает на Руси постоянное напряжение. Города в южной и центральной частях страны то и дело страдают от набегов, грабежей, похищений и пожаров, после которых остаются лишь пепелища. Однако это полукольцо, образованное враждебными татарами, имеет и более важные последствия: оно мешает свободному перемещению по Волге, главной транспортной оси, своего рода позвоночнику страны, препятствует развитию торговли с Востоком, Персией и Центральной Азией. Татары присвоили себе также роль посредников в общении с Бухарой, чьи караваны везут шелк, чай, пряности, ткани из Китая и драгоценные камни к Каспийскому морю.
Наконец, татары перекрывают путь на Урал и к неизведанным землям, укрывшимся за ним. Странный парадокс: европейцы уже более века путешествуют по Америке, создавая все более и более точные карты этого континента, а о территории, примыкающей к России с востока, ничего не известно. На первой карте мира, созданной в 1507 году немецким географом Мартином Вальдземюллером, всплыли, словно из небытия, две Америки. Кстати, именно на этой настенной карте впервые дерзко начертано название «Америка». Однако на востоке, в Азии или «Скифии» – сплошное белое пятно с неясными контурами гипотетических гор и элементами орнамента. Всего через 15 лет после высадки Колумба о новом континенте известно куда больше, чем о дальних уголках Евразии.
* * *
Первое упоминание о Зауралье принадлежит перу польского историка и географа, ректора Краковского (Ягеллонского) университета Матвея Меховского. В 1517 году он публикует «Трактат о двух Сарматиях», в котором приводит свидетельства русских путешественников, добравшихся до Польши. Они сообщают, что на северо-востоке Московии находятся земли, где живут скифы. В этих землях не пашут, не сеют, там нет ни хлеба, ни денег. Леса покрывают эти земли, а одичавшие местные жители походят на зверей. Рассказывают, что большая река (Обь) течет с юга к северному морю. Тогда считали, что она ведет к огромному озеру, откуда можно уже попасть в Китай. В приграничных землях, где живут Строгановы, Зауралье называют Югра, а его сердцевину, находящуюся по другую сторону гор, Сибирью или Сиберью. Это название впервые встречается в 60-е годы XVI века на европейских картах, авторы которых, англичане в Лондоне или же голландцы в Антверпене и Амстердаме, лихорадочно собирают информацию, поступающую от путешественников. Эта область станет Сибирью. Но пока Сибирь заперта на замок, ключ от которого в руках татар.
Великий князь вынужден иметь дело не только с тревожным положением на границах. Есть и еще более тяжкое зло: уязвимость политического режима и его собственная психологическая неустойчивость. Ивану Грозному было три года, когда умер его отец Василий III. Все детство он провел в атмосфере заговоров и интриг, связанных со спорами о наследовании престола, что не могло, конечно, не повлиять на него. Регентство осуществляла дорвавшаяся до власти группа бояр из числа приближенных его матери, Елены Глинской. Бояр, происходивших из древних благородных семей, было не так уж много, не более пяти десятков. Когда престол пустеет или начинает шататься, как это было в 30-е годы XVI века, когда будущий Иван IV был ребенком, начинаются войны за влияние, которые то и дело ставят под угрозу и жизнь великой княгини, и жизнь наследников. Каждый с подозрением смотрит на другого. Ивану еще не исполнилось четырех лет, когда дворец полностью погряз в усобицах. Один из его дядьев, Юрий Дмитровский, обвиненный в заговоре, заточен в кремлевской башне. Поскольку того, кто смеет пролить великокняжескую кровь, ждет проклятие, несчастный просто-напросто брошен в темницу, где ему уготована голодная смерть. И он не единственная жертва. Вскоре другие люди, с детства знакомые Ивану и его брату Юрию, страдавшему немотой, сгинут в казематах. Позже в интереснейшей переписке с одним из своих заклятых врагов, Андреем Курбским, Иван IV то и дело будет возвращаться к годам детства, пронизанных страхом: «Когда же суждено было по божьему предначертанию родительнице нашей, благочестивой царице Елене, переселиться из земного царства в небесное, остались мы с почившим в бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто нам не помогал <…> Было мне в это время восемь лет <…> Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца и воевод перебили! <…> Нас же с единородным братом моим, в бозе почившим Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле и не так, как обычно поступают дети <…> Как исчислить подобные бесчестные страдания, перенесенные мною в юности?»15
В 18 лет, заняв трон, молодой государь начал с демонстрации своей силы. Этот ход подсказал ему митрополит Макарий, его духовный наставник. Провозгласив себя наследником византийских императоров, он венчается на царство и получает титул царь (который восходит к титулу цезарь), а вместе с ним – новый статус. Церемония проходит с огромной пышностью, достойной абсолютного монарха, поднимающего скипетр христианской империи, упавшей вместе с Константинополем в 1453 году с этого момента новоявленный царь навязывает своим подданным политический режим – причудливую смесь реформ и террора. Иван Грозный видел в подданных паству, а страна представлялась ему огромным монастырем, настоятель которого – он сам. «Ведь мы не насилием добыли царства, – провозглашает он, – тем более поэтому, кто противится такой власти – противится Богу!»16 По прошествии многих лет, особенно после смерти митрополита Макария, строгость государя превращается в откровенную жестокость. Суровость – его принцип: «Государство без грозы как конь без узды», – оправдывает государя один из сторонников его режима. Насилие – его метод. Произвол обрушивается на Москву и провинцию. Многие бояре, представители древних родов, в том числе и те из них, что верой и правдой служили царю, были схвачены, отданы в руки палача Малюты Скуратова, претерпели страшные пытки. Так Иван становится Грозным – в соответствии с главным принципом его царствования. Возникает множество легенд: например, говорят, что в ночь, когда он родился, в августе 1530 года, ветер был таким сильным, что начал раскачивать кремлевские колокола, зазвонившие как зловещее предзнаменование.17 Погрузившись в мистицизм, Иван Грозный возомнил себя инструментом божьего промысла, тем, кто должен нести ответ за грехи подданных и, трепеща при мысли о Страшном Суде, возжелал покарать их за время своего краткого пребывания на земле. Он то молится днями напролет, то приказывает убить митрополита Филиппа, преемника Макария, который не побоялся пойти против него и вознамерился запретить ему входить в церковь. Иван Грозный сам возглавляет карательные операции против Новгорода и Пскова – городов, находившихся на западной границе, – сея массовые убийства и разбой. Когда настоятель Псково-Печерского монастыря Корнилий выходит ему навстречу с хлебом и солью, он одним ударом отрубает ему голову, а потом, ужаснувшись совершенному кощунству, несет голову своей жертвы в монастырскую часовню, оставляя за собой кровавый след. Наконец, в приступе безумия он убивает своего горячо любимого сына.
Экономическая политика царя противоречива. С одной стороны, Иван Грозный – реформатор, модернизирующий страну, с другой стороны – коварный и непредсказуемый правитель. Некоторые подданные убеждены, что государством тайно управляют два человека, сидящие в Кремле и скрывающиеся под титулом царя. Стремясь превратить феодальное княжество в централизованное государство, Иван Грозный закладывает основы администрирования, сосредоточивая всю управленческую деятельность в приказах, прообразах министерств, каждый из которых отвечал за свое направление. Во главу приказа ставится боярин или дьяк, и так зарождается система государственного управления. Но внезапно пробуждается безумная логика, требующая иррациональных решений. В 1564 году, через несколько месяцев после предательства представителя одного из крупнейших дворянских родов, князя Андрея Курбского, человека образованного, увлеченного философией, грекофила, военачальника в войнах против Литвы и Польши, перешедшего на сторону врагов, Иван Грозный решил реорганизовать страну и изъять земельные владения. Он представлял себе государство как объединение наиболее богатых городов и земель, которыми он станет управлять единолично, сидя в Кремле, без участия посредников. Так появляются особые районы, личный удел Ивана Грозного, – опричнина, отвечающая божьему замыслу. Остальная же часть государства, управление которой доверяется земским боярам, получило называние земщина. Проект странен и быстро оборачивается кошмаром: чтобы контролировать опричнину, царь собирает вокруг себя верных людей. Среди них представители знатных семей, многие стремятся попасть в этот круг, чтобы защитить себя от расправы. Строгановы получат царский указ, призывающий их на службу царю. Иван Грозный, подобно Богу, выбирает себе свиту. Среди нее – немец Генрих фон Штаден, сын бургомистра одного из вестфальдских городков, посланный отцом в Ригу и в конце концов, как сообщает он сам, завербованный лично Иваном Грозным: «Из наших при дворе великого князя в опричнине были только четыре немца».18
У семей, которые подозревались в отсутствии лояльности, даже самых знатных, конфисковывали имущество, становящееся собственностью царской опричнины. Эта реформа имела пространственное измерение: части городов – некоторые улицы, дома, жители, – а также пригороды перешли в опричнину. В самой Москве Иван Грозный, не чувствовавший себя в Кремле в безопасности, велел построить вдоль речки Неглинной новый дворец опричнины. «Великий князь приказал разломать дворы многих князей, бояр и торговых людей на запад от Кремля на самом высоком месте в расстоянии ружейного выстрела; очистить четыреугольную площадь и обвести эту площадь стеной; на 1 сажень от земли [выложить ее] из тесаного камня, а еще на 2 сажени вверх – из обожженных кирпичей; наверху стены были сведены остроконечно, без крыши и бойниц (umbgehende Wehr); [протянулись они] приблизительно на 130 саженей в длину и на столько же в ширину, с тремя воротами», – пишет фон Штаден19 [с. 107]. Ворота украшали резные разрисованные львы с зеркальными глазами. Южные ворота, ближе всего находившиеся к царским покоям, были такими узкими, что могли впустить только одного всадника. Иван Грозный переселил во дворец свой двор, да и сам перебрался туда: «Там, перед избой и палатой, были выстроены низкие хоромы с клетью вровень с землей. На протяжении хором и клети стена была сделана на пол-сажени ниже для [доступа] воздуха и солнца. Здесь великий князь обычно завтракал или обедал <…> Такова была особная площадь великого князя»20.
Чтобы следить за порядком в опричнине, царь собрал несколько сотен наиболее верных и проверенных стрельцов, так называемых опричников. Однако эта армия преданных людей быстро превратилась в свору кровавых варваров. Предполагалось, что опричники станут личной гвардией царя, но получилось целое ополчение численностью в шесть тысяч человек. Эти всадники, одетые в черное, с собачьей головой в качестве символа, бороздят страну, мародерствуя, убивая и насилуя в полной безнаказанности. «Любой из опричных мог,21 например, обвинить любого из земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму денег. И хотя бы до того опричник совсем не знал и не видал обвиняемого им земского, земский все же должен был уплатить опричнику, иначе его ежедневно били публично на торгу кнутом или батогами до тех пор, пока не заплатит»22, – пишет фон Штаден, сам являвшийся опричником. Молодой немец то и дело становится свидетелем вымогательств. Он рассказывает, как северные купцы, встреченные на дороге, умоляли его купить за бесценок или даже в кредит меха, пока их не отняли опричники. Он видит деревни и церкви в огне, полуобнаженных женщин, которых заставляли ловить цыплят в полях, разграбленные монастыри, изувеченных монахов. Он видит, как топят жителей Новгорода. В этом городе, пишет он в своих воспоминаниях, адресованных императору Священной Римской империи Рудольфу II Габсбургу, было столько убитых мирян и духовенства, сколько никогда не бывало до того на Руси.
Молодой царь, свято веривший в свою особую миссию, вознамерился также высвободить свою страну из тисков, сдавивших ее. Он попытается разжать их на обоих флангах – по очереди. На северо-западе Грозный увязает в войнах против балтийских государств – Великого княжества Литовского (потом Речи Посполитой), Швеции, Дании, Ливонской конфедерации, объединившихся против него. Эта война, получившая название Ливонской, продлится 25 лет. Иван Грозный, конечно же, не первый, кто надеялся отодвинуть западных соседей. Великий князь Александр Невский уже воевал с тевтонскими рыцарями за несколько веков до него. И Иван IV не станет также и последним в подобном предприятии: через сто пятьдесят лет Петр I вступит в Северную войну, которая, наконец, позволит России «прорубить окно в Европу» и на Балтику. Война Ивана Грозного носит эпизодический характер, но она истощает страну: победы и поражения сменяют друг друга. Когда русская армия стоит под Псковом, враг атакует Полоцк. Пришлось возвести практически новый город (Ивангород) напротив шведской крепости Нарва. Силы русских ослаблены и переходом некоторых военачальников и стрельцов на литовскую сторону. Но, что еще хуже, царь подозревает всех и каждого, ему повсюду чудятся заговоры, он пытает и отправляет на смерть самых преданных соратников. Иван Грозный собирает до 300 тысяч человек войска и опустошает государственную казну. Эта война ничего не принесет. Взятие в самом начале войны Нарвы и портов на Балтике станет лишь временной победой. В 1581 году шведы вернутся, и Ивану Грозному придется вести переговоры в самых неблагоприятных обстоятельствах.
Но, прежде чем открыть балтийский фронт, Иван Грозный начал поход на татар. На этот своего рода крестовый поход его благословил митрополит Макарий. Под знаменем христианства он двинулся против зеленого штандарта ислама, направив свою армию на татарскую столицу Казань, высокие минареты которой взмывали над городскими стенами. Первые атаки ни к чему не привели. В глубоко религиозном обществе того времени малейшее знаковое событие, победа или поражение воспринимаются как свидетельство божественной воли. Сомнение, которое поселяется в умах при каждом новом несчастье, – худший враг: разве может Бог оставить «своих» ради «неверных»? Иван Грозный собирает новые силы, еще и еще. Под стенами крепости Казань растет войско. В 1552 году столица татар, на протяжении многих лет повелевавшая русскими землями, пала. Русская армия, развивая успех, продолжила кампанию и через четыре года, в свою очередь, сдалось Астраханское ханство. Татары побеждены. Царь в честь победы возводит у подножия Кремля храм Василия Блаженного. Его золоченые луковицы и сегодня сияют над Красной площадью.
Волга отныне целиком в руках русских – от истоков до устья, где она впадает в Каспийское море. Это поворотное событие в истории России. Волга-матушка. Гигантская река, скоростной водный путь, притоки которого позволяют легко попасть в бассейн Дона и к Черному морю. И еще Днепр на Украине. И Волхов, и Балтийское море. И Северная Двина, и Белое море, и Северный Ледовитый океан. И многообещающий Уральский хребет.
Строгановы, сидя в Сольвычегодске, затерянном у самых северных границ, делают все, чтобы не утратить расположение царя. Их дело настолько велико, что они по сути оказались во главе небольшого почти независимого феодального государства. Их владения простираются на миллионы гектаров лесов, полей и болот. Обстоятельства благоприятствуют им, поскольку Строгановы находятся далеко от двора и его смертоносных интриг. Простое происхождение семьи Строгановых также ограждает их от подозрений в дворцовых интригах. Строгановы очень осторожны: даже находясь вдали от Кремля, они не упускают ни одной возможности угодить царю. И каждый раз, когда он испытывает затруднения, спешат ему на помощь. Порой это щедрые вливания в бюджет, истощенный беспрерывными военными действиями, порой – отправка военных отрядов, обученных и снаряженных на их средства. Так, в 1572 году тысяча пеших вооруженных ратников устремилась на помощь царю по первому зову, когда нужно было защищать степь от ногайских всадников.
Финансовые вливания принимаются благосклонно, когда обстоятельства того требуют и когда на кону стоят судьбы страны и царя. В более спокойные времена Строгановы становятся придворными банкирами и сборщиками налогов. У них мощные торговые и агентурные сети, их влияние растет. Из обычных подданных короны они превращаются в поверенных короны. Иван Грозный поручает им собирать налоги в их землях. Механизм прост: купцы платят сумму, обещанную в московскую казну, а затем собирают деньги со своих земляков. Строгановы еще и поставщики двора. Все чаще и чаще Иван Грозный обращается к ним, желая получить драгоценные меха и шубы. В 1574 году, когда братья Строгановы находились в Москве, Иван Грозный призывает их к себе, чтобы вручить список своих пожеланий, вполне типичных для того времени: драгоценные соболиные меха, полторы тысячи полотен, шитых золотой нитью, ценой в три тысячи рублей, и пять пудов гусиного пуха лучшего качества на двести рублей.23
Царь расплачивается не только наличными. Не менее важны и даруемые им привилегии. Сначала царская милость выражается в освобождении от сборов и транзитных пошлин, в частности, за перемещение по рекам. Великое преимущество: в то время, как конкуренты вынуждены останавливаться у каждого заграждения или пункта досмотра для тщательнейшей проверки и подсчетов суммы пошлины для оплаты, после которой следовал обычно торг, Строгановы проплывают беспрепятственно, экономя время и деньги.24 Привилегии, пожалованные властью частным лицам в обмен на особые услуги, содействие и участие в делах, – вот суть отношений между Кремлем и олигархами. Строгановы и есть олигархи XVI века.
Когда татарское ханство потерпело поражение, Строгановы почувствовали, что удача улыбнулась им так широко, как никогда ранее. Свободное плавание по Волге обещало фантастические перспективы. Раньше русское государство, находившееся на востоке, западе и юге в тисках мощных противников, могло продвигаться лишь на север по рекам и их притокам. Но теперь открывался путь на восток, в бассейн Камы, одного из самых крупных притоков Волги, катившей воды от самого Урала. И Строгановы, истинные потомки поморов-первопроходцев, готовы принять этот вызов.
В Сольвычегодске все издавна знают, что берега Камы скрывают немалые залежи соли. Еще 100 лет назад другие местные купцы, Калинниковы, убедились в этом.25 Однако народы, жившие на Каме, находились под властью татар. Теперь же Строгановым представился уникальный шанс. В 1558 году Григорий, сын Аники Строганова, бьет челом Ивану Грозному. За Чердынью, – сообщает он, – по обе стороны реки Камы до самой реки Чусовой, то есть «по сю сторону Урала есть места пустые, дикие, никем не обитаемые и никому не принадлежащие, для всех бесполезные». Григорий смиренно просит разрешения искать «рассол, варить соль, призывать работников и рубить лес». В обмен он обязуется «поставить дворы, построить на свой счет городок, иметь при нем пушки и беречь нашу границу от ногайских и иных орд».26 Выражение «бить челом» говорит само за себя. До сих пор историки не согласны в оценке степени смелости или наглости, содержащейся в челобитной Строганова 1558 года. Некоторые полагали,27 что эта просьба объясняется доверием, царившим между вассалами и сюзереном, более поздние28 поражаются дерзости жителей Сольвычегодска. В любом случае, смелость города берет. 4 апреля 7066 года (1558) «благочестивый государь царь и великий князь всея России Иван Васильевич пожаловал Григорию Аникиеву сыну Строганову по обоим берегам Камы незаселенные места в 80 верстах ниже Великой Перми <…> А в тех незаселенных местах, там, где Григорий Строганов выберет место, надежное и хорошо защищенное, он должен построить острог и укрепления возвести, а пушкарей, и затинщиков, и пищальников, и караульных при крепостных воротах приказали для защиты от сибирских и ногайских отрядов тому Григорию найти самому».29
Царь щедр, но его доверие отнюдь не слепо. Разрешение выдано сначала на двадцать лет и касается только добычи соли. Если же владельцы новых территорий случайно наткнутся на серебряные, медные или оловянные руды, то Григорию надлежит немедленно известить царя письменно и ничего не предпринимать без царского указу. К списку привилегий следует добавить также разрешение не размещать на постой и не кормить бесплатно официальных посланцев Москвы. Упоминание об этом обстоятельстве само по себе свидетельствует о неприятностях, связанных с подобными визитами царских эмиссаров.
Владения братьев Строгановых увеличились на несколько миллионов гектаров. Однако жизнь на берегах Вычегды отнюдь не была спокойной. Строгановых ждали опасности, с которыми они до того не сталкивались. Хотя Иван Грозный и шлет многочисленные указы, грамоты и обещания, он не особенно внимательно следит за тем, что происходит так далеко от Москвы. В Чердынь, небольшой городок, ставший административным центром, назначен воевода. Обычно воеводы – это ратные люди, часто выполняющие и управленческие функции. Как правило, они происходят из семей бояр. Их отбирают за воинские заслуги и посылают в завоеванные земли. На местах они быстро прибирают к рукам гражданские, юридические и финансовые вопросы правления. Например, именно они собирают налоги. Однако здесь, у новой границы, их возможности ограничены. Иван Грозный далеко, воюет со шведами и поляками, и у него нет людей, чтобы послать их на охрану границы. В 1552 году, когда взбунтовались местные народы, и Соликамск взмолился о помощи, все, что он прислал, – это икона святого Николая Чудотворца и совет освятить ею крепостные стены, чтобы воодушевить войско и обратить в бегство неверных.
Строгановы могут рассчитывать только на себя. На семейном совете принято решение разделить обязанности. Осторожный Аника склоняется к тому, чтобы оставить большую часть производства в Сольвычегодске. Там находятся металлургические мастерские, изготавливают оборудование для бурения. Симеон остался присматривать за делами в Сольвычегодске, а Аника, его сыновья Яков и Григорий и внуки Максим и Никита уезжают в новые владения. Через несколько месяцев после получения царского указа Строгановы возводят свой первый «городишко» – изначально просто деревянный форт, обнесенный высоким частоколом из заостренных стволов деревьев (Канкор, сейчас Пыскор). По углам четыре башни высотой метров десять, в каждой – легкая пушка. Вместе с землями новые хозяева получили право производить селитру, необходимую для изготовления пороха. Разрешение исключительное, но содержащее ограничение: не более двадцати пудов, то есть трехсот двадцати килограммов. Москва опасается подданных, имеющих собственный арсенал. Внутри ограды строят жилые помещения, склады и мастерские, необходимые для разведочных работ. Дело спорится. Продвигаясь вверх по течению Камы, Строгановы открывают одну солеварню за другой. Благодаря улучшению технологии они ежедневно получают в два или три раза больше соли, чем в Сольвычегодске. Цена на московском рынке в двенадцать раз больше, чем на местном. Выгода очевидна. Нужны рабочие руки, и Строгановы набирают людей в своих же вотчинах. Опричнина Ивана Грозного, вселявшая ужас в людей, сыграла им на руку. Тысячи напуганных людей бегут в дальние уголки страны, надеясь спастись от «черных эскадронов смерти». Произвол, царивший в стране, держал в страхе не только семьи, вовлеченные в борьбу за власть. Мелкие купцы, духовенство, простой люд – жизнь всех зависела от настроения приспешников царя. Многие стремились искать лучшей доли подальше от городов, на только что завоеванном востоке, куда еще не добрались опричники. Беженцы поднимаются вверх по рекам и добираются до деревень и скромных крепостей Строгановых. Беглые крестьяне также ищут убежища на новых землях. Закон запрещает предоставлять им кров и работу, однако купцы предпочитают смотреть на нарушения сквозь пальцы, по крайней мере, до поры до времени. Вскоре поднимается и второй город (Орёл-городок, или Кергедан). Отныне укрепленные солеварни образуют последнюю линию русских поселений до Урала и земель местных народов.
Вопреки описанию Строгановых и словам царского указа, территория, на которой возведены новые деревянные городки, вовсе не была необитаемой. Народы Пелымского княжества, вогулы, пермяки или зыряне населяли предгорья Урала. Они подчинялись Сибирскому татарскому ханству, наряду с Казанским и Астраханским образованному при распаде когда-то мощной Золотой Орды. Сибирское ханство, к западной границе которого внезапно подошли владения Строгановых, лежало главным образом к востоку от Уральского хребта и занимало бассейн средней Оби и ее крупного притока Иртыша. Верхнее течение Оби, находящееся в обширных степях Южной Сибири, позволяло поддерживать связь с кочевниками ногайцами, искуснейшими всадниками. Иртыш – это пуповина, ведущая в Среднюю Азию, к киргизам, в колыбель бывшей Орды. Бухарские купцы еще водят свои караваны в те края, обещающие жирные сделки. Столица Сибирского ханства – город Искер, насчитывающий несколько тысяч жителей. Он выстроен на возвышенности в несколько десятков метров над правым берегом Иртыша, недалеко от его слияния с Обью. Европейцы впервые могли увидеть ее на карте 1562 года, составленной Энтони Дженкинсоном, английским посланником при русском дворе. Уже этот факт сам по себе говорит о внезапно возникшем интересе к столице Сибирского ханства, как в Москве, так и в Лондоне и Нидерландах. Все понимают, что татарское ханство преграждает путь в Азию и Китай. И эту преграду можно взломать.
* * *
Падение Казани нарушает равновесие сил. Татарский мурза Едигер, сидевший в Искере, теряет не просто союзника. Казань была в каком-то смысле его защитой в сложившемся феодальном властном домино. Без нее мурза внезапно оказался слабым правителем. Некоторые народы, его вассалы, принялись искать покровительства у победителя – великого русского царя. И, конечно же, соперничающий клан, восходивший напрямую к Чингисхану, начинает оспаривать законность его власти и требует потесниться. Род, претендующий на власть, возглавляет Кучум, который может рассчитывать на поддержку, в том числе и военную, Центральной Азии. Чтобы спасти свой трон, хан Едигер действует стремительно. Пока Строгановы готовятся расположиться у его ворот, построить частокол и протянуть трубы для соленых вод, он решает засвидетельствовать свою преданность Ивану Грозному. Его посланники помчались в Кремль, чтобы объявить о том, что хан готов добровольно подчиниться царю. Они привозят вполне материальные доказательства, символизирующие статус вассала: годовой натуральный оброк, ясак, который татары испокон века собирают со своих подданных. Хан готов доставлять часть Ивану Грозному. Ясак выплачивается пушниной, по одной соболиной и беличьей шкурке от каждого «налогоплательщика» – таково предложение хана, переданное посланниками. «Налогоплательщики» – это подданные или главы традиционных семей, и хан полагает, что таковых насчитывается тридцать тысяч семьсот. В обмен же, согласно феодальным правилам, Едигер просит у царя покровительства, в частности, в военном конфликте с Кучумом, его соперником.
Последовали переговоры, касавшиеся, в первую очередь, размера ясака, поскольку первое подношение далеко от обещанного: всего семьсот шкурок. Однако Иван Грозный принимает предложение. Заключаемый договор – не приоритетный, и царь вовсе не собирается растрачивать свои скудные ресурсы ради него. У царя и так хлопот полон рот с литовцами и поляками, однако он не прочь внести еще один титул в уже существующий внушительный список, отражающий количество покоренных земель. Иван Грозный – великий князь Владимирский, Московский и Новгородский, царь всея Руси, но теперь иностранные гости, допущенные до аудиенции, обязаны, согласно протоколу, не забывать, что он еще и властитель «Удорский, Кондинский и всея Сибири».31 Этот же титул перекочевал в царскую переписку. Пусть новое приобретение не особенно впечатляет, все же владыка Кремля мог полагать, что хотя бы эта часть Сибири ему принадлежит.
Реальность, однако, выглядит немного иначе. Хлопоты, предпринятые Едигером в последнюю минуту, ни к чему не привели. Кучум сверг Едигера, завладел титулом хана и сел в Искере. Новоявленный хан, верный традициям своего предка Чингисхана, не спешит подставить шею под ярмо русского христианского царя. Наоборот, он рассчитывает восстановить могущество татар и выгнать русских с земель, которые считает своими. Ревностный мусульманин, он готов использовать стремительно распространяющийся ислам как основу объединения народов Урала и Оби. Он хочет навязать ислам всем, чтобы получить государство с однородным населением. Задача оказалась не такой простой. Киргизские всадники, служившие ему в качестве ударной силы, рассеялись по Сибири. Жители лесов и прибрежных земель, исповедовавшие анимизм, отказываются признавать нового хана. Некоторые даже берутся за оружие. Чтобы усмирить их, Кучум вынужден стянуть все свои силы. Пришлось также умерить аппетиты относительно русских. Владыка или подданный? Еще вассал или уже бунтарь? Играя на этой двойственности, Кучум отправляет Ивану Грозному депешу, в которой представляется как Кучум «свободный» и «царь». Он предлагает «белому» царю Ивану, «старшему брату», вступить в переговоры. Хитрая позиция, которая предполагает иерархию, но навязывает принцип равенства. Хан вроде бы хочет мира с Московской Русью и обещает продолжать выплачивать оброк в качестве залога спокойствия. «Однако не обошлось без угрозы. «Если ты хочешь мира, – продолжает он, – то будет мир. Если же ты хочешь войны, будет война».32
Кучум пытается выиграть время, чтобы упрочить свое влияние. Кроме того, он надеется, что русское государство будет только слабеть. У него есть для этого основания: новости с театра военных действий, находящегося далеко от Урала, не очень обнадеживающие для русского царя. Говорят, что в Ливонии, вопреки ожиданиям, он терпит поражение за поражением. Похоже на настоящую катастрофу. А на юге ногайцы и татары, неосмотрительно оставленные Иваном Грозным без внимания, не дремлют. Они продвигаются по русским равнинам, практически не встречая сопротивления. Некоторые даже поговаривают, что царь в отчаянии. Ходят слухи, что он покинул Кремль и пытался бежать.
В мае 1571 года армия крымского хана Девлет Гирея, временного союзника степных ногайцев, начинает масштабное наступление и прорывает слабую линию обороны русских. Для Ивана Грозного, все силы которого брошены на войну на Балтике, это полная неожиданность и настоящее бедствие. Его воеводы с большим трудом собирают несколько тысяч наспех вооруженных человек. Но ногайская кавалерия просто-напросто огибает чахлые ряды русского войска. Хану Девлет Гирею и его армаде понадобилось всего несколько дней, чтобы добраться до Москвы. На подступах к столице – грабежи и пожарища. Ворота города захлопываются, русские ратники спасаются бегством. Однако не успевает хан продумать первую атаку, как вдруг поднимается сильный ветер, и вот уже огонь бушует в самом городе. Не прошло и десяти минут, как вся Москва оказалась во власти пламени. Колокола надрываются, возвещая о беде, но никто и ничто уже не может спасти большой деревянный город. Целые кварталы вспыхивают один за другим, дерево трещит, повсюду дым, и колокола в конце концов замолкают, плавясь в гигантской топке. Вспышки говорят о том, что пороховые склады Кремля, находившиеся под башнями крепостной стены, взорвались. Дворец Ивана Грозного, только-только отстроенный вне стен Кремля, уничтожен. Внутри крепостной стены в северной части города, куда бежали люди, спасаясь от огня, разыгрываются страшные сцены. Рассказы немногих свидетелей дошли до нас в изложении английского купца и дипломата Джильса Флетчера. Он пишет, что враг зажег предместья, «которые (состоя из деревянного строения, без камня, кирпича или глины, за исключением немногих наружных покоев) сгорели с такой быстротой и огонь так далеко распространился, что в четыре часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль или более в окружности. Зрелище было ужасное: при сильном и страшном огне, объявшем весь город, люди горели и в домах, и на улицах; но еще более погибло из тех, которые хотели пройти в самые дальние от неприятеля ворота, где, собравшись отовсюду в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, так стеснились в воротах и прилежащих к ним улицах, что в три ряда шли по головам один другого, и верхние давили тех, которые были под ними. Таким образом, в одно и то же время от огня и давки погибло (как сказывают) 800 000 человек или более».33 Те, кто пытался укрыться в немногих каменных домах, погибли под обрушившимися стенами. От города остались лишь пепел да еще печи – трагические остатки русских изб. Стихия не пощадила и Кремль, который сильно пострадал от огня, хотя были предприняты все меры, чтобы уберечь его от пожаров. Немец фон Штаден был в ужасе от зрелища, словно взятого из книги Данте: «Была такая великая напасть, что никто не мог ее избегнуть! В живых не осталось и 300 боеспособных людей <…> После пожара ничего не осталось в городе – ни кошки, ни собаки».34 Царь смог спастись только потому, что вовремя покинул город. Москва полностью сгорела меньше чем за шесть часов.
Некоторые из татар, рвавшихся в Москву и присутствовавших при пожаре столицы, попытались разжиться трофеями, вырвав их из огня, но погибли, сгорев заживо. Хану Девлет Гирею ничего не оставалось, как пуститься в обратный путь, в степи, предоставив противника его судьбе.
Для Московского государства наступают черные дни. Перед пожаром 1571 года два года (1568 и 1569) был страшный неурожай, с 1570 года по стране бродит голод.35 В том же году черные отряды опричников наказывают Новгород, который заподозрили в переговорах с врагом. Город разграбили и потопили в крови. По дорогам двинулись беженцы из бывшей купеческой столицы. Повсюду царил террор. Вдобавок разразилась эпидемия чумы, что привело к новым строгостям: «К тому же всемогущий бог наслал еще великий мор. Дом или двор, куда заглядывала чума, тотчас же заколачивался и всякого, кто в нем умирал, в нем же и хоронили; многие умирали от голода в своих собственных домах или дворах».36 Перед такой чередой бедствий как не поверить в бич божий?
* * *
Строгановы из отдаленного угла империи с тревогой следят за развитием событий, о которых им докладывают посыльные из торговых мест и столицы. Национальное бедствие, конечно же, не может не отразиться на их делах: торговля замерла, половина солеварен, работавших на полную мощность, остановилась, царь увеличивает налоги, поскольку военные нужды поглощают все. После страшного пожара в самом сердце страны братья решают доказать Ивану Грозному свою преданность. Чтобы спасти государство от нового нападения татар, они полностью снаряжают тысячу ратников и отправляют их в Москву. Новая атака на город действительно случилась, но в 1572 году враги наконец были отброшены.
Все это стоило огромных денег. Кризис грозит Строгановым банкротством. Несмотря на спаянность семьи, после смерти Аники обнаружились конфликты, которые можно было разрешить, только обратившись к самому Ивану Грозному. Но тут проснулась граница! Известия о катастрофе в Московской Руси, перевалив за Урал, достигли поселений аборигенов. Налоговое бремя, которым их задавили поиздержавшиеся Строгановы, лихоимства, привели к бунту народов предгорий Урала. В одной из летописей сообщается: «В 1572 году, 15 июля, по Божьей воле пришли на реку Каму черемисы, а с собой сманили остяков, башкир и буинцев. И вот собралось их множество, и пришли под названные выше крепости Канкор и Кергедан [основанные Строгановыми и им принадлежащие], и убили в тех городках 87 русских купцов».37
Кучум в своей сибирской столице Искер также решил, что пробил его час. Кучумовский посланник, отправленный к Ивану Грозному с ясаком, о котором было договорено, прибыл в Москву вскоре после пожара. Вернувшись в Сибирь, он рассказал хану о том, что увидел, и нарисованная им картина полностью изменила планы сибирского властителя. Доставленный в Москву ясак был последним, выплаченным русскому царю. Русские истощены, у них нет достаточно сил, чтобы защищаться, следовательно для татар наступил момент реванша – нового завоевания. В июле 1573 года, в самый разгар бунта приуральских народов, Кучум дает своему племяннику Маметкулу войско в несколько сотен воинов и отправляет его в земли Строгановых. Строгановы, укрывшись за стенами крепостей, лишь бессильно следили за тем, как громят их деревни и солеварни. Крепостные и работники Строгановых, охваченные паникой, спасались кто как мог. Без вооруженных людей противостоять набегу татар было невозможно. Оставалось лишь защищать крепости. Но, после того как татарские всадники повернули назад, Строгановы обрушились на местных жителей, поддержавших татар и участвовавших в грабежах и бунте. Именно после этого кровавого эпизода царь дает своим «олигархам» удивительный совет: действовать крайне осторожно и, если среди черемисов или остяков найдутся такие, кто согласится убедить своих сородичей не бунтовать, а стать честными подданными царя, то не казнить их, а пощадить. Более того: им обещана царская милость.38 Подобное распоряжение было необычным: ведь Ивану Грозному не было присуще сострадание. Однако это распоряжение свидетельствовало, что в Москве происходят перемены: Иван Грозный всерьез заинтересовался своими восточными владениями.
Братья Строгановы и их дети, уже вовсю участвующие в делах, понимают, что бездействие может погубить их. Земли Максима Строганова оказались наиболее уязвимы, над ним первым нависла опасность. «Землю нельзя было обрабатывать, на ней нельзя было выпасать скот, крестьяне больше не ходили в лес за дровами, боясь быть убитыми или попасть в плен. Лошадей и коров постоянно угоняли».39 Никто не решался покидать деревню, и жизнь почти полностью замерла. Опасались, что с наступлением тепла набеги татар участятся и станут еще более жестокими.
Весной 1574 года, когда дороги стали непроходимыми из-за таяния снегов, а реки еще стояли подо льдом, царь призвал к себе Григория и Якова Строгановых. «Он приказал братьям не медлить по получении распоряжения и сразу же отправляться в путь. К грамоте был приложен специальный пропуск».40 Москва и Кремль еще в шрамах от пожаров. Иван Грозный принимает их в своем дворце в Александровской слободе в 100 километрах к северо-востоку от столицы. Царь, удалившийся сюда из Москвы, дает им несколько аудиенций, что очень необычно. Известно, что беседы затягивались надолго, что Иван Грозный выспрашивал у братьев Строгановых детали последних событий и мнение относительно возможного их развития. Они говорили о Сибири, чего раньше не бывало, и, скорее всего, именно на этих встречах наметили стратегию, которая впоследствии приведет к освоению и завоеванию неведомых просторов, лежавших за Уралом. Строгановы делятся своими бедами и опасениями, касающимися будущего. Но, самое главное, они щедро делятся с Иваном Грозным уникальными, только им известными сведениями об основных действующих лицах, о существующих союзах, о соперничестве в ханстве Кучума. Строгановы рассказывают о недавних страшных событиях: о грабежах, об убийстве людьми Кучума посланника самого царя, об оброках, которые не окажутся в казне. Иван Грозный считает эти земли своими, но лишен возможности защищать живущих там подданных и уж подавно не в состоянии усмирить бунтарей и наказать «изменника» Кучума. Почему бы не позволить своим верным сторонникам, надежным посредникам и к тому же еще кредиторам и поставщикам подтолкнуть ход истории? Через два месяца, отправляясь в обратный путь, Строгановы увозят новую удивительную грамоту Ивана Грозного. Они добились своего: царь подтверждал их права на владение землями по берегам Камы и Чусовой. Большая часть земель, лишь временно находившихся в управлении Строгановых, стала их полноценной собственностью. Они получили право их застраивать и укреплять поселения, если того требовала забота о безопасности солеварен. Им разрешено не платить налогов на охоту и рыбную ловлю. И, главное, чего добились Строгановы, – им даровано право собирать собственную армию, вооружать ее и защищать свои владения и все русские земли на уральской границе. Иначе говоря, Строгановы получили в собственность практически все приграничные земли в обмен на обещание защищать их.
Но, что еще поразительнее, Иван Грозный даровал Строгановым неслыханные привилегии, которых еще никто не удостаивался. Самая важная из них – передача Строгановым на двадцать лет гигантских территорий по другую сторону Уральского хребта, в бассейне реки Тобол, текущей на север. Можно сказать, что указ от 30 мая 1574 года – поворотное событие. Ведь эти земли – часть ханства Кучума. Разгневавшись на вассала-бунтаря, который не привозил больше в Москву ясак, Иван Грозный объявляет их своими и отдает в управление Строгановым. Они получают право «крепости делати и сторожей наймовати и вогняной наряд держати собою и железо делати, и пашни пахати и угодья владети».41 Чтобы сохранить видимость беспристрастности, царь выдает такое же дозволение и на земли Мангазеи, форпоста звероловов и охотников, первопроходцев тундры. После присоединения новых земель в 1574 году Строгановы стали собственниками одиннадцати с половиной миллионов гектаров – территорий больше современных Португалии или Болгарии. Они превратились в самых крупных в мире земельных собственников своего времени, не помышляя об этом[1]. Всего лишь хотели получить дозволение вооружать людей, чтобы защищаться от врагов, но получили «добро» на движение за Урал. Теперь судьба Сибири – в их руках.
В погоне за «мягкой рухлядью»
Заветная территория, лежащая по другую сторону «каменного пояса», все сильнее манит Строгановых и их царя, однако ими движет не примитивное желание расширить границы владений или захватить новые земли. В ту эпоху слово «Сибирь» неизбежно вызывало в воображении ценность, которую русские называли «мягкой рухлядью», – пушнину.
Патриарх семейства Аника Строганов быстро понял, что соляной промысел, позволивший ему сколотить состояние, не исключает торговли и другими товарами. И самый выгодный из них, конечно же, пушнина. В Сольвычегодске, где он живет, как и вообще в северных деревнях, охота и пушной промысел – основные занятия. Охотятся на зайца, лису, медведя, но особенно на мелких таежных грызунов: куницу, белку и соболя – самого ценного зверька. У него чудесный мех – мягкий, густой и шелковистый.
Местные охотники, промышляющие на Урале, регулярно выходят из лесов, чтобы обменять свои трофеи на ножи, инструменты, бытовую утварь и ткани. Кто-то даже добирается до главной торговой площади Сольвычегодска у самого Благовещенского собора. Многие из них – поставщики Аники, они приносят ценные шкурки издалека, из-за Урала, с берегов великой Оби. Кто-то бывает еще дальше, у Северного Ледовитого океана, в тундре. Они привозят на санях настоящие чудеса – меха песцов, шкуры тюленей и моржей, бивни мамонтов. Алексей Соскин, летописец Сольвычегодска, один из первых исследователей архивов Строгановых в XVIII веке, составил список товаров, которые предлагали Аника и другие купцы. Они торговали «мягкою рухлядью, камчатскими бобрами, лисицами, соболями, котиками морскими и протчих тех восточных промыслов, также сибирскою и зырянской белкой, медведями, росомахами, исподами и мехами калмыцкими и перлусчатыми, мамонтовой костью».42
Вскоре Анике стало мало просто приобретать товар у коренного населения или русских охотников. Как сообщает Соскин, к нему «ежегодно приезжали люди з дорогою мягкою рухлядью и з другими чюжестранными товарами. А люди не все русские, ни же из других ему знаемых соседственных народов; паче примечена между ими в языке, в платье, в вере и в обхождении великая разность другими чюжестранными именами. От того в Анике загорелась великая охота к совершенному проведению таковой земли, которая такия сокровища производит».43 Глава семьи Строгановых тратит часть доходов от выварки соли на снаряжение охотников, отправляющихся за перевал. Уральские горы невысоки. В трех-четырех местах, где можно перейти из Европы в Азию, они не поднимаются выше 800 м. Но первопроходцы двигаются по воде, и это означает, что для преодоления «горы» нужно тянуть лодки по все более и более стремительным потокам, потом прорубать дорогу в лесах и тащить груз на спине. Аборигены окрестили «белыми» реки, спускавшиеся в сторону европейской равнины, и «черными»44 – притоки огромной Оби с ее многочисленными рукавами. Эти «черные реки» и должны были стать дорогами в Сибирь.
Люди Строганова плывут вверх по Вычегде, по ее притоку Выми до волока на Ухту и Печору и поднимаются по ней. Оттуда еще один волок через хребет – и они оказываются по другую сторону Урала. Есть и маршрут севернее, однако он связан с передвижением в более тяжелых условиях. Некоторые промышленники выбирают морской путь, двигаясь вдоль побережья: тут риск возрастает еще больше из-за штормов. Он зависит также от направления ветров и от льдов, покрывающих море большую часть года. Южнее маршрут попроще, но его контролируют татары и местные народы. Расстояния огромны. Нужно не меньше двух или четырех месяцев, чтобы достичь мест, наиболее богатых зверем, например, района Мангазеи. И столько же, если не больше, чтобы вернуться. Все зависело, конечно, от судоходности рек, ведь они подо льдом с октября по апрель, а в разгар лета уровень воды в них часто слишком низок. Люди, оружие, снаряжение, лодки, переводчики: экспедиции стоят очень дорого, и Аника Строганов, скорее всего, первый купец, решившийся вложить огромные суммы в настолько рискованные походы. Он снаряжает людей также и в другие районы. Промышленники, которые отправляются на Урал и спускаются к Оби, не очень-то разборчивы в средствах обогащения. Они не только охотятся. Они не гнушаются пускать в ход огнестрельное оружие, которого нет у местных жителей, чтобы отнимать у них пушнину. Порой эти ватаги не столько промышляют, сколько разбойничают. Аника Строганов, твердо решивший наладить пушную торговлю, пытается установить прочные отношения с сибирскими народами. Ему хочется, чтобы из конкурентов и противников они превратились в поставщиков. Люди Строганова везут разные вещицы, способные заинтересовать новых северных клиентов – заморские товары от иностранных купцов, появляющиеся на русских ярмарках. Строганов наказывает своим людям прибегать не к силе или вымогательству, а к убеждению. Нужно, чтобы выгода обмена стала очевидна. И действительно, в повседневной жизни местные обитатели очень мало используют мех мелких млекопитающих, предмет вожделений русских, предпочитая использовать для одежды и утепления жилищ собачьи и волчьи шкуры. Медведя сибирские народы считают равным себе, поэтому на него можно охотиться только при определенных условиях и строго следуя специальным правилам. Жизнь же кочевых народов тундры тесно связана с оленем. И пища, и транспорт, и жилье, и одежда; словом, олень – это не просто компаньон человека, это полноправный участник жизни. Зачем терять время, гоняясь по мерзлой тайге за куницей или соболем? Аборигены не видят ценности в шкурах, которых так жаждут получить русские. Кто же эти люди, которые готовы за восемь соболей отдать нож, – удивлялись сибирские кочевники через полтора столетия в разговоре с одним русским путешественником, – а за восемнадцать готовы выложить железный топор?45 Сибиряки охотятся на этих мелких зверьков только ради ясака, который выплачивают татарским сюзеренам в виде драгоценных для русских мягких шкурок.
Методы Строганова приносят свои плоды. «Сии дошли до реки Оби, – повествует летописец Алексей Соскин о членах экспедиции, – и с тамош-ными народами весьма дружелюбно обходились и вместо дешевых своих мелочных товаров привезли с собою оттуда такое великое множество самой лутчей рухляди, что Анику оное побудило еще несколько лет продолжить сие прибыльное купечество»46. Купец настолько воодушевлен, как замечает летописец, что решает построить «каменный храм» – символ успеха и знак благодарности. Взаимная выгода обмена быстро принесла прибыль дому Строгановых. Вскоре его отделения стали предлагать широкий выбор «мягкой рухляди». В отличие от своих предшественников, Аника не стал прятать от властей и царя размер доходов от своей новой деятельности, равно как и громадный ее потенциал. Он мог бы в одиночку пользоваться этим источником богатства, – читаем мы в летописи Соскина. Но нет! Патриарх Сольвычегодска поспешил собственноручно доставить в Кремль самые красивые образцы. Он предпочел «пользу отечества», – замечает Соскин. И не прогадал, получив в обмен, как мы увидим, особые милости Ивана Грозного.
* * *
Строгановы первыми стали инвестировать столько ресурсов в пушнину. Но интерес к Сибири как к ее источнику возник задолго до Строгановых. Десятью веками ранее (в VI веке н. э.) готский историк Иордан уже упоминает о сверкающих черных соболях из страны Югра.47 С другой стороны Сибири за этим товаром, пользующимся успехом у состоятельных людей, охотятся китайцы. Меха приносили огромную прибыль и Великому Новгороду – одному из богатейших средневековых городов, члену ганзейского союза и центру сбыта пушнины. Со всей Европы приезжали сюда за искристым песцом, которого отдавали в обмен на немецкие, французские, голландские или английские товары. В IX веке Новгород, оценив этот источник дохода, помыслил в поисках «мягкого» золота изучить повнимательнее свои дальние северные границы. Мореплаватели-новгородцы, по всей видимости, добрались до Карского моря. Эти далекие походы 1032 года упоминаются в древних рукописях. С 1139 года новгородцы плавали по Оби. Они строили небольшие временные станы на берегах и привозили много шкурок.48 С XI по XV век Новгород считал «землю Югра» своим охотничьим угодьем, и во многих документах XII века заявляет о своих претензиях на эту территорию.49 Начавшаяся на излете Средневековья экспансия русских – сначала новгородцев, а затем московитов – лишь шла по уже проложенным путям пушного промысла. Великий князь московский Иван III, отец Ивана Грозного, счел себя достаточно сильным, чтобы оспорить господство Новгорода. Он нанес удар, прекратив связи Ганзы с северными землями и окраинами Сибири – промысловыми угодьями. Иван III хотел уничтожить торговую монополию Новгородской республики, с которой соперничала Москва, и начал с того, что лишил ее колоний. Контроль над реками и особенно волоками, без которых реки недоступны, захват Великого Устюга, основание Сольвычегодска ослабили Новгород и ускорили его падение. В ту эпоху на мехах росла экономическая мощь, и даже поднимались целые государства. Пушнина – первый товар, который стала вывозить Русь, и, следовательно, один из основных источников дохода. Как только Москва и ее великие князья одерживают верх, они отправляют по уральским дорогам свои военные отряды. Воеводы Московской Руси, двигаясь по следам Новгорода, в свою очередь переваливают за Урал. В 1465 году, а затем в 1483-м и 1499-м они побывали в Югре, где пытались подчинить местные народы Москве. Но это скорее краткие рейды, чем завоевание. Должно пройти время, прежде чем Московская Русь сможет надолго обосноваться на востоке «каменного пояса».
Пушнина – альфа и омега определенного этапа русской истории. Этот товар настолько важен, что определил пути и скорость завоевания севера и Сибири, а также природу формирующегося русского государства. Именно зверь, в частности соболь, своей шелковистой шкуркой задает маршрут экспансии. Поскольку промысловые животные обитают на севере и на востоке, русское государство продвигается на север и на восток. Торговые пути вдоль рек лишь следуют за охотничьими тропами. Великий поход к Тихому океану начался не из-за стремления к расширению и не по желанию государства или его монарха. Он шел ради пушнины и благодаря ей, поскольку именно доходы от нее становились основой для финансирования походов. Путь ведет на восток. Скорость зависит от истребления основных промысловых видов: как только охота становится трудозатратной, то есть становится невозможно заполучить добычу в качестве ясака от местных обитателей, авангард охотников устремляется на новые земли, поднимаясь по рекам, по притокам, разыскивая переправы и волоки между бассейнами сибирских рек. Это промышленники, занимающиеся промыслом пушнины. Она подстегивает искателей, чьи имена до нас не дошли. Ради нее эти смельчаки идут на жертвы. Государство всего лишь следует в кильватере. Но их движение становится все более выгодным для него. Политика колонизации земель аборигенов не задумывалась сама по себе, она – результат стремления получить как можно больше мехов. Пушнина – самый драгоценный товар на внутреннем рынке, от нее зависит немалая часть бюджета. На протяжении двух веков прибыль от продажи нежных шкурок соболя, чернобурой лисицы с длинным пушистым подшерстком, куницы, белого горностая с черными пятнами на хвосте, белки или калана достигали 10–15 и даже 30 % государственных доходов.50 В архивах Кремля сохранились документы 1586 года, которые свидетельствуют, что всего через двенадцать лет после получения Строгановыми столь фантастических привилегий, казна пополнилась 200 тысячами шкурок соболя, 10 тысячами чернобурки, 500 тысячами беличьих, не говоря уже о бобрах и горностае.51 Пушнина также главный экспортный товар. Ее обменивают на золото, серебро и оружие, которые Московской Руси обходятся очень дорого. Подобно энергетическим ресурсам в России XX века, «мягкая рухлядь» – основная валюта. Она привлекла внимание государства и, в конечном итоге, повлияла на его организацию. К государству же быстро перешел контроль за таким прибыльным рынком.
Экономика русского государства XVI и XVII веков остается товарообменной. Страна еще не располагает достаточным количеством золотых и серебряных монет, чтобы перейти на денежную систему. Не может она, как Испания, черпать драгоценные металлы в копях новых американских колоний. Поэтому-то русское государство поддерживает систему, в которой пушнина часто выполняет роль валюты. Это удобно: меха легки, занимают мало места, долго не изнашиваются. Их стоимость если и меняется, то в сторону подорожания. Иностранные купцы получают не форинты и экю, а шкурки, да и на внутреннем рынке, на ярмарках в крупных городах, оплата ими не редкость. Двор использует пушнину, когда необходимы значительные траты. Так, например, ими могут выплачивать субсидии церкви. А затем православные иерархи решали52, как ее обменять на церковную утварь или услуги. Царь дарит «мягкую рухлядь» важным иностранным гостям и монархам, которых он хотел бы видеть своими союзниками. Это роскошный подарок, а по другую сторону границы его ценность взлетает еще выше. То, что стоит десять тысяч рублей в Москве, в Европе можно легко перепродать в разы дороже. В 1595 году, в ответ на просьбу Рудольфа II, императора Священной Римской империи, помочь ему в борьбе с турками, царь Фёдор отправляет в Прагу 40 тысяч шкурок соболя, 20 тысяч – куницы, 338 тысяч – белки, 3 тысячи – бобра, тысячу – волка и 120 – чернобурой лисицы. Чтобы вместить столь щедрый дар, понадобилось восемь комнат в пражском дворце, и слугам даже пришлось оставить сотни тысяч беличьих шкурок в повозках, поскольку для них не было места. Общая стоимость присланного – 400 тысяч рублей, что составляло в то время восемь бюджетов русского государства! Размах вклада Москвы в борьбу с Оттоманской империей настолько впечатляет императора Рудольфа II, что он тотчас же посылает гонцов с вестью об этом чуде к королю Испании, Папе Римскому и всем своим союзникам.
Таким образом, добыча пушнины стоит добычи золота. Промышленник, желающий попытать удачи, рисковал жизнью и всем, что у него было. В среднем он проводил в тайге и на границе тундры от двух до четырех лет, а иногда и все семь, чтобы вернуться с одной или двумя лошадьми, груженными драгоценным товаром. Но в случае удачи все труды окупались с лихвой, и Строгановы это поняли. Одна из сделок 1623 года может дать представление о покупательной способности драгоценных мехов: за две шкуры чернобурки охотник выручил 110 рублей. Половины этих денег могло хватить на то, чтобы приобрести пятьдесят пять акров земли, построить прочный небольшой дом, купить пять лошадей, двадцать голов крупного скота, двадцать баранов, несколько десятков голов разной домашней птицы.53
* * *
Притягательность добычи, скрывающейся за Уралом, быстро становится очевидной для всех. Страну охватывает «пушная лихорадка» – точно так же тремя веками позже в Америке будет бушевать золотая. Ходят слухи, что удачный охотничий сезон позволит смельчаку кормиться на протяжении многих лет. Сначала в авантюру пускаются лишь жители северных деревень. с наступлением зимы они покидают свои избы и идут на восток. Однако поток переселенцев на север ограничивало крепостное право, существовавшее в европейской части Московской Руси. Беглых крепостных ловили и сурово наказывали, и у них было мало шансов добраться до цели. Но вскоре беглецов стало больше – люди спасались от террора Ивана Грозного. Крестьяне, разоренные постоянно растущими из-за войн налогами, бросали земли и уходили. Сотни, а потом и тысячи авантюристов самого разного толка двигаются за Урал в надежде обрести эльдорадо.
Но откуда взялась эта пушная лихорадка? Чем объяснить притягательность погони за пушниной и ее резкий взлет в XVI веке? Отгадку нужно искать в Западной Европе, открывшей Америку, а также в новых навигационных технологиях, позволивших проложить надежные регулярные торговые пути в Индию. Все это вызвало бурное развитие экономики. Приток золота и серебра с андских приисков взвинтил цены и подстегнул торговый обмен. В этом водовороте элита жадно скупает предметы роскоши и деликатесы с Востока. Начинаются новые времена. Приходит мода на изысканность, нувориши хотят обладать предметами и украшениями, которые раньше могли позволить себе только аристократы. И меха входят в их число. В Средние века они – символ королевского статуса. Воротники и рукава властителей, а также военачальников чаще всего отделывали горностаем. Теперь меха доступны и другим привилегированным классам, богачам, желающим продемонстрировать свой достаток. Спрос зашкаливает. Лейпцигская ярмарка на Хохштрассе на пути из Руси в Польшу стала самой крупной в Европе, заняв место Великого Новгорода, которое тот уступил не по своей воле. Заказов так много, цены так высоки, а выгода настолько велика, что английские и голландские купцы, ходившие по северным морям, обратили взоры на Россию и начали искать способы обходиться без посредников, в качестве которых выступали немцы, евреи и поляки. Внутри России рынок мехов сужается, шкурки рвут друг у друга из рук, чтобы перепродать за безумную цену за границей. В 70-е годы XVI века в Москве было почти невозможно отыскать качественный мех соболя. Лихорадка стремительно распространилась среди промышленников приграничных областей.
Прибыв в одну из последних русских деревень, они не сразу пускались в долгий путь за Урал. Сначала нужно было к этому подготовиться. Большинство промышленников – авантюристы, собравшие все свои скудные средства, чтобы снарядиться в путь. Мужчины объединяются в ватаги – охотничьи отряды на весь сезон. Обычно в ватаге восемь – десять человек, но, если экспедицию организуют богатые купцы, она может насчитывать до пятидесяти участников. В Сибири охотиться в одиночку невозможно. Трудность пути, враждебно настроенные местные жители и особенно необходимость делить тяготы быта – все это вынуждало передвигаться и действовать сообща. Кроме того, нужно было тащить товары, предназначенные для обмена с сибирскими народами: одежду, еду и напитки, домашнюю утварь, инструменты из металла, охотничьи принадлежности, льняные ткани, мыло, топоры разного размера, мед, воск – самые частые предметы. К ним иногда промышленники добавляли более дорогие заграничные товары: шелк, медь, пряности, сахар или бумагу. Иногда, в зависимости от вклада в экспедицию, денежного или товарного, члены ватаги распределяли добычу после окончания сезона.54
Охота на соболя происходила обычно в самом конце зимы, когда, с одной стороны, еще лежит снег, позволяющий видеть следы зверька, но, с другой стороны, его слой уже не так глубок, чтобы соболь мог спрятаться в наметенных ветрами гигантских сугробах. Кроме того, темный окрас зверька заметнее на фоне заснеженного пространства среди белых кустов и деревьев. И, наконец, именно в этот период мех соболя особенно густой и нежный – а именно от данных качеств зависит цена каждой шкурки. Летом его качество ухудшается, потому что в нем заводятся паразиты, которые заставляют зверька тереться о стволы деревьев. Ждать зимы приходится еще и для того, чтобы у молодых соболей, родившихся весной, отросла длинная и тонкая шерсть, которую мог бы оценить покупатель. Соболь, пойманный в первое лето или в первую осень его жизни, получил название «недособоль», поскольку терял большую 55 часть своей стоимости.55
Прибыв к местам охоты, ватаги промышленников быстро возводили избу из бревен. До следующей зимы она будет служить им укрытием и складом для добычи. Затем ватага делится на группы по два-три человека, которые разбредаются по лесу для уяснения размеров и возможностей своих угодий. Когда первая разведка окончена, они строят ловушки вдоль определенного маршрута (путика) и небольшие избушки, чтобы укрываться там от непогоды или отдыхать во время регулярной проверки ловушек.
Затем необходимо настроить ловушки, положив в них приманку. При охоте преследованием главное – не попортить шкурку. Многие охотники из числа местных народов могут добыть соболя, попав ему стрелой прямо в глаз. Один из первых иностранцев, побывавших в России, Зигмунд Гер-берштейн, австрийский дипломат и посланник Карла V, с восхищением пишет об этом. В записках, адресованных монарху, он упоминает о мастерстве кочевников, мимоходом сообщая об их свободных сексуальных нравах: «Они все очень искусные стрелки, так что если во время охоты встречают благородного зверя, [то] убивают [его] стрелой в морду, чтобы получить шкуру целой и неповрежденной. Отправляясь на охоту, они оставляют дома с женой купцов и других иноземцев. Если по возвращении они найдут жену веселой [от общения с гостем и радостнее, чем обычно], то вознаграждают его каким-нибудь подарком; если же напротив, то с позором выгоняют».56
Однако обычно охота не столь эффектна. Промышленники действуют гораздо более прозаично. Они роют ямы и огораживают их острыми колышками. Чтобы схватить приманку, соболь протискивается сквозь узкий проход и ступает на доску, которая переворачивается, сбрасывая его в яму. Каждый охотник может построить двадцать ловушек такого типа в день. После установления нескольких десятков ловушек ватага снова перераспределяет обязанности: одни продолжают изготовлять западни, а другие обходят уже сделанные. Если ловушки не приносят достаточно добычи, охотники ищут звериные норы, чтобы поставить у них сети. На них вешают маленькие колокольчики, которые звенят, когда зверек выбирается из норы. Начинается долгое ожидание, иногда длящееся несколько дней, прежде чем зверек решается вылезти на поверхность. Если соболь прячется на дереве, охотник пытается согнать его вниз в разложенные там сети.
Шкурки с добытых зверьков сдирают и обрабатывают. Глава экспедиции ведет счет добыче. Шкурки собирают в связки по сорок штук. Сорок – это мера исчисления драгоценных мехов. Через несколько месяцев ватага снимается с места и продвигается вдоль рек или идет к ближайшим русским крепостям, чтобы пополнить запасы провизии и других необходимых предметов, а также продать часть добычи. Года через два-три охотник мог вернуться в европейскую часть страны на лошади с несколькими сотнями шкурок, а самые богатые купцы вроде Строгановых, финансирующие экспедиции, получают их тысячами.
Для зажиточных купцов весь цикл от первых инвестиций до распродажи запасов занимает несколько лет. После крупных ярмарок в июле и августе, на которых происходят основные торговые операции, в частности, экспортные, купцы – главные поставщики пушнины – собирают новые отряды: 20, 30, иногда до 50 повозок, а затем саней, ползущих по мерзлым склонам и дорогам Урала. Главная задача – попасть в бассейн реки Оби к началу ледохода, когда ледяной панцирь лопается с оглушительным грохотом. Обоз продвигается медленно, нужно идти по реке на север и терпеливо ждать лета, чтобы по притокам пробираться дальше на восток. Если повезет, можно оказаться в Мангазее к началу второй зимы и на санях добраться до охотничьих угодий, предварительно справившись у воеводы и других промышленников о количестве зверя. Затем – один, два, три промысловых сезона и обратная дорога домой, на этот раз уже вверх по Оби. Другая возможность – идти морем, это короче, но грозит потерей корабля. После четырех или пяти лет промысла соболя или чернобурой лисицы стоило подождать еще годик, чтобы продать добычу по самым высоким ценам на ярмарке в Архангельске. В целом – пять или шесть лет, когда первоначальный капитал уже вложен, а доходов еще нет. Только самые богатые, среди которых так называемые гости (самые крупные купцы), поставщики двора, могут позволить себе каждый год вкладывать в охотничьи экспедиции немалые для того времени средства.57
Безденежные искатели наживы нанимаются в крупные экспедиции, а потом, накопив за два или три сезона в Сибири небольшие средства, пополняют ряды независимых охотников.
Продвигаясь в глубь Сибири, промышленники строят вдоль пути деревянные крепости, так называемые остроги. Они вырастают на стратегически важных местах, в устьях притоков или в начальной и конечной точках волоков, которые позволяют, перетащив лодки, переправлять товары из бассейна одной реки в бассейн другой. Западная Сибирь – равнина с очень небольшими уклонами. Омск, стоящий на Иртыше в 1 500 км по прямой от его устья, располагается на высоте всего 87 м над уровнем моря, а Новосибирск, стоящий на Оби, – на высоте ста метров. Море же находится в 2 800 км. Медленно несущие свои воды реки во все времена служили транспортными артериями. Историческая аксиома: кто владеет реками – владеет страной. А кто владеет волоками – владеет реками.58
Крепости, возникающие одна за другой вдоль путей охотников, очень похожи. Длинный деревянный частокол из бревен, заостренных на концах и вбитых в землю, обычно высотой четыре-шесть метров. Через равные промежутки в нем проделаны отверстия – бойницы, позволяющие стрелять. По четырем углам острога, а также над главными воротами надстраивались башни от десяти до пятнадцати метров в высоту, также имевшие оборонительные функции. Туда втаскивали пушки. Стены снабжены брустверами для часовых, а поперек главных дорог повалены стволы деревьев, затрудняющих подход к крепости в случае атаки.59 Остроги нужны как убежища во время вооруженных столкновений с местными жителями, поэтому их строили очень быстро – обычно за несколько недель, однако постройки оказывались не очень качественными и требовали частых ремонтов.
Впоследствии они становятся административными центрами. Если острог играл особенно важную роль, строилась вторая линия стен, а также рылись рвы – один или два. Внутри деревянной цитадели находились склады, арсенал, жилые постройки для промысловиков, а позже – чинов-ников.60 Остроги строились первопроходцами, охотниками и авантюристами. Но, как только новость о возведении очередного острога доходила до центра, бразды правления перехватывались, и туда посылались специальные люди: воевода с гарнизоном, отряды казаков, которых держало на службе государство, а также горстка чиновников и служителей,61 отвечавших за перевозку съестных припасов и военного снаряжения. Главная проблема при продвижении русских в глубь Сибири, как станет скоро понятно, состояла в отсутствии овощей и особенно злаковых культур. Их было трудно или почти невозможно выращивать из-за климата, и на протяжении первых десятилетий освоения Сибири отсутствие крестьянских поселений давало о себе знать. И трудности лишь увеличивались по мере того, как охотники уходили все дальше в сторону Тихого океана. Но поначалу «мягкое золото», как еще называли пушнину, манило настолько сильно, что препятствия не имели значения. Часто через небольшое время после возникновения острога вне его стен строился укрепленный монастырь. Так и происходило продвижение Московской Руси к Тихому океану: в авангарде охотники и купцы, добывающие нежную и ценную «рухлядь», за ними шагает государство, отодвигая все дальше и дальше свои границы.
Строительство острогов – лишь первый этап завоевания земель. Как только закончено возведение деревянных стен, начинается сбор ясака. Местные народы хорошо знакомы с этой процедурой, поскольку до прихода русских уже платили дань своим сюзеренам татарам. Это на руку русским: они перенимают инструмент взимания дани, не меняя существующую феодальную систему и иногда сначала даже занижая размер ясака, чтобы укрепить власть. Так, например, некоторые народы Урала способствовали продвижению русских, выступив против Кучума, и тут же получили снижение налога на две четверти по сравнению с требованиями хана.62 Смягчение налогового бремени носило временный характер, однако очень помогало становлению новой власти за Уралом.
Дань выплачивается шкурками самого лучшего качества. Очень быстро соболь становится эталоном и мерой ясака во всей империи. Мех других животных оценивается по отношению к соболиному налоговому стандарту. Сборщики отбрасывают те, которые трудно будет сбывать на ярмарках, – дырявые, рваные или порченные, внимательно осматривая лапы, хвост и брюшко каждой шкурки, так как там чаще всего обнаруживается брак.63 Недостаточно густые и шелковистые шкурки слишком молодых особей решительно отвергают. Обычно ясак собирают осенью, когда годовой охотничий цикл подходит к концу. В некоторых местах дань выплачивается подушно, в других – коллективно. В первом случае ясак платит каждый мужчина, чей возраст позволяет охотиться. Кто живет неподалеку от острога, должен явиться сам с необходимым количеством шкурок. Данника или вассала принимают с соблюдением определенных формальностей: его кормят и поят. Феодальный ритуал, сопровождающий выплату ясака, предполагает наличие представителя самого царя. Принесенное внимательно изучают, описывают и только потом отправляют на специальный склад. Однако такой процесс требует переписи местного населения, которую совершенно невозможно организовать. Из-за этого часто воеводы ограничиваются назначением примерного объема дани и ведут переговоры о нем с общинами. Сборщики ясака на много недель отправляются в тайгу.
Конечно, призвать местных жителей в острог для выплаты дани можно лишь в том случае, если они живут неподалеку от крепости. Сибирским кочевникам легко раствориться на бескрайних просторах тундры и в лесах и не выплачивать ясака. Тут русские прибегают к другим аргументам. Самый эффективный – захват заложника (аманата), становящегося живым гарантом выплат. Обычно воеводы посылали вооруженный отряд, который принимал присягу у населения окрестностей острога. Таким образом местные жители переходили под протекцию царя и должны были дать обещание платить ясак. Часто их вынуждали выслать в качестве заложников двоих или троих человек, занимающих заметное место в общине, – шамана, кого-то из старейшин или из знати. Их доставляли в ближайший острог и держали в заключении, условия которого должны были быть хорошими, иначе можно было лишиться ясака. Когда наступал момент выплаты годового налога, родственники заложника приходили в острог, чтобы убедиться, что он находится в добром здравии.64 Иногда, если община находилась слишком далеко, русские перевозили заложника поближе к поселению кочевников и ставили небольшой сруб из бревен, в котором прорубали проемы, через которые жители деревни могли смотреть на своего родича. Разрешалось также поменяться с ним на следующий фискальный период.65
Некоторые воеводы предпочитали кнуту пряник и уповали на подарки, ради которых кочевники приходили к острогу. Приносящим ясак дарили зерно, топоры, железные ножи, бусы, дешевые ювелирные украшения, медные или оловянные предметы, одежду. С одной стороны, это позволяло убедиться в доброй воле и дружелюбии власти, а с другой – подтолкнуть местных жителей продавать излишки пушнины, добытой в охотничий сезон, русским властям или купцам.
В принципе, размер дани устанавливали каждый год местные власти, которые отчитываются перед центральной администрацией. Цифра значительно колебалась в разное время и в разных районах. В среднем ясак обычно составлял от пяти до семи соболей с одного мужчины в год. При этом речь шла исключительно о мужчинах-охотниках. Иногда для женатых мужчин размер немного возрастал, поскольку считалось, что они располагают большим временем для охоты, чем бессемейные. В середине XVII века в Западной Сибири ясак составлял три соболя с мужчины. Но в архивах сохранились документы, свидетельствующие о баснословных поборах, например, от 18 до 22 соболей с человека.66
Соболь стал главной причиной присутствия русских в Сибири. В новоприобретенных землях мех превращается в меру всего. Колониальная политика сформирована под задачу собрать максимум пушнины. Сбор ясака настолько важен для казны и финансирования заграничных приобретений двора, что никто и ничто не должно замедлять этот процесс и уж тем более чинить ему препятствия. Именно одержимостью соболем объясняется относительно мирный характер продвижения русских в глубь Сибири. Завоевание Америк будет проходить с особой жестокостью по отношению к аборигенам и даже приведет частично к их истреблению, тогда как экспансия русских не имела столь гибельных демографических последствий. В самом начале XVII века в Сибири проживало примерно 300 тысяч человек.67 В 1900 году в Сибири насчитывается 800 тысяч жителей, тогда как за тот же период число индейцев Северной Америки уменьшилось с 3 млн до 300 тысяч.68
Казаки вовсе не гуманисты. Просто государство, следующее за ними по пятам, тщательно следит, чтобы курам, несущим золотые яйца, не свернули головы. Новых подданных нужно было беречь, чтобы они исправно платили ясак. За два века пушной лихорадки центральная администрация подготовила впечатляющее количество законов, предупреждений и специальных указов, цель которых – обеспечить эффективность деятельности местного населения и, следовательно, выплату ясака. Эти рукописные документы, подготовленные Сибирским приказом, отвечавшим за новые зауральские колонии, тщательно переписывали и рассылали по острогам.69 Сибирский приказ размещался в Кремле, в деревянных палатах, на эспланаде над Москва-рекой,70 – теперь на этом месте вертолетная площадка. Сибирский приказ, приписанный сначала к Посольскому приказу, после 1637 года стал мощной организацией. Он – начало начал всего, что происходит и готовится в Сибири. Сибирский приказ издает законы от имени царя, назначает воевод, собирает ясак. Сибирский приказ занимается хранением пушнины и ее продажей, в том числе и за границу. В царской администрации этот приказ соперничает с такими крупными структурами, как казначейство или Разбойный приказ. Именно он возглавлял проникновение русских в Сибирь, пока Екатерина Великая не ликвидировала это государство в государстве.
Как же обеспечить безопасность местным жителям, которых так ценила власть? Сибирский приказ придерживается твердой позиции. Прежде всего, воевода, получивший в управление острог, должен, согласно инструкции, созвать местных религиозных вождей, угостить их вином, одарить разными безделушками, чтобы уговорить их стать русскими подданными и платить ясак.71 По всей вероятности, это обращение не всегда заканчивалось успехом. Многие суровые промышленники, прибывшие покорять новые земли, испытывали большое искушение облегчить себе жизнь и использовать преимущество своего оружия для грабежа местных жителей. Воеводы, присланные в отдаленные гарнизоны на несколько лет, тоже были не против создать небольшой подкожный запас, отправив в свой сундук несколько великолепных черных и бурых шкур. Однако директивы из Москвы следуют одна за другой: воеводам, как и другим царским служащим, категорически запрещается торговать пушниной, а чуть позже – даже принимать ее в подарок. Разрабатываются разные меры, чтобы пресечь злоупотребления, связанные со сбором ясака. Например, нельзя беспокоить одно племя чаще, чем раз в год. Нельзя требовать дань, если община по какой-то особой причине не в состоянии выплатить долг. Лучше отказаться от сбора задолженности, чем давить на «местных» и тем самым вынуждать их уходить. Чтобы пресечь разного рода нарушения, вести о которых доходят до Москвы, власти идут еще дальше в желании защитить местных жителей: если воеводам приходится разбирать дела, в которых был замешан кто-то из коренных общин, полагалось проявлять осторожность и следить за тем, чтобы решение или приговор не противоречили традиционным установлениям.72 Но и этого мало. Воевода являлся главным судьей для русских, однако у него было отнято право приговаривать к смертной казни кого-либо из местных. Такие приговоры становились прерогативой центра. Промышленники даже жаловались в Москву, что «от воров без государева указу собою оборониться не смеют».73
Тут не может быть иллюзий: поскольку целая кипа указов и распоряжений направлена на то, чтобы ясак полностью поступал в государеву казну, – власти защищали его, а не местное население. Так, например, промышленникам запрещалось покупать шкурки у местных охотников до выплаты ясака. Иначе говоря, самые лучшие образцы должны были попасть в царскую казну. Для того, чтобы ничто не укрылось от надзорного ока, был введен запрет на продажу, покупку соболей и их обмен где-либо, кроме острогов и русских ярмарок.
Безумная гонка за ясаком могла приводить к неожиданным результатам. Сибирский приказ накладывает из Кремля вето на торговлю с местными народами. Не разрешена продажа алкоголя, табака, любых воспламеняющихся веществ, а также ножей, топоров и огнестрельного оружия, хотя многие товары могли бы улучшить технологии промысла. Запрещены также азартные игры. И снова речь не идет о заботе об общественной морали. Речь не идет также и о предупреждении мятежей. Нет, просто водка и табак могут привести к дракам, чреватым тяжелыми последствиями, если их участники вооружены. Не допустить ранений! Сберечь рабочие руки! Двойственность административной политики становится особенно очевидной, когда речь заходит о столь деликатном вопросе, как смешанные браки: отсутствие русских женщин в острогах, выросших на берегах рек, и тем более в лагерях промысловиков в тайге толкает их на то, чтобы брать себе в жены представительниц местных народов. Смешанные пары – скорее правило, чем исключение. Так начинается процесс «смешения», который сыграет главную роль в ассимиляции местных племен и будет способствовать продвижению русских. Но в повседневной жизни подобные истории становятся источником постоянных конфликтов. Жалобы на похищения, изнасилования и браки, заключенные против воли невесты, сыплются на воеводу и даже в Москву. Казаки недовольны, они постоянно сетуют, что им «женитца не на ком» и пишут государю, что «без женишек» им «быти никако немочно!».74 Местные общины тоже недовольны. Но больше всех гневается православная церковь, представители которой – миссионеры среди пионеров освоения Урала и Сибири. «Беспутство» промышленников и служивых мешают политике обращения в христианство, которую церковь намерена вести в широком масштабе. Патриарх Филарет жалуется, что многие «с татарскими и с остяцкими и с вагулецкими поганскими женами смешаютца и скверныя деют, а иные живут с татарскими с некрещеными как есть с своими женами и дети с ними приживают».75 Чтобы проповедовать христианство, священники и монахи первыми вынуждены осваивать чужие языки. Им приходится также защищать свою новую паству от злоупотреблений. Столкнувшись с повсеместным «распутством», они пытаются легализовать смешанные союзы – через крещение и венчание.
* * *
Сначала царь поддерживает эту политику крещения и венчания. В конце концов, переход новообращенных подданных в его религию отвечал интересам государства. Ведь в ту пору в сознании людей не существовали ни гражданство, ни национальность. До царствования Петра I, до начала XVIII века, на всем огромном пространстве не было ничего, что указывало бы, где кончается Русь и начинается другая страна. Русский тот, кто приносит клятву верности царю и выбирает православие. Переход же в православие определяется отношением к браку и соблюдением постов. Происхождение человека и его этническая принадлежность не имеют значения. Кто держит пост и связывает себя узами брака, может рассматриваться как христианин, иначе говоря, православный. А православный человек и есть русский. Аминь.
Все это, конечно, хорошо. Но Москва вдруг осознает, что страдают интересы государства. Ведь главное для государства – это ясак. Но ясак не берут с русских подданных. Государство проявляет чудеса изобретательности, чтобы как-то совместить представление о нравственности, требования церкви и доход от ценной «мягкой рухляди», которая остается его важнейшей целью. Сначала оно решительно осудило коллективные крещения, потом запретило проводить этот обряд насильно, предписав получить сначала разрешение от светских властей, и, наконец, выработало тонкую стратегию, поощряя переход в православие, но исключительно женщин, поскольку те и так не платили ясак.
Однако, несмотря на все усилия Сибирского приказа, несмотря на все предупреждения из Москвы, несмотря на постоянно повторяемые наказы, сосуществование русских и сибиряков далеко от той гармонии, о которой мечтают бояре сидя в Кремле. Воеводы, живущие в нескольких неделях или даже месяцах езды от Москвы, по сути, обладают почти неограниченной властью. В Сибирском приказе понимают, что злоупотребления неизбежны, и поэтому выдают своим представителям мандат на ограниченный срок. В принципе, воевода управляет острогом и вверенной ему областью не больше двух – трех лет. Очевидно, что Москва таким образом пытается помешать росту злоупотреблений на местах. Получив назначение, воевода прибывает в Кремль, где ему выплачивают жалованье – деньгами и продуктами. Он может взять с собой только разрешенное специальным указом количество вещей и денег, причем перед отъездом составляется подробный их перечень. Все, что не включено в него и кажется подозрительным, отбирается на заставах, расположенных на трактах. На обратном пути процедура повторяется: воеводу и его семью тщательно обыскивают, любое нарушение правил, любое превышение объема багажа жестко наказывается. На заставах таможенный голова должен был «в возах, сундуках, в коробьях, в сумках, чемоданах, в платьях, в постелях, в подушках, в винных бочках, во всяких запасах, в печеных хлебах… обыскивать мужеский и женский пол не боясь и не страшась никого ни в чем, чтоб в пазухах, в штанах и в зашитом платье отнюдь никакой мягкой рухляди не привозили… а что найдут, то брать на государя».76
Но все меры не очень-то эффективны. Архивы Сибирского приказа изобилуют жалобами и рапортами о проверках. Из них можно составить бесконечную хронику бедствий от царившего на местах произвола. Отрезанные от мира, жители острогов решают споры на свой манер, и даже самый благонамеренный воевода быстро оказывается затянут в пучину варварства и грубой реальности. Вот, например, такая история. Юная Варвара была изнасилована промышленником во время сезона рыбалки. Она забеременела и родила младенца, которого насильник и предполагаемый отец отказывался кормить. Варвара бедствовала, и ее мать пожаловалась воеводе Михаилу Волчкову. Но, когда тот решил дело в пользу девушки и приговорил ее обидчика к наказанию кнутом, штрафу, а также велел ребенка кормить и поить, промышленник обратился за помощью к своему московскому покровителю и стал подбивать служилых людей написать донос на воеводу. Через четыре года насилия, доносов и контр-доносов, воевода был приговорен к смертной казни на кремлевской площади за казнокрадство. Но, приняв во внимание его службу в Сибири, наказание ему «смягчили»: воеводу публично били кнутом, затем трижды «запятнали», то есть выжгли железом на лбу и на обеих щеках букву В (вор) и отправили на каторгу в Азов.77
Однако чаще всего преступления в дальних приграничных областях совершали сами представители власти. Бывало, что они лежали в области отношений с местными общинами. То один воевода похитил сына главы племени и потребовал непомерный выкуп, то его коллега забрал всех детей и объявил, что вернет их только в обмен на пушнину – по соболю за ребенка. Были случаи, когда представители власти пытали местных жителей до смерти. Бывало, что вымогали «подарки». Сообщается о «напрасных» наказаниях кнутом, о нанесении увечий, о пытках голодом, о казнях через повешение, не говоря уж о частых случаях грабежей у местного населения мехов и другого имущества. Иногда жалобы доходили до центра, но спустя много времени. Нужно было привлекать переводчика, которого, как правило, подкармливал воевода для контроля почты. Скорее всего, жалобы, осевшие в центральных архивах, лишь немногие крохи свидетельств о преступлениях покорителей Сибири.
Местное население, рассеянное по огромной территории и жившее небольшими общинами вдоль рек, не было в состоянии объединиться. Но все-таки отдельные бунты вспыхивали. Какие-то народы отказывались платить ясак. Так, ясачный сборщик Иван Роставка сообщает, что на него в тундре напали самоеды-кочевники и убили двоих его людей. Он пишет, что ему с трудом удалось отбиться: «Тое юратскую самоядь от ясашного зимовья били из ружья». Затем самоеды пошли вдоль реки, убивая встречавшихся им русских промышленников и разоряя их зимовья, так что «у иных посадцких людей жен их и детей на льду связана заморозили до смерти».78 На остроги нападали, их поджигали. Охотников, отправившихся на разведку в тайгу, убивали. Община остяков (хантов), жившая на Оби, бросилась в полном составе в воду, предпочтя коллективное самоубийство подчинению новой власти.79 Много раз, если обстоятельства позволяли, общины бежали со всем имуществом, чтобы спастись от контроля со стороны русских и от ясака. И все же можно сказать, что в целом первые русские покорители Сибири столкнулись с очень слабым сопротивлением, особенно если сравнить с ходом колониальных завоеваний европейцев в Америке или Африке. Как показывают современные исследования, за первый век пребывания русских в Сибири коренное население потеряло примерно шесть тысяч человек.80
Конечно же, государева казна пополнялась не только ясаком. Все промышленники, от самых скромных до богатых купцов Строгановых, должны были платить налог. На Западе монарх постепенно уходит из сферы торговли, чтобы сосредоточиться собственно на правлении, но не так обстоит дело на Руси. В силу феодальной традиции владения царя превращаются в его личную собственность. Поэтому-то освоенные земли и, конечно же, пушнина, которая там добывается, тоже принадлежат ему. «Царь – хозяин, а его подданные остаются слугами», – замечает американский историк Реймонд Фишер.81 Как он остроумно замечает, между Сибирью и державой-колонизатором нет ни одного океана, поэтому ее завоевание привело к последствиям, совсем не похожим на те, что имели место в ходе испанской, португальской, английской, голландской или французской колонизации заморских территорий. Действительно, на Западе монархи для завоеваний должны были опираться на торговый флот. Ни одно государство само по себе не способно было решать подобную грандиозную задачу. Купцы осознавали свою роль, и очень быстро их влияние на общество усилилось. На Руси же, наоборот, географическая непрерывность пространства устраняет необходимость резких силовых решений: империя прирастает, а вместе с ней – богатство государя. «Если бы русским пришлось пересечь океан, подобно англичанам, голландцам или французам, которые вынуждены были проделать этот путь, чтобы достичь своих колоний, то царь, конечно же, отдал бы все опасности и риски на откуп частным инициативам своих подданных», – полагает Раймонд Фишер[2]. Но в России купцы – всего лишь помощники, которых государство терпит и которых из которых старается контролировать, насколько это возможно. Представление о монархе, который, исходя из общих интересов, разрешает своим подданным вести свободную торговлю, зарождающуюся в Европе, и даже облегчает ее, абсолютно чуждо русскому царю. Это серьезное расхождение определит непохожесть подхода к вопросу о том, как связаны между собой государство и мир коммерции.
Главный инструмент давления на промышленников и купцов – десятина, взимавшаяся с добычи. Охотники, вернувшись в острог, должны были предъявить свои трофеи. Сборщики забирали одну шкурку из десяти, выбирая «лучшие из лучших» и «среднюю из средних». Сначала этим занимались воеводы и служилые люди, однако, как и в случае с ясаком, злоупотреблений было такое количество, что Сибирский приказ принимает решение устроить внутренние заставы и поручить им наблюдение за рынком мехов и сбор десятины. Так появился мощный бюрократический аппарат, связанный с пушниной. Новая администрация будет разрастаться и ветвиться – по городам, потом по острогам, потом на границах Сибири и Урала и, наконец, на дорогах, где проверки могут длиться часами и даже днями напролет.
Государство, боясь контрабанды, настаивает, что охотники должны платить налог сразу, вернувшись из леса, – до того, как они захотят продать или обменять добычу. Запрещается продавать пушнину до выплаты десятины, а еще – совершать любые торговые операции вне стен острога, где находится воевода, или же в отсутствие чиновника. На каждой заставе нужно было показать бумагу, где записаны все шкурки, которыми владеет путешественник. Документ тщательно проверяли и перепроверяли. Если обладатель трофеев не мог доказать, что заплатил десятину, его имущество конфисковывалось, а сам он бывал бит. Поскольку государству стало мало десятины, другие налоги посыпались на головы смельчаков, решившихся попытать счастья в неизведанных землях. На обратном пути каждая остановка грозит новыми налогами. «Промышленник, прибывший по реке, должен был платить за право войти в порт, а затем – внести еще специальную плату за каждого человека на борту. Если он путешествовал зимой, то платил сборы за лошадей. По прибытии в город, промышленник должен был поспешить предоставить каталог товара и квитанцию об уплате десятины. Ему также надлежало оплатить труды по проверке документов и взвешиванию шкурок. После этого промышленник привозил свой товар в гостиный двор, где платил за склад. Чтобы начать торговлю, также нужно было платить. Во время своего пребывания в городе он должен был заплатить единовременный налог, а еще – налог за право проживания. Покидая город, он платил налог за выезд и вдобавок вознаграждение за то, что ему вернули все документы и паспорт».82
Фискальное воображение бурлит: промысловиков и купцов подстерегают двадцать пять видов только путевых налогов.83 И тем не менее торговля процветает! Возможно, промышленники и другие отважные торговцы мехами находили способы обходить установленные порядки. Путаница регламентирующих указов, при помощи которых государство пыталось извлечь выгоду из пушного бума, – благодатная почва для коррупции. В восточной Сибири одного наместника арестовали за то, что он отправил домой пятьсот тридцать семь «сороков» соболиных шкур, полученных в качестве взятки от сборщиков ясака.84 С самых первых дней русская администрация в Сибири хлебнула горя. Проблемы не исчезнут и в последующие столетия. «Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло», – иронически писал Ф. М. Достоевский.
Что касается Сибирского приказа, то он остается на сугубо прагматических позициях: его цель – отправить в амбары государства тонны пушнины, полученной в качестве ясака или десятины. Изучение налоговых сборов XVI–XVII веков показывает, что в разные годы 65–80 % шкурок, которыми владело государство, имело источником ясак, выплачиваемый местными народами, а 15–30 % – десятину. Остаток в 5 % – это подарки царю или прямые закупки государства у охотников. Однако невероятная «золотая жила» соболя не бездонна, и количество пушных зверей также ограничено естественными рамками. Каждый год за Урал отправляется от пятисот до 1 500 новых промышленников. Они присоединяются к охотникам, которые уже осели в тех местах. В охотничьих угодьях начинается настоящая бойня: за семь лет мангазейская застава зарегистрировала отлов 477 679 соболей.86 С годами местным жителям становится все сложнее выбирать свою норму. В Западной Сибири добыча, составлявшая в конце XVII века десять – двенадцать соболей на охотника, через пятьдесят лет упала до трех.87 К тому же промышленники улучшают технику охоты. Например, они начинают использовать специально натасканных собак и усовершенствованное оружие. Но и они не могут не замечать, что поголовье зверья убывает. Охотники, привыкшие возвращаться со ста двадцатью или двумястами соболями, спустя несколько лет начинают жаловаться, что за весь сезон им удается добыть всего пятнадцать или двадцать особей.88 Исследования показывают, что скорость исчезновения пушных зверей, главного объекта охоты, в некоторых местах близка к 75 % за сто лет.89 Соболь, главная цель охотников, встречается все реже, и, естественно, увеличивается промысел других животных. Государство, желая сохранить свой доход, реагирует увеличением налогового давления и усиливает контроль за пушниной. Местные народы, которым становится трудно выплачивать ясак, выбивают поголовье ценных зверьков почти начисто. И тогда промышленникам ничего другого не остается, как продвигаться дальше, к востоку, где их ждали новые промысловые угодья. Все дальше и дальше.
С XVI века в европейской части Руси соболя уже не сыскать, и начинается общее движение в Сибирь.90 Это сочетание факторов и есть движущая сила завоевания. Процесс исчезновения соболя задает ритм продвижения русских к Тихому океану. Оно происходит быстро, поскольку царь – не единственный, кого обуревает жажда «мягкой рухляди». За пределами русского государства другие силы заглядываются на «эльдорадо нежного золота». Скоро они постучатся в ворота русского царства.
Северное окно в Европу
Пока Россия находилась во власти пушной лихорадки, а богатые северные купцы начали продвижение в Сибирь, Западная Европа еще не оправилась от потрясения, вызванного невероятными открытиями Колумба, Магеллана, Васко де Гамы и других путешественников, в одночасье расширивших границы изведанного мира. Англия, не входившая в клуб первопроходцев, объединявший Испанию и Португалию, вынуждена была со стороны наблюдать за невероятным экономическим взлетом своих средиземноморских конкурентов. Галеоны везут золото, а крупные английские купцы, сидя в портовых городах Атлантики, лишь скрежещут зубами. На путях через Южную Атлантику, Гвинейский залив, Индийский и даже Тихий океаны находятся испанские и португальские фактории, к тому же, пользующиеся покровительством Папы. Чтобы урвать свою долю от пирога, которым являлся для Европы новый мир, англичане вступали в трехстороннюю торговлю, в частности, рабами. Однако они ясно понимали, что попытки проникнуть в южное полушарие с торговыми целями станут источником конфликтов, например, с той же мощной Испанией.
А север? В этом направлении возможности есть! Север не закрыт, ничто не мешает его завоеванию. В 1525 году Дмитрий Герасимов, посланный гонцом к папе Клименту VII, заклятому врагу короля Испании, пытался убедить Святого Отца, что можно попасть в Китай, следуя через Московскую Русь, вдоль берегов омывающего ее северного океана.91 В то время эта идея буквально витала в воздухе. Прошел год. Роберт Торн, сын богатого купца из Бристоля, был послан отцом в Севилью, чтобы попытаться извлечь хоть какую-нибудь выгоду из экономического бума, охватившего Андалузию. Именно Роберт Торн первым предложил искать путь в Китай, двигаясь в противоположном проторенному испанцами пути, а именно – в сторону холодных вод Крайнего Севера. Он писал английскому королю, что Англия сможет затмить дерзкие успехи Испании, если только выберет этот оригинальный и никем не пройденный путь. «Одни устремились на Восток, другие потекли на Запад, но остаются еще северные земли. Королевство Ваше расположено ближе остальных к этим землям, кому же, как не Вашему Величеству открыть их? Это Ваш прямой долг», – гласит его послание, которое он вручает находившемуся при испанском дворе английскому посланнику.92 Само собой разумеется, что конечным пунктом по-прежнему остается Китай. Его богатства – золото, ткани, чай и фарфор – тревожат воображение европейцев с тех пор, как тремя веками ранее там побывал Марко Поло. Европейские купцы уверены, что там скрывается настоящая золотая жила – неисчерпаемый источник богатства. В труде Армения Хайтония-Гринеуса, переизданном в 1532 году, как и во многих других старинных сочинениях, где упоминались описания Китая Марко Поло, сообщается, что государство Китай – «самое большое в мире»: «в нем живут многие народы и скрываются баснословные богатства и сокровища. Его жители умнее и искуснее, чем в других странах, и превосходят всех в искусствах и науках».93 Чтобы попасть в этот прекрасный мир, как пишет Роберт Торн, нужно открыть новый путь – обогнуть Америку или Азию с севера. Чтобы подкрепить свои аргументы, англичанин даже составил карту мира и издал ее за свой счет. Эта карта должна была показать преимущества нового видения мира, призванного опрокинуть существовавшие до того представления.
Однако идея не была совершенно новой. Через пять лет после первого путешествия Христофора Колумба, другой итальянец, венецианец Джованни Кабото[3], ставший с того момента, как он предложил свои услуги Англии, Джоном Каботом, занимался, правда, тщетно, поисками прохода в Тихий Океан через Северную Америку. План Роберта Торна был словно создан для Себастьяна, сына Джона Кабота[4], тоже опытного мореплавателя. С ранней юности он рвался завершить дело отца, не вернувшегося из экспедиции. Себастьян возглавлял разные экспедиции по поручению сначала английского, а затем испанского короля. Уж не из-за плана ли Торна Себастьян переметнулся от испанцев к англичанам? Как бы там ни было, Карл V, король Испании и Нидерландов, с гневом обрушивается на гнусного изменника и требует, чтобы английский король выслал его из страны.94 Наконец, в 1553 году Себастьяну удается собрать необходимые средства, чтобы воплотить мечту своей семьи: добраться до «Катая», как тогда называли Китай. Себастьяну исполнилось уже 76 лет, когда его поставили во главе нового плавания, на этот раз – на северо-восток, к Азии. План более чем смелый: только викинги да еще поморы, о существовании которых блистательная Европа и не подозревала, отваживались плавать по северным водам планеты. К услугам Себастьяна, конечно, новые способы навигации, благодаря которым стали возможны длительные переходы и, следовательно, новые открытия. Однако на севере, в условиях полярной ночи, накрывающей эту часть мира на долгие месяцы, таятся особые опасности: дрейфующие льды грозят взять корабль в оковы посреди моря, климат тяжел для экипажа и никаких укрытий на берегах. Ну и, естественно, не отменяются обычные трудности, связанные с длительными морскими путешествиями, например, цинга.
Но об этом почти ничего не знают 240 лондонцев, готовых поддержать Себастьяна и профинансировать его экспедицию. Среди них купцы, которых привлекло страстное желание добраться до Китая, а также некоторые высшие сановники королевства. Но инициатива, как и в Московской Руси, где в это время происходит масштабное движение на восток, идет не от государства. Наживкой служат будущие барыши, «слухи об огромных богатствах, которые португальцы и испанцы каждый год вывозят из Индии»,95 а еще, правда, в куда меньшей степени, – любопытство. Купцы готовы рискнуть. Себастьян Кабот избран «предводителем» экспедиции и выбрал капитана – сэра Хью Уиллоби, а также главного штурмана – Ричарда Ченслера. Вместе они должны привести эскадру в Китай. Инвесторы снаряжают три корабля: «Эдуард Бонавентура», «Бона Эсперанца» и «Бона Конфиденция». На борт поднялись восемнадцать лондонских купцов, потом загрузили товары. Ричард Ченслер берет с собой выданное Эдуардом VI высочайшее королевское разрешение, а также подписанную им эпистолу ко «всем королям, князьям, владыкам, судьям и правителям Земли, как и всем тем, кто имеет подобное достоинство во всех землях под небесами».96 В эпистоле король призывает всех правителей пропускать английские корабли и помогать экипажу. Этот документ, выдержанный вполне в духе своего времени, адресован неизвестным людям. В нем речь идет о благих целях английских купцов, а также о выгодах торгового обмена между народами. Свободная торговля, как говорится в эпистоле, есть лишь выражение божественной воли, поскольку «Небесный и Земной Бог, всем одаривший человечество, не позволил, чтобы все скопилось в одной части света, с тем, чтобы одни люди нуждались в других и чтобы благодаря этому дружество распространилось между ними».97 Скромная позиция государства, воспевание торговли, приносящей доходы, – все это очень не похоже на другую существовавшую в те же времена концепцию власти – концепцию царя-защитника.
10 мая 1553 года три корабля, развернув британский флаг Его Величества, вышли из порта Рэдклифф, расположенного недалеко от Лондона, и взяли курс на север. Ченслер находится на борту «Эдуарда Бонавантуры», Уиллоби отплыл на корабле «Бона Эсперанца», а командование кораблем «Бона Конфидерация» поручили Корнелиусу Дарфорту. Через два месяца экспедиция достигла Норвегии, а 31 июля оказалась у Лофотенских островов. Оттуда корабли отправились в неизвестность.
* * *
Карты, которыми располагали капитаны кораблей, вряд ли были им большой подмогой. Одна из таких карт – работа немца Мартина Вальдземюл-лера. Эта карта мира была напечатана в Вогезах в 1507 году. На ней местоположение и контуры Скандинавии показаны очень приблизительно.98 На еще более древней карте, составленной другим немцем, Николаусом Германусом Доннусом (1482), и отражающей воззрения Птолемея, Скандинавия развернута с запада на восток и соединена на севере с загадочным массивом, который выходит за рамки карты.99 Географы того времени представляли Северный полюс именно так – огромный остров или часть континента. Более новая карта, Carta Marina, изданная в 1539 году католическим священником из Швеции Олафусом Магнусом, несомненно, была самой точной и больше других отражала реальность.100 На ней Скандинавский полуостров развернут по оси север-юг, его контуры очень узнаваемы, они тянутся от современного мыса Нордкап до Оceanum Scythicum (Баренцево море). На карту нанесены изображения маленьких человечков в остроконечных шапочках и рядом с ними – соболей. Человечки воинственно потрясают луками, грозя чужакам. Carta Marina иллюстрирована, она не может не производить сильного впечатления. Автор потрудился, размещая на ней этнографические сведения.
Однако, даже если у английских путешественников и была эта карта, она должна была внушить им тревогу. Ведь на пути, который им предстояло пройти, изображены морские пучины с гигантскими провалами – водоворотами. На карте видно, как мощные воды гонят корабли, рискнувшие двинуться к северу от Норвегии, прямиком к пропасти, поглощающей их. Смельчаков поджидают морские чудовища, одно страшнее другого. Красная гигантская морская змея обвилась кольцами вокруг корабля, ломая его, мореплавателям грозят встречи с огромными усатыми рыбами и морскими коньками – у них длинные хвосты и клыки, острые, как лезвия бритвы. С этими странными земноводными тварями лучше не сталкиваться! Наконец, существовало убеждение, что на северном Полюсе находилась «магнитная гора», таившая еще одну страшную опасность: магнит, повелевающий компасами, мог притянуть к себе все гвозди, все металлические швартовные кнехты и захватить корабли в плен.101
В начале августа «Бона Эсперанца» и «Бона Конфиденция» потеряли из виду третий корабль – «Эдуард Бонавентура». Он пропал без вести. Проглотило ли его морское чудовище? Два уцелевших корабля, держась рядом друг с другом, огибают Норвегию и выходят в Баренцево море, идут на восток – туда, где, как кажется капитанам, находится дорога в Китай. Вскоре показался западный берег Новой Земли – вытянутого острова, имеющего форму запятой. Но «Бона Конфиденция» дала течь. К тому же наступила северная осень, и мореплаватели решают вернуться в Лапландию и перезимовать там. 18 сентября 66 членов экипажа высаживаются на берег. Им было необходимо разбить лагерь.
«Мы вошли в бухту размером примерно в два лье, – пишет Уиллоби в судовом журнале. – Здесь много тюленей и других больших рыб, а на суше мы видели медведей, больших оленей, лисиц и еще каких-то странных животных, неизвестных нам, но прекрасных. Мы пробыли там неделю, становилось все холоднее, началась непогода с морозами, снегом, как будто уже наступила глубокая зима. Мы подумали, что будет лучше перезимовать там. Мы отрядили троих купцов по направлению к югу и юго-западу в поисках людей. Они вернулись через три дня, так никого и не повстречав. После этого трое других купцов пошли на запад и отсутствовали четыре дня, а после них еще трое три дня искали людей на юго-востоке. Все они не добились успеха. Никто не видел людей, никто не заметил ничего, что походило бы на жилье».102 Спустя четыре месяца, в январе 1554 года, Уиллоби и большая часть его людей еще живы, о чем свидетельствует завещание, обнаруженное на корабле.103 Но зиму 1553—1554-го никто из них не пережил. Они погибли, потому что им не хватило опыта: они разжигали импровизированные печи в вырытых укрытиях, – запишет позже один из последователей отважного капитана.104 Холод, голод и, как предполагают исследователи конца XX века, отравление угарным газом в примитивных убежищах погубили команду и самого Уиллоби.
«Эдуарду Бонавентуре» с капитаном Ричардом Ченслером повезло больше. Потеряв из вида два других корабля, Ченслер направляется к норвежскому побережью в надежде разыскать их, затем, с согласия экипажа, решает продолжить путь к конечной цели экспедиции. Его пример воодушевил команду. Они сочли, что лучше пойти на смерть с капитаном ради блага своей родины, чем повернуть назад, спасая себя и покрывая бесчестьем,105 – расскажет веком позже французский путешественник Ги Мьеж своим соотечественникам. Наступило лето с его долгими днями. «Эдуард Бонавентура» достиг неизвестного порта. Когда команда заприметила рыбачью лодку, перепуганные размером английского корабля рыбаки пали ниц перед незнакомцами. «Так мы узнали, что страна называется Русь, или Московия, – читаем мы в рапорте Ченслера, – и что правит этой страной государь Иван Васильевич».106 Англичане оказались в устье Северной Двины, неподалеку от Никольского монастыря, основанного когда-то выходцами из Новгорода. Англичан тепло встретили. Так была открыта новая страница европейской истории. Рыбаки-поморы немедленно отправили гонца в Москву с вестью о прибывшем корабле. Путь в Москву был дальним – сначала по Двине, затем по ее притокам до Вологды, откуда в столицу вела уже сухопутная дорога. Но не прошло и нескольких недель, как пришел ответ: государь приветствовал путешественников и приглашал Ричарда Ченслера в Москву. Англичан ждет торжественный прием. Прежде чем предстать перед царем, они, как и полагалось, провели двенадцать дней у ворот Кремля – таков был срок ожидания высочайшей аудиенции. Оказавшись наконец перед государем, Ченслер и его команда были поражены величием увиденного: «Государь возвышался на сидении очень высокого великолепного трона, на его голове красовались золотая корона и диадема, одет он был в платье, расшитое золотом, и держал в руке скипетр, украшенный прекрасными драгоценными каменьями; однако помимо внешнего блеска, соответствующего его положению, было что-то величественное в самой манере держаться, гармонировавшее с окружающей роскошью. Рядом с ним стоял главный дьяк в одежде, шитой золотом, далее находились бояре числом сто пятьдесят, все одеты очень нарядно и богато <…>. Столь высокое собрание, величие государя и великолепие обстановки могли заставить наших людей растеряться от изумления, однако капитан Ченслер, нисколько не смутившись, приветствовал государя и выразил ему свое почтение так, как это принято в Англии, и передал ему письмо от нашего короля Эдуарда VI».107 Англичане оказались не в Китае, как они мечтали, а в Московской Руси, у трона Ивана Грозного. Судьба привела Ченслера и его людей совсем не в те земли, куда они стремились, однако англичане постарались извлечь пользу из незапланированного путешествия, устроенного стихией. Что можно было купить в Московии в надежде разбогатеть после возвращения в Лондон? Лес, смолу, льняные ткани, масло, в которых нуждался стремительно развивавшийся флот Англии. Воск, который использовался при дворе, а также богатыми людьми для запечатывания писем и бумаг. Этот товар очень ценился, и его приходилось импортировать. И, разумеется, пушнина! Драгоценнейший товар, легкий, не портящийся, который вряд ли залежится. Товар, который конкуренты – Испания и Португалия – не смогут завезти на европейский рынок.
Однако англичане не забывают о цели своего путешествия. Они не прекращают расспросы о том, как добраться до «Катая» морем. Их интересуют и сухопутные торговые пути через русские и азиатские просторы, которые позволили бы добраться до Китая быстрее конкурентов. После аудиенции у государя купцы неустанно беседуют с новыми партнерами о маршрутах, ведущих на восток. Им необходима помощь русских, и они стараются убедить их в том, что сообща будет легче осуществить этот великий поход. Иван Грозный слушает гостей с интересом. Пути на северо-восток еще не разведаны. Рыбаки и купцы рассказывали о неприступных ледяных пространствах, поглотивших многих смельчаков. Никто не знает границ нового мира: открытый 60 лет назад Колумбом континент является отдельным или просто продолжением Азии. Иван Грозный также вполне мог держать в руках какие-то копии европейских карт, завезенные немецкими купцами. Осознавал ли он важность географического открытия, к которому подталкивали его английские гости? Как бы там ни было, он не мог не понимать, какую коммерческую выгоду может принести торговля с Востоком, особенно если он станет в ней посредником. Однако его смущает возбуждение англичан, выдающее их лихорадочное желание пробиться в новые земли и сорвать куш. Он не может допустить, чтобы чужаки вторгались в его земли, чтобы они вмешивались в торговлю русского государства и затрагивали его интересы. С годами это недоверие к иноземцам у царя будет только расти.
* * *
Но в ту осень 1553 года Иван Грозный решил, что прибытие англичан – большая удача. Это возможность проторить новый торговый путь, способный связать его государство с Англией и с Европой. Ченслер с товарищами прибыл вовремя, словно их вела сама судьба. Иван Грозный ведет войну против татарских ханов, ему наконец удается взять Казань. Он готовится завоевать Астрахань и взять под контроль передвижение по Волге. Поэтому-то он надеется, что сможет обеспечить кораблям безопасный проход до Каспийского моря. Каспийское море может привести к оазисам Центральной Азии и Китая, если следовать по древнему шелковому пути, заброшенному из-за монгольского нашествия.
Иван Грозный ведет также войну со Швецией и Польшей, которые перекрывают ему доступ к Балтике и, следовательно, к торговле напрямую с крупнейшими европейскими державами – Испанией, Португалией, Венецией, Нидерландами, Францией и Англией. Уже много десятилетий царь и его предшественники бились над разрушением блока, противостоявшего Руси на Балтике. Московская Русь боролась, чтобы заполучить какой-нибудь порт – в Нарве, Ревеле (Таллин) или Риге – и добиться права торговать с Европой напрямую. Государству необходимо окно в Европу. И вот неожиданно на северных окраинах появляются англичане, предлагающие выход из положения. Конечно, это не совсем то окно, о котором мечтал Иван Грозный. Это, скорее, форточка, распахнувшаяся в доме под названием Русь. Но русский царь мгновенно понял, как много она значит.
Иван Грозный осыпает гостей милостями, чтобы они не уклонились от намерений совместного освоения нового пути. Англичанам даруют право свободной торговли на территории Руси, их освобождают от всех таможенных выплат, от всех налогов – при экспорте и импорте, при закупках и продажах. На фоне обычной практики царской администрации эти привилегии выглядят ошеломляюще и свидетельствуют о стратегической важности для Московии контактов с новыми потенциальными союзниками.
Если английские купцы хотят разбогатеть и обеспечить себе конкурентные преимущества в настоящем и будущем, то Иван Грозный заботится о политических интересах своего государства. Контакты с Англией обещали в перспективе контакты и с Европой, а следовательно, давали надежду получить то, в чем он больше всего нуждался: деньги и медь, чтобы чеканить монеты, а также оружие, снаряжение и новые технологии. Ивану Грозному были нужны и специалисты – военные, ученые и врачи. Всего этого отчаянно не хватало во время военных походов против татар, шведов и поляков. Путь, проделанный Ченслером, должен был, по меньшей мере, позволить пополнить арсеналы, а возможно, еще и помочь заключить союз с англичанами против заклятых врагов Московии.
Несмотря на то, что у каждой стороны свои интересы, дело слаживается. Ченслер отбывает в Англию, увозя с собой царскую грамоту и дарованные купцам привилегии. Его корабль нагружен ценными товарами, в частности, вверенными ему северными купцами, – шкурками соболя, куницы, лисы и белки. «Эдуард Бонавентура» везет в трюмах будущие модные аксессуары: меховые воротники и шапки, – мы находим их на картинах фламандских и английских художников того времени. Меховые муфты очень полюбились женщинам из зарождающегося класса буржуазии. В моде меховые накидки, вовсю использовавшиеся в начале XVII века, когда наступил так называемый «малый ледниковый период». Торговля мехами настолько доходна, что английские моряки, к глубокому неудовольствию своих нанимателей, напропалую занимаются контрабандой.108
Ричард Ченслер приводит «Бонавентуру» в доки Лондона. Это настоящий триумф, заставивший на некоторое время забыть о двух других кораблях, о которых уже год как нет никаких вестей. Англия открыла новый морской путь, обещающий большие прибыли. Это преимущество в соперничестве с Испанией и ее правителем-католиком, преимущество тем более ценное, что король Испании, имеющий множество династических и семейных связей, сумел вытребовать очень выгодные условия для судоходства на Балтике[5]. Разгружая трюмы, купцы, принявшие участие в предприятии Ченслера, мечтают, что разбогатеют на торговле с Русью еще до того, как достигнут Китая. Лондонские судовладельцы и предприниматели, не теряя времени, организуют свою деятельность так, чтобы получать наибольшую прибыль из нового предприятия и как можно дольше не выпускать привилегии из рук. Однако все не так просто. Ведь чтобы попасть на только что открытый рынок, необходимо обогнуть Скандинавию, а на этом пути можно столкнуться с датскими кораблями. Дания, упустив торговлю на Балтике,109 которая происходила при посредстве англичан, теряла ценнейшие таможенные права и доходы страны-посредника. Другой поджидавшей мореходов опасностью были дрейфующие льды и северная стужа. Как показал горький опыт Уиллоби, плавание в арктических водах может быть успешным только в короткий промежуток времени: моря освобождаются ото льда в конце июня, но уже в августе нужно возвращаться. А ведь сам путь требует нескольких недель. Это значит, что нужно снаряжать сразу несколько кораблей – ведь в год можно совершить только одно путешествие. И еще одно затруднение – инвестиции окупятся не скоро. Получалось, что риски предприятия огромны и что нужны большие кредиты. Однако коммерческий гений англичан нашел выход. Уже в феврале 1555 года 201 человек, среди которых две женщины, основали Компанию английских купцов-«первопроходцев», готовых «открывать неведомые страны, территории, острова, доминионы и владения, то есть земли, куда еще никто из вышеназванных первопроходцев не добирался по морю или навигацией». Эта компания вскоре получила название Московской, или Русской, компании (Russia Company). Новая компания получила королевскую грамоту, в которой признается ее право торговать с любой частью света, где еще не побывали английские купцы до 1553 года. И, что особенно важно, за компанией закрепляется «монополия на торговлю с Русью и другими территориями, лежащими на севере, северо-востоке и северо-западе». Можно сказать, что Русская компания получила монополию на Север. Механизм тонко рассчитан: в обмен на эту привилегию пайщики компании берут на себя все экспедиционные риски, причем затраты и доходы делятся в зависимости от начальных инвестиций каждого. Королевство обеспечивает им покровительство на море и защиту их прав в конфликтах с конкурентами-соотечественниками. Для расчета рисков использовалась формула, которая со временем будет изменена и взята на вооружение Ост-Индской компанией и другими подобными организациями.110 Русская компания просуществовала до 1904 года.
Уже в мае того же 1555 года «Эдуард Бонавентура», по-прежнему с капитаном Ченслером, и «Филипп-энд-Мэри» снимаются с якоря и берут курс на русский север. Кроме торгового обмена, они хотят упрочить свои позиции, получить новые привилегии, завязать более тесные отношения с царем, а также попытаться отыскать корабли и людей Уиллоби, исчезнувших во время первого похода. Всем этим предстояло заниматься доблестному Ченслеру. В октябре 1555 года он получил аудиенцию у Ивана Грозного, который подтвердил ему полное свое доверие и право англичан торговать беспошлинно на территории его государства, юридические привилегии купцов, а также устройство представительства в Москве. Пока глава экспедиции пребывал в столице, английские корабли, груженные товарами, отправляются назад, в родные порты. По пути они обнаруживают «Бона Конфиденцию» и «Бона Эсперанцу», стоящими на якоре у побережья словно корабли-призраки. На борту останки тел членов экипажей. В 1557 году оба корабля попытались вернуть на родину, однако над ними словно нависло проклятье. «Бона Эсперанца» пропала в море, а «Бона Конфиденция» потерпела кораблекрушение у норвежских берегов. Через несколько месяцев и сам Ченслер утонул, когда «Бонавентура» потерпел кораблекрушение у берегов Шотландии.111
Драматическое начало, обошедшееся, к тому же, в большую сумму – потери компании настолько велики, что ей пришлось немедленно прибегнуть к рекапитализации – нисколько не охладило пыл инвесторов. Русское государство и Англия обдумывают проект, рассчитанный на много лет. Этот проект трехсторонний: если русских представляет Иван Грозный, то со стороны Англии два участника – уже состарившийся Себастьян Кабот и Елизавета I, которую в 1558 году привела на трон череда удивительных событий. Конечно же, хорошие дипломатические и личные отношения между двумя правителями – основное условие успеха Московской компании. Почти тридцатилетнее противоборство Ивана Грозного и «королевы-девы», отраженное в письмах, которые доставляла сама компания, свидетельствует о том, насколько хрупкими были эти отношения. Купцы постоянно требуют новых привилегий и подтверждений предыдущих. Они пытаются устранить или принизить конкурентов, избавиться от соперников-англичан, пытающихся эксплуатировать их завоевания и представляющихся членами компании.
Английские купцы ждут от Елизаветы I компромиссов с Иваном Грозным, проявлений доброго отношения к нему. Королева хочет способствовать торговле и обмену товарами, она не против политики ответных уступок в Англии, тем более, что эта политика ни к чему ее не обязывает, пока русские не обзавелись торговым флотом и зависят от английских или европейских кораблей. Однако она не готова к заключению военного альянса, который столкнул бы ее с другими государями и «кузенами» из Швеции, Дании или Польши. Но Иван Грозный добивался именно военного союза, поскольку ему приходилось вести войны сразу на нескольких фронтах. К тому же некоторые военачальники перешли на сторону врага. Иван Грозный чувствовал шаткость своего режима, мысль о том, что Русь в осаде, что она отрезана от остального христианского мира, доводила его до исступления. Страшная эпоха татаро-монгольского ига не прошла бесследно.112 Царь страшится изоляции страны и хочет ее модернизировать, не дать ей задохнуться. Он рассчитывает на помощь Московской компании. Начинается неразбериха, в обе стороны летят письма и гонцы, но если в этом кружении требований, уступок и недоразумений англичане заняты торговлей, то Иван Грозный – политикой. Русский царь добивается военного союза, он нуждается в оружии и в специалистах. Елизавета I вынуждена лавировать, сдерживая пыл как своего странного корреспондента, так и представителей Московской компании, которые ждут от нее шагов навстречу русскому царю. Нужны специалисты? Охотно. Военные, моряки, инженеры и врачи оседают в Москве и на северных берегах. Оружие? Хорошо, но неофициально. Судя по переписке, английские корабли везли в трюмах не только ликеры, ткани и пряности. Когда шведы высказывают Елизавете I свое недоумение в связи с тем, что их противник неожиданно оказался неплохо вооружен, она самым искренним образом отрицает, что причастна к этому. Военная коалиция? Вот этого Елизавета I не может себе позволить. Она предлагает оборонный союз, который налагает на обе стороны обязательства только в случае нападения «в нарушение всякого правосудия», и исключительно после того, как агрессор, призванный к ответу, не сумеет доказать легитимность своих действий и откажется образумиться. Распечатав письмо, Иван Грозный, который совсем не глупец, впал в бешенство. Для чего нужен союз, от которого Елизавета I может отказаться в любой момент? Как смеет она не принять его предложения? Ведь он даровал англичанам столько привилегий, он открыл для караванов Московской компании прямой путь на Восток! И, что особенно показательно, царь шокирован поведением английской королевы. Как может она отодвигать стратегические интересы ради низких меркантильных соображений? «Мы думали, что ты в своем государстве государыня, – и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, – пишет он Елизавете I 24 октября 1570 года, – поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли».113 К ужасу английских купцов, он приостанавливает привилегии компании и требует доказательств того, что в нем видят серьезного партнера. Гарантий, что ему будет предоставлено политическое убежище, если дела пойдут совсем плохо. Почему бы не брак с какой-нибудь близкой родственницей Елизаветы I? Вот что по-настоящему скрепило бы союз между двумя правителями!
Королева оказалась в крайне затруднительном положении. Немало удивленная, вероятно, необычными требованиями русского царя, она передает ответ через его посланника. Елизавета I готова принять в Англии Ивана Грозного и его семью в случае, если несчастья, тайный заговор или нападение извне114 заставят его покинуть страну. Что же касается женитьбы, то королева начинает переговоры, которые тянутся много лет, всячески увиливает, заверяет, что намерения у нее самые искренние, даже удостаивает Ивана Грозного трогательного признания («всемогущий Бог, держащий в дланях своих королевские сердца, не даровал нам того расположения духа и тех чувств, которые привели бы нас самих на этот путь»115). Но, когда Иван Грозный назвал имя ее родственницы леди Гастингс, она снова тянет с ответом. В конце концов Елизавета I сообщает царю, что его предполагаемая невеста изуродована оспой. Несмотря на все проволочки, посланник Ивана Грозного, дворянин Фёдор Писемский, является, чтобы лично взглянуть на избранницу. Осмотрев леди Гастингс со всех сторон, он произнес загадочную фразу «Довольно!»116 и отбыл писать отчет своему государю, оставив англичан в тревожном недоумении. Только смерть Ивана Грозного положила конец этому сложному дипломатическому, торговому и сентиментальному казусу. Новость о ней, скорее всего, была воспринята Елизаветой I с облегчением.
* * *
Путь, по которому прошли англичане, недолго оставался исключительно их завоеванием. Не успел Ричард Ченслер вернуться из первого путешествия, как новость о новом прямом маршруте в Россию облетела все фактории Брюгге, Гента, Антверпена, Дьепа и Амстердама. Быстрее всех отреагировала Голландия. Обычно голландские торговые корабли, как и корабли других стран, шли за русскими товарами через Данию в порты Балтики. Завоевание эстонского порта Нарвы армией Ивана Грозного создало возможность прямых контактов с русскими поставщиками. Однако русский порт на Балтике, основания которого так отчаянно добивался Иван Грозный, продержался недолго. Уже в конце 1581 года он опять перешел к шведам. Осмотрительные голландцы, искавшие прямых контактов с Русью, сумели обойти это новое препятствие. Они снарядили лучших моряков, чтобы те обогнули Скандинавию, вошли в устье Двины и бросили якорь у пристаней первого русского города, Холмогор, примерно в шестидесяти километрах выше устья. В 1578 году два конкурировавших голландских корабля, один из которых был зафрахтован Жилем ван Ейхеленбергом из Антверпена, а другой – французским гугенотом, ставшим гражданином Голландии, Балтазаром де Мушероном, причалили там один за другим.117
Очень быстро голландские купцы оттесняют английских конкурентов. Помимо безукоризненного владения самыми современными навигационными приборами, у Нидерландов есть еще один секрет успеха: скромный размер страны. Если Англия пробует себя в роли мощной державы, которую интересуют только собственные коммерческие интересы, Амстердам видит свое призвание в том, чтобы стать территорией международной торговли. В голландских факториях, открытых всему миру, продаются и обмениваются самые разные товары. Англичане экспортируют в Россию только свои традиционные изделия: шерсть, ткани, полезные ископаемые, оружие, продукты. Голландцы готовы предложить все, что угодно, лишь бы был спрос. Купцы из Голландии продают пряности и экзотические товары, например, китайский шелк, посуду c Востока, кофе и редкие товары из Америки и, главное, серебро из рудников Нового Света. Такой широкий набор предложений позволяет, конечно, расширить круг клиентов, но, главное, дает важное преимущество в контактах с Русью, поскольку из-за недостатка денежных резервов ее экономика основана главным образом на обмене. Расширение ассортимента увеличивает возможности обмена. Англия предлагает лишь шерсть и мушкеты, а Голландия привозит целый магазин! Пытаясь компенсировать свою политическую слабость, Голландия решается на предоставление кредитов с таким небольшим процентом, что русские купцы, действующие на внешнем рынке, как, например, Строгановы, охотно брали их, часто попадая в зависимость от кредиторов. В числе должников амстердамских торговых домов оказывается даже царский двор. И еще одно обстоятельство в копилку голландцев – прямое следствие обретенной ими независимости и религиозной терпимости, характерной для этой страны. Многие гугеноты – купцы и мореплаватели из европейских стран, которые пострадали от религиозных войн у себя дома, нашли убежище в Соединенных провинциях Нидерландов, где начали успешно торговать под флагом приютившей их новой родины.
Успех не заставил себя ждать. За несколько лет голландцы догнали, а затем и перегнали англичан, и это несмотря на то, что англичане торговали, не выплачивая налогов и пошлин. В первой половине XVII века три четверти торговых операций с Московской Русью,118 доступ к внутреннему рынку которой находился далеко на севере, перешло в руки голландцев. В 1583 году, через год после утраты Нарвы – русской гавани-однодневки на Балтике, Иван Грозный решил вложить большие средства в северные районы страны, чтобы поддержать возникший источник доходов. Он основал новый город – Архангельск, самый европейский из русских городов, выбрав место рядом с Михайло-Архангельским монастырем.
Царь, в соответствии со своим характером, считает внешнюю торговлю собственным делом. Многие товары объявлены «запретными» – поташ, смола, необходимая для изготовления корпусов кораблей, пенька, из которой изготовляются тросы, то есть все, что используется в иностранных армиях и флотах. Их можно покупать только через царские торги. Зерно также не поступает в свободную продажу – оно экспортируется, как правило, когда из-за голода европейские цены на него взлетают. Зато на экспорт мехов и кож, особенно юфти, знаменитой мягкой кожи, из которой шьют высокую обувь, обтягивающую икры, не накладывается никаких ограничений. Все торговые операции между русскими купцами и иностранцами могут происходить только в Архангельске, на летней ярмарке, в июле и августе. Это правило позволяет контролировать все торговые контакты с иностранцами. Разгар ярмарки приходился на период между 20 и 30 августа, когда весь русский север стекается в Архангельск. В конце мая десятки торговых кораблей покидают Голландию и Фризские острова и берут курс на него. Корабли везут представителей процветающих торговых домов Фландрии или Голландии, которые постепенно оттесняют от самых выгодных дел своих конкурентов – сначала англичан, а затем еще и немцев и французов. Осенью русские купцы, среди которых, конечно, и Строгановы, отправляются вверх по реке и по ее притокам. Они доставляют купленные товары до волоков Вологды и Ярославля, а оттуда уже направляются в разные волжские города или в Москву.
* * *
Преемники Ивана Грозного построили на восточном берегу Двины, в новом порту, открытом для мира, крупный торговый центр – Гостиный двор. Его силуэт и сейчас – сердце архитектурного центра Архангельска. Гостиный двор состоит из трех внутренних дворов. Его главный фасад – толстая стена средневекового типа – тянется вдоль реки больше, чем на четыреста метров. По углам этого внушительного северного торжища – башни. Ворота открываются на пристани и на главные улицы города. Первый этаж Гостиного двора занимают склады, а второй образуют галереи с изящными арками. Крупные русские и европейские купцы принимают там гостей, каждый в своем помещении, среди стен, украшенных коврами или шкурами. Там ведутся переговоры о ценах на пушнину, которая в те времена составляла половину всего русского экспорта, или на импортные товары – металлы, порох, бумагу, материи, разную экзотику. Первый двор отводился для русских купцов, третий – для «немцев», то есть иностранцев, в частности, голландцев, а в центральном, похожем на крепость, сидели представители власти. Постепенно иностранцы обживают торговый квартал. Хотя существует формальное правило, согласно которому торговые операции могут происходить только во время ярмарки, самые предприимчивые купцы остаются на более долгий срок. Так как довольно часто случаются пожары, товары приходится закапывать – до следующего года. Некоторые голландские и английские семейства селятся неподалеку от Гостиного двора, в новом квартале – Немецкой слободе[6], улицы которой устроены на европейский манер. Царь, опасаясь европейского прозелитизма и возможной слишком бурной реакции православной церкви или местного населения, ограничивает поселения иностранцев несколькими кварталами. Архитектура расположенных здесь домов и сейчас напоминает о том, что в XVI и XVII веках это был европейский квартал[7]. В нем строят мельницы, лесопилки, кожевни, и, наконец, появляется англиканская церковь с остроконечной колокольней, которая и завершает формирование экзотического облика этой части центра города. Жители Архангельска окрестили новые пристани, символ голландского влияния, бруген («мост» по-голландски).119
Торговля процветает, и во второй половине XVII века доходы от торговых операций, которые осуществляются в стенах архангельского Гостиного двора, могут составлять до двух третей бюджета Руси. Голландцы получали львиную долю. Около 1650 года, например, 90 % русских товаров, отправляющихся в Европу, проходят через Амстердам.120 Голландский язык настолько распространен в отношениях с заграницей, что в XVII веке, когда русское посольство было послано ко двору Людовика XIV, оказалось, что ни глава миссии, ни его переводчик не говорят по-французски. Так что русских переводили на голландский, а потом – с голландского на французский.121
А французы? Они долго не обращают внимания на суету, возникшую в Северной Европе, и не спешат отхватить себе кусок русского пирога. Франция, намного более населенное королевство, чем Англия и, уж тем более, чем Нидерланды, ведет очень скромную торговлю с русским государством. Обычно французы продают товары, предназначенные для северных и восточных рынков, голландским купцам, которые заносят их в свои каталоги. Речь идет, конечно, о винах, красных и белых, о «галантерее»,122 о бесконечном количестве аксессуаров для одежды и для украшения интерьеров, и особенно о соли – ценном товаре, который по-прежнему в дефиците на русском рынке. Но почему французы не продают свои товары сами, напрямую? Французский дипломат-резидент, находившийся при дворе датского короля, задается этим вопросом. Посла приводит в бешенство то, что его соплеменники упускают возможность влиться в поток, устремившийся в Московскую Русь, который он сравнивает со всеобщим рывком в Америку за несколько десятилетий до этого. Шарль де Данзей в посланиях, адресованных королеве-матери, регентше Екатерине Медичи, королю Карлу IX и кардиналу Ришелье, сожалеет о необъяснимом бездействии Франции. Он сообщает, что торговцы во французских портах вместо того, чтобы, разделив между собой риски, как это сделали англичане, а затем голландцы, торговать с выгодой, только и делают, что вставляют друг другу палки в колеса. Он умоляет призвать их к порядку – ради их же собственной выгоды. «Да соблаговолит Ваше Величество, – пишет он Екатерине Медичи в 1571 году, – призвать купцов Ваших подданных к исполнению своего долга. Нормандцы завидуют тому, чем торгуют бретонцы и их соседи, и все ненавидят парижан и средиземноморские города. Когда им предлагаются разумные вещи, к которым прибегают немцы, англичане, голландцы и граждане других стран, чтобы обеспечить безопасность и удобство торговли, они отзываются о них с похвалой и признают их необходимость и пользу. Но нет никакой надежды заставить их действовать так же, разве что они покорятся Вашему приказу и власти».123 Кроме того, как продолжает дипломат, письма которого доказывают, что это был человек столь же прозорливый, сколь и упрямый, следует срочно направить посольство ко двору русского царя, чтобы выторговать такие же привилегии, которые заполучили конкуренты. Он начинает действовать без промедления и получает от датского короля, с которым у него установились особые отношения, право на беспошлинный проход для французских кораблей, направляющихся на север. Английские первопроходцы не имели такого права и держались вместе, чтобы уйти от датских военных кораблей, которые охотились за ними для взимания пошлины. Но ничего не меняется. Только купцы из Дьепа, частые гости на Балтике, видевшие, как Нарва перешла в руки русских, время от времени подумывают о том, чтобы последовать примеру англичан, и пытаются выяснить ситуацию. Данзей в Копенгагене раздражается: необходимо заручиться поддержкой русского царя, получить от него привилегии, и только от самих французских купцов зависит, сумеют ли они сравняться в этом с соседями. Так, в 1581 году, то есть через десять лет после письма королеве-матери, в котором впервые поднял эту проблему, он пишет: «Французские купцы настолько пристрастны друг к другу и завистливы, что ничего не станут делать вместе».124 Год спустя Данзей снова обращается к королю: «Я докладывал Вашему Величеству, что французские купцы смогут свободно и безопасно идти в сторону севера, как в Данию, так и в Москву <…> Вы единственный, Сир, кому позволено такое свободное плавание!»125
Наконец, 26 июня 1586 года, капитан из Дьепа Жан Соваж бросил якорь в Архангельске. Он привез первые грузы из Франции. Его принимает глава города – с радушием и… выпивкой. «Наши купцы, – пишет Соваж в записке, адресованной королю, – сошли на берег говорить с губернатором и отдать ему рапорт, как это принято во всех странах. Поприветствовав нас, губернатор спросил, кто они, и когда узнал, что мы французы, то весьма обрадовался и передал через переводчика, который представил нас, что мы желанные гости, а потом взял большую серебряную чашу и наполнил ее. Надобно было выпить все до дна, а потом еще одну, а потом третью также до дна. Выпив три такие полные чаши, начинаешь думать, что с этим покончено, но нет, самое худшее идет в конце: надобно осушить еще чашу водки, столь крепкой, что от нее живот и горло горят огнем. Но и тут еще не все: поговоривши немного, надобно пить за здоровье государя, и вы не смеете отказаться. Таков обычай здешней земли – много пить».126
Через тридцать три года после Уиллоби французы наконец-то добрались до Архангельска. Но дипломат Данзей пока не может вздохнуть с облегчением. Выяснилось, что по пути в Московскую Русь французский экипаж попытался обмануть датчан, предъявив фальшивые паспорта! И Данзей вынужден снова все улаживать…
Однако французы никогда не смогут догнать своих конкурентов. В 1615 году русский царь отправил Людовику XIII письмо с предложением дружбы, которое четырнадцать лет оставалось без ответа. И только в 1669 году, более чем через сто лет после англичан и три четверти века спустя после голландцев, Кольбер попытался решить эту проблему, вложив немалые государственные средства в Северную Компанию, призванную составить конкуренцию другим иностранным компаниям. В то время французский флот процветал. За двадцать лет торговый флот вырос в два раза, военный – в десять. Министру необходимы мачты из высоких деревьев, смола, ему нужны паруса из льна, канаты, все то, что в огромном количестве продается на ярмарке в Архангельске. Он хочет подрезать крылья Голландии, с которой Франция готовится вступить в войну[8]. Несмотря на все усилия и огромные денежные вложения, Северная Компания, затеянная министром Людовика XIV, продержалась не больше 15 лет. В 1683 году Кольбер умер, а два года спустя, отменив Нантский эдикт, король полностью перечеркнул надежды своего усопшего слуги, по сути выкосив французскую элиту. Гугеноты массово бегут в Голландию, которой и будут служить верно и преданно. И даже в Московскую Русь, которая их примет – к ярости «короля-солнца».
* * *
Коммерческая притягательность Руси и большие доходы, которые европейские державы надеются получить в ближайшей перспективе, не утолили жажду новых открытий и не остановили гонку в сторону Китая и Индии – через север. Свидетельства мореплавателей, столкнувшихся с дрейфующими льдами и утверждавшими, что дальше по морю продвинуться невозможно, не убедили географов и картографов. То был век Великих географических открытий, и многие умы испытывали оптимизм, граничивший с фантазиями. Всегда находились отчаянно храбрые предприниматели, на свой страх и риск финансировавшие походы в далекие страны, где якобы текли золотые реки. Мешают льды? Нужно обогнуть их с севера, ведь где-то там, на самой макушке Земли, есть более теплое судоходное море. Или же пройти по континенту, который еще не открыт. На карте Меркатора, опубликованной в 1596 году, у Северного полюса изображены четыре большие острова и море между ними.127 Наблюдения на озерах показали, что они начинают замерзать с берегов. Не следует ли из этого, что и океаны ведут себя так же? Даже Михаил Ломоносов, родившийся в Архангельске и потому знакомый с детства с севером, великий ум, пытливый, на редкость прозорливый человек, заложивший в России основы современной науки, защищал эту теорию. Некоторые географы полагали также, что ледовые поля – скопления льдов, вынесенных реками. Они считали, что соленое море не замерзает.
Английские и голландские моряки, твердо уверовавшие в данную гипотезу, мечтали первыми обнаружить мифический северно-восточный проход и предпринимали одну попытку за другой. Уже в 1556 году, почти сразу же после триумфального возвращения Ричарда Ченслера, почтенный Себастьян Кабот (которому в тот момент было уже более восьмидесяти лет) собирает экспедицию для поиска прохода на Восток под командованием Стивена Барроу, участника плавания Ченслера. Небольшой парусно-гребной корабль (пинас) «Зерхетрифт» (Serchethrift – дословно с немецкого «ищи выгоды») дошел до устья Печоры, встретив лодки рыбаков-поморов. Немного восточнее английские моряки вступили в беседу с другими русскими рыбаками, которые сообщили им, что едва виднеющаяся на горизонте суша называется Новая Земля. «Затем этот русский нам объяснил, что на Новой Земле есть гора, как он считал, самая высокая в мире», – рассказывает Барроу. «Я не видел той горы. Он также дал нам несколько указаний, как найти дорогу к реке Обь. Его звали Лошак», – завершает капитан с истинно английской решительностью. Барроу первым добрался до входа в Карское море. Пролив был перегорожен льдами, и пинас повернул назад.
Вслед за Барроу отправляются другие английские экспедиции. Всех манит величественная река Обь, впадающая в Карское море. Как рассказывал в 1549 году Сигизмунд фон Герберштейн, эта загадочная река. Говорили, что она берет начало в самом сердце Азии, в озере Катай, и, следовательно, по ней можно проникнуть прямо внутрь Китая. Однако ее сторожит идол Золотая Баба, видный издалека. В утробе Золотой Бабы ребенок, а внутри него – другой ребенок. Герберштейн даже нарисовал Золотую Бабу на карте, которая была у экипажа Барроу. Как бы ни пролегал путь – по земле или по морю – Обь должна была стать ключом к столь желанному Китаю. «За Обью находится теплое море»,128 – пишет в 1578 году в Москве английский торговый представитель Черри в заметках, предназначенных для его лондонских сотрудников. В 1580 году Московская компания снаряжает в путь капитанов Артура Пэта и Чарльза Джекмена с заданием «попасть в страну и земли великого правителя китайского и в города Камбала [Хан-Балык, «город хана», Пекин] и Квинсей».129 За этим путешествием пристально наблюдают из Европы. Находившийся в Дуйсбурге картограф Герард Кремер, более известный под латинизированным именем Герарда Меркатора[9], приходит в бешенство от того, как легко моряки поворачивают назад. Ведь до Китая, как он полагал, было уже рукой подать! «Месье, – пишет он в 1580 году английскому арматору Ричарду Хаклюйту, организатору экспедиции, – я крайне недоволен тем, что, несмотря на потраченное время, не все необходимые инструкции были даны; надеюсь, что перед отплытием Артур Пэт был проинформирован относительно некоторых деталей. До Катая, несомненно, можно добраться легко и быстро, и меня немало поразило то, что после удачного начала и после того, как было пройдено более половины пути, путешествие было прервано и взят курс на Запад. Ведь прямо за Новой Землей находится огромный залив, в середине которого берут начало большие реки, по моему мнению, вполне судоходные.
Эти реки ведут в глубь континента, они могли бы использоваться для торговли разными товарами и для их доставки из Катая в Англию».130 Пэт и Джекмен, доплыв до Новой Земли, несмотря на все старания, не смогли продвинуться дальше Югорского Шара, соединяющего Карское и Баренцево моря и полностью забитого льдами. «Непреодолимо», – решает Пэт. И все равно, что там думает Меркатор, дающий советы из своего кабинета.
И опять новый этап открывают голландцы. Эмигрировавший уроженец Нормандии гугенот Балтазар де Мушерон (его брата звали Мельхиор!), ставший частым гостем Московии, на протяжении десяти лет собирал разные сведения о таинственном морском пути. В 1593 году он отправляет составленные им отчет и рекомендации голландскому правительству, и, несколькими месяцами позже, четыре корабля покинули порты Амстердама, Энкхёйзена и Зеландии. Это первая крупная нидерландская экспедиция. Всего их будет три. И командует первой экспедицией Виллем Баренц.
Экспедиция 1594 года следует известным уже указаниям. Два корабля берут курс на север Атлантики в надежде обойти паковый лед через полюс. Баренц же, со своей стороны, впервые пытается обойти длинный остров Новая Земля с северной стороны, где еще никто, кроме русских, не бывал. Экспедиция привозит самую разнообразную информацию, она открывает «новые» острова, немедленно получившие голландские названия, а также гигантские – в несколько сотен – колонии моржей, «огромных морских чудищ, во много раз превосходящих размеры быков»,131 которые произвели большое впечатление на матросов. Экспедиция обнаружила также православные кресты, могилы и избушки русских рыбаков, находившиеся очень далеко на севере. Одно из этих мест, известное сейчас как бухта Строганова, возможно, было охотничьей базой знаменитых купцов. Однако Баренц не смог преодолеть «Ледовое море». Он хотел перезимовать, чтобы продолжить плавание на следующий год, но, несмотря на его протесты, было решено отправиться обратно. Моряки составили общее заявление: «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем перед Богом и людьми, что сделали все, что зависело от нас, чтобы пройти через Северное море и достичь Китая и Японии в соответствии с данными нам инструкциями».132 Вторая попытка, состоявшаяся годом позже, не принесла ничего нового. Лед полностью перегородил проходы в Карское море. Но Баренц не отказывается от своего плана. Он упрям, и он хочет вернуться туда, где прервалась его последняя экспедиция. К тому же город Амстердам пообещал выплатить двадцать пять тысяч флоринов тому, кто сможет пробиться через северо-восток в сторону Китая. Купцы соглашаются снарядить третью экспедицию из двух кораблей, но, опасаясь, вероятно, слишком авантюрного склада характера Баренца, настаивают, чтобы он шел только в качестве главного штурмана. Экспедиция покидает Голландию 10 мая 1596 года. Ни один из кораблей не вернется. 17 июля корабль, на котором находился Баренц, оказался у Новой Земли. 19 августа голландцы проходят мимо ее самого северного мыса, который называют мысом Желания. 21-го они остановлены льдами в небольшой бухте на мелководье. 26-го корабль окончательно сжат льдами, льдины напирают с такой силой, что его корпус не выдерживает.
«Корабль был совершенно окружен и сжат льдом; все около него стало трещать, и казалось, что он разламывается на сто частей; это было ужасно и видеть, и слышать; волосы становились дыбом при столь страшном зрелище»,133 – записывает Геррит де Веер (де Фер, в отечественной традиции), который вел дневник экспедиции. Однако самое страшное ждало впереди. Европейцы были плохо знакомы с арктическим климатом, у экипажа не оказалось ни подходящей одежды, ни многих предметов, необходимых для ставшей неизбежной зимовки на этой широте. Из досок палубы и корпуса моряки построили жилище – дом с очагом в самом центре. Но безжалостный холод проникал и туда. Запись от 6 декабря: «Скверная погода, при восточном ветре, принесла нам тягости и такой сильный холод, что он был почти невыносим. Мы с жалостью смотрели друг на друга, опасаясь, что если мороз будет еще усиливаться, то мы погибнем от холода, так как хотя мы и развели сильный огонь, но все же не могли согреться; даже благородное испанское вино, которое очень горячо, совершенно замерзало от холода».134 Запись от 27 декабря: «В доме же стояла такая сильная стужа, что даже когда мы сидели перед большим огнем, почти обжигая ноги, то спины у нас зябли, и они были покрыты инеем». И в довершение, словно всего этого было мало, начинается цинга. 14 июня следующего 1597 года голландцы, полуживые и измученные жестокой зимой, покидают свое жилище, чтобы попытаться спастись на лодках. Баренц и многие другие тяжело больны. 16 июня они снова проплывают мимо мыса Желания. Баренц просит, чтобы его подняли: «Я хочу еще раз посмотреть на него». 20 июня он говорит: «Мне кажется, что я протяну недолго, – а потом просит, – Геррит, дай мне напиться». Де Веер свидетельствует: «Он закатил глаза и неожиданно скончался».135 Встретившиеся рыбаки-поморы помогли остальным членам экипажа добраться до русских берегов. Это произошло 2 сентября 1597 года. С тех пор северное море носит имя главного штурмана Баренца. Люди Баренца узнали от подобравших их рыбаков, что те каждый год проходят в Карское море. Рыбаки поведали также, что дальше находятся большие реки: легендарная Обь, а также Енисей и еще одна – третья – река, которую голландцы записали под именем «Молконзей». Мангазея, богатейшая Мангазея! Эта страна, по словам поморов, настоящий рай для искателей пушнины. Сказано достаточно, чтобы надежды и страсти вспыхнули с новой силой.
В конце XVI века надежды пройти наконец по северо-восточному пути стали таять. Московская компания профинансировала еще две экспедиции – 1607 и 1608 года, которые возглавлял знаменитый мореплаватель Генри Гудзон (Hudson), но потом решила отказаться от дальнейших попыток. Голландцы Ван Керкховен (1609), Джан Мэй и Корнелиус Босман (1625) также потерпели поражение. Несмотря на собранные сведения и очень точные указания русских промышленников, которые умело лавировали между льдинами, европейским путешественникам не удается добиться цели. Иностранцы, которые остались в России и поселились в «немецких» слободах Москвы и Астрахани, полагали, что этот вопрос закрыт. В 1608 году голландский купец Исаак Масса писал: ««Я прекрасно знаю и могу это доказать, что этот северный путь закрыт и что все желающие его открыть претерпят неудачу в своих попытках».136 Исаак Масса жил в Москве и говорил по-русски. Его информативные записки о принявшей его стране позволяют видеть в нем главного иностранного эксперта по русским делам. Он действительно был первым из вереницы ярких граждан Нидерландов в России. Достаточно назвать, например, Николаса Витсена, будущего бургомистра Амстердама и активного сторонника сотрудничества обеих стран, или Андриеса Виниуса[10], видную фигуру при русском царе. Эмигранты, прочно осевшие на новой родине, советуют европейцам сконцентрировать усилия на контактах с Русью и на покупке пушнины. Они рассказывали, что жители Оби и Мангазеи добывают множество соболей, чернобурых лисиц и песцов самых невероятных раскрасок.
У торговых держав Европы есть и другие причины отказаться от поисков северо-восточного пути. Голландия, сильная и процветающая, укрепилась на мысе Доброй Надежды, и ее корабли плывут к Ост-Индии (современная Индонезия), чему Португалия уже никак не может помешать. Кроме того, англичане активны у африканских берегов и в Северной Америке, они ищут проход к Китаю, но уже северо-западный, в обход Канады. После неудачи в Московии Генри Гудзон целиком отдается этим поискам, унесшим в конце концов его жизнь. Однако, несмотря на падение интереса к мифическому пути в Китай, Мангазея и Обь, загадочная Сибирь с ее недоступными богатствами по-прежнему тревожат воображение. Спрос на меха только растет, и купцам не терпится заполучить побольше этого товара непосредственно на родине «мягкой рухляди», о существовании которой они узнали от европейских мореплавателей и их русских информаторов. Русские, не имевшие в своем распоряжении торгового флота, полностью зависели от западных партнеров, которые и продавали лучшие товары Московии на самых крупных ярмарках. Когда крупные русские торговые дома доставили сухопутным путем через Хойештрассе в Голландию меха, чтобы самостоятельно их продать, то местные торговые корпорации не позволили им этого сделать. В 1567 году корабль, принадлежавший Московской компании, привез русских купцов в Англию. Их представили королеве Елизавете I, но в беспошлинной торговле отказали, а они очень надеялись на эту привилегию, ведь русский царь дал ее англичанам.137 Но без собственных кораблей русские купцы бессильны. Они связаны по рукам и ногам и никак не могут быть конкурентами. Европейцы же, пользуясь своим преимуществом на море, стараются еще больше усилить свои позиции. Осенью 1583 года сэр Джером Боус (Еремей Баус), посланник королевы Елизаветы I, получил аудиенцию у Ивана Грозного. Видя успех голландцев, он просит царя, чтобы тот предоставил англичанам монополию на вход в порты северной Руси. Английский посланник известен своим вспыльчивым нравом. Он считает себя вправе требовать для англичан возможности торговать на востоке, в устьях Печоры и Мезени, где промышляют охотники, а также на Оби – в том случае, если мореплавателям удастся туда попасть. Иван Грозный болен, ему осталось жить несколько месяцев, однако наглое требование гостя ему очень не понравилось и наделало переполоха в Сибирском приказе. Царь заметил, что «Печора, да Изленди, да река Обь… те места в нашей отчине очень далеки от тех мест, которых могут достичь английские купцы. И, как сообщают свидетели, добавил с разоружающей откровенностью: «в тех местах ведутца соболя да кречеты; и только такие дорогие товары, соболя и кречеты, пойдут в Английскую же землю, и нашему государству как бес того быти?»138
Посланнику Боусу решительно отказано в просьбе. Одно из последних распоряжений Ивана Грозного перед смертью – запрет всем иностранцам приставать к берегам Печоры и других рек восточнее Белого моря и Архангельска. Строгановы лично просили об этом тяжело больного государя.139 Тем временем стало известно, что некоторые английские, а также, вероятно, голландские мореплаватели, пренебрегая запретами русской администрации, решили, что смогут безнаказанно пройти вглубь континента и рискнули присоединиться к поморам. Англичанин Антоний Мерш, поверив их заверениям, что «до устья Оби не очень трудно проехать», снарядил два морских судна, построенных по поморской модели, с командой по десять человек на каждом.140 Экспедиция оказалась очень удачной и вернулась с богатой добычей. Однако на обратном пути ее участников задержали и бросили в темницу, а пушнину отняли. Эта попытка, скорее всего, была не единственной. Возможно, и другие смельчаки добирались за Урал. Англичанин Джером Годсей, разговаривавший в Москве с захваченным в плен сыном одного татарского вельможи, сообщил своим лондонским нанимателям из Московской компании, что тот упомянул какой-то корабль, на борту которого находились «некие англичане» или, по крайней мере, похожие на него люди. Этот корабль потерпел крушение в устье Оби, что позволило татарам завладеть «пушками, порохом и другими богатствами».141
* * *
Европейцы продвигались к востоку, будь то с согласия царя или самовольно. Напряжение нарастает. Осознавая уязвимость режима Ивана Грозного, некоторые европейские стратеги строят планы завоевания северной Руси с моря. Почему бы не завладеть всем, что есть в этой стране? Почему бы не завладеть и Москвой? Немец Генрих фон Штаден, досконально изучивший суть русской власти, поскольку состоял в царской опричнине, вернувшись, вступает в сговор с одним из немецких пфальцграфов (Георгом Гансом Вельденцским). Они хотят предложить Рудольфу II, императору Священной Римской империи, план завоевания северной Руси. Как пишет фон Штаден, нужно отправить флот на север, поскольку «русские не ходят в море; у них нет кораблей и морем они не пользуются».142 Дания, города Ганзы, Испания, конечно же, предоставят несколько сотен военных кораблей. Наверняка «шкипера и лоцманы найдутся в Голландии, Зеландии, в Гамбурге и в Антверпе-не».143 Несколько тысяч вооруженных людей могли бы затем захватить порты, куда «голландцы и антверпенские [торговые люди] привезли бы несколько сот колоколов, взятых из монастырей и церквей»,144 и установить контроль над реками и городами. Фон Штаден подробно описывает, как должны развиваться события. Плененного Ивана Грозного, его сыновей и казну доставят к границе Римской империи, затем царскую семью отправят в горы, откуда они смогут видеть Рейн и Эльбу.
Победители приведут туда также и захваченную в плен русскую армию и перебьют всех. Затем, согласно плану, следует у трупов перевязать «ноги около щиколоток и, взяв длинное бревно, насадить на него мертвецов так, чтобы на каждом бревне висело по 30, по 40, а то и по 50 трупов, <…> бревна с трупами надо сбросить затем в реку и пустить вниз по течению» для того, чтобы Иван Грозный убедился, «что истинно наше [писание], хотя он и думает, что он служит богу праведно».145 Этот проект, долгое время хранившийся в тайне, остался лишь на бумаге. Однако возникали и другие планы завоевания севера, тем более, что после смерти Ивана Грозного и регентства Бориса Годунова наступает эпоха нестабильности, интриг и иностранной интервенции, в частности, со стороны Польши. Иностранные наемники наводняют Русь, чтобы воспользоваться в полной мере тем периодом, что останется в русской истории как «Смутное время», и урвать свой куш. Летом 1613[11] года король Англии Яков I, занявший престол после Елизаветы I, получил от бургундского капитана Маржерета, участвовавшего в качестве наемника в гражданской войне, которая бушевала на Руси, предложение начать наступательную кампанию и «захватить землю в Архангельске». Маржерет считал Архангельск «весьма подходящим и удобным» местом для того, «чтобы продвинуть дело <…> тем более, Сир, что Ваше Величество завладеет портом Архангельска, на который у них вся надежда, тем самым они не только будут разорены во всей своей торговле, но также лишатся надежды на получение помощи из военного снаряжения и прочего необходимого, по большей части идущего из этих краев».146 Маржерет убежден, что русские взбунтуются, как только представится случай, и что они «мечтают единственно о том, чтобы иметь какого-нибудь иноземного государя, под которым они могли бы наслаждаться надежным миром». Если Его Величество, которое, по мнению французского офицера, является «ужасом антихриста, грозой турок, страхом татар и всех врагов» соблаговолит ввязаться в эту авантюру, сулящую большую выгоду, то, скорее всего, подданные Его Величества, «торговцы торгующей там компании, охотно примут участие, чтобы затем единственными вести там торговлю».147
Король Яков I предпочел не ввязываться в предложенную авантюру. В тот момент, когда Маржерет заканчивал писать свою записку, Московская Русь только-только начала выбираться из смуты, произвола, войн и казней. У нее появились новый царь и новая династия – династия Романовых. Потребовалось еще несколько лет, чтобы все успокоилось окончательно. Но в 1620 году царь пришел к тому же выводу, что и его предшественники. Нужно было остановить продвижение европейцев на северо-восток по морю. В 1620 году этот путь оказался под замком – нарушившему запрет грозила смертная казнь. Северный путь останется запретным до XIX века. В сибирской летописи, известной как Ремезовская, устье Оби описывается как абсолютно непроходимое для человека, скованное с незапамятных времен льдами, никогда не тающими под солнцем.148 Неизвестно, является ли это суждение плодом воображения летописца или специальным приемом, призванным охлаждать пыл иностранцев. Царь распорядился поставить вдоль побережья охрану, вынуждая купцов выбирать дорогу через Урал. Сухопутный путь к этому времени уже был проторен. Сибирь стала доступна.
Урал позади
Строгановы были первыми всюду – на ярмарках, на реках, на северных факториях. Конечно, они не могли остаться в стороне от завязавшейся торговли с иностранцами по Ледовитому океану. Устье Двины и Архангельск находятся не так далеко от их «столицы» – Сольвычегодска, при хорошей погоде всего несколько дней по реке. Купцы Строгановы, как это им свойственно, мгновенно понимают, насколько выгоден обмен с гостями издалека. К какому времени относится первый подписанный ими контракт с англичанами? Точно неизвестно, но в великокняжеских архивах, начиная с 1552 года, то есть еще до создания Московской компании, содержатся упоминания о переданных Строгановым царских заказах «товаров английских и неанглийских». Строгановы к этому времени уже уважаемые поставщики русского царя. Как полагают российские историки, Аника, скорее всего, разместил своих представителей и перекупщиков повсюду, вплоть до Мурманского побережья. Строгановы, как обычно, отстроили там несколько сараев и церковь, создав русский аванпост для европейских мореходов, еще не осмеливавшихся двинуться дальше на север. По всей видимости, высочайший клиент остался удовлетворен товарами и услугами Строгановых, поскольку в последующие годы он возобновляет заказы. Строгановы расширяют торговую сеть, открывают магазины в Холмогорах, а потом в Архангельске. Иван Грозный настолько доволен, что в 1570 году появляется его указ, согласно которому Анике и его сыновьям поручается контролировать от имени государства торговую деятельность «английских немцев» (sic) и других иностранцев. В частности, царь приказывает следить, чтобы гости занимались оптовой торговлей, а не розничной, чтобы они не покупали коноплю, из которой могли бы потом изготавливать корабельные снасти, и, наконец, чтобы к ним не попало запрещенное к продаже железо.149
Царь сделал Строгановых, ставших уже его личными поставщиками и могущественными посредниками в делах, настоящими государственными управленцами. Любой, кто хотел иметь солидный товарооборот, вынужден становиться их партнером. Конечно же, Строгановы не могли не пользоваться столь выгодным для них положением.
Они приглашали англичан добывать железо на своей земле в Сольвычегодске и, благодаря заграничным технологиям, через несколько лет на их предприятиях техника извлечения и плавки достигла нового уровня. Амбиции Строгановых растут. Стечение обстоятельств или следствие усвоенной ими новой роли? В тот же год, когда царь своим указом превратил их в полномочных инспекторов внешней торговли, Строгановы выкупают в Ярославле пленного фламандца по имени Оливье Брюнель. Этот человек уже много лет гнил в царской темнице. Поступок очень мудрый: Оливье Брюнель – человек выдающийся, наделенный редкими качествами. Он родился около 1540 года в Брюсселе или в Лувене и очень рано начал интересоваться спорами о северном пути и таинственном проходе в Китай, бушевавшими в кругу фламандских и брабантских торговцев, а также в мастерских картографов. Встречался ли Брюнель в юности со знаменитым Меркатором, в то время еще не покинувшим католический университет и не обвиненным в ереси? Или самостоятельно решил пуститься в авантюру, когда поднялся на борт одного из антверпенских кораблей? Мы знаем лишь то, что этот фламандец находился на одном из первых голландских кораблей, пробивавшихся в Московскую Русь по северному пути. Он намеревался «спекулировать» и для этого учил русский язык. Однако в порт он попал в сопровождении караульных. Корабль, на котором он плыл, был досмотрен по доносу одного английского торговца, стоявшего на страже монополии своей страны. Брюнеля обвинили в шпионаже. Но это происшествие имело и положительную сторону: Брюнель, в отличие от своих соотечественников, получил возможность остаться в Московской Руси. Еще ни один из нидерландских капитанов не ступал на русскую землю. Брюнель же за долгие проведенные в тюрьме годы выучил язык, в том числе и простонародный. Когда Строгановы вытащили его, оказалось, что желание Брюнеля свести счеты с англичанами и их компанией вполне на руку русским «олигархам». Они отправляют своего нового брабантского агента вниз по Волге – в Казань и Астрахань.
Брюнель развивает активную деятельность, налаживая торговые связи, в том числе с Центральной Азией и Китаем. Он плавает по северным морям и, конечно, совершает торговые операции со своими соотечественниками, представляя отделение торгового дома «Строганов и сыновья». Он знает всех – от старьевщиков Брюсселя до скорняков Архангельска, от арматоров Антверпена до аборигенных охотников Урала. Его неустанные труды прославили имя Строгановых, так что и полвека спустя нидерландские хроникеры Исаак Масса и Николаас Витсен будут расхваливать эту династию купцов.150 К сожалению, об этом удивительном пленнике и его путешествиях известно немного. Из переписки одного прибалтийского торговца, у которого Брюнель гостил, мы знаем лишь, что он очень много ездил по делам своих хозяев. Некоторые историки151 полагают, что Брюнель сопровождал Строгановых в их путешествии через заснеженные перевалы Урала до берегов Оби. Возможно, ему удалось дойти по морю до устья Оби, где он повстречался с самоедами (ненцами), тундровым народом, и вступил с ними в общение. На лодьях поморов – старых знакомых Строгановых – Оливье Брюнель добрался через льды Карского моря в места, куда не сумели попасть европейские первопроходцы. Он проплыл по гигантской реке, хотя мы точно не знаем, до каких мест, – по той самой реке, о которой грезили географы и богатые фрахтовщики Европы, полагавшие, что она ведет в самое сердце Китая. В 1576 году Брюнель вернулся во Фландрию. с ним приехали в Европу двое Строгановых – один из сыновей Аники и, вероятно, его племянник, чтобы наладить новые связи, найти партнеров для финансирования своих проектов и защищать права своего торгового дома в судах голландских городов. Втроем они побывали в Дордрехте, Париже и Антверпене. Русские купцы хотят иметь собственных представителей на ярмарках Фландрии и Голландии. Богатые города с высокими домами из тесаного камня, с треугольными фасадами и разноцветными стеклами, должно быть, потрясли Cтрогановых, привыкших к деревянной архитектуре своей страны. Брюнель тоже изумлен: он обрел родную страну, но нашел ее растерзанной конфликтом между католиками и протестантами и нарастающей враждой между северными (будущие Нидерланды) и южными (будущая Бельгия) провинциями. Осенью 1576 года Брюнель и его спутники находятся в Антверпене. В ноябре солдаты испанского короля, владеющего Фландрией, взбунтовались из-за невыплаченного жалования. Испания разорена, банки отказываются платить. Большой порт на Шельде разграблен. В резне, длившейся не один день, погибло от пяти до восемнадцати тысяч горожан, вся центральная часть города уничтожена огнем.152 Богатые купцы, которые симпатизировали кальвинистам или лютеранам, подумывают о том, чтобы бежать в Голландию. До нее – рукой подать, туда уже перебрались многие судовладельцы, например, братья Мушерон. Несмотря ни на что, Оливье Брюнелю удается уговорить Гиллеса Хофтмана и семью ван де Валле довериться ему и рискнуть – вложить деньги в путешествие в Московскую Русь и Китай. Когда в 1577 году авантюрист из Брабанта уезжает на свою вторую родину, с ним отправляется Де Валле. А что Строгановы? Действовал ли он от их имени? Предполагалось ли совместное дело? Об этом ничего не известно. Через четыре года Брюнель вернулся в Нидерланды. По его словам, Строгановы ему поручили набрать экипаж для двух строящихся кораблей.153 Он искал моряков в Антверпене, Амстердаме, на Шельде, чтобы попробовать, на этот раз уже с помощью русских, дойти до Оби, а по ней до Китая, и привезти оттуда обещанные горы золота. Побоялись ли моряки пуститься навстречу льдам? Или средств было недостаточно? Экспедиция, подготовкой которой занят Оливье Брюнель, – не просто очередная попытка пробиться по северному пути, она часть гораздо более амбициозного плана. В Антверпене он разговаривал со многими географами, в частности, с Абрахамом Ортелием, выпустившим незадолго до этого первый известный нам атлас мира. Все они убеждают Брюнеля, что нужно добраться до Оби, – по их мнению, идеального и легкого пути в Китай. Брюнель знает, что огромные реки, как и бескрайние пространства, примыкающие к ним за Уралом, весьма негостеприимны. Северную часть этих земель занимают народы тундры, а южные степи по-прежнему контролируют татары и хан Кучум, старый знакомый Строгановых. Чтобы попасть в Сибирь, нужно победить Кучума. В 80-е годы XVI века именно об этом думают Строгановы. И важная составляющая этого плана – экспедиция, о которой Брюнель хлопочет в портах Нидерландов. Пока Брюнель находится в Европе, Строгановы готовят сухопутную экспедицию, с которой собираются соединиться, поднимаясь по Оби от ее устья. Так, по крайней мере, считают современные российские историки.154 Когда наконец Оливье Брюнель сумел сняться с якоря, прошла уже большая часть 1584 года. Судя по его бесконечным распрям с голландскими фрахтовщиками, к этому моменту Строгановы уже не участвуют в этом предприятии.155 Старался ли Брюнель уже в собственных интересах? Его корабль везет товары на восемь тысяч золотых флоринов, это целое состояние, по всей видимости, вложенное в дело Мушероном и неким антверпенским купцом. Оливье Брюнелю удалось добраться до Карского моря, где он попытался договориться со встреченными самоедами. Однако, когда товары стали перегружать, лодку, на которой находился Брюнель, затянуло в водоворот, и она перевернулась посреди движущихся льдин. Ни одного выжившего, ни одного свидетеля. Как замечает нидерландский историк М. Спис, даже если местные жители и были свидетелями случившегося, они «просто-напросто дали ему утонуть, а потом завладели зеркалами, бусами и всем тем, что он вез».156 После этого никто уже не отваживался искать выход в Обь[12]. Что же касается Строгановых, то их мечты добраться до Сибири по морю канули в лету. Экспедиция, которую они так тщательно и так долго планировали с Оливье Брюнелем, отменилась – их выбор пал на другой путь, открывающий доступ в Азию. Решено, они двинутся через Урал!
* * *
Строгановы намеревались отправить Оливье Брюнеля навстречу арктическим льдам. Чтобы проложить сухопутный путь, они нашли казака по имени Ермак Тимофеевич. Ему уже за сорок, он примерно одного возраста с Брюнелем. Ермак, в отличие от Брюнеля, совершенно свободно чувствовавшего себя на море и в европейских северных факториях, был, прежде всего, опытным воином. В ту эпоху казаки, уже вошедшие в возраст, предпочитали пользоваться не настоящими именами, а прозвищами. Эта практика была связана с желанием отогнать от крестильных имен злых духов, охотившихся на души христиан. Современники звали Ермака Токмаком. Это слово обозначало что-то вроде небольшого молотка или колотушки, что свидетельствует о ловкости Ермака в кулачных боях157 и многолетнем опыте участия в битвах.
До нас не дошло никаких документов, которые позволили бы судить о происхождении Ермака. Подвиги этого человека и ореол национального героя породили в последующие века появление многочисленной «родни». По всей видимости, Ермак происходил из простой семьи, не оставившей следов в исторических архивах. Российские историки склоняются к тому, что он был родом из Борка или Тотьмы, то есть родился неподалеку от родной деревни Строгановых. Существует также гипотеза, согласно которой Ермак появился на свет в семье беглецов, искавших убежища на берегах реки Чусовой, той самой, вдоль которой Строгановы возводили укрепленные остроги. Видимо, это еще один северянин, пусть даже и не найдено документов, подтверждающих данное предположение. Мы также почти ничего не знаем о его внешности. Единственное свидетельство товарищей Ермака было записано через сорок лет после его смерти: «вельми мужествен, и человечен, и зрачен, и всякой мудрости доволен, плосколиц, черн брадою, возрастом [то есть ростом] середней, и плоск, и плечист».158 Только на этом скупом описании основаны все портреты знаменитого казака. Зато известно, что Ермак частенько бывал в обширных южных степях, граничивших с татарскими, Астраханским и Крымским, ханствами. Казаки, жившие в станицах, которых немало на юге современных России и Украины, постоянно контактировали с татарами, в частности, заимствуя у них разные традиции и технологии. Казаки – в зависимости от ситуации – то совершают налеты на татарские деревни, то ведут с ними торговлю и заключают военные и кровные союзы. Они, как никто, знают, в чем сила и слабость их вечных противников. Некоторые татары становились членами казачьих общин. В такие общины объединялись беглые крепостные и крестьяне, солдаты, а также сыновья из обычных семей, высланные отцами в степи, чтобы избежать разорительного для семьи раздела наследства. Казачьи станицы отличались от обычных русских, татарских и украинских деревень. В них господствовали свободные нравы. В те времена казаки приходили на помощь царю, когда того требовали обстоятельства или когда им хорошо платили, но они еще не были особыми военными подразделениями, ставшими со временем ударной силой русской армии. Это стойкие свободолюбивые воины. Перед походом они выбирали атамана. С возможностью выбирать для них ассоициировались чувства свободы, гордости и достоинства. Ермак и был одним из таких атаманов.
Казаки летят по степи на конях и обрушиваются на какую-нибудь татарскую деревню или крепость, чтобы освободить пленных или захватить рабов, торговля которыми процветала на Черном море и в которой они сами охотно принимали участие. Но чаще всего казаки устраивали засады на воде. Они занимали позиции вдоль транспортных артерий – больших рек, по которым сновали купцы, или же на островах и нападали на караваны, возвращавшиеся из Центральной Азии с ценными товарами. Их не смущало, что эти караваны формально находились под царской протекцией. Казаки прятали свои лодки в прибрежных зарослях, а затем, завидев тяжелые баржи, поднимавшиеся по Волге, внезапно выскакивали из засады и брали их на абордаж. В 1573 году у Астрахани на английский корабль с грузом шелка, принадлежавший Московской Кампании, напали пираты – волжские казаки. Завязался бой, нападавшие потеряли четырнадцать человек ранеными и тридцать убитыми, но захватили и корабль, и трофеи, так что представителям английской компании оставалось только жаловаться Ивану Грозному.159 Через несколько лет крупное судно, на котором плыли посланники из Персии, тоже стало жертвой казаков, принявших его за торговое.160 Царь разгневался и приказал жестоко наказать разбойников: «И мы на тех Казаков из Волжских, на Митю Бритоусова и на Иванка на Юрьева (Кольца), опалу свою положили, казнити их велели смертью».161 Отметим, что упоминание Ивана Кольца в царском указе не останется без последствий для его дальнейшей судьбы. Чтобы избежать назначенного из Кремля наказания, атаман вынужден был бежать как можно дальше от государева гнева и отправился в экспедицию с Ермаком, став его правой рукой. Однако бешенство, чувствующееся в указе Ивана Грозного, свидетельствует о репутации казаков в те времена: разбойники с большой дороги, люди вне закона, еще не готовые верой и правдой служить государю. Неважная репутация казаков еще сильнее пострадала в следующем веке из-за другого мятежного казака, Степана Разина, и долго лежала темным пятном на образе Ермака Завоевателя. Полтора века спустя молодая российская Академия Наук, желая составить официальную историю страны и описать славные ее моменты, не захотела связать заслугу освоения Сибири с именем «разбойника»[13]. И только после Октябрьской революции для «народного героя», не уступающего Кортесу и конкистадорам, но только вышедшего из низов, наступила эпоха посмертной славы.162 Ермак, сын народа, становится в советской историографии символом движения масс, спонтанной колонизации, «мирной миграции».163
* * *
Дороги казака Ермака и двоюродных братьев Никиты и Максима Строгановых впервые пересеклись в конце 1570-х годов. Напомним, что это десятилетие выдалось тяжелым для династии северных купцов. Строгановы в своих новых владениях у подножия Урала терпят бесконечные нападения татар хана Кучума из-за гор. Они осаждают и грабят остроги, мастерские и солеварни. Они убивают крестьян, живущих вне острогов, и те пускаются в бега. Местное население, с которого берут все больше и больше налогов, чаще дает отпор и бунтует, пользуясь слабостью Строгановых. Очаги недовольства тлеют повсюду, даже в самом сердце империи Строгановых, в Сольвычегодске. В святая святых старого Аники, вдали от новых земель, неспокойно. Один из сыновей Аники, Симеон, убит толпой во время бунта против Строгановых. Под ногами у купцов горит земля. В 1574 году семья получает от государя удивительное позволение – идти за Урал, на земли, принадлежащие Кучуму, которые расположены вдоль «черных» рек, спускающихся к Азии. Немного ранее, в 1572 году, Строгановым дарована еще одна милость – редчайшая для недоверчивого государя – разрешалось собрать армию, способную их защищать. Но Строгановым неоткуда брать людей, поэтому они в первую очередь стараются обеспечить защиту своих земель и солеварен. И только постепенно, год за годом, по мере упрочения позиций, они начинают готовить более амбициозный проект, чем просто оборона своих владений. Они намереваются перейти «Каменный пояс», пересечь скрывающиеся за Уралом пространства, сразиться, если потребуется, с врагом и завладеть «золотым» запасом, который ждет вдалеке, – пушниной. К этому моменту Строгановы уже развили огромную сеть ее сбыта, в том числе и в Европе.
Они словно уловили далекий зов, который привел их на свидание с историей. Несмотря на тяжелые годы, выпавшие на долю семейства, несмотря на реальную угрозу разорения, их опыт уникален. Строгановы первые в стратегической торговле солью. Благодаря особым отношениям с царской особой, их дело приобрело государственный масштаб, поскольку именно они представляют государственные интересы в многообещающих торговых обменах с Европой. Земли Строгановых обширны. Это своеобразное независимое государство, насчитывающее множество «частных» городов и острогов. Их промышленники сумели перейти за Урал, начали вести дела с местным населением и превратили пушной промысел в одну из самых рентабельных областей экономической деятельности. «Строганов и сыновья» – одно из самых богатых предприятий Руси. И к тому же – первая сибирская компания. Голландские хроникеры Исаак Масса и Николаас Витсен без устали восторгаются «гигантским состоянием»164 Строгановых. Таланты Строгановых вкупе с геополитическими обстоятельствами привели эту семью туда, где Европа становится Азией. История нечасто приглашает на свидание. И Строгановы приняли это приглашение.
7 апреля 1579 года двоюродные братья Строгановы посылают гонца на юг, к казачьим атаманам, о которых они наслышаны, несмотря на разделявшее их расстояние. В распоряжении Максима и Никиты в самой восточной части владений Строгановых находится всего четыреста вооруженных человек, способных отражать нападения. Набег или бунт могут произойти в любой момент. Им нужно подкрепление. В письме атаманам братья предлагают «честную службу». Как сообщает великий российский историк Карамзин, Строгановы уговаривают атаманов перестать вести себя как разбойники, «примириться с Россиею» и стать «воинами Царя белого».165 «Имеем крепости и земли, – писали Строгановы, – но мало дружины: идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства».166
И что же казаки? Сведения об этом противоречивы. Поначалу историки167 представляли дело так, что казаки быстро согласились и уже осенью следующего года оказались на берегах реки Чусовой, притока Камы. Согласно этой теории, во главе отряда был сам Ермак. Современные исследователи относятся к этой теории с большой долей скептицизма, особенно в том, что касается Ермака. Возможно, какие-то казаки отозвались на предложение Строгановых, особенно из тех, кто находился вне закона из-за участия в разбоях. Однако в это время Иван Грозный воюет со шведами и поляками, русская армия скована боями в Прибалтике, а крымский хан, пользуясь тяжелым положением царя, действует в южных степях. Казаки воюют на стороне Москвы, как они всегда делают, если им предлагают хорошее жалованье и речь идет о высших интересах государства. Во всяком случае, в 1581 году, как полагает современный историк Руслан Скрынников, атаман Ермак защищал западный город Могилев, о чем можно прочесть в летописи, а Иван Кольцо воевал с ногайскими степняками.168
Строгановы, вероятно, собрали какое-то войско, но его было недостаточно. В 1581 году, когда на западе Московская Русь находилась на грани военной катастрофы, в приуральских районах ситуация тоже обострилась. Война чувствовалась и там, рабочих рук не хватало, свирепый экономический кризис разорял поселенцев. Только половина предприятий Строгановых еще функционировала. Страна слабела, и ощущение близкого поражения витало в воздухе. В начале года в землях Строганова взбунтовались манси. Летом мурза Бегбелы Ахтаков приводит с Урала войско из 680 мансийских и хантыйских всадников. Все остроги в осаде, кто сумел в них укрыться, повезло. Все деревни вокруг разграблены, сожжены, а их жители уведены в плен.169 Осенью ситуация остается по-прежнему тяжелой, и Строгановы, почти впавшие в панику, обращаются к Ивану Грозному, хотя и знают, что его трон колеблется. Они просят срочно прислать подкрепление. Семеон, младший сын Аники, отправляется в Москву за помощью, оставив своих племянников – двадцатичетырехлетнего Максима и восемнадцатилетнего Никиту в самом бедственном положении. Строгановым нужны казаки, чтобы помочь защищаться, однако царь медлит с ответом. Наконец, через много месяцев, приходит послание, подписанное кремлевскими дьяками. Разочарование Строгановых огромно: царь не хочет распылять свои основные силы, а кроме того, он боится, что конфликт на востоке превратится в новую войну. Иван Грозный разрешает Строгановым собрать наемную армию, но повелевает ограничиться лишь охотниками и воинами, находящимися поблизости. Иначе говоря, им предложили действовать своими силами – и это на территории, готовой заполыхать в любой момент. Разведка, побывавшая за Уралом, сообщила тревожные новости: хан Кучум, наслышанный о поражениях русских, готовится к большому наступлению. Он хотел оттеснить поселенцев и восстановить свою власть над местными народами по обе стороны Урала.
И тогда Строгановы решают ослушаться инструкций, полученных от государя. Они срочно отправляют казакам новое послание с просьбой о помощи. Что было написано в этом письме? Оно не дошло до нас. Возможно, напуганные Строгановы пообещали хорошее вознаграждение, чтобы убедить «вольных казаков», степных разбойников, прийти им на помощь. В удачные годы состояние Строгановых могло бы позволить им нанять, вооружить и экипировать армию не меньше чем в тысячу человек, и в лучшие времена они бы так и сделали. Но они на грани разорения, и нужно искать другие способы привлечь казаков на свою сторону. Возможно, самыми убедительными аргументами были перспективы карательной экспедиции в глубь Сибири, в ханство Кучума, восточного властителя, а также обещание бессчетного количества шелковистых шкурок. Может быть, Строгановы также сумели намекнуть казакам, которым грозила смертная казнь за разбой на Волге, что, защищая приграничные территории, они смогут заслужить прощение государя? Приглашение Строгановых попало к атаманам, находившимся между Волгой и рекой Яик (ныне река Урал), также впадающей в Каспийское море. Тем временем на западном фронте события ускоряются: Иван Грозный вынужден подписать унизительное и очень невыгодное для Руси перемирие с Польшей. Казаки-наемники вернулись в свои степи и бездельничали. Ватаги, казачьи объединения, прежде чем начать новую кампанию, действовали в соответствии с традицией: собирали войсковой «круг», на котором выбирали атамана. Атаман обладал большой властью. Вместе с выбранными им самим есаулами он решал, как вести военную кампанию, он определял порядок действий, казнил и миловал непокорных. В боевых походах казаки часто несут большие потери. Бывало, что в станицы на Волге возвращалось меньше половины войска. Но если атамана уличали в трусости, измене или ставили ему в вину поражение, то и ему самому грозила казнь.
Итак, именно на таком собрании обсуждалось предложение Строгановых. Ермак горячо поддерживает идею новой кампании. Согласно летописи, умение убеждать являлось одним из главных его качеств.170 Другие атаманы возражают, особенно из тех, по ком плачет плаха. Можно ли доверять купцам Строгановым? Путь неблизкий, нужно плыть много сотен километров вверх по Волге, потом по Каме, чтобы, наконец, достичь Чусовой. И ради чего все это? Ради обещаний трофеев, которые придется добывать в незнакомом краю, где-то за горизонтом? Кто вернется из этого похода?
Тем не менее Ермак Тимофеевич выбран атаманом. Он берет в есаулы нескольких казаков[14], в том числе Ивана Кольцо, на которого гневается царь, и, который, возможно, не безразличен к идее заслужить прощение. Казаки, от 540 до 600 человек, согласно разным источникам, следуют за новым атаманом и отплывают во владения Строгановых. Они поделены на сотни, как того требовала традиция, каждую из которых возглавляет сотник. У каждой сотни свое знамя. Казак вооружен саблей, двумя пищалями, у него есть запас пуль и пороха. Кафтан из плотной ткани, рубаха, две пары широких шаровар и традиционная меховая папаха – вот и вся поклажа, сведенная до минимума, чтобы не перегружать судно. В трюмах казаки везут бочки ячменя, из него изготавливают кашу и квас, свой любимый напиток, а также сухари, которые они заготавливают специально для походов.171 Как только начинается кампания, устанавливается «сухой закон», то есть полный запрет на алкоголь. За нарушение «сухого закона» виноватого бьют кнутом, а в серьезных случаях могут и казнить.
* * *
Волжские казаки умеют не только драться, но и строить. Их лодки называются стругами или ладьями – в зависимости от вида. Они небольшие и небыстрые. Конструкция достаточно проста, ведь необходимо, чтобы лодку можно было быстро соорудить, используя минимальное количество инструментов и материалов, когда того требуют обстоятельства, – если предполагается слишком длинный волок или путь верхом через степи. Два или три метра в ширину, десять – двенадцать в длину, без палубы, семидесятисантиметровый надводный борт. Лодка должна легко идти и быть очень маневренной. Для этого казаки, устанавливая руль, часто крепят его так, чтобы можно было быстро менять направление при абордаже.
К июню Ермак со своей командой доплыл до земель Строгановых на Чусовой. Все, что происходило с этого момента, известно по летописям, составленным веком позже. Летописные сведения восходят, по всей видимости, к одной не дошедшей до нас рукописи, написанной всего лишь через несколько лет после всех событий. Некоторые летописные своды заказывали иерархи зарождавшейся сибирской православной церкви, для того чтобы подчеркнуть героический характер похода и принадлежность завоеванных земель христианскому государству. Строгановы, опасавшиеся, что их роль будет преуменьшена, тоже заказали свою летопись. Самая же поздняя летопись создавалась сыном одного тобольского боярина Ремезова, замечательного историка-самоучки[15]. Однако, как и в Евангелии, составители основываются на более поздних свидетельствах, что несколько уменьшает надежность реконструкции событий.

Когда точно Ермак с товарищами прибыл к Строгановым, не совсем понятно. Некоторые историки, сравнив даты, различающиеся по разным летописям, относят кампанию Ермака к 1578 году. Другие полагают, что самая вероятная дата – 1 сентября 1580 или 1581-го. Современные исследователи[16] сходятся во мнении, что Максим и Никита Строгановы[17] встретили казаков летом 1582-го года. Одним из аргументов является бюджет: для того чтобы содержать это небольшое войско, нужно было иметь немалые средства. Можно ли представить, что бюджета братьев Строгановых хватило на то, чтобы разместить и много месяцев или даже лет кормить армию дерзких головорезов и «конкистадоров», рвущихся за обещанными трофеями? Сохранились смутные отголоски финансовых споров во период пребывания, пусть даже кратком, грозных наемников на земле купцов. Строгановы известны своей бережливостью: когда казаки потребовали выдать им припасы для экспедиции, Максим не отказал, но уточнил, что речь идет о кредите. Тогда, разгневавшись, Иван Кольцо пригрозил купцу, что убьет его. После этого, как сообщает летопись, «Максим же страхом одержим и с подданными своими отворил анбары хлебные, и по именом полковых писарей и весом успевающе, дающе день и нощь коемуждо по запросу числом на струги».172
Летом 1582 года начинается подготовка к тому, что потом назовут завоеванием нового континента. Выросшие на Чусовой пристани, склады, деревянные дома, окруженные высокими заборами, – форпосты освоенного мира. Владения Строгановых находятся на самой его границе. Собственно, Строгановы его и освоили. От острогов, где люди Ермака чистят оружие, на восток уходят тропы. Они пролегают вдоль реки, вдоль ее притоков, а затем ведут через Урал – в бассейны Оби и Иртыша; все это хорошо известно. Вот уже много десятилетий промышленники ходят по этому маршруту. И тайные тропы среди кустарников вдоль рек горных хребтов – давно не секрет для следопытов и поставщиков пушнины, которых нанимали Строгановы. В строгом смысле слова экспедиция вовсе не «открывает» Сибирь. Историк Ю. Верхотуров замечает, что настоящее «открытие» Сибири следует приписать тем, кто побывал там задолго до русских и европейцев – воинам Чингисхана. С большой иронией Ю. Верхотуров пишет, что Азия открыла Европу гораздо раньше, чем Европа – Азию.173 Но земли, лежащие за Уралом, – это целая вселенная. Пусть туда уже приходили охотники и промышленники, они по-прежнему хранят много тайн. Контуры Сибири неясны. Ее название не устоялось. В те времена русские обычно делят территорию, находящуюся за «Каменным поясом», на две части – на севере, в нижнем течении Оби вплоть до ее устья и тундровых болот, лежит так называемая «Югра»[18]. Южнее слияния Иртыша и Оби в их верхнем течении и в разделяющих их степях находится Сибир. Это географическое название часто путается с названием ханства Кучума. Однако слово «Сибир», вскоре распространившееся на всю Сибирь, используется и в более широком смысле. Промышленники прибегают к нему, как только оказываются за Уралом. И точно так же русские174 привыкли называть столицу татарского ханства, которую остяки и манси окрестили Искер, а татары – Кашлык. Этот город расположен высоко над Иртышом в 17 км выше впадения в него реки Тобол. Сибир – сердце вражеской страны. Но Сибир – это и загадка.
Ермак, возглавлявший 540 казаков, к которым присоединились триста вооруженных ополченцев175 из владений Строгановых, выступил в поход. Благодаря ему Московская Русь получит Сибирь и станет могущественной империей. Конечно, казачий атаман не осознавал всей важности своей миссии, как не осознавали исторической значимости момента Кортес и горстка его конкистадоров, осадивших Теночтитлан, ставший потом Мехико. Да и заказчики, хотя и предчувствовали огромный экономический потенциал новых земель, не предполагали, к какому историческому повороту приведет экспедиция Ермака. Казаки шли за трофеями. Татарский хан Кучум уже более десяти лет не платил ясак, значит, его сундуки набиты битком. В ханских подземельях должны скопиться груды мехов, мешки золота. Согласно контракту, который Ермак и его есаулы заключили со Строгановым, казаки должны были, вернувшись целыми и невредимыми с добычей, расплатиться с нанимателями. В случае неудачи, если им не суждено было вернуться, они просили Строгановых помолиться за упокой души. Но, конечно же, казаки надеялись прийти обратно к своим семьям живыми и здоровыми.176
* * *
В течение следующих веков атаману Ермаку приписывалось множество самых разных замыслов. В соответствии с господствовавшей идеологией и политическими нуждами казаков могли описывать как беглых разбойников, изыскивавших любые средства, чтобы избежать преследований властей. Согласно этой теории, Ермак и его товарищи нашли убежище на краю света, у Строгановых, и те, опасаясь иметь на своей земле опасных бандитов и оборванцев, сумели чудесным образом избавиться от них, отправив еще дальше, к черту на куличики.177 Такова интерпретация историков XVIII и XIX веков, которые видели в волжских казаках прежде всего людей, находившихся вне закона, жадных до добычи мародеров. Согласно более поздним версиям, казаки являлись завоевателями, героями, потрудившимися во славу царя и государства, или небольшой общиной, действовавшей в национальных интересах. Не меньший разнобой царит и в оценке Строгановых, которым приписывается роль то помощников царя, то провинциальных землевладельцев, то алчных купцов. По одной из версий, они сознательно и целеустремленно реализовывали стратегию, которой сам Иван Грозный не был в состоянии заниматься,178 по другой – они были насмерть перепуганы появлением в их деревнях нищих казаков.179 Наконец, согласно третьей версии, купцы готовы были пойти на все, чтобы подобраться к богатствам коренных народов. Очевидно одно: Русь готовилась к неслыханному расширению границ, однако изначальный импульс исходил не от царя и не от государства. Он исходил от купцов, твердо решивших защищать свои интересы, пусть и доверившись наемникам. Они пошли на сотрудничество с казаками, оценив их смелость, их готовность к лишениям и жертвам.
Наверняка у Строгановых были самые противоречивые соображения, но, главное, им хотелось вернуться к спокойной жизни, к порядку и безопасности. Бунты туземных народов, набеги остяков, манси или татар заставляли их остро чувствовать свою уязвимость. Летом 1582 года – третий год подряд – на их владения напало небольшое войско татар под предводительством Алея, сына Кучума. Не было ли оно связано с появлением казаков Ермака? Как бы то ни было, братья Строгановы с облегчением наблюдают, как татары снимаются с места и отправляются севернее, в сторону царских земель, к небольшому городу Чердынь. Строгановы знают, что им не приходится полагаться на царя. Иван Грозный не в состоянии защитить их. Более того, его намерение выслать карательную экспедицию в Сибирь вызывает у них большие опасения. Иван Грозный, вынудив, по сути, Строгановых двинуться на земли Кучума и расширить таким образом границы страны, был не готов после страшного поражения на Балтике вступить в новую войну. Строгановы лучше, чем кто-либо, понимают, как поведет себя царь: что бы ни произошло, он отойдет в сторону, а они станут единственными ответчиками. Каждый, кто жил при Иване Грозном, понимал, какой может быть цена за неосторожность.
Экспедиция, к которой готовится Ермак, должна была проходить по следующему плану. Было решено выйти в конце лета 1582 года. Кажется, что это поздновато для перехода через Урал, где первый снег выпадает уже в сентябре. Возможно, дата начала экспедиции связана с ограниченными ресурсами Строгановых, не готовых содержать казаков еще целый год. Кроме того, конец лета давал и некоторые преимущества: жатва окончена и зерна вполне хватает, чтобы наполнить трюмы и мешки с припасами. К тому же в это время года уровень воды в реках достаточно высок. Этот аргумент решающий – можно было пройти притоки Чусовой, не перетаскивая суда на спинах. Кроме того, Ермак, по всей вероятности, рассчитывал на эффект внезапности: хан Кучум вряд ли ожидал нападения, поскольку войско во главе с его сыном как раз действует на русской приграничной территории. Но именно такова была задумка атамана: совершить стремительный бросок на восток, до ворот татарской столицы в тот момент, когда она осталась без лучших воинов, отправившихся на запад. Замысел коварен, но у него есть и слабая сторона: русским деревням и городам, подвергнувшимся нападению, необходима защита от татарской конницы. Ведь Алей мог стереть их с лица земли. Как объяснить тем, кто находится в опасности, не говоря уже о государе, что казаки бросают население на произвол судьбы ради отчаянной авантюры, пусть даже и небесполезной для государства? Шли ли на этот риск Максим и Никита Строгановы осознанно?
1 сентября казацкие струги покидают торговые пристани и направляются вверх по Чусовой. Согласно летописи, на стругах восемьсот сорок человек. У каждого – по три фунта пороха, три фунта свинца, три фунта ржаной муки, два фунта крупы и толокна, фунт сухарей и солонина.180 Эти детали содержатся в книгах Строгановых, тщательно записывающих все, что было выдано каждому из участников похода в надежде, что, в случае успешного исхода дела, они вернут себе за провизию и запасы сполна. А это немалый довесок к трофеям экспедиции.
Экипировка каждого участника состояла из двух с половиной килограммов боеприпасов и 80 килограммов продовольствия. К этому еще надо добавить 850 килограммов сала, 210 килограммов ветчины и восемь знамен для казачьих сотен. Что касается оружия, то, кроме пищалей, казаки получили небольшие, специально отлитые, пушки. Они давали казакам преимущество – огневую стрельбу, неизвестную татарам, но, вместе с тем, не слишком затрудняли переходы во время волока. Для боя пищали объединяли по семь штук, и они, стреляя по очереди, палили, будто «Катюши» в миниатюре.
Ермак тщательно продумал маршрут. Выйти из европейской части Руси и попасть в безбрежную тайгу можно было тремя путями. Эти пути – «пушные», по ним караваны охотников, промышленников и купцов ходили в богатые зверем северные земли. Перейти через Урал легче в его средней части, где высота перевалов не превышает трехсот или пятисот метров. На этой широте горный хребет похож скорее на гряду холмов, чем на настоящий горный массив. Реки, текущие на запад к Каме и Волге, отделены от бассейна Оби, расположенного восточнее, только участками водоразделов шириной 30–50 км. Но путь, который проходит через стойбища коренных народов, уже давно контролируется татарами и закрыт для русских. Это самая прямая дорога в ханство Кучума, именно по ней скачет татарская конница, чтобы напасть на русские земли. И именно эту дорогу выбрал Ермак. Атаман предполагает подняться по Чусовой до небольшой реки Серебряной, которая в то время года была еще судоходна. Если уровень воды слишком низок, казаки обычно тянули лодки, идя по берегу и прорубая себе путь топорами. Ермак хочет подняться как можно выше по реке, чтобы сократить волок через Уральский хребет на высоте примерно трехсот метров. Казаки не взяли ни одной лошади, поэтому оружие, припасы и лодки предстояло перенести до реки Баранчи на плечах. Волок составлял 30 км. Лодки следовало сначала разгрузить, а потом тянуть, стараясь держаться заболоченных участков.181 Самые тяжелые лодки предполагалось бросить на берегу. Достигнув скромной реки Баранчи, казаки должны были построить новые. Оттуда предстояло спуститься к Иртышу – по Баранче, Тагилу, Туре и, наконец, Тоболу. Всего 1 600 км, из которых триста – против течения. Это как проехать из Парижа в Варшаву, но по враждебной территории, не зная точного направления, следуя за рекой и готовясь за каждым поворотом столкнуться с неприятностями. Несколько лет назад студенты Пермского университета прошли этим путем на лодках, похожих на те, что были у казаков в XVI веке. Путь занял у них четыре месяца. Но Ермак знал, что у него мало времени: если реки замерзнут и остановят его поход, он окажется в руках вражеской конницы, и это будет конец.
Итак, в мягком свете заканчивающегося лета казаки поднимают паруса на больших лодках, составивших целую флотилию. Согласно историческим реконструкциям, чтобы везти пятьсот тонн экспедиционного груза, нужно было не менее трехсот стругов. Как сообщает летопись, Строгановы вложили в это предприятие двадцать тысяч рублей золотом – значительную часть свободного капитала, больше, чем в те трудные времена мог бы вложить сам царь. Такая сумма свидетельствует о том, насколько важной считали купцы эту экспедицию. Они надеялись, что наконец-то сумеют положить конец бесконечным набегам татар. По всей видимости, до самого последнего момента обсуждалось участие Максима Строганова, которому в то время было от 18 до 25 лет. В качестве кого? Контролера-«первайзера», почетного свидетеля успеха или заложника? Летопись об этом умалчивает.182 Но серьезность подготовки показывает также, что и Ермак с товарищами ставят все на кон. Хотя лодки нагружены до краев, припасов не хватит до следующего лета. У Ермака есть осень и зима, чтобы перейти через Урал и добраться до земель врага. Остановка и зимовка исключены. Как только казаки достигнут Сибири, дороги назад не будет, и выживание всей ватаги будет зависеть исключительно от военных трофеев. «Завоевание или смерть»,183 согласно формуле патриарха сибирской истории Герхарда Фридриха Миллера. В сложившихся обстоятельствах важнейшей задачей атамана является поддержание настроя людей, а это не так уж и просто. Горе строптивцам! Некоторые казаки казнены во время кампании «по донскому закону», по всей видимости, за отказ продолжать путь: связанного казака в сорочке, набитой песком, в мешке бросали в воду. Летопись сообщает, что более двадцати человек отправили на дно.184
* * *
Завоевание Сибири шло вдоль водных путей. Именно по рекам русское влияние постепенно распространилось на гигантской территории, большей, чем вся Европа или даже Соединенные Штаты (включая Аляску). И Ермак отправился в поход по реке. Вода – излюбленная стихия казаков, к тому же Ермаку, люди которого были известны умением брать лодки на абордаж и сражениями на Волге и Яике, она давала тактические преимущества. Армия хана Кучума состояла главным образом из всадников и пехотинцев, прекрасно владевших саблей и кинжалом и предпочитавших рукопашный бой. Что до Ермака, то ему было выгоднее избегать прямых столкновений вплоть до решающей битвы. Немногочисленность войска не позволяла ему рисковать людьми. Из летописи следует, что во всех стычках, во всех боях и в засадах атаман прежде всего старался сохранить своих людей, экономил силы и никогда не выпускал сразу все сотни. Огнестрельное оружие, которое было у Ермака, давало ему решающее преимущество над противником в том случае, если казаки держатся на дистанции и не подпускают атакующих близко. Поскольку татары, пришедшие из степей Центральной Азии, были плохими моряками, казаки останавливаются на островах или труднодоступных берегах. Они избегают деревень, хотя могли бы напасть на них, разграбить и поджечь. Ватага предпочитает как можно быстрее достичь более широких рек, прямо ведущих к главному городу хана. Кучум, конечно же, достаточно быстро узнал о вторжении. Когда ему сообщили, что манси захватили казачью лодку, отправленную на разведку, он был поражен. Что делают эти русские посреди Урала в то время, как за их спинами его собственный сын Алей разоряет и грабит их города? Почему воевода Чердыни, главного города ближайшей к нему части Руси, не отозвал назад своих защитников? Сначала Кучум подумал, что речь идет о какой-то хитрости, об отвлекающем маневре, предпринятом для того, чтобы заставить вернуться Алея и его людей. Однако его армия находится в Прикамье и поэтому недостижима. Потом Кучум решил, что это карательный набег на его владения, и стал выжидать, когда нападающие, довольные захваченными трофеями, повернут назад. Наконец, встревоженный происходящим, он послал своего племянника Маметкула наперерез Ермаку. Казаки, добравшиеся до Туры, первой из больших рек, вынуждены вступить в бой. С этого момента по берегу за лодками постоянно следуют всадники. Как только лодки оказываются в их досягаемости, на них обрушивается град стрел. Дважды татары перегораживали реку стволами деревьев – они валили поперек реки даже дубы! Но каждый раз казакам удавалось прорваться[19]. В отчаянии Маметкул развязал бой выше по течению, у слияния Тобола и Иртыша, где у татар были укрепления и где местность позволяла перегородить путь казакам и действовать сразу с двух берегов. Риск велик, поскольку столица Кашлык уже недалеко. В случае поражения татар дорога до стен города оказывалась практически открытой. В этом сражении Ермак впервые пустил в ход пищали. «Погание же противу нашедших крепце и немилостивно наступаху на конех, копейным поражением и острыми стрелами казаков уязвляют велми, – сообщается в летописи. – Русскии же людие начаша стреляти ис пищалей своих и ис пушечек скорострелных и из дробовых и из за-тинных и шпанских и из аркобузов, и сими побивающе поганых безчисленое множество».185 Казаки, мастера абордажного боя, построились в два ряда на самых больших лодках и стали приближаться на веслах к противнику – на расстояние выстрела. Маневр состоял в том, чтобы быстро развернуться, подставив врагу борт лодки. Первая линия казаков стреляла, а потом приседала, чтобы перезарядить оружие, а в это время стреляла в свою очередь вторая линия. Почти непрерывный огонь произвел огромное впечатление на армию татар. Они, конечно же, знали о существовании такого оружия, поскольку уже оценили в предыдущих сражениях против Московской Руси его силу. Хан даже сумел раздобыть несколько пушек и водрузил их на крепостную стену. Однако самые опытные воины, которых мог выставить Кучум, как раз в это время грабили русские земли. Те же, кого он выслал навстречу испытанным в боях казакам Ермака, впервые попали под огнестрельный огонь и были оглушены ужасающими залпами пищалей. Об их испуге и последовавшей панике написано в Строгановской летописи: «Таковы бы суть рустии воини сильни: егда стрельнут из луков своих, тогда огнь вышен и дым великий исходит и громко голкнет, аки гром на небеси. А ущититься от них никакими ратными сбруями не мочно: куяки, и бехтердцы, и пансыри, и кольчуги наши не держат: все пробивает навылет».186 Ряды татар редеют, начинается паническое бегство. Когда дым и пыль осели, Ермак понял, что теперь он может беспрепятственно добраться до столицы хана Кучума. Его ждало новое сражение, и оно должно было оказаться решающим.
Пока казаки продвигаются все дальше и дальше по земле Кучума, сын хана разоряет русские земли, грабит население Урала. Строгановы встревожены гуляющими уже несколько месяцев слухами о подготовке нового набега татар и их союзников из местных народов. Небольшая армия под предводительством Алея, несомненно, одна из самых опасных из всех, с кем русским уже приходилось сталкиваться. 1 сентября 1582 года, в день, когда флотилия Ермака отправилась в поход по реке Чусовой, 700 человек внезапно появились у стен Чердыни, главного города пермского края. Перед тем как приступить к осаде города, татары напали на близлежащие деревни, призывая местные народы присоединиться к ним и восстать против Руси. Чердынь устояла, а город Соликамск, важнейшее место производства соли, взят, разграблен и сожжен, его жители перебиты с такой жестокостью, что память об этом сохранилась до настоящего времени[20]. На этом татары не остановились, а двинулись дальше, осаждая один за другим остроги Строгановых.
Воевода Пелепелицын, наместник царя в Великой Перми, в бешенстве: как могли Строгановы в тот момент, когда их соплеменникам грозила верная гибель от татар, отпустить Ермака с казаками – единственным войском, способным выступить против врага? Предательство! Ради собственной выгоды они бросили города на произвол судьбы. К тому же у воеводы Пелепелицына свои счеты с казаками Ермака: именно ему был поручен контроль над Волгой в то время, когда те напали на татарских и ногайских князей и посланников, возвращавшихся в Москву по реке. Некоторые из участвовавших в разбое казаков стали есаулами Ермака. То, что эти бродяги, завербованные Строгановыми, бросили его, да еще после того, как несколькими годами ранее выставили Пелепелицына на посмешище, приводило воеводу в бешенство. Он поспешил доложить царю о коварстве казаков. Ответ Ивана Грозного полон гнева. Послание царя, залитое черным сургучом, с личной печаткою государя, через несколько недель оказывается в руках у Строгановых: «Писал к нам из Пермии Василий Пелепелицын, что послали вы из острогов своих волжских атаманов и казаков, Ермака и товарыщи, воевать вотяки и вогуличей и пелымския и сибирския места сентября в день. А в тот же день, собрався, пелымский князь с сибирскими любьми и вогуличи приходил войною в наши пермские места, и к городу к Чердыни к острогу приступал, и наших людей побили, и многие убытки нашим людям починили. И это сделалось вашею изменою! Вы вогулич, и вотяков, и пелымцов от нашего жалованья отвели, и их задирали, и войною на них приходили, да тем задором сибирским с салтаном ссорили нас; а волжских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои остроги без нашего указу. А те атаманы и казаки преж того ссорили нас с ногайскою ордою, послов ногайских на Волге на перевозах побивали, и ардобазарцов грабили и побивали, и нашим людем многие грабежи и убытки чинили. И им было вины свои покрыты тем, что было нашу пермскую землю оберегать – и они сделали с вами вместе, потому ж как на Волге чинили и воровали! В который день к Перми, к Черды-ни, приходили вогуличи 6 сентября в 1 день – и в тот же день от тебя из острогов Ермак с товарищи пошли воевать вогуличи! А Перми ничем не подсобили! <…> А не вышлете из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарыщи, а учнете их держати у себя, и пермских мест не учнете оберегати, и такою вашею изменою, что над пермскими месты учинитца от вогулич, и от пелымцов, и от сибирскаго султана людей вперед – к нам в том на вас опала своя положить большая! А атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, – велим перевешати! И вы бы тех казаков однолично отпустили от себя в Пермь». А на обороте – как это было принято в XVI веке: «Писана на Москве, лета 7091 [1581], ноября 16 дня. Царь и великий князь всея Руси. Дьяк Андрей Щелканов».187
Этот документ с угрозами вошел в русскую историю под названием «опальная грамота». По прочтении грамоты, сообщает летопись, братья Строгановы испытали ужас. Вряд ли нашелся бы человек, способный сохранять хладнокровие после получения письма подобного содержания за подписью Ивана Грозного! Хотя государь и ограничивает свои угрозы обещанием «большой опалы», все понимают, что стоит за такими словами: разорение, потеря всего имущества, конец делу Строгановых и, скорее всего, физическое истребление именитого семейства. Им приказано вернуть Ермака. Но как? Атаман далеко, он отсутствует уже три месяца. Да и незачем его возвращать: остроги Строгановых все-таки устояли под ударами армии Алея, татары свернули лагерь и пустились в обратный путь. Сделать уже ничего нельзя, но ничего не делать тоже нельзя, иначе гнев Ивана Грозного вспыхнет с новой силой. Историки, внимательно изучив даты и содержание посланий, пришли к выводу, что царь Иван Грозный, потерпевший поражение от поляков, хорошо понимал, что его приказ невыполним. Они предполагают, что он прежде всего искал, на кого можно было бы свалить ответственность за возможное поражение на востоке. Для Строгановых потянулись дни тревожной неопределенности. После грамоты с запада от царя они ждали новостей с востока от Ермака, новостей, от которых зависела судьба их рода.
* * *
Что же происходила в то время с казаками? Разные летописи, словно евангелия сибирской эпопеи, иногда расходятся в датах или в последовательности действий. Однако история не должна сильно отличаться от реконструкций фактов, положенных в ее основу.188 В последние дни октября люди Ермака наблюдали, как каждое утро прирастает лед на реке. Зима уже близка. Вместе со льдом увеличивается угроза застрять посреди этого чужого мира. Ермак понимает, что, как только река замерзнет, преимущество перейдет к противнику. Татарские всадники смогут передвигаться по льду, и у казаков уже не будет шансов спастись. Было ли это 23 октября? Днем раньше? Днем позже? Казаки внезапно показались на Иртыше, оставив позади Тобол. Ширина Иртыша в тех местах не меньше километра. Вдалеке, на высоких холмах с северной стороны они уже различали стянутую к берегу армию хана. Пехота стоит на берегу, а всадники выстроены вдоль бровки склона, и потому казаки на лодках их отлично видят. После поражения Маметкула на Тоболе Кучум собрал все силы, которые нашел в своем ханстве. Прежде всего татар, но также способных воевать остяков и манси с их лодками. Зрелище было настолько величественным, что казаков, плывших посреди реки, охватили сомнения. Было решено собрать «круг». Посовещавшись, постановили атаковать противника и взять столицу Искер (Кашлык). На самом деле, как, собственно, и говорил Ермак, у них просто не было выбора.
Кучум, со своей стороны, извлек уроки из первых боев. Его столица Искер (Кашлык) совсем не приспособлена для обороны. Город стоял на высоком красно-коричневом плоском холме, круто спускавшемся к Иртышу. Два небольших рва ограничивали город, окруженный также земляным валом, отдельные участки которого полностью обрушились. В самом центре находились мечеть и широкая площадь, вокруг располагались дворцы самого хана, его семьи и приближенных. Склады и дома из земли и дерева занимали оставшуюся часть этой нависшей над рекой террасы[21]. Для сражения с Ермаком хан и его племянник Маметкул[22] выбрали небольшой мыс несколькими километрами выше, недалеко от современного города Тобольска. На берегу, у подножья склона, Маметкул приказал соорудить стену из земли, бревен и кустарников, способную оградить от огня казаков. Там он построил лучников и пехоту. Выше на холме, поодаль, куда не могли долететь ядра небольших русских пушек, всадники под предводительством Кучума ждут команды, чтобы вмешаться, как только на берегу начнется рукопашный бой.
Все началось так, как и планировал Кучум. 26 октября, на рассвете (именно эта дата войдет в летопись), с первыми лучами солнца, казацкие струги причалили к берегу. «И вышли из городка на бой 23 октября, на память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, повторяя единодушно, словно едиными устами: «С нами Бог! Убеждайтесь, язычники, что с нами Бог, и покоряйтесь!» И прибавляли: «Помоги нам, Господи, рабам своим!»189 Нескольких залпов пушек и пищалей было достаточно, чтобы заставить отступить людей Кучума за укрепления, сооруженные из земли и веток. Однако казаки, высадившиеся на берег, стоя в воде, не знали, как им дальше действовать. Сзади с лодок их прикрывали товарищи, от насыпи их отделяла поросшая травой полоса берега. Казаки стоят в нерешительности, кто-то продвигается вперед, кто-то остается на плотах. Огонь их скромной артиллерии не повредил насыпь, а вот на казаков обрушился град стрел, раня одних и убивая других, как сообщает летопись. Казаков охватывают сомнения, некоторые отступают. Кучум наблюдает за происходящим с вершины холма, а Маметкул решает, что его час настал. На защитной стене образуются безлюдные промежутки – татары и их союзники бросаются в атаку. Однако огонь казаков – грозное оружие против этой людской волны. Как и в предыдущем сражении, отчаянно чувствуется отсутствие в стане Кучума опытных воинов, еще не вернувшихся из похода. Первые ряды атакующих падают, сраженные свинцом. В следующих рядах начинается паника. Как рассказывает летопись, сначала остяки, затем вогулы бегут с поля боя. В последовавшем рукопашном бою Маметкул ранен, и его перевозят на другой берег реки. Среди татар царит паника, они тоже бегут, а Кучум даже не имеет возможности вмешаться. Летопись доносит до нас его горькие слова: «О, мурзы и уланове, побежим, не медлим; сами бо видим своего царства лишение; силнии наши изнемогоша, и храбрии воини вси побьени быша. О, горе мне, что сотворю или камо бежу! Покры срамота лице мое».190 Хан успел только захватить самое ценное и ушел в степи. Через несколько часов Ермак с товарищами вошли в опустевшую столицу. Они «прославиша Бога, давшаго им победу на поганых и окаянных Агарян, радующеся радостию великою. Богатества же от злата и сребра и паволоки златые и камение многоценное и соболина и кунья и лисиц драгих велми множество взяша».191 Начиная со следующего дня, многие вожди остяков и вогулов, подданных хана, приходили, чтобы поклясться в верности своему новому сюзерену. Как замечает историк XIX века П. Небольсин, «нет сомнения, что многими удачами казаки были обязаны именно [татарским] женщинам».192 Сокровища хана в руках казаков. И Сибирь, его ханство, тоже.
* * *
Завоевание Сибири не сводится к взятию столицы, возвышавшейся над рекой Иртыш. Это долгий процесс, включавший множество эпизодов, о которых еще пойдет речь. Современные историки, как российские, так и иностранные, не склонны, и не без оснований, преувеличивать значимость взятия Искера (Кашлыка) Ермаком и его товарищами. Но завоевание татарской столицы, несомненно, стало поворотным моментом истории. В 1895 году знаменитый художник Василий Суриков, имевший, как известно, казацкие корни, запечатлел столкновение европейской Руси, которую представляли авантюристы-наемники, и коренной татарской Азии. Полотно внушительных размеров (285x599 см) находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Мы видим сцену высадки и атаки под предводительством Ермака на фоне осеннего дня, наполненного желтовато-охристым светом. Атаман окружен есаулами и казаками, первыми ступившими на землю. Они одеты по-разному, что выдает их происхождение с Волги, Дона и с Украины. Некоторые детали одежды – явно трофеи, захваченные во время турецкой и польской кампаний. Напротив – армия хана. В ее рядах представители всех союзников Кучума. Татары с бритыми головами, киргизы и воины из Центральной Азии в монгольских шлемах, остяки (ханты) из сибирской тайги, с длинными волосами и татуировками на лицах, северные вогулы (манси) в шапках из оленьего меха. Огнестрельное оружие против луков и стрел. Христианские стяги казаков против мусульманства и анимализма противников – татар и сибирских народов: столкновение «двух стихий»,193 как поясняет художник в одном из писем брату. Задумав эту картину, Суриков отправился в донские и уральские станицы, чтобы погрузиться в их мир, и привез оттуда много набросков портретов – черты этих казаков мы находим у людей из стана Ермака. Единственное, в чем Суриков отошел от исторической правды, так это в том, что он дал Ермаку в руки штандарт, с которым Иван Грозный брал Казань, а Дмитрий Донской в 1380 году одержал победу над татарами.194 Ожившие под кистью художника XIX века казаки еще одержимы желанием реванша за долгие века татарского ига. Для Ермака настал час славы. Ее эхо еще звучит в многочисленных сибирских легендах и песнях.195 Но триумф продлился недолго. Месяцы, которые последовали после взятия столицы ханства, выдались чудовищно трудными для русских завоевателей. Относительно спокойный период, когда большая часть вождей коренных народов приходила принести клятву верности, стоя на коленях в кругу казаков и целуя окровавленную саблю,196 сменился бесконечными стычками. Хан Кучум ушел в степи, где ему пришлось иметь дело с интригами и дезертирством. Но татары караулят малейшие передвижения русских вне захваченного города. Они не рискуют подступиться к нему, но стараются выманить казачьи патрули, с которыми можно легко справиться. Казаки оказались заложниками своей победы. И речи быть не может о том, чтобы перейти Урал и доставить Строгановым новости и трофеи. Перевалы занесены снегом, реки скованы льдом, на дорогах поджидают вражеские засады. Все решения сомнительны. Нужно ли ехать в стойбище, только что присягнувшее царю, и требовать ясак? Или поберечь людей, но показать свою слабость? Ермак старается ограничивать вылазки ради серьезных боев, которые ждут казаков, в частности после возвращения войска Алея из разграбленных русских земель. В этих стычках казаки всегда выходят победителями. Но их силы тают с каждым сражением, с каждым боем, с каждой засадой, в которые они попадают, перемещаясь по обширной территории. И в какой-то момент отсутствие сил становится критическим. Кучум не осаждает город лишь потому, что это делает за него зима. Казаки голодают в своих лагерях. И, как во всех крепостях и острогах, затерянных далеко на востоке, в их стане начинается цинга. По расчетам некоторых историков, после зимовки, в первые месяцы 1583 года, у Ермака осталось не более двух третей первоначального войска. Стоило ли в этих условиях отправлять людей к Строгановым или к самому царю? За несколько месяцев пребывания в чужих землях ее новые хозяева получили огромное количество трофеев. Это, главным образом, ясак, собранный у сибирских народов. Летопись сообщает, что уже 30 октября, через четыре дня после сражения, первый из предводителей остяков прибыл к воротам с данью. За зиму Ермак накопил несколько тысяч шкур соболей, куниц и бобров.197 Захваченного достаточно, чтобы обеспечить безбедную жизнь казакам и их потомкам. В начале 1583 года они спорят о том, что делать. В конце концов Ермак решает остаться охранять город и окрестности от имени царя и отправить гонцов за подмогой.
Ермак разыгрывал сложную партию, последствия которой могли быть очень серьезными. Он послал людей не к Строгановым, не к тем, кто собрал и отправил его в поход, а прямиком в Кремль, ко двору Ивана Грозного. Хотя казаки не подозревали об «опальной грамоте», в которой царь грозил им виселицей, им было прекрасно известно, что многих из них разыскивали за разбой. Пав в ноги царю, а не купцам, ждущим от них своей доли, посланники Ермака надеются преподнести свою победу лично царю и тем доказать свою преданность государству, полагая, что это лучше, чем доказывать верность частным лицам. Вероятно, они надеялись своим отчаянным поступком заслужить прощение и благодарность государя, и, словно еще более усложняя задачу, Ермак ставит во главе своих посланников Ивана Кольцо, того самого, которому более других грозит опасность, Ивана Кольцо, за головой которого охотятся. Те, кто остается, рискуют не меньше: без бойцов, которые уйдут с ним, казаков должно остаться не более четырех сотен, да к тому же еще ослабленных зимовкой.
Иван Кольцо отправился в путь с двадцатью пятью казаками. С ними проводники из местных, указывающие путь через уральские предгорья. Летопись, отметив, что отъезд казаков состоялся весной 1583 года, после начала ледохода, сообщает, что Кольцо увозит «целую лодку мехов». Сокровища, которые посол Ермака должен доставить к стенам Кремля, огромны: 2 400 шкур соболя, 2 000 шкур бобра и 800 – чернобурой лисицы. Эта дань в пять раз превышает ясак, который Кучум обещал доставить царю, когда еще назывался его поданным.198 Вдобавок Ермак передает царю письмо, в котором содержатся добрые вести о том, что незадолго до отъезда посланников казакам удалось захватить в плен Маметкула, племянника Кучума, а также обещания вскоре прислать новые дары. Как того требовали законы государства, покоренные народы сохраняли свою элиту, интегрировавшуюся затем в зарождавшуюся русскую аристократию. Потомки Кучума и Чингисхана станут Кучумовыми; эта фамилия встречается до сих пор[23].
Посольство пересекло земли Строгановых без задержки. Новость о прибытии казаков летела впереди, и можно представить себе, какое облегчение испытали купцы, услышав об этом. Ведь они жили в ожидании монаршего гнева. И вот летом или в начале 1583 года (летописи не называют точной даты) Иван Кольцо и его товарищи пали к ногам Ивана Грозного и преподнесли ему меха и новые земли – Сибирь. Они умоляют о прощении. Иван Грозный ослаб, он похудел, он бледен и едва держится на ногах. Ему осталось жить несколько месяцев. Уже давно он не получал хороших новостей. За неудачами в войнах против поляков и крымского хана последовало поражение от шведов. Все это омрачает последние дни его царствования. Его не может не восхитить то, что авантюристам числом менее тысячи удалось захватить на востоке куда больше земель, чем утрачено его многотысячной армией на западе. Он тут же дарует высочайшее прощение бывшим разбойникам с Волги, щедро вознаграждает их и одаривает Ермака своей меховой накидкой и кольчугой с имперским орлом. Царь крайне доволен еще и потому, что он ждет на аудиенцию другого посланника, на этот раз чужестранного, в сопровождении англичанина Боуса, который чуть ли не в приказном тоне требовал даровать ему и купцам из его земляков право осваивать северные моря и Обь, чтобы добывать пушнину в Сибири. Новости, привезенные Иваном Кольцо, позволили ему категорически отказать англичанам. Казаки сумели проложить сухопутную дорогу в самое сердце Сибири, и царь имеет на нее монополию. Тем хуже для англичан и других европейцев, перед носом которых захлопнулись морские ворота в Сибирь.
Однако политический контекст последних месяцев жизни Ивана Грозного не слишком благоприятен для атамана Ермака и нескольких сотен казаков, оставшихся в Сибири. В Москве окружение царя поглощено интригами, связанными с наследованием престола, судьба новых завоеванных земель никого не интересует. Иван Грозный умирает 18 марта 1584 года, успев послать на подмогу Ермаку триста человек. Но, когда эта небольшая армия, состоявшая из настоящих профессионалов, присоединилась к измученным и осажденным казакам, выяснилось, что они не привезли с собой никаких припасов. Помощь, на которую казаки так надеялись, превратилась в приговор – голодную смерть. С наступлением зимы 1583–1584 года, второй зимы, которую Ермак проводит на востоке от Урала, татарам уже не нужно рисковать жизнью в стычках. Казаков косят болезни и голод. Им приходится оставить Искер (Кашлык) на произвол судьбы, и они умирают один за другим в укрепленном лагере, устроенном на реке. Летом 1584 года их остается лишь сто пятьдесят, и они по-прежнему отчаянно ждут помощи из Москвы. В начале августа Ермак погибает во время стычки у реки. Согласно легенде, он последним сражался на берегу, предоставляя товарищам возможность добраться до лодок, и утонул из-за тяжести кольчуги, подаренной ему Иваном Грозным. Это был слишком тяжелый удар для горстки уцелевших участников сибирского похода. Совершенно измученные, они решают больше не ждать обещанной помощи и покинуть этот враждебный мир до зимы. Матвей Мещеряк, последний выживший атаман, повел казаков назад, и они снова перешли «Каменный пояс», чтобы вернуться в родные земли.
* * *
Россия ненадолго покидает Сибирь. Не прошло и нескольких месяцев, как хорошо подготовленное войско воеводы Ивана Мансурова тоже переходит Урал. На этот раз, чтобы окончательно обосноваться на новых землях. Через несколько лет, после многочисленных сражений, хан Кучум, никогда не терявший надежды отвоевать свой трон, потерпев очередное поражение от русских, убит своими бывшими союзниками – ногайцами. На смену татарской столице приходит русский город Тобольск, выстроенный неподалеку, на слиянии Тобола и Иртыша. Он становится административным, военным и религиозным центром завоеванных земель. Что же касается соратников Ермака, то они покинули Сибирь лишь для того, чтобы войти в историю и легенды. В 1621 году новый тобольский епископ решил составить мартиролог членов экспедиции – своеобразный эпилог этой невероятной саги. Он надеялся, что этот акт, напоминающий канонизацию, позволит закрепить вхождение новых земель в государство и подтолкнет церковь поучаствовать в завоевании, начав проповедовать христианство среди коренных народов Сибири. И, поразительный случай в истории, архиепископ Киприан пригласил всех выживших участников похода в свой монастырь. Через сорок лет после экспедиции казаки принесли архиепископу «писание сие, како приидоша в Сибирь, и где у них с погаными были бои, и где козаков и ково именно у них убиша».199 Дьяки архиепископа расспросили гостей по одному, стараясь получить связную историю событий, что было непросто. В ту эпоху казаки не умели оперировать такой временной единицей как год. Часто они даже не могли сказать, сколько им лет. Их жизнь измерялась событиями, в которых они принимали участие. Летопись создавалась мучительно. В ней много противоречий и неувязок, но все же она доносит до нас историю рождения русской Сибири.
Впереди – «Великий океан»
Казаки, сбившие замок с ворот кучумовской столицы, не просто присоединили к Руси его ханство. Они также открыли путь на территорию, размер которой превышал самые смелые ожидания. Государство Ивана Грозного уже было одним из самых больших в Европе, а его распространение в северную Азию превращало страну в азиатскую и мировую державу. Движение на восток, начатое казаками Ермака, будет продолжаться, пока не достигнет берегов «Великого океана», как тогда называли Тихий.
Казаки также установили контроль за реками, без которых продвижение вглубь суши было бы невозможным. Как и в европейской части Руси, они отправляются на лодках по рекам, пересекающим эту огромную территорию. Метод хорошо известен: нужно плыть по течению больших рек, а потом подниматься по притокам в выбранном направлении. Таким образом удавалось найти самые удобные пути между водоразделами сибирских рек. По обе стороны волока возводились укрепленные заставы – для контроля этих стратегически важных пунктов. Эпоха набегов, когда Москва или Новгород посылала отряды, которые ради охоты или мародерства проникали за Урал и тут же возвращались назад, осталась в прошлом. Начался период полномасштабной колонизации по определенному плану. Этот процесс находится в руках центральной власти. Во второй половине XVI века в Московской Руси активно идет урбанизация. Историки считают, что 40 % современных русских городов были основаны в это время.200 Следовательно, технологии уже хорошо обкатаны, и повсюду в Сибири организация жизни следует нескольким главным принципам. Прежде всего очень быстро возводится крепость – острог. На то, чтобы срубить деревья и построить первые деревянные стены и башни, уходит обычно неделя или две. Такая скорость связана с «пушной лихорадкой»: без крепости любая попытка собрать ясак в окрестностях обречена на неудачу, а первопоселенцам грозила бы гибель от рук местных жителей. Поэтому-то поспешно и часто небрежно возводят стены, а потом, когда начинается сбор ясака, их делают выше, крепость достраивают и перестраивают, выкапывают рвы, которые затем наполняют водой. Таким образом, сибирские города, как свидетельствуют многочисленные челобитные, хранящиеся в архивах, представляют собой непрекращающуюся стройку. В крепостях сидят не только промышленники, авантюристы, казаки и профессиональные стрельцы. С самого начала появления острогов символическую уральскую границу переходят бродяги («гулящие люди»), беглые крепостные, преступники-рецидивисты и другие «отщепенцы». И вплоть до XX века Сибирь будет оставаться землей обетованной для маргиналов и последователей гонимых религиозных течений. С середины XVII века она принимает старообрядцев, стремящихся укрыться от «мира» и обосноваться в самых отдаленных сибирских уголках в ожидании Апокалипсиса. Государство довольно быстро стало использовать новые территории как место для ссылки и каторги: из 70 тысяч жителей региона, согласно переписи первой половины XVII века, 7 400 были отправлены туда насильно.201
Впервые на новые территории отправляются крестьяне. Некоторых подтолкнуло к этому государство, обещавшее освобождение от повинностей на три года, другие решили сняться с места сами. Свободные, но нищие крестьяне ехали в Сибирь в надежде на лучшую жизнь. Вместе они составляют половину всех переселенцев. Государство поощряет крестьян перебираться в Сибирь не ради захвата этого гигантского пространства (эта цель появится только в начале XX века), а скорее, ради того, чтобы попытаться разрешить проблему продовольствия, которая все возрастает по мере продвижения на восток. В отличие от Северной Америки, где оседают европейские колонисты, Сибирь не может похвастаться прериями с тучными стадами бизонов или же местными зерновыми наподобие кукурузы. Тут много дичи и рыбы. Однако из-за климата выращивать пшеницу невозможно, а ячмень – очень трудно. Отчаянно не хватает фруктов, овощей, витаминов. А в тот период, когда климатические условия позволяют заниматься огородом, в короткое, но жаркое лето, промышленники уходят в леса и сплавляются по рекам, освободившимся ото льда. Власти быстро поняли, что эту проблему нельзя решить без постоянного присутствия крестьян на этих землях. Новоприбывшие крестьяне не остаются в таежных городах, предназначенных больше для пушной торговли, а отправляются на южные равнины, где земли плодороднее. Это вынуждает государство поддерживать продвижение и в этом направлении, в сторону татарских и казахских степей и алтайских равнин. Крестьянам власти дают земли, семена, несколько голов скота и базовые орудия производства. Часть надела обрабатывается владельцем, который должен отдавать продукцию государству. Остальное крестьянин мог использовать по своему усмотрению. Формально эта система перенесена из практики крепостного права, господствовавшего в то время в европейской Руси, но в Сибири отсутствие аристократии и землевладельцев превращает государство и церковь в единственных хозяев крестьян и дает им свободу, о которой нельзя было и мечтать в остальной части страны. В Сибири зарождается свободное крестьянство – сословие, которое будет развиваться в последующие века. Они, несомненно, впитали дух первопроходцев и промышленников. Сибиряки постепенно стали походить на них, да и на первооткрывателей американского запада – своей независимостью, самодостаточностью и любовью к риску.
Продвижение колонизаторов напоминает волну, которая катится по течению огромных рек: сначала к северу, к Арктике, потом к югу, к истокам, иногда расположенным очень далеко, и, наконец, вдоль всех основных и неосновных притоков. Как только земля освоена, как только там появляется острог и местные народы соглашаются платить ясак, волна катится дальше, к востоку, к бассейну следующей реки, где все этапы заселения повторяются. Движение, начавшееся с Урала, откуда Ермак совершил свой переход, позволило занять бассейны Оби и Иртыша, затем – Енисея, и, наконец, Лены. Все эти реки входят в десятку самых больших рек мира.
Первый город, Тюмень, был построен в 1586 году, на пути, которым прошел Ермак. Затем неподалеку от развалин города Кучума в 1588 году возник Тобольск, ставший первой сибирской столицей. В 1593 году в верховьях Оби, в начале второго пути через Урал, – город Березово. В 1594 году выше по Оби – Сургут. На севере, в тундре, в 1601 году выросла легендарная полярная Мангазея, о которой мечтали все охотники за пушниной. В 1604 году в начале волока от Оби в бассейн Енисея основан Томск. В 1619 году новым пунктом для дальнейшего освоения Сибири становится Енисейск. В 1628 году на юге вырастает Красноярск, затем, в 1631 году, на одном из самых крупных притоков Енисея Ангаре – Братск. Годом раньше на пути между бассейнами Енисея и Лены появился Илимск. А в 1632 году в самом сердце Восточной Сибири возникает острог Якутск. Оттуда в 1648 году отправляется экспедиция к «священному морю», о котором говорят буряты, к потрясающему Байкалу. В 1652 году неподалеку от озера появляется Иркутск, в будущем – главное место торговли с Китаем.
* * *
Дата основания гордо красуется при въезде в каждый сибирский город. Даже простое их перечисление показывает, с какой скоростью продвигались промышленники. В промежутках между датами скрываются месяцы и годы пути в неизвестное на лодках, тяжелейшие зимовки, тысячи километров вверх по течению, поиски проходов по воде и сквозь тайгу. Русские первопроходцы упрямо двигаются на восток не из-за страсти к географическим открытиям. Новые реки, новые территории – это результат другой страсти: охоты за пушниной, особенно за соболиными шкурками. Расширение империи, рост ее влияния необходимы для того, чтобы отвоевать ценнейший ресурс – «мягкую рухлядь». Сбор ясака остается самым простым и эффективным способом пополнения казны. Продвижение русских к Тихому океану, таким образом, оценивается результативностью охоты. Промышленники, мечтающие разбогатеть, не ждали полного истребления зверя, чтобы двигаться дальше. Их действия определял расчет соотношения между возможной прибылью и трудностями. Охотники остаются на одном месте до тех пор, пока до промысловой территории можно добраться по реке и пока достаточно зверя. Как только его становится меньше, как только промысел начинает требовать чрезвычайных усилий, как только конкуренция усиливается, они задумывают двигаться дальше, рискуя отправиться в неизвестность, провести еще много месяцев или лет в борьбе со стихиями.

Коренные народы Сибири, которых завоеватели встречают, чаще всего – кочевые охотники, не имеющие постоянных жилищ. Их разбросанность, а также очевидное военное преимущество русских, обладавших огнестрельным оружием, затрудняли сопротивление. Тем не менее, продвижение не проходило спокойно. После Кучума, который вел партизанскую войну в течение еще лет пятнадцати, татары продолжали бунтовать. В 1608 году они выступили под предводительством «татарской Жанны д'Арк», княгини Коды.202 А на востоке, примерно в среднем течении Енисея, русские столкнулись с тунгусами, которые на протяжении семидесяти лет то и дело нападали на них, сопротивляясь таким образом захватчикам. Другие народы Крайнего Севера – якуты, жившие на берегах Лены, чукчи, населявшие отдаленный северо-восток континента, коряки Камчатки – также оказались свирепыми противниками. Наконец, бурятам, близким родственникам монголов, на протяжении достаточно долгого времени удавалось тормозить продвижение промышленников к Байкалу. Они сумели добраться до озера только через десять лет после выхода к Тихому океану.
В августе 1639 года стало казаться, что преследование соболя подошло к концу. Казак Иван Москвитин вышел из Якутска, основанного на берегу Лены, пересек горы и через много месяцев тяжелейшего похода оказался на берегу Тихого океана, который русские называли «Великим океаном». В пути люди Москвитина узнали от проводников эвенков о «Ламском море» и его сокровищах, в частности, о месторождениях серебра. Казаки, многие из которых выросли в поморских поселениях у Белого моря, воспринимали море как источник богатств. И вот у их ног кишела рыба. Первопроходцы прозвали реку, которая привела их к океану, Охотой. Они достигли цели. Через несколько лет море, к которому они вышли, получило название Охотского. За 25 лет до них с восточного берега Тихим океаном уже любовались испанцы. Что же касается Москвитина и его людей, то они были первыми европейцами, обосновавшимися на западном берегу. В Северной Америке колонисты еще не перешли Аппалачских гор, а русские уже стояли у Тихого океана. Менее чем за 60 лет было пройдено больше 6 000 км. Тысяча километров в год – все время на восток – тысяча километров поиска, тысяча километров промысла.
* * *
Однако соболиная лихорадка не ослабевает. Как только рождаются слухи, что далеко за горизонтом лежит земля обетованная, как тут же находятся авантюристы, готовые рискнуть всем и отправиться туда. Сколько их было всего в те 40-е годы XVII века на самых дальних рубежах империи, до которых из Москвы пришлось бы добираться порой больше года? Наверное, несколько сотен. Рассказы путешественников, а также архивы Сибирского приказа, занимавшегося новыми территориями, свидетельствуют, что в Якутске, например, в самом отдаленном от столицы административном центре, жилые избы, окружившие острог, тянулись почти на километр вдоль Лены. Там квартировали промышленники, торговцы пушниной, представители крупных торговых домов Москвы и Архангельска, учетчики и контролеры, забиравшие и обеспечивавшие хранение пушнины, а также стрельцы, осуществлявшие полицейские функции и защищавшие крепость. И, наконец, казаки, которые то выполняли поручения воеводы, то отправлялись на промысел уже за свой счет. Иногда они охотно участвовали во многокилометровых экспедициях, которые организовывали власти, исследовали окрестности: тайгу, озера, леса и болота. Часто такими смельчаками оказывались поморы, жители севера, Архангельска, берегов Белого моря, земель Строгановых, где крепостное право было распространено в меньшей степени, чем в европейской части страны. Это были сильные люди, умевшие передвигаться как по морю, так и по рекам, умевшие охотиться и сражаться. Их заставила отправиться в Сибирь нехватка земель или неуверенность в собственном будущем в родных местах.
Именно таким был и Семён Дежнёв. В 1638 году он прибыл в Якутск. Советские историки много лет планомерно изучали архивы, чтобы восстановить основные события его жизни. Отправившись неграмотным бедняком на поиски счастья, он сумел добраться до города на Лене – Якутска, о чем свидетельствует контракт с отпечатком его руки вместо подписи. Путь Дежнёва типичен для сибирского казака того времени. Как и в случае с Ермаком, мы не знаем ни его возраст, ни детали его внешности. Дьякам, записывающим под диктовку его рассказы, не пришло в голову набросать портрет того, кто заслужил право попасть в список самых знаменитых первооткрывателей в истории. Мы знаем, что он по происхождению был помором. Известный исследователь Арктики Михаил Белов без колебаний называет местом его рождения деревню неподалеку от Пинеги, к востоку от Архангельска.203 Что вынудило Дежнёва пойти вслед за другими дальше, навстречу солнцу, неизвестно. Возможно, он входил в состав отряда в 500 человек, собранного для разных нужд в 1630 году губернатором Тобольска. Таким образом, он попал сначала в главный город Сибири, затем оказался приписан к Енисейску, находившемуся на 1 500 км восточнее, а оттуда уже оказался в Якутске, до которого было еще 2 000 км. Он поступил под начало воеводы Головина, управлявшего этой территорией. Дежнёва отправили добывать соболей и, по всей видимости, он был прекрасным промысловиком, так как стал единственным казаком того времени, сумевшим предъявить фискальным служащим Якутска сто шкурок. Дежнёв провел в Якутске пять лет, ему поручали военные операции по усмирению местных жителей. Так, он собирал ясак у непокорных якутов, напавших на главную местную крепость. По возвращении Дежнёв сообщил в своем отчете, что взял 140 соболей у туземного князя Сахея, его детей и родни, не уточняя, каким образом ему это удалось.204 Тогда же его попросили разрешить тяжбу между двумя кланами якутов из-за 51 коровы. Наказ звучал так: «Разделить их без порчи, без драки».205 И каждый раз Семён Дежнёв оказывается на высоте. Его авторитет растет.
В казацком поселении в Якутске, на самой дальней границе империи, ходят рассказы, услышанные от якутов. Их приносят промышленники, побывавшие далеко от крепости. Говорят, например, что на востоке земли соседей юкагиров изобилуют богатствами. Один казак, возглавивший разведывательную экспедицию в том направлении, уверяет в своем отчете, что там «по всем тем рекам живут многие пешие и оленные люди, а соболя и зверя всякого много по всем тем рекам и землицам… а у юкагирских же де, государь, людей серебро есть».206 Свидетельства накапливаются. Другой казак, Елисей Буза, бросивший якорь у якутской пристани, привез баснословное количество пушнины: 1 080 шкурок соболя, не считая десятины, которую он планировал сдать в казну, – 280 шкурок, а еще четыре соболиные шубы и девять лисьих и соболиных кафтанов! С ним три заложника-юкагира, которые тоже расхваливают свои земли. Как они говорят, около Индигирки протекает большая река Нерога, «а пала де та река в море своим устьем, а на той де реке Нероге у устья морского недалече в горе, в утесе над рекою серебряная руда».207 Последнее замечание очень ценно: казаки, старавшиеся уговорить власти поручить им новую экспедицию, знают, что в Москве считают поиски серебряных руд столь же важной задачей, что и добыча «мягкой рухляди». Преемники Ивана Грозного, которым приходится ввозить монеты из-за границы, стремятся как можно быстрее отыскать собственные серебряные руды, столь необходимые для экономики. Упоминая в отчетах наличие серебра на неразведанных еще территориях, они надеются вынудить местные власти снарядить новые экспедиции. Но есть и еще одна причина, сообщают они: на тех территориях людей много, «что волосов на голове».208 А значит, там можно собрать несметный ясак.
* * *
Семён Дежнёв – один из тех, кто надеется возглавить новую экспедицию. В 1641 году его направляют служить на реку Оймякон, в самое отдаленное и трудно достижимое место. Никто туда особенно не рвется. В тех местах, в центре Верхоянского хребта, зимой температура иногда опускается до -60 °C. В архивах Якутска содержатся сведения, что у казака Семёна Дежнёва была жена, происхождением якутка по имени Абакаяда Сючю. Перед тем, как уехать из Якутска, Дежнёв, опасаясь за жену, добился ее крещения под именем Абакан. Переход в православие был равнозначен натурализации. Дежнёв также отдал одному из якутов свою корову с теленком «для корма» в его отсутствие.209 Казак надеялся вернуться через год, но провел в походе 20 долгих лет, совершив один из самых потрясающих подвигов в русской истории.
Среди немногих казаков, изъявивших желание возглавить новую экспедицию, несомненно, заслуживает особого упоминания Михаил Стадухин. Он, как и Дежнёв, происходил из пинежских поморов. Однако в остальном между двумя этими людьми было мало общего. Стадухин родился в зажиточной семье, его дядя входил в число самых богатых купцов – поставщиков двора и был близок к самому царю. В казацкой иерархии Стадухин, несомненно, стоял куда выше, чем Дежнёв. Если верить скупым свидетельствам административных и юридических архивов, он был человеком амбициозным и деятельным, но при этом вспыльчивым и алчным. Его побаивались купцы, поскольку он пользовался расположением воеводы Якутска. Но даже советские историки, с готовностью указывавшие на недостатки представителей состоятельных классов, признавали его таланты как организатора и руководителя экспедиций. Он сполна прошел проверку трудными походами. Биография Стадухина, его связи, естественно, выдвигали этого казака на первый план при планировании крупной экспедиции. Дежнёв хорошо знал Стадухина, поскольку был его помощником во многих делах, и не пытался оспаривать его первенства или опровергать доводы в пользу соперника. Будущему двух совершенно непохожих людей суждено было тесно переплестись, и судьба не замедлила постучать в их двери.
Итак, Михаил Стадухин оказался во главе экспедиции, отправлявшейся на поиски пути к легендарной восточной реке – Колыме. И Семён Дежнёв – среди тех, на кого он мог опереться. Казаки выбрали самый короткий маршрут: волоком до Индигирки, потом сплав по этой реке до океана, после чего – вдоль берега до устья Колымы. В целом 2 500 км по тундре, затем на лодке между льдов. Когда летом 1643 года казаки добираются, наконец, до устья Колымы, река производит на них глубочайшее впечатление. Даже бывалый Стадухин поражен. «Колыма река велика есть с Лену реку, – объяснял он после возвращения воеводе Якутска, – идет в море также, что и Лена под тот же ветер под восток и под сивер, и по той де Колыме реке живут иноземцы колымские мужики, свой род оленные и пешие и сидячие многие люди и язык у них свой».210 Как всегда, казаки начали со строительства избы для зимовки, а затем уже стали возводить в основании дельты острог.
Колыма оправдала надежды. Река и ее бассейн, которые находятся на краю света, кажутся источником невиданных богатств. В том числе и тех, о которых мечтали Стадухин, Дежнёв и их товарищи: мех черных соболей очень быстро будет признан самым красивым и, следовательно, дорогим. Тут водятся также лисы, куницы, белки и белые медведи. Но, главное, в верховьях Колымы есть железо, серебро, золото и даже уран – их откроют гораздо позже. Сталинский ГУЛАГ раскинет в ее белоснежном бассейне сеть самых страшных своих лагерей.
А дальше? Дальше вдоль побережья, дальше за горами? Что находится там? Другие сокровища, другие районы, возможно, еще более богатые? История, как хорошо известно, повторяется. И Стадухин, и Дежнёв рвутся двигаться дальше. Жители Колымы говорят не только о соболях и серебряных жилах, но и о кости, о «рыбьих зубах», то есть о моржовых клыках, которые в изобилии можно найти на берегу океана. Для этого нужно просто добраться до реки, находящейся где-то неподалеку.
Юкагиры называют ее Погыча, на современных картах она носит чукотское имя Анадырь. Жители Колымы говорят, что добраться до нее можно, если преодолеть «каменный пояс», который преграждает путь. Несколько месяцев пути займет дорога через гребни и долины, за которыми лежат первые притоки этой реки. По рассказам, путь долог и очень опасен: живущие там кочевники чукчи не терпят вторжений. Они слывут грозными воинами. Стадухин и Дежнёв, мечтающие о новых богатствах, полагают, что они видели отроги этого «каменного пояса». Во время долгого пути до Колымы они обогнули огромный горный массив, оставшийся южнее. И раньше, в походах из Якутска или Оймякона, местные проводники тоже упоминали какую-то большую реку за горами. Однако они говорили, что эта река впадает в восточный океан, в отличие от Лены, которая растворяется на севере в «Ледяном море». Этот океан, конечно же, и есть Тихий, «Великий», океан, до которого несколькими годами ранее сумел добраться казак Москвитин, основавший крепость Охотск. Если речь шла о реке за этим «каменным поясом», то, значит, казаки находились на перешейке или на полуострове, омываемом с двух сторон разными океанами. Географическая загадка, с которой столкнулись казаки, чрезвычайно занимала их. Об этом свидетельствуют некоторые замечания в отчетах, надиктованных в Якутске. Повторюсь еще раз: казаками двигала не жажда научных или исторических открытий, но соображения исключительно практического характера. Если ватага находилась на перешейке или полуострове, как попасть на восточный берег, где их ждет обещанная драгоценная кость и другие сокровища? Кажется, что самый верный путь лежит через горы: для этого сначала можно пойти по знакомому маршруту, а затем податься на неведомые земли чукчей. Стадухин предпочитает именно этот вариант и, поскольку по статусу выбирать ему, экспедиция принимает решение. Он возвращается в Якутск, чтобы подготовить новый поход. Дежнёв же обдумывает другую возможность, куда менее надежную: попытаться пройти на восток морем, придерживаясь берега. Маршрут неизвестен, потому что даже рыбаки юкагиры не помнили, чтобы кто-то сумел пробиться так далеко через льды. И потом, есть еще опасность, о которой не мог не думать Дежнёв: если он находился на узкой полосе суши между океанами, ему никогда не удастся достичь восточного океана. Обстоятельства вынуждают его признать – они сумеют добраться до цели по морю только в том случае, если находятся на полуострове, и не просто на полуострове, а у крайней точки континента, на котором находятся Европа и Азия. От одной мысли об этом кружилась голова. Ведь это поистине край земли. А в те далекие времена край земли – почти конец света.
Что мог знать Семён Дежнёв о неведомых землях, которые его ждали? Советский историк Михаил Белов детально реконструировал географическую обстановку событий, то есть те знания, которыми мог обладать Дежнёв, сумевший достичь Колымы. К 1640 году контуры Арктики достоверно показаны на картах только до устья Оби, куда так хотели попасть европейские мореплаватели. Это сильно западнее маленькой крепости, в которой находился Дежнёв, их разделяют целых три моря (Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское). На картах фламандских, английских или скандинавских картографов рубежа XVI–XVII веков северная часть Евразии – плод воображения. Однако все сходятся во мнении, что далеко на севере лежат обширные земли – по сути, целый континент. Картограф Абрахам Ортелий (1572) предполагал, что линия азиатского побережья Арктического моря резко поворачивает к полюсу, а потом незаметно теряется. Ортелий полагал, что полярная область планеты – обширное пространство, которое он назвал «Септентрио» («Север»).211 Меркатор (1595) поместил на макушке планеты континент, состоящий из четырех больших островов, окруживших полюс, который занят вечными льдами.212 Геррит де Фер (1598), вернувшийся после трагической экспедиции Баренца, также изобразил неизвестный континент, нависший над Азией.213 Николаас Витсен (1651) был уверен, что этот загадочный северный континент соединен с Новой Землей, закрывающей вход в Карское море.214
Дежнёву вряд ли были известны карты, созданные в Антверпене, Дуйсбурге и Амстердаме, даже если голландские купцы и завезли их в Архангельск. Однако гипотеза российских и советских историков состоит в том, что эти карты были основаны на рассказах поморов, которые только и отваживались бывать в тех водах. Собственно, европейские мореплаватели знали только эти рассказы. Поэтому карты стали лишь иллюстрациями к тому, о чем европейцы услышали на замерзших берегах Арктики. Михаил Белов задался вопросом: раз ни один европеец не сумел попасть в Карское море, откуда же еще брались та информация, те гипотезы, которые нашли отражение на картах? Что же касается рассказов поморов, то, скорее всего, такой человек, как Дежнёв, их знал назубок.
* * *
На самом деле, поморы часто рассказывали о загадочной «Новой Земле», которая якобы притаилась на севере нашей планеты. Михаил Стадухин тоже упоминает ее, когда излагает косвенные географические сведения, полученные от коренных народов: некоторые говорят об огромной территории, которая не является островом, и которая, скорее всего, находится за легендарной рекой Погычей – Анадырем. Стадухин делает из этого вывод, что речь идет о неизвестном огромном континенте и что эта «Новая Земля» должна, скорее всего, огибать весь азиатский континент и спускаться к югу. Он писал: «Они [казаки] и промышленные люди смечают, все то один, идет, что ходят из Поморья, с Мезени на Новую Землю и против Енисейского и Тазовского и Ленского устья тот Камень тож все одна, что называют Новую Землею».215 Эта гипотеза только подтверждает, что Дежнёв сильно рискует: если «Новая Земля», северный континент, действительно находится «против реки», которую они ищут, остается только надеяться, что он не перегораживает дорогу, соединяясь где-то вдалеке с Азией.
Несмотря на смутность географический представлений, находятся купцы, готовые снарядить экспедицию. Первый из них – некий Федот Алексеев. Конкуренция, царившая от Якутска до крепости на Колыме, изрядно потрепала его, и он решил вложиться в самое рискованное предприятие в надежде поправить свои дела. С властями договорились о своеобразном сотрудничестве государства и частных лиц, чтобы разделить риски и прибыль. Семён Дежнёв становился представителем царя и главой экспедиции, а Федот Алексеев – основным спонсором и вторым человеком в ней. В 1647 году экспедиция стартовала, но льды остановили ее. Следующей весной, когда Алексеев надеется предпринять вторую попытку, слухи о подготовке многообещающей экспедиции всполошили конкурентов. И еще каких конкурентов! На этот раз представители двух мощных московских торговых домов, Усов и Гусельников, требуют, чтобы их тоже взяли в экспедицию. Окончательно осложняет дело недавно появившийся искатель приключений казак Герасим Анкудинов, который изо всех сил набивает себе цену, интригует и строчит доносы на Семёна Дежнёва, чтобы занять его место. Положить конец этой распре было решено так: Анкудинов, имевший неважную репутацию, отправится вместе со всеми, но не в основной группе, возглавляемой Дежнёвым. Он двинется в путь со своими людьми на одном коче и будет держаться поодаль от Дежнёва. Наконец, 20 июня 1648 года экспедиция вышла в море. Вместе с группой Анкудинова в ней участвовало 90 человек. Была и одна женщина – якутка, гражданская жена купца Алексеева. Состав экспедиции очень показателен, если иметь ввиду ее цели: за исключением 18 человек, непосредственно подчинявшихся Семёну Дежнёву, остальные – промышленники, независимые охотники, купцы и их люди, надеявшиеся, что они купили билет в Эльдорадо.216 Каждая группа берет все необходимое для путешествия, а также товары, которые предполагалось предложить жителям тех неведомых мест для обмена. Только для группы Федота Алексеева (примерно 30 человек) был утвержден следующий список: 11,5 тонн муки, 33 килограмма олова, шестьдесят шесть – медных котлов, десяток голубых жемчужин, пять стеклянных бусин, 71 м шерстяной ткани, 50 колокольчиков, 770 м рыболовных сетей, 25 сетей для ловли соболей, 60 топоров, 33 килограмма рыболовной бечевки, 71 м грубого холста.217 Инструменты и сети для мужчин, бисер и ткани для чукотских женщин – это светский набор европейских землепроходцев. Люди и снаряжение разместилась на семи кочах. Эти рыболовецкие суда и есть главный козырь русских полярных мореплавателей. Придуманные поморами с Белого моря, они менялись из века в век и постоянно совершенствовались под влиянием накопленного опыта плавания во льдах. Их небольшой размер, примерно 20 м в длину, 6 или 7 м в ширину, их осадка менее чем в 2 м позволяли ювелирно маневрировать, что крайне необходимо в полыньях, то есть пространствах открытой воды в ледовом покрове, и в разводьях между льдинами. Корпус кочей в профиль выпуклый, почти полукруглый. Голландец Николаас Витсен называл их «круглыми лодками». Это позволяло максимально смягчить давление дрейфующего льда:218 коч не сдавливается льдом и не лопается, как грецкий орех, а приподнимается над льдиной. Дно судна плоское, что позволяет плыть также и на мелководье. Довершает все квадратный парус. Кочи воплощали многовековой опыт поморов: все подчинено задаче противостоять льдам и следовать своим курсом, сохраняя корабль в целости. Однако кочи были плохо приспособлены для плавания в открытом море при непогоде.
В конце июня, покидая Колыму, Дежнёв не знает, ни как долго продлится его путешествие, ни сколько километров придется преодолеть, ни с какими трудностями он столкнется. В конце июня начинается ледоход, и казаки вынуждены двигаться со скоростью освобождения реки ото льда. Иногда приходится ждать несколько дней или даже недель, прежде чем расчистится путь. Техника продвижения, выбранная главой экспедиции, состоит в том, чтобы использовать полосу свободной воды, которая образуется между берегом и большими сидящими на мели льдинами. Эта техника называется «идти заберегами». Она защищает от сильных волн, но заставляет двигаться строго вдоль берега, огибая бухты или широкие устья, не отваживаясь их пересечь. Движение происходит очень медленно, и судно оказывается во власти северного ветра, который может в любой момент погнать лед к берегу и запереть коч.
Итак, семь кораблей медленно движутся на восток. До них только каяки местных жителей скользили между темными скалами и внушительными массами голубого льда. И после них на протяжении двух с половиной веков ни один мореплаватель, ни русский, ни иностранный, не сумел повторить этот путь. Более поздние исследования показали, что Семёну Дежнёву, по всей вероятности, повезло: в тот год из-за сильных ветров паковый лед отодвинулся к северу. У побережья битый лед очень тонкий и рыхлый. Экспедиция продвигается во влажном тумане, стараясь не терять из виду берег.
От этого потрясающего похода не дошло ни записей, ни детального рассказа, ни бортового журнала наподобие тех, что велись на европейских кораблях, ни навигационных ориентиров, ни краткого отчета. Одно из самых значительных открытий в европейской истории проходит почти бесследно: первопроходцы – неграмотные казаки. Немногие скупые сведения, позволяющие хоть что-то узнать о том, как проходила экспедиция, сохранились благодаря надиктованному Дежнёвым отчету в Якутске через 12 лет, а также рассказам оставшихся в живых казаков, впрочем, очень лаконичным.
Первые сведения, которые кажутся казакам достойными упоминания, относятся к началу сентября, когда за их плечами было уже два с половиной месяца пути. Экспедиция заметила далеко в море каменный мыс, названный Дежнёвым «Большим каменным носом». За два с половиной месяца пути семь кочей преодолели 2 350 км, то есть они шли со скоростью 30 км в день. Это очень медленно. Такая скорость свидетельствует о долгом ожидании погоды: когда позволял ветер, коч мог проходить до 200 км в день. По всей видимости, казаки не обнаружили ни малейших признаков «Новой Земли». Но Дежнёв не особенно раздосадован. Его цель – двигаться быстрее зимы, а она уже была на подступах, и как можно быстрее попасть в менее суровые воды, и только тогда уже думать о конечной цели экспедиции. Дежнёв замечает в море, на широте «Большого каменного носа», острова, которые могли бы быть частью «Новой Земли».219 По его мнению, «на тех островах живут чухчи, а врезываны у них зубы, прорезываны губы, кость рыбей зуб», а «Каменный Нос» лежит между севером и северо-востоком.220
«Большой Каменный Нос» – это крайняя точка евразийского континента, а замеченные путешественниками острова могли быть островами Диомида в Беринговом проливе. Что же касается внешности чукчей, то речь шла, вероятнее всего, о небольшом украшении, выточенном из моржового клыка, которое вставлялось в прорезь в нижней губе. Семён Дежнёв ни на одну секунду не мог представить, что он находился в нескольких десятках километров от Америки. Сам того не зная, он уже получил ответ на географическую загадку, волновавшую интеллектуальную элиту Европы: Америка и Азия не соединены между собой. Скромные казаки-первопроходцы доказали это. Понимал ли Дежнёв, что он был первым в Европе человеком, достигшим края света, конечной точки Азии? И, следовательно, первым, кто попал из «Студеного моря» в «Теплое», то есть Тихий океан? После того как они обогнули мыс, курс его кочей внезапно изменился. Они шли на восток, придерживаясь береговой линии, и вдруг поворачивают на юг-юго-запад, «под лето», как замечает Дежнёв.221 Он также отметил, что характер течения резко изменился: без северного ветра сзади кочи не могли двигаться вперед: «Море большое и сувои великие о землю близко, без доброй снасти судовой и без доброго паруса и якоря идти не смели».222 Казаки столкнулись с поверхностным течением из Тихого океана в Северный Ледовитый. Наконец, Дежнёв рассказывает о большом количестве поселений чукчей на берегу, строения которых вместо балок подпираются китовыми костями[24]. Все увиденное укрепило Дежнёва в мысли, что они попали в особенное место. Позже, обратившись с прошением к царю Алексею Михайловичу, он опишет эти места как мыс, отделяющий «Студеное море» от Восточного, простирающегося на юг.223
Дежнёв еще и потому не особенно красноречиво повествовал о первом этапе своего пути, что Ледовитый океан был к нему милостив. Однако за «Большим Каменным Носом» начались проблемы. Сентябрь – начало сезона штормов. Первый шторм застал флотилию в проливе, который теперь называется Беринговым. Коч Анкудинова разбился, и Дежнёв был вынужден взять «вора» на один из своих. 20 сентября, когда казаки пристали к берегу, вероятно, чтобы пополнить запасы воды, на них напали чукчи. Во время стычки был ранен купец Алексеев. Но все это не шло ни в какое сравнение со страшным штормом, обрушившимся на кочи, когда они преодолели второй большой мыс, называющийся сегодня Чукотским. За ним казаки перестали видеть приветливое побережье, многочисленные бухточки, четкие гребни гор на горизонте. Они находились в открытом океане. Налетевший бешеный ветер разбросал кочи, державшиеся до того вместе: «И того Федота, – вспоминал затем Дежнёв, – со мною, Семейкою, на море разнесло без вести». Одна фраза, описывающая катастрофу. Пропал не только Алексеев, главный спонсор экспедиции и соратник Дежнёва. Исчезли и пять других кочей. Да и корабль Дежнёва в плачевном состоянии. 1 октября где-то у берегов Анадырского залива и он потерпел крушение. Из 80 участников экспедиции с Дежнёвым осталось лишь 24 человека.
А что же стало с другими? Практически все они утонули. Один или два коча потерпели кораблекрушение южнее, по пути к Камчатке. Судьбе было угодно, чтобы Дежнёв сам узнал об этом несколькими годами позже благодаря стычке с кочевниками коряками, пришедшими с Камчатки. Среди пленных он обнаруживает якутку, которая отправилась в поход с купцом Алексеевым, пропавшим во время бури. Она рассказала, что после кораблекрушения команда пыталась выжить, устроив лагерь из подручных средств, что ее гражданский муж Алексеев и «вор» Анкудинов умерли от цинги, что горстка уцелевших после того, как на них напали местные, пыталась бежать морем, бросив ее на произвол судьбы. Этот рассказ породил легенду, что некоторые участники экспедиции доплыли до Камчатки или Аляски.
Итак, Дежнёв и его изнуренные испытаниями товарищи остались без коча, что означало невозможность возвращения, и почти без снаряжения. Они еще надеются добраться до реки их мечты, той самой «соболиной реки», где можно лопатой собирать ценнейшую кость. И им это удается после десятинедельного похода, о котором Дежнёв, человек, привыкший изъясняться скупо и без прикрас, рассказал так: «И шли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы… и попали на Анадыр-реку близко морю».224
Счастливый конец? Вовсе нет. Следущая фраза выдает горькое разочарование, постигшее группу смельчаков: «и рыбы добыть не смогли, лесу нет, и с голоду мы, бедные, врозь разбрелись». Спасайся, кто может. Каждый сам по себе. Нет леса, следовательно, нет ни соболя, ни дичи, то есть ни трофеев, ни еды. После многих месяцев пути и тяжких испытаний – настоящая катастрофа. Но и это еще не все. Дежнёв отправляет половину оставшейся ватаги вверх по реке на разведку – на поиски кочевников или более гостеприимных мест. Через 20 дней трое вернулись в состоянии крайнего истощения. Они рассказали, что никого не нашли, что места повсюду совершенно безлюдные. И что их товарищи упали, не дойдя 3 км, поскольку не были в силах сделать хотя бы еще один шаг, выкопали ямы в снегу и ждут. Дежнёв отправил людей им на подмогу, собрав «последние свои постелишко и одеялишко», но те никого не нашли. Возможно, отставшие были убиты охотниками чукчами. Первопроходцев, сумевших обогнуть Азию, осталось всего 15. Их ждала зима.
И все-таки ей не удалось доконать сибирских казаков. Весной 1649 года они уже в верховьях реки Анадырь. Пройдя вверх по реке, они нашли лес, построили себе убежище для зимовки и лодку, которая должна была позволить им продолжить путь. Более того, они напали на становище кочевников, взяли в заложники их предводителя и потребовали выплаты ясака, пообещав, конечно, в будущем защиту царя. И все же путешественники разочарованы: «рыбы красной приходит много, – напишет впоследствии Дежнёв, – а та рыба внизу Анадыру от моря идет добра», но все же «река Анадыр не лесна и соболей в ней мало, с вершины малой листвяк днищей на шесть или на семь, а иного черного лесу нет никакого, кроме березнику и осинника, а от Малого Маена, кроме тальника, нет лесу никакого, а от берегов лесу нешироко, все тундра да камень».225 Люди Дежнёва готовы были приспособиться ко всему, но отсутствие соболя убивало всякую надежду на успех.
Через год горстку выживших ждал огромный сюрприз. Согласно летописи, одним весенним днем Дежнёв и его товарищи услышали собачий лай и крики. Буквально ниоткуда выскочили русские! И во главе их – старинный соперник Семёна Дежнёва, сам Михаил Стадухин. После многих неудачных попыток прорваться через горы и по морю, бывший начальник Дежнёва в свою очередь сумел пересечь Чукотку до «чудесной» реки, впадающей в Тихий океан. Дальше путь шел на лыжах и на санях вдоль рек, и после долгих месяцев пути по горам, оглаженным ветрами и снегом, по пустынным землям размером с Европу, он наткнулся на группу Дежнёва. Обошлось без кровопролития, и неподалеку друг от друга возникают два лагеря. Пушного зверя мало, перспектива бороться за добычу не особенно радует обе стороны. Стадухин убежден, что в этих местах не стоит задерживаться, и довольно быстро уходит на юг, в сторону Камчатки. Что до Семёна Дежнёва, то он готовится провести еще лет десять на землях чукчей. Он не хочет возвращаться c пустыми руками и, поскольку соболя нет, решает искать кость, о которой говорили местные племена. Именно слухи увели его, Стадухина и их товарищей, многие из которых погибли, за 10 000 км от родных мест. Дежнёв не намерен сдаваться. Он устанавливает связь с Колымой и Якутском, получает подкрепление и покоряет новые племена чукчей и коряков. Беды преследуют его: в 1655 году шторм поглотил 14 охотников в море, и в тот же год половодьем унесло шесть изб и 20 складов, где хранились запасы провизии и пушнины. Но иногда им везло. Весной 1652 года в устье реки Анадырь Дежнёв и его люди нашли укромную бухту, которая служила местом размножения моржей. Весь берег и скалы вокруг населены «морским зверем моржем» и усыпаны «заморным зубом зверя того».226
Когда начинается охота, говоря словами Дежнёва, «весь зверь с воды с моря на землю не вылегал, в море зверя добре много»,227 однако охотники возвращаются с внушительным трофеем – более двух тонн «рыбьих зубов».

Отправляясь в обратный путь в Якутск, Семён Дежнёв идет через горы. Плавание 1648 года никто не сумел повторить, хотя попытки предпринимались неоднократно – в обе стороны. Ни один коч не смог бы увезти все собранные им сокровища. Только доля одного Дежнёва весила более двух с половиной тонн. Это настолько большое состояние, что во всем Якутске не хватило средств, чтобы выкупить товар. Чиновники отправляют драгоценный груз в Сибирский приказ в Москву и просят Дежнёва получить расчет в столице. Ему удается добраться до Москвы через два года, в сентябре 1664 года, и он подает Алексею Михайловичу челобитную о выдаче «заслуженного денежного и хлебного жалованья» за службу, которую нес с 1643 по 1661 год. Дежнёв продиктовал дьякам Сибирского приказа текст, в котором повторил отчеты, отсылавшиеся ранее им время от времени в Якутск с Тихого океана. В нем он рассказывает обо всех приключениях, случившихся во время путешествия, которое привело к расширению границ империи. Царь велел заплатить ему, треть – серебряными рублями, а две трети сукном, очень ценной материей, и пушниной. Но даже центральный приказ, занимающийся сибирскими делами, не может собрать всю сумму. Наличных денег не хватает. Дежнёв употребит их, главным образом, на то, чтобы выплатить огромные долги. Он вернется на свою службу в Сибирь и умрет в 1673 году во время пути в Москву.
Его смерть прошла незамеченной, и неизвестно, сколько ему в тот момент было лет. Его рассказы осели в архивах Якутска и Москвы. Тем временем администрация переехала в новую столицу, в Санкт-Петербург. Прошло много десятилетий прежде, чем снова всплыло имя казака Семёна Дежнёва. Этот человек, родившийся в одной из поморских деревень, доказал существование прохода между Азией и Америкой. Он прошел самый трудный участок северного арктического пути. Его самого, видимо, это оставило равнодушным. В последнем отчете, подписанном «холопом» Дежнёвым, он подчеркивает, прежде всего, то, что считает своим главным достижением: далеко от Москвы есть берега, где в обилии лежит ценная кость. Он их открыл и предлагает государству воспользоваться этим открытием. Все остальное – экспедиция, ее бедствия и успехи, – всего лишь инструмент.
География и ее загадки – занятие для богатых. Географические открытия будут занимать умы европейцев еще не менее века. Только много позже подвиг Дежнёва оценят по достоинству. В 1898 году царь Николай II торжественно назвал «Большой Каменный Нос» мысом Дежнёва.
Вторая часть
В другую Америку
Первая Камчатская экспедиция
В мае 1717 года царь Петр I, находясь в Европе, решил посетить Францию. После смерти Людовика XIV регентом при его малолетнем правнуке состоял Филипп Орлеанский.
Французский королевский двор, несмотря на настойчивые просьбы Петра I, чтобы во время его пребывания в Париже было как можно меньше помпы, решил принять русского царя со всей торжественностью. Этот шаг должен был заставить Петра I забыть о пренебрежении, с которым двадцатью годами раньше Людовик XIV отнесся к юному монарху. Тогда, в 1697 году, Петр I прибыл на голландские верфи под чужим именем, чтобы учиться корабельному делу. Он захотел побывать во Франции и встретиться с Людовиком XIV. К большому разочарованию дипломатов и советников, Король-Солнце сухо ответил, что молодой царь слишком оригинальничает, ведет себя дико и, если уж говорить совсем откровенно, не имеет ни капли величественности.
С тех пор многое переменилось. Человек, которого должен принять преемник Людовика XIV, заметная персона в Европе, и игнорировать его не пристало. В 1709 году под Полтавой Петр I разгромил Швецию, лишив ее статуса великой державы. Россия отвоевала балтийские земли и получила выход к морю, о котором она так мечтала. Ее границы расширились до Персии и Кавказа. И, что особенно впечатлило современников, Петр I построил на Неве ex nihilo (с нуля) столицу – практически на болотах. Он вынудил придворных и представителей родовитых домов последовать туда за ним и собрал на этой гигантской стройке самых талантливых и амбициозных архитекторов и художников своего времени. Во Франции царь рассчитывал, среди прочего, осмотреть Версаль и Версальский парк, о которых был наслышан. Он строит дворец в Петергофе и надеется почерпнуть в этом визите что-то полезное для себя. Петр I хотел бы также объединиться с Францией для борьбы с вечными противниками – Швецией и Польшей. Имея в виду эту цель, он подумывает о возможном союзе между юным королем Франции Людовиком XV, которому в то время было всего лишь восемь лет, и своей наследницей Елизаветой – через 25 лет она станет одной из самых величественных императриц России. Когда Петра I знакомят с мальчиком-королем, он преувеличенно оживлен: презрев правила протокола, царь хватает Людовика, поднимает в воздух, с чувством расцеловывает в обе щеки, хохочет, довольный тем эффектом, который производит его экставагантное поведение на придворных.
Царь-реформатор имеет и другие цели. Как и во время визитов в другие страны, его ежедневник пестрит назначенными встречами с самыми великими умами и изобретателями Европы. Наука и научные открытия – это страсть Петра I с младых лет. Во Франции он также рассчитывает почерпнуть новые идеи и познакомиться с новейшими технологиями. Его интересует устройство Французской Академии, и, вернувшись в Санкт-Петербург, он учреждает российскую Академию по ее образцу. Петра I приняли со всей торжественностью, как сообщает хроникер. «Ему оказали честь, продемонстрировав несколько новых машин, и он с большим интересом осмотрел их. Он нанес несколько визитов в Обсерваторию и принимал ученых в особняке Ледигьер, где беседовал с ними. В частности, в беседах с географами он сообщил ценные сведения для исправления ошибок, содержавшихся в картах относительно его огромной и мало кому известной империи».1 Во время этих бесед царю неоднократно задавали вопросы, касавшиеся самой главной тайны того времени: соединена ли Азия с Америкой? Существует ли морской северный путь, позволяющий добраться до Китая? Не соблаговолит ли Его Императорское Величество поделиться своими соображениями по этому поводу?
Петр I поражен настойчивостью этих расспросов. Еще до отъезда из Санкт-Петербурга он получил записку Фёдора Салтыкова, сына тобольского воеводы, в которой тот излагал план морских исследований арктических и дальневосточных берегов до границы с Китаем вблизи реки Амур. «И ежели оной проход до китайских и до епонскаго берегов сыщется свободной, в том будет вашему государству великое богатство и прибыль, – пишет Салтыков, – потому из всех государств, как из Англии, из Галандии и из иных, посылают во Ост-Индию корабли, которые переходят линею дважды, как они ходят вперед и назад обращаются; в которых местах от жаров множество у них людей помирают и от скудости провиантов, ежели они продолжаются долго в пути; и по обретении оного станут желать туды ходить тем проходом».2 Затем тот же вопрос задает Петру I один из самых старинных и уважаемых его корреспондентов – Готфрид Вильгельм Лейбниц, философ и математик, с которым он встретился во время путешествия по Европе. Царь достаточно долго общался с ним в Брауншвейге незадолго до его смерти, и тот настоятельно призывал Петра I разрешить наконец эту географическую загадку. Лейбница очень увлекал спор, будораживший вот уже больше 150 лет научную и политическую элиту Европы. В 1562 году, после открытия европейцами Америки, венецианец Джакомо Гастальди первым выдвинул идею об обособленности Азии и Америки.3 Позже и другие, например, англичанин Хемфри Гилберт, утверждали, что отсутствие диких животных, перебиравшихся из «Катая и Тартарии в Америку», – важное доказательство географического разрыва между двумя континентами. Существование пролива, который Лейбниц в беседах с Петром I называет «Анианский», и есть средоточие тайны. Знание его ширины помогло бы уточнить границы Америки и установить размеры планеты. После его отъезда Лейбниц писал, что интересы царя сосредоточены главным образом на мореплавании, и выражал надежду с его помощью узнать наконец соединены ли между собой Азия и Америка.4 Ученый полагал, что российский царь предназначен для того, чтобы выполнить великую миссию. И вот в Париже Петр I слышит снова тоже самое. Французская Академия даже обращается к царю с просьбой об официальном разрешении срочно отправить в его страну французскую экспедицию, которая измерит «расстояние между Азией и Америкой». Петр I отвечает уклончиво. Его можно понять таким образом, что Россия сама способна справиться с этой задачей. Царя трудно провести. Франция, тесно связанная с северными колониями Америки, стремится, как и другие державы, соперничающие с ней, прибрать к рукам еще не открытые территории Тихого океана и Крайнего Севера. Уступив Гудзонов залив Англии, активно распространявшей свое влияние по миру, Франция изо всех сил старается нагнать лидера, пройти по новым дорогам и основать новые фактории. Если Азия и Америка соединены между собой, то речь шла о беге наперегонки: кто первый установит границу в свою пользу. Россия – со стороны Азии, Франция и Англия – со стороны современной Канады неизбежно должны были столкнуться лбами. А если континенты разделены морем, Франция могла запросто потребовать, чтобы к ней отошла вся территория, лежавшая к востоку от пролива. И не только Франция. Не было никакого сомнения, что Испания, контролировавшая в то время юг Калифорнии, и Англия, корабли которой в свою очередь достигли Тихого океана, не меньше, чем Франция, стремились проникнуть в тайну существования северо-восточного прохода. Здесь наука смыкалась с геополитикой.
Петр I тоже на протяжении многих лет изучал этот вопрос. Уже во время своего первого пребывания в Европе, в 1697 году в Амстердаме он обсуждал его с одним из своих зарубежных корреспондентов, голландцем Николаасом Витсеном, которого очень уважал. Витсен склонялся к тому, что континенты соединены, Петр I же полагал, что между ними – про-лив.5 Царь поражен эрудицией собеседника: как смог его иноземный друг собрать столько информации? Переписка Петра I и многочисленные карты, которые ему привозят из Европы, свидетельствуют о том, что после этой беседы его интерес к главной географической загадке не ослабевал. Петр I рассчитывал на своих информаторов и корреспондентов из Голландии, надеясь, что они будут держать его в курсе всех новых гипотез, касающихся границ Евразии и контуров не изученного еще западного побережья Америки. Пока первоочередной задачей для Петра I была война со Швецией, он не мог всерьез заняться подготовкой русской экспедиции по изучению вопроса о двух континентах. Однако ему был очевиден посыл, шедший из Европы. Других аргументов не требовалось – время поджимало. На восточных границах России в любой момент могли объявиться соперники с намерением захватить сибирские земли, прилегавшие к Тихому океану.
* * *
Что же было известно Петру I о реальных очертаниях континента, львиная доля которого приходилась на его государство? Что знал он об открытиях сибирских казаков? С тех пор, как Семён Дежнёв обогнул крайнюю точку Азии, прошло 68 лет, однако его отчеты так и не достигли самой высокой инстанции и осели в архивах Сибирского приказа и воеводы Якутска. Вернувшись из Европы, Петр I получил новую карту Сибири, составленную сосланным туда пленным шведом по имени фон Страленберг. Крайняя точка Азии изображена на карте в виде мыса, Большого Носа, который очень похож на описание Семёна Дежнёва. Работая над картой, фон Страленберг пользовался атласом одного из первых сибирских картографов, Семёна Ремезова, ставшего также летописцем подвигов Ермака. Этому географу и историку Сибири, несомненно, были известны героические рассказы казаков. Возможно даже, что он внимательно изучил какие-то их документы. Карты Ремезова не отвечают канонам европейской картографии, их ориентация на юг-север (север – внизу) противоречит традициям. Кроме того, в них не хватает разработанных Меркатором проекций для отражения расстояний без искажений. Однако на этих картах есть совершенно новые сведения, которыми пленный швед дополнил географические представления о Сибири. На карте есть четкое изображение Большого Носа, а также Аляски, которая названа «недавно обнаруженной Землей».6 На другую русскую карту того же времени, еще более точную, нанесены два острова Диомида, на которых, как следует из их описания, жил народ чукчи, название языка которого переводится как «непонятный». На островах нет деревьев, сообщается на карте, чукчи питаются китовым и моржовым мясом и используют при готовке звериный жир. От Большого Носа до островов на лодке нужно плыть два дня.7 Русские карты, конечно же, самые точные. Но верил ли им царь? Даже голландец Николаас Витсен, побывавший в Москве и Архангельске и знавший об успешном походе казаков на север, не нанес на карту, опубликованную в 1687 году, границ Азии. На ней деликатно упоминается, что контуры «ледяной земли» неизвестны.8 Петр I, изучивший ворох документов и карт, колеблется, не зная, чью сторону принять. Чтобы разобраться во всем, он разрабатывает проекты нескольких экспедиций.
В 1716 году царь получает из далекой Сибири радостное известие: корабль, способный выйти в открытое море, наконец построен и спущен на воду Тихого океана. Теперь больше не надо идти вдоль берега, можно плыть на Камчатку прямо через Охотское море. Корабль испытан с хорошими результатами.9 Петр I понимает, что пробил час российского флота. Губернатор Якутска получает приказ начать исследования Камчатки и Чукотки, а также строить новые корабли на побережье Тихого океана, чтобы попытаться затем добраться до «островов или континента»,10 находящихся вдали от изведанных берегов в открытом океане. Для участия в предприятии собрано 200 человек. Однако бюджет слишком скуден, и капитан, которому поручено отправиться в плавание, должен сам софинансировать строительство корабля. Проект проваливается из-за нехватки ресурсов. В 1718 году немецкий натуралист Даниэль Мессершмидт согласился за скромную сумму в 500 рублей проехать по Сибири для сбора научной информации. Он провел там восемь лет и написал несколько ученых трудов. Через год после отъезда Мессершмидта двум геодезистам – Фёдору Лужину и Ивану Евреинову – было поручено картографировать побережье и острова к северу от Японии. Они вернутся с первым точным описанием Курил. Но масштабы такой деятельности пока довольно скромны. И причина в том, что нарастающее напряжение в отношениях со Швецией требует полной мобилизации русского флота. В 1721 году был подписан Ништадский договор, положивший конец Северной войне. Прибалтику и Финляндию поделили между двумя державами, присутствие России на Балтике упрочилось. После этого Петр I решил бросить все силы на то, чтобы совершить исторический прорыв и закрыть раз и навсегда вопрос о границах его империи и о существовании пролива. На Тихом океане нарастает конкуренция, становящаяся все более угрожающей. Кроме того, российский император хочет укрепить позиции своего государства на Камчатке, важнейшем, со стратегической точки зрения, полуострове, площадь которого превосходит площадь Калифорнии. Снабжение Камчатки, до которой очень трудно добраться через Сибирь, крайне сложно; морское сообщение могло бы позволить сильно сократить путь и таким образом облегчить жизнь тех смельчаков, которые постепенно стекаются туда. К тому же расширение территорий могло бы открыть для промышленников новые земли. Под давлением растущего промысла доходы, связанные со сбором соболиных шкурок, начали снижаться, а после долгой войны со Швецией государственная казна крайне нуждалась в пополнении. Настало время первой Камчатской экспедиции, самой значительной из всех, которые Россия когда-либо организовывала.
Петр I спешит. Он чувствует, что жить ему осталось недолго, и хочет довести до конца свои грандиозные начинания: создание Академии Наук и второе «открытие» Америки – на этот раз с запада. Российскому императору 52 года, у него боли в спине и частые инфекции мочевыделительной системы, он почти не выходит из своего дворца на Неве. В декабре 1724 года, уже очень слабый и больной, царь решает ускорить подготовку к экспедиции. Петр I вызывает к себе Фёдора Апраксина, президента Адмиралтейств-коллегии, и поручает ему как можно быстрее организовать отплытие. Позже современник, ставший свидетелем этой встречи, вспоминал: «Я, будучи тогда беспрестанно при государе, видел сам своими глазами то, как Его Величество спешил сочинять наставление такого важного предприятия и будто бы предвидел скорую кончину свою, и как он был спокоен и доволен, когда окончил. Призванному к себе генерал-адмиралу, вручив, говорил следующее: «Худое здоровье заставило меня сидеть дома; я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно, и что другие дела предприять мешали, то есть, о дороге чрез Ледовитое море в Китай и Индию. На сей морской карте проложеной путь, называемый Аниан, назначен не напрасно. В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Оградя отечество безопасностию от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусства и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских? О сем-то написал инструкцию; распоряжение же сего поручаю, Фёдор Maтвеeвич, за болезнию моею твоему попечению, дабы точно по сим пунктам, до кого сие принадлежит, исполнено было».11
Документ, составленный Петром, найден в императорском архиве. Начертанные им инструкции для Адмиралтейства касаются отбора участников Камчатской экспедиции. Несколько пунктов записаны рукой самого Петра I: 1) Найти геодезистов для определения географических координат и расчета расстояний, побывавших в Сибири и вернувшихся; 2) Найти кого-то из младшего офицерского состава, кто мог бы провести экспедицию в Сибирь и на Камчатку; 3) Найти студента или младшего ученика навигацкой школы, который сумел бы построить на месте палубный корабль, похожий на те, которые сопровождают обычно большие корабли. Отправить с ним четверых корабельных плотников с инструментами, рулевого и восемь матросов; 4) Выделить для экспедиции вдвое больше парусов, канатных блоков, тросов и так далее, а также четыре небольшие пушки и амуницию, и еще одного или двоих парусных мастеров; 5) Если не получится набрать команду в русском флоте, немедленно написать в Голландию и отыскать двоих человек, знакомых с северными морями Японии.12
Адмиралтейство выбрало главу экспедиции. Им стал капитан Витус Беринг, датчанин, которому исполнилось 43 года. Он провел много времени в Ост-Индии, а потом, уже в Амстердаме, поступил на русскую службу. С тех пор прошло 20 лет. Ответственным назначением главой экспедиции он был обязан голландскому окружению контр-адмирала Крюйса, имевшего большое влияние в Адмиралтействе. Крюйс был очень дружен с Берингом и неоднократно демонстрировал датчанину свое расположение, делавшее Беринга лицом подозрительным в глазах власть имущих, культивировавших русский патриотизм. Беринг родился в скромной семье, жившей в Хорсенсе, одном из портов Ютландии. Поступив на морскую службу, он постепенно делал карьеру. Ему довелось служить на Азовском и Черном морях, потом в Балтийском флоте. Устроившись в Петербурге, Беринг вращался в светском обществе, приобрел особняк в центре столицы и имение в Выборге, где и проводил время – находясь, по сути, в ранней полу-отставке. И вдруг оказался во главе экспедиции. Витус Беринг был человеком сдержанным и обладал поистине протестантской скромностью. Однако возраст, взлеты и падения в карьере постепенно вытеснили его природную осторожность, место которой заняло постоянное беспокойство. Последние месяцы жизни перед назначением Беринг провел очень замкнуто, пребывая в постоянной тоске. Каким же был этот великий путешественник, вошедший в историю как первооткрыватель? На протяжении долгого времени его представляли как человека с круглым мягким лицом, с бесцветной внешностью, которая так странно контрастировала с образом смельчака и образом завоевателя. Но недавние исследования и эксгумация останков Беринга, осуществленная российскими учеными, позволили реконструировать его настоящий облик: широкий лоб, выступающие скулы, выразительный профиль – ничего общего с тем портретом, к которому привыкли и на котором на самом деле изображен, видимо, один из его родственников. Человек верный, работящий, совестливый, почтительный к власти, но мало склонный к решительным и рискованным действиям – так описывают его современники. Кузьма Соколов, один из его подчиненных, вспоминал, что Беринг был человеком очень образованным, жадным до знаний, набожным, доброжелательным и честным. Но он был еще и слишком осторожным и нерешительным. Подчиненные его любили, однако большого влияния на них он не имел. Беринг слишком доверялся их мнению, слишком считался с их желаниями и был неспособен поддерживать строгую дисциплину. Поэтому-то, как продолжает Соколов, он мало подходил для столь ответственной экспедиции, тем более в столь диком краю, каким была восточная Сибирь.13 Сложности характера датского капитана отчетливо проступили во время этого долгого и невероятного путешествия. Из 38 лет, которые Витус Беринг прослужил в русском флоте, 16 он посвятил экспедициям в Сибирь и на Тихий океан. Сначала, возглавив столь престижную миссию, Беринг выказал себя талантливым организатором. «Царев наказ» был подписан Петром Великим 6 января 1725 года. Стиль документа очень лаконичен, тон почти резок. Он написан очень больным человеком, готовящемся к операции на почках – своей последней надежде. «1.Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами; 2. На оных ботах возле земли, которая идет на Норд и по чаянию (понеже оной конца не знают), кажется та земля часть Америки; 3. Для того искать, где оная сошлась с Америкою: и чтобы доехать до какого места европейских владений или ежели увидят какой корабль европейской, проведать от него, как оный берег называют и взять на письме и самим побывать на берегу и взять подлинную ведомость и, поставя на карту, вернуться сюда».14 Открыть Америку и вернуться «сюда»! Никто, даже Беринг, не может представить себе размах задачи и то громадное расстояние, которое придется преодолеть. 11 000 км от Петербурга до Камчатки, где для этого случая будет построен порт и два бота! И уже оттуда примерно 4 000 км неизведанного водного пространства до юго-западных берегов современной Аляски. Это вдвое больше, чем расстояние, которое преодолел Колумб, чтобы добраться до Америки. А потом нужно вернуться в императорский дворец в Петербурге.
Это приказ Петра I! Во время аудиенции император, по всей видимости, передал главе экспедиции какую-то карту. Копию карты фон Страленберга, шведского офицера, отправленного в Сибирь, или же исправленный вариант карты Ремезова? Во всяком случае, на нее нанесен пролив между Азией и Америкой.15 Но, следует подчеркнуть еще раз, ни Беринг, ни Петр Великий ни в коей мере не представляют себе, насколько можно доверять информации, содержащейся в этих свернутых в трубочку манускриптах. Историки много спорили о том, был ли Беринг в курсе всех деталей ускоренной подготовки его экспедиции. В настоящее время установлено, что датчанин ничего не знал о подвиге казака Дежнёва, совершенного за три четверти века до его назначения. Ни переписка Беринга, ни бортовые журналы не содержат ни малейшего намека на то, что до него дошли хоть какие-то сведения о Дежнёве. Один из помощников Беринга записывает в журнале, что им неизвестно, до какой параллели добрался кто-либо из европейцев, следуя вдоль побережья Азии к северу. Беринг мог разве что быть в курсе слухов или предположений, но, несомненно, он готовился совершить открытие и доказать то, что обнаружил до него никому неизвестный Семён Дежнёв.
Адмиралтейство выбрало для Беринга двоих помощников. Первый – Мартын Шпанберг. Он земляк Беринга, ему 27 лет. Другой – Алексей Чириков. Этот многообещающий юноша еще моложе – к началу экспедиции ему едва исполнилось двадцать два. Помощники Беринга имеют между собой мало общего. Мартын Шпанберг авторитарен, он жесткий человек и даже жесток с подчиненными, но при этом – прекрасный моряк, наделенный недюжинной энергией и исключительной здравостью суждений. Товарищи по экспедиции называют его «деятельным», «вспыльчивым», «алчным и жадным» и «малообразованным».17 За ним повсюду следовала большая охотничья собака, и в Сибири он приобрел репутацию диктатора. Русский он знал крайне плохо, что очень усложняло ему задачу. Что же касается Алексея Чирикова, то он происходил из семьи офицера невысокого чина, был среди первых студентов Школы математических и навигацких наук, созданной Петром I, владел несколькими языками и выделялся своими познаниями в математике, а также пытливостью. В 19 лет он уже числился преподавателем Школы. У него, конечно, нет опыта, но он быстро заслужил уважение членов экипажа и главы экспедиции. Назначение этих двоих помощников выглядит символично. Оно прекрасно иллюстрирует политику, которой следовал царь-реформатор: в тех случаях, когда речь шла о науке, экономике или технологиях, он старался нанять иностранных специалистов, но при этом позаботиться о подготовке собственных кадров. Датчанин Беринг, опытный человек, может опереться на Шпанберга, соратника, в чьей верности он не сомневается. Чириков – человек будущего, своего рода преемник, которому только предстоит проявить себя. Баланс между иностранцами и русскими, к которому стремится Петр, – вопрос щекотливый. Легко себе представить неизбежные конфлиткты между иностранными учеными, представляющими nec plus ultra[25] научных достижений того времени, но абсолютно несведущими в делах принимающей их страны, и русскими, которые пробиваются в элиту и в важнейшие институты собственного государства, опровергая стереотипы именитых гостей и часто двора. Они будут влиять на научную и политическую жизнь империи и после смерти Петра I. Другие члены экспедиции набраны очень быстро. В первую неделю января из команд кораблей, стоявших на рейде под Санкт-Петербургом, зачислено 23 человека – матросы и плотники.
Это чуть больше, чем велел царь, однако вскоре станет ясно, что людей мало, и постепенно, по мере продвижения по Сибири, их число начнет увеличиваться и достигнет четырехсот. Поскольку Адмиралтейство не знает, сколько продлится экспедиция, каждому выдается плата на год вперед. Те, кто уцелеет, вернутся в столицу через пять лет.
* * *
В воскресенье, 24 января 1725 года, в 11 часов утра вереница из 25 тяжело нагруженных саней покинула двор Адмиралтейства. Первым отрядом командовал Алексей Чириков. Отряд вез снаряжение – все, что понадобится на другом конце страны для корабля, способного плавать в открытых водах северной части Тихого океана: шесть якорей, каждый весом в 150 килограммов, восемь небольших бомбард, 30 ядер, ружья, сабли, пистолеты, секстаны, проволочные лоты, чтобы измерять глубину, паруса, тросы, колокола и «морской устав».18 Курс на восток, в сторону Вологды, Сольвычегодска, города Строгановых, потом Соликамска и Тобольска, административной столицы огромной провинции Сибирь. Через несколько дней после отъезда, когда сани мчались по заснеженным дорогам, их настиг гонец из столицы: Петр I скончался! 28 января Петр Великий, гигант, построивший Санкт-Петербург и открывший Россию для Европы, умер от постоперационных осложнений и гангрены. Но его воля исполняется: через два дня после кончины царя его вдова, ставшая Екатериной I, подтвердила наказы, составленные Петром I, которые она торжественно вручила Витусу Берингу 5 февраля. Она приложила к документу указ19, повелевавший губернатору Сибири и всем представителям власти во всем помогать главе экспедиции и выполнять его просьбы. Датчанин, почувствовав себя увереннее, не мешкая, покинул столицу. Россия огромна, Санкт-Петербург оторван от провинций, а действительность далека от желаний Его Величества или Адмиралтейства. Сибирь необъятна, и Беринг быстро убедился, что «сезам» императрицы не всегда действует против инерции или даже сопротивления местных властей. Кто будет платить? Где взять талантливых людей? Рабочие руки? Вьючных животных, которых вы требуете? Вот типичные ответы, которые получает глава экспедиции. Тем более, что его запросы сложно удовлетворить. В Тобольске, например, он требует собрать 60 хороших плотников, семерых кузнецов, двух бондарей, одного токаря и одного печника, а еще 32 тонны провизии, чтобы кормить всю экспедицию на протяжении двух лет.
Экспедиция продвигается медленно. Задержки связаны с необходимостью набирать людей, запасаться провизией и оборудованием, что становится все более и более сложной задачей по мере продвижения к востоку. Кроме того, следует учитывать смену времен года. Добравшись до реки, участники экспедиции ради продолжения пути должны сооружать парусные лодки и плоты – несколько десятков. Приходилось ждать ледоход, который давал о себе знать глухим рокотом в конце апреля. Плыть по Иртышу, потом подниматься по Оби, и, наконец, Енисею и Ангаре. Экспедиция перезимовала в Илимске, в центральной Сибири, затем добралась до реки Лены, много недель спускалась по ней и, наконец, между 7 и 16 июня 1726 года, через 18 месяцев после отъезда из Санкт-Петербурга, доплыла до Якутска, центра Восточной Сибири. Это не обычный город – скорее, деревянная крепость и несколько сотен изб, растянувшихся вдоль реки. Чириков, все время находивший, к чему приложить свой пытливый ум, насчитал 300 русских домов. Что же касается якутов-кочевников, стоявших неподалеку, то, по расчетам Чирикова, их было около 30 тысяч человек.20
До берегов Тихого океана еще более 1 200 км. Наступило лето, и Беринг надеялся преодолеть это расстояние и добраться до Охотского моря до прихода зимы. Он понимал, что испытания только начинаются, потому что для преодоления хребта Сетте-Дабан не было наземного пути. Предстояло проложить его и использовать все реки, все притоки, чтобы сократить переходы и двигаться преимущественно по воде. Маршрут пролегал вниз по Лене, потом вверх по рекам Алдан, Мая и Юдома. А там уже – спуск к бассейну Тихого океана. Только строительство лодок, необходимых для продвижения, требовало работы 140 человек. В Якутске Беринг вытребовал 300 тягловых лошадей. Поскольку желающих содействовать экспедиции не нашлось, воевода обеспечил все необходимое, действуя силой.
Начались мучения. Беринг возглавил самый быстрый отряд, который должен был разведать путь и провести подготовительные работы. Ему понадобилось 42 дня, чтобы добраться до Охотска. Холод нагнал путешественников, увязавших в полуметровом снегу. Изможденные лошади гибли. Только половина из 660 лошадей, одолженных или отнятых, доберется до Охотска. Пришлось впрягать в сани людей и даже бросать грузы на дороге, чтобы сохранить шанс на выживание. Следовавшая за отрядом Беринга группа Шпанберга преодолевает еще более тяжелые препятствия. Ей поручены якоря, пушки, ядра, тросы, а также морское снаряжение и инструменты. Реки замерзли и их перемещение по ним стало невозможно. Холод и усталость не дают продвигаться вперед. Появляются первые заболевшие, потом первые умершие, их становится все больше, тела остаются лежать на земле. Люди, многих из которых пригнали насильно, бегут. Якуты бунтуют, доведенные плохим обращением и непереносимым для них зрелищем гибели лошадей – часто их единственного состояния. Провизия на исходе. Люди едят собак, потом ремни саней, кожаные изделия, даже сапоги. Беринг, предупрежденный обо всем этом гонцами, решает отправить дюжину саней со съестным и теплой одеждой. Он также попытается собрать снаряжение экспедиции, которое безжалостно выбрасывалось на протяжении многих километров пути. Но его люди ропщут, не желая возвращаться в ледяной ад. Один из них жалуется, что капитан своей властью, не дав ни копейки, отправляет их раздетыми и разутыми на верную смерть. Однако драгоценное снаряжение следует отыскать, иначе все останутся ни с чем.21
Когда оно наконец доставлено в Охотск, наступил май 1727 года. Последний этап забрал почти год. Много людей полегло, среди них и очень ценные специалисты – геодезисты, врачи, местные проводники. Но, оказавшись на берегу Охотского моря, Беринг не стал терять времени. Населенный пункт у устья реки, куда прибыла экспедиция, состоял лишь из горстки лачуг. За несколько месяцев появились новые постройки: жилье для членов экспедиции, изба для Беринга и, конечно же, баня, без которой русские не мыслили жизни. Наконец, весной, плотникам удалось построить бот, способный выйти в море и доплыть до Камчатки. Он мог вместить 48 человек. 8 июня 1727 года бот спущен на воду, опробован и оснащен. Чтобы привлечь судьбу на свою сторону, моряки окрестили его «Фортуна».
Однако Беринг не намерен выходить в полярные воды на этом судне. Чем больше экспедиция продвигается на восток, тем очевиднее становится, насколько успех зависит от груза, который они с таким трудом тащат. Глава экспедиции, немало вымотанный тяжелейшим переходом и потрясенный человеческими потерями, не особенно расположен опять рисковать. Он, как и многие офицеры, считает, что последний этап экспедиции, собственно, отплытие в сторону неведомых земель, должен иметь в качестве ориентира восточные берега Камчатки, то есть самые отдаленные из населенных территорий. Но он опасается огибать полуостров на «Фортуне», которая кажется ему не очень надежной. Еще ни один мореплаватель не нанес на морскую карту очертания полуострова. Кто знает, какие опасности таит мыс, лежащий в его самой отдаленной южной части? И чем грозит огромный Тихий океан, который за мысом будет катить свои воды за штирбортом? Поэтому он принимает решение двигаться по земле через горы Камчатки. Опять погрузка, опять изъятие саней, строительство новых барж, путь по рекам, опять волоки по снегу и льду. Экспедиция направляется к месту, выбранному главной базой плавания по северным водам в сторону Америки. Опять мучения, похожие на тяготы предыдущей зимы. Зимние месяцы ушли на дорогу к небольшой русской крепости Нижнекамчатск. Это скромное поселение, состоящее из 17 охотничьих изб, расположено в 930 км к северу от предполагаемого пункта отправления. Решение срезать дорогу по заснеженным вершинам Камчатки оказалось ошибочным. Оно не позволило избежать потерь – ни людских, ни материальных: в результате разных происшествий на дно рек отправились два якоря, канаты, ящики со снаряжением, восемь мешков с мукой. Переход имел также самые ужасные последствия для местных жителей. 600 камчадалов и 500 ездовых собак, а также олени вынуждены были тащить 95 саней, из которых 30 отведены под имущество Витуса Беринга.22 Тягловых животных не хватало, в каждую телегу впрягались еще четверо-пятеро мужчин. Поскольку чиновники упорно отказывались освободить местных жителей от выплаты в казну ясака, несмотря на обращения Беринга, им пришлось заняться промыслом. Берингу пришлось ждать окончания сезона охоты, прежде чем мобилизовать камчадалов, их тягловых животных и сани. Сначала охота, а потом работа на экспедицию Беринга вымотали людей и собак. Камчадалы видят, как гибнут животные, от жизни которых зависит их собственная жизнь, переживая то, что годом раньше пережили якуты, сопровождавшие путешественников. Начинаются голод, бунты, которые через три года приведут к самому крупному восстанию северных народов за всю историю покорения Сибири.23
На краю света, в небольшом остроге немного выше устья реки Камчатки полуголодные плотники Беринга снова взялись за топоры и пилы, чтобы построить очередной корабль, последний в этом невероятном предприятии. На нем набранному в Санкт-Петербурге за три с половиной года до этого экипажу предстояло наконец отправиться навстречу тайне. Плотники уже хорошо отточили свое ремесло: за время экспедиции они построили и собрали не меньше сотни барж и плотов и больше десяти лодок для плавания по рекам и в открытом море. 9 июня 1728 года бот, названный «Святой Гавриил», спущен на воду. 9 июля снаряжение, оснащение и погрузка судна полностью закончены. Это двухмачтовый корабль длиной 18 м, построенный по образцу военных судов, но только поменьше. Вместе с Берингом на борт поднялись его помощники, Чириков и Шпанберг, а также команда из 41 человека, включая врача, канатчика, пятерых плотников, одного шорника, двух казаков, девятерых солдат, двоих кузнецов, одного барабанщика, двоих коряков-переводчиков,24 и только восьмерых матросов – что, конечно, очень мало. По всей видимости, Беринг опасался, что судно задержат в пути или что экспедиции придется столкнуться с враждебным приемом. Всем заплатили за полгода вперед. На борт подняли 18 тонн продовольствия: сухарей, муки, рыбьего жира, а также 20 бочек питьевой воды и запас дров.25 Иначе говоря, все необходимое для зимовки, если в ней возникнет необходимость.
В наказах, оставленных Петром Великим, предписывалось плыть вдоль земли, простирающейся в сторону севера. Однако свидетельства, собранные за время экспедиции, указывали, что «Большая Земля», если предположить, что она не составляет единого целого с Америкой, расположена к востоку или к северо-востоку. Оба помощника капитана защищали именно эту гипотезу. Чириков цитировал слова некоего Татаринова, который сообщал, что, согласно северным «туземцам», «Большая Земля» расположена напротив знаменитого мыса, которым заканчивается Азия, и что она покрыта лесами, в отличие от азиатских берегов. Если верить этим свидетельствам, то следовало плыть на север-северо-восток. Однако Беринг, человек в высшей степени законопослушный, не склонен вольно обращаться с приказами. На карте, которую он получил из рук царя, Америка изображена на широте Камчатки и отделена от нее только узким проливом. На русских же картах Ремизова и Попова-Львова в северной части изображен второй загадочный полуостров, то ли соединенный с Азией или Америкой, то ли нет. Этот полуостров очень сильно похож на землю, которая, как писал Петр I в своем завещании, тянется на север: никто не знает, где ее край. Эти подсказки, а также осторожность, которая определяла поведение Беринга, задавали тон начинавшейся экспедиции.26
Когда «Святой Гавриил» достиг в открытом море 56° северной широты, траверза устья реки Камчатки, был взят курс на север – под всеми парусами. Чтобы еще больше снизить риски, Беринг приказал двигаться так, чтобы берег все время оставался виден. Первые две недели путешествие протекало благополучно с попутными ветрами и хорошей видимостью, новенький бот послушно маневрировал. Двигаясь хорошим ходом вдоль берегов Камчатки, экипаж любовался китами, морскими львами, тюленями, моржами, морскими свиньями и белухами. С палубы они могли иногда различать человеческие жилища, по всей видимости, оставленные обитателями при появлении судна. 8 августа 1728 года вечером, когда бот зашел в маленькую бухту, появилась группа местных жителей. Чириков записал в бортовом журнале, что невдалеке были замечены гребцы, отплывшие от берега в сторону корабля, – восемь человек. Они спросили, откуда приплыл бот и зачем. Затем гребцы сообщили, что они чукчи и, когда их пригласили подняться на борт, послали на пузыре из шкуры тюленя одного человека – поговорить. Между датчанином и чукчей на пузыре состоялась невнятная беседа. Он рассказал, что береговые чукчи – многочисленный народ, и поведал о некоем острове, лежащем неподалеку к востоку, в ясную погоду видимом с берега. Беринг понял объяснения собеседника так, что земля простиралась дальше к северу и что она повсюду заселена чукча-ми.27 К северу, иначе говоря, к западу. Вероятно, экспедиция достигла края Азии. Но были ли слова гребца правильно поняты? Переводчики говорили с ним на корякском языке, но осталось неясным, совпадали ли эти языки в такой степени, чтобы разобраться в деталях. Чириков был не очень в этом уверен.28
Остров, о котором говорили чукчи, стал виден 10 августа. Его назвали островом Св. Лаврентия в честь святого, чей праздник приходился на тот день, как того требовала морская традиция. В этот момент «Святой Гавриил» вошел в пролив, который сейчас носит имя его капитана, Беринга, но никто на борту не обратил на это внимания. Был туман, погода стояла плохая: «сильный ветер, очень облачно», – сообщает бортовой журнал 12 августа. Корабль находится всего в нескольких десятках километров от побережья Америки. В ясную погоду можно различить одновременно два берега, но Беринг и его экипаж, пересекая самую узкую часть пролива, из-за тумана не заметили даже побережья Азии, от которого их отделяло не больше 20 км. Впередсмотрящие молчали. После трех с половиной лет мучений они по неведению проследуют мимо цели, к которой так упорно шли. Витус Беринг упустил первое свидание с историей.
13 августа, через месяц после того, как «Святой Гавриил» поднял паруса на Камчатке, бот приблизился к Большому Носу, крайней точке Азии, положение которой на картах Беринга было крайне неопределенным. Беринг беспокоился. Корабль достиг 65° северной широты, а пресловутая «Большая Земля», она же «Северная», все не показывалась. Если описание его чукотского собеседника было верным и берег уходил к западу, то это означало, что оба континента разделены морем и что они напрасно искали землю на севере. Во второй половине дня Беринг призвал Шпанберга и Чирикова к себе и зачитал им инструкции царя. Он попросил помощников письменно изложить свое мнение относительно того, что следует делать дальше. Для него самого ситуация ясна – капитан жаждет развернуться и прибыть назад в порт до начала зимы. Однако помощники не согласны с капитаном. В записке, приложенной к бортовому журналу, Шпанберг защищает другую точку зрения: «Святой Гавриил», – пишет он, – недостаточно продвинулся на север, чтобы с уверенностью говорить об отсутствии земли. В идеале следовало бы двигаться до ближайшего пакового льда. Компромиссом было бы продолжение пути до 16 августа, и только потом, если земля так и не появится на горизонте, взять курс на Камчатку. Чириков, наделенный куда более дерзким характером, полагал, что строгих доказательств наличия пролива между Америкой и Азией не собрано. «Понеже известия не имеется, до которого градуса ширины из Северного моря, подле восточного берега Азии, от знаемых народов Европейским жителям бывали, – писал он, и это прямо указывает на то, что ему ничего не было известно о подвиге Дежнёва, – и по оному не можем достоверно знать о разделении морем Азии с Америкой, ежели не дойдем до устья реки Колымы». Логично. И Чириков предложил Берингу, уважая волю почившего Его Императорского Величества, продолжить путь вдоль побережья до тех пор, пока это будет возможно, во всяком случае, до 25 августа, чтобы проверить, не «наклоняется» ли земля к северу. И в случае необходимости «искать места, где бы можно было зимовать, а наипаче против Чукотского носа на земле, на которой по полученной сказке на Чукоч, чрез Петра Татаринова, имеется лес».29 «Святой Гавриил» в это время вышел в Северный Ледовитый океан. Нужно ли брать курс на запад и плыть вдоль берега, чтобы доказать наличие прохода? Или на восток и попытаться увидеть Америку? Отправиться на север на поиски «Большой Земли», нанесенной на карту, которая была получена из рук самого Петра I? На юг, чтобы спастись от непогоды, которая на этих широтах приходит очень рано? Капитан и его помощники не могут договориться. Причины разногласий позднее обсуждались и комментировались специалистами. Петер Лауридсен, датский биограф Беринга, встает на сторону своего героя. Он утверждает, что именно пресловутая осторожность не позволила ему согласиться идти дальше. Глава экспедиции боялся «противных ветров», которые могли бы помешать экипажу вернуться на Камчатку до конца лета, и сомневался, что сумеет организовать зимовку в суровом климате по соседству с народами, которые никому не подчинялись и на чье доброе отношение не приходилось рассчитывать.30 Советский историк Михаил Белов защищал другую точку зрения. Он полагает, что за осторожностью капитана пряталось тайное намерение: по его мнению, Беринг не хотел достичь Америки, чтобы Нидерланды, могущественное государство, с которым он поддерживал связи, смогло впоследствии заявить свои права на владение новыми территориями, по всей вероятности, находившимися совсем близко.31
Чтение наставлений царя имеет и более простое, но при этом вполне убедительное объяснение. На что следовало в первую очередь обратить внимание согласно посмертному наказу Петра Великого? На доказательство существования пролива между Россией и Америкой? Или на определение географического положения Америки? Царя интересовало и то, и другое. Он был бы рад, если бы его эмиссары водрузили российский флаг как можно дальше, положив тем самым предел распространению европейских держав-соперниц. Но как только капитан «Святого Гавриила» увидел, что азиатское побережье внезапно изогнулось, уходя на запад, стало понятно, что нельзя выполнить все пожелания государя. Нужно было выбирать.
И Беринг выбрал. Штурвальный получил приказ на протяжении двух дней держать курс на север. Если за это время «Большая Земля» не появится, корабль следовало развернуть. Очевидно, что не всем понравилось такое решение. Петр Чаплин, один из молодых офицеров, необычайно увлеченный экспедицией, составил записку о недовольстве всех офицеров. Он подчеркнул, что решение о возвращении на Камчатку было принято без совета с остальными.32 Если бы Беринг согласился последовать плану Чирикова, Северо-Западная Америка была бы открыта в 1728 году, – полагает историк Кушнарев.33
Через несколько часов корабль пересек 660 северной широты. 14 августа он миновал мыс – крайнюю точку Азии, который был тщательно описан и положен на карты. Погода стояла туманная и дождливая. Матросы наблюдали за китами, которых очень много в этих водах. Море стало белым, а постоянные измерения глубины показали, что дно не так уж далеко, самое большое – в 50 метрах. 15 августа по левому борту «Святого Гавриила» побережье исчезло. Корабль плыл в открытом море. Беринг увидел в этом свидетельство того, что бот пересек пролив, и счел свою миссию выполненной. Еще несколько часов «Святой Гавриил» держится на 670 северной широты, описывая большие круги и пытаясь разглядеть новую землю. Но уже слишком поздно, таинственная Америка осталась позади. 16 августа 1728 года, поскольку стало видно, что земли к северу больше нет, как запишет впоследствии иезуит Дюальд34, первый западный хроникер эпопеи Беринга, штурману было приказано разворачиваться.
«Святому Гавриилу» потребовалось больше месяца, чтобы пройти северный полярный круг. И только две недели, чтобы встать на якорь в порту отплытия. Вопреки страхам Беринга, погода стояла хорошая, дули попутные ветры. Капитан спешил попасть на Камчатку и шел кратчайшим путем. Эта спешка выдает тревогу Беринга, усилившуюся по сравнению с той, что он испытывал при выходе в море. Иначе почему бы он решил пройти по тому же маршруту, вдоль побережья Азии? Этот выбор лишил его еще одного открытия. «Одного жаль, – писал по этому поводу Михаил Ломоносов, – что, идучи обратно, следовал тою же дорогою и не отошел далее к востоку, которым ходом, конечно бы, мог приметить берега северо-западной Америки».35 Единственное его утешение – это острова Диомида, получившие имя по церковному календарю. 2 сентября «Святой Гавриил» вошел в устье реки Камчатки.
Вернулся ни с чем? Не совсем так. Впервые описано побережье. Несмотря на примитивные картографические средства экспедиции, новая карта Камчатки и Чукотки на удивление точна. Ее будут нахваливать исследователи следующих поколений, начиная с Джеймса Кука. Англичанин в ходе своего третьего и последнего путешествия в тех водах через 50 лет после Беринга, был настолько поражен качеством карт, оставленных датчанином, что назовет его именем пролив, где его предшественник оказался практически не по своей воле после множества тяжелых испытаний.
Глава экспедиции вернулся в Санкт-Петербург в первые дни марта 1730 года. Пять лет отсутствия, множество невзгод. Беринг ждет, что его встретят с почетом. Он убежден, что внес немалый вклад в науку и историю. Он побывал далеко на севере, но так и не нашел перешейка. У берегов Камчатки экипаж видел дрейфовавшие стволы деревьев, не растущих на азиатском побережье,36 что подтверждало существование где-то неподалеку неизвестных земель. Успешное путешествие, свидетельства чукотского населения, – все это дает ему основания предположить существование прохода между Азией и Америкой. Миссия исполнена.
Однако столица, куда Беринг въезжает, совсем не похожа на город Петра I, жаждавшего знаний. Это даже не столица Екатерины I, его вдовы, передавшей капитану посмертный царский наказ. Екатерина I умерла. Ее преемник, Петр II, тоже умер – от оспы в возрасте 15 лет, процарствовав всего три года. Когда Беринг входит в Адмиралтейство, новая императрица, Анна Иоанновна, всего три дня как поднялась на трон. Речь идет не о преемственности, назревает смена режима. Императрица не говорит по-русски. На все ключевые посты она назначает своих людей, часто немцев. Высоким лицам есть чем заняться, и результаты экспедиции, начатой пять лет и три государя назад, их мало интересуют.
Но и это еще не все. Сменились не только государи, но и придворные. Их Величества имели разные страсти и непохожий нрав. Морские амбиции, столь дорогие сердцу Петра I, вовсе не интересовали его хилого потомка Петра II, и Адмиралтейство подверглось, как сказали бы сейчас, «реструктуризации». Финансисты требуют предъявить документы, требуют и результатов, оправдавших бы немалые средства, выделенные Берингу. Капитана также упрекают в том, что он присылал в последние годы очень мало отчетов. Академия Наук, созданная через несколько месяцев после отъезда экспедиции и потому никак не связанная ни с подготовкой, ни с осуществлением этого предприятия, с большим высокомерием оценивает ее результаты. Что же касается Сената и Адмиралтейства, основных инициаторов и спонсоров, они также не скрывают своего разочарования: если иметь в виду «настоящие интересы» России в той части света, говорится в одном из документов того времени, то экспедиция мало чему поспособствовала. И, естественно, сенаторы надеялись, что с карты исчезнут наконец некоторые белые пятна.
Беринг представляет свой отчет в Адмиралтейство. Он рассказывает о своей невероятной эпопее и о пути вплоть до 160° долготы. Его путешествие доказало науке и человечеству, что азиатский континент гораздо шире, чем это предполагалось, и что он простирается на 30° дальше на восток, чем считалось раньше. Беринг утверждает, что пролив и, следовательно, проход между Северным Ледовитым океаном и Тихим океаном существует. Он разворачивает карты: его упрекают в том, что он не довел дело до конца, как предполагалось; некоторые даже полагают, что его выводы относительно «стыка» между континентами не заслуживают доверия.37 Беринг хотел бы получить звание адмирала в запасе. Но его представляют к званию капитана-командора. Нетрудно представить себе разочарование главы экспедиции. Поскольку власти не спешат придать гласности полученные результаты, появляются утечки, трансформирующиеся в своего рода общественное мнение.
В том же году в Дании газета Ny Tidende пишет, что Беринг подтвердил наличие Северо-Восточного прохода и, таким образом, доказал возможность пройти этим путем в сторону Камчатки, Китая и Ост-Индии, если тому не будут препятствовать полярные льды.38 Карта с нанесенными открытиями Беринга, тайно покинувшая Санкт-Петербург, вскоре всплывает во Франции. Европейские дипломатические миссии распространяют рассказы участников экспедиции Беринга.
Однако Беринг еще не сказал своего последнего слова. Оскорбленный скептическим отношением Адмиралтейства и Сената, через несколько недель он представляет новый проект. Вторая экспедиция с еще более амбициозными целями. Он предлагает исследовать всю Сибирь, ресурсы этой территории, окончательно убедиться в наличии прохода и составить полное описание северного побережья России вплоть до точки, которой он достиг во время первого плавания. И, конечно же, отправиться в Америку. Нет никаких сомнений, – утверждает Беринг, – что Новый Свет находится лишь в 150 или 200 морских милях от Камчатки. В северо-западном направлении. Он готов, – сообщает капитан, – собрать доказательства тому, если Ее Величество соблаговолит поручить ему эту новую миссию.
Ее Величество Анна Иоанновна согласилась дать ему второй шанс. Однако на этот раз «крестной» экспедиции, помимо флота и императорской администрации, становится наука. Академия не может оставаться в стороне. В то время как административный маховик только начинает раскручиваться, на Камчатке некий геодезист по имени Михаил Гвоздев совершает вроде бы куда более скромное путешествие. Он повторяет путь Беринга на север, а на широте пролива поворачивает на восток. 21 августа 1732 года Гвоздев оказывается вблизи побережья Аляски и бросает якорь в небольшой бухте. Геодезист проводит много времени в дрейфе, тщательно зарисовывая берега. Северные жители были правы: берега покрыты лесами. Это та самая «Большая Земля». Михаил Гвоздев стал первым человеком с запада, достигшим западного берега Америки.
История часто бывает несправедливой, и Гвоздев останется одним из ее нелегальных пассажиров. В Санкт-Петербурге никто не знает, что этот геодезист осуществил мечту Беринга. Но даже если бы об этом стало известно, ничего бы не изменилось: во властных кабинетах замышляется нечто несопоставимое по масштабу. Проект, равного которому до сих пор история науки не знала.
Вторая Камчатская экспедиция (Великая Северная экспедиция)
Возможно, именно с этого момента начинается настоящее завоевание Сибири русским государством. После первых инициатив крупных купцов и промышленников, после географической разведки и исследований эпохи Петра I начинается качественно новый этап освоения далеких краев. Россия присоединяет обширные земли и готовится к их инвентаризации.
Вторая императрица в русской истории, Анна Иоанновна, взошедшая на трон в 37 лет, стала вдохновительницей этого дела. Она по рождению была Романовой, четвертой дочерью царя Ивана V, родного брата и соправителя Петра I. Анна Иоанновна рано овдовела (ее супруг герцог Курляндский умер от сердечного приступа вскоре после свадьбы), была воспитана в немецких традициях и имела весьма приблизительное представление об империи, которой ей предстояло править. Ею владел постоянный страх, что на титул императрицы станет претендовать дальняя родственница – Елизавета, достойная дочь своего отца Петра Великого, которая была лишь ненамного младше ее по возрасту. Чтобы упрочить власть, Анна Иоанновна прибегла к испытанному рецепту – террору. Уделом ее подданных становятся ничем не подкрепленные обвинения, а также пытки и ссылки. Анна Иоанновна опирается на несколько известных русских дворянских семей и рассчитывает также на поддержку группы немцев, на свою партию в армии, администрации и при дворе. Эрнст Иоганн Бюрон, ставший в России Бироном, владевший русским языком не лучше императрицы, был ее официальным фаворитом. Он ратифицировал все важные решения.
Утверждая законность своего правления, Анна Иоанновна старается подчеркивать преемственность по отношению к начинаниям Петра I. Она – наследница императора, пусть не биологически, но символически. Санкт-Петербург и Москва оспаривают властные функции, и Анна Иоанновна присваивает статус столицы городу Петра. Флот и связанные с ним амбиции покойного императора переживают настоящее возрождение. И, хотя сама императрица не так одержима жаждой нового, исследовательские проекты находят ее одобрение и поддержку. Наконец, как и великий предшественник-реформатор, в управлении Россией она делает ставку на энергичных и талантливых иностранцев.
Анна Иоанновна могла рассчитывать на императорскую Академию наук, появившуюся благодаря усилиям Петра I. Говорили, что он собирался явиться собственной персоной на первое заседание Академии, но в январе 1725 года умер. Академия осиротела, как и первая экспедиция Беринга, и ее ревностно оберегала и поддерживала Екатерина I в память о почившем муже. Петр I надеялся создать на основе Академии образцовое учебное заведение, способное дать толчок развитию искусств, наук и технологий и распространить их повсюду по стране. Он хотел переманить лучшие умы своего времени, обещая им привилегии и свободы, которых не существовало в Европе, отвел для Академии одно из самых прекрасных зданий столицы и присоединил к ней школу – с иголочки – для подготовки российской смены.
Все или почти все сложилось так, как хотел Петр I. Когда Анна Иоанновна берет в свои руки бразды правления, в Академии, стоявшей на берегу Невы напротив императорского дворца, уже собраны замечательные ученые и специалисты. 20 профессоров – членов Академии – один лучше другого. Большая их часть молоды: среди них есть профессора 22 лет, блестящие представители разных научных дисциплин. И все они – иностранцы. Вербовщики русского царя отправились охотиться за кадрами в самые престижные научные «питомники», в частности, в Тюбинген, Базель и Галле. Молодые ученые покинули большие страны и маленькие княжества, слишком тесные для их амбиций. Среди них математик из Базеля Леонард Эйлер и два его соотечественника, Даниил и Николай Бернулли, ботаник из Шаффхаузена Иоганн Амман, французские астрономы Жозеф-Николя Делиль и Людовик Делиль де ля Кроер, немецкий физик Георг Крафт, историк Герхард Фридрих Миллер, врач и ботаник Иоганн Георг Гмелин, итальянец Мартини – их имена присвоены теоремам, гипотезам и фундаментальным формулам современных наук. Немалую роль сыграли, конечно, деньги, но куда важнее были широчайшие перспективы, возможность работать вместе со знаменитыми коллегами, а также проект строительства молодого просвещенного государства. Это подвигло их бросить все и отправиться в Санкт-Петербург. План достаточно смелый для государства: доверить свое будущее и приличную часть бюджета группе энергичных молодых ученых из Европы.
Их приезд не всем пришелся по вкусу, поскольку молодые гении не страдают скромностью или конформизмом. Петербургское хорошее общество часто с трудом отличало эксцентричность от агрессивности или совершенно неприличного тщеславия. В Академии говорят по-немецки, по-латыни и иногда по-французски[26], и это тоже раздражает общество.39 И только лет через пятнадцать появляется первое поколение российских ученых, по большей части выходцев из крестьянской среды или из служилых людей, сумевших перенять знания у иностранной элиты. Среди них Михаил Ломоносов, универсальный ученый, или географ Степан Крашенинников. Пересадка науки удалась.
* * *
Приступая к выполнению своего нового проекта, Витус Беринг рассчитывает на помощь одного из влиятельнейших придворных советников, Ивана Кирилова, президента Сената, человека из близкого окружения Петра Великого. Кирилов скептически отнесся к первой экспедиции, которую он считал недостаточно амбициозной. Но новый проект он поддержал. Ему хотелось бы, чтобы Россия воспользовалась вылазкой к американским берегам, чтобы закрепиться там и превратить индейцев, еще не подчинившихся испанской короне, в подданных Ее Величества. Витус Беринг и Иван Кирилов убедили академика Миллера помочь им и перевести проект на немецкий язык: таково было правило при дворе Анны Иоанновны и ее фаворита Бирона.40 В этой причудливой смеси исследовательского пыла и личного реванша (Беринг), политических амбиций (Кирилов) и жажды знаний и славы в научном мире (Миллер) ясно видны главные движущие силы, которые окажут значительное влияние на суть и ход проекта.
Немалое количество императорских учреждений обязали внести свой вклад в новый проект Беринга, который должен был позволить новой российской императрице получить европейское признание. Когда наконец Беринг, два года ждавший ответа от властей на свой проект, получает бумаги с печатью императрицы, он с трудом узнает свое произведение. Сенат, Адмиралтейство, Академия наук, приказы и отделения, через которые оно прошло, внесли каждый свои исправления в список целей экспедиции. Лавина ожиданий, пожеланий, идей, надежд и иллюзий обрушивается на капитана-командора. Беринг намеревался добраться до Америки, удостовериться в существовании прохода между Азией и Америкой и нанести на карту русское побережье от Колымы до Камчатки. Ему поручают описать также арктическое побережье (не менее 13 000 км), картографировать весь север Азии и прилегающих регионов Америки вплоть до Калифорнии, исследовать Курилы и Шантарские острова, попасть в Японию и завязать торговые связи и, наконец, чтобы уж ничего не упустить, изучить флору, фауну и историю Сибири, а еще – языки и обычаи народов, которые ее населяют. Короче говоря, полностью описать треть известного на тот момент мира! И под этим документом нужно было поставить подпись.
Беринг ставит подпись. Ему за пятьдесят, но он хочет доказать свою профессиональную добросовестность, прежде чем удалиться в отставку в свое выборгское поместье. Задача, конечно, превосходит человеческие возможности, и он осознает это как никто. Однако ему предоставляется уникальный шанс. Государство вручает ему флот, Академию наук и астрономический бюджет. Россия организует самую крупную географическую экспедицию за всю историю человечества, и он поставлен руководить этим амбициозным предприятием. Оно рассчитано на шесть лет, но продлится все десять. И большая часть задач будет решена.

У экспедиции несколько составляющих. Адмиралтейство разрабатывает проект изучения арктического побережья, начиная от устья рек Оби, Енисея и Лены. Предполагается повсюду открывать навигацкие школы, кораблестроительные доки, литейные производства и цейхгаузы. Академия отвечает за все научные исследования – географические, геологические, ботанические, зоологические, антропологические, лингвистические, этнографические, астрономические, археологические и исторические, которые предполагается вести в Сибири, на Камчатке и, в случае удачи, в Америке. Кроме того, Беринг должен доделать то, что не удалось во время первой экспедиции: отплыть с Камчатки на новых кораблях, достичь американских берегов, пройти вдоль них, чтобы выяснить их контуры и взять под руку Анны Иоанновны. Руководство всей экспедицией отражает стиль отношений в самом сердце власти: Беринг, датчанин, находящийся на русской службе, назначен командующим и должен отвечать в целом за все предприятие, как только экспедиция перевалит за Урал. Но во всем, что касается научных работ, ему предписывается постоянно советоваться с Академией наук. Он должен привлекать на свою сторону местные власти и каждое важное решение согласовывать со своими офицерами. Кроме того, ему было приказано действовать всегда в полном согласии с мнением главного помощника Алексея Чирикова. Молодой скромный соратник по первой экспедиции стремительно взлетел в звании и попал в окружение Беринга. Мартын Шпанберг, второй помощник Беринга, также участвует в новой экспедиции: ему поручена японская часть проекта. Споры, возникшие во время первой экспедиции, очевидно, давали о себе знать и в Санкт-Петербурге.
17 апреля 1732 года императрица одобрила грандиозное предприятие. Переданные Берингу инструкции не имеют ничего общего с волеизъявлениями Петра Великого, изложенными всего в нескольких параграфах. В новых инструкциях 17 пунктов, тщательно прокомментированных Адмиралтейством, Академией и Сенатом.41 В документе сразу заявляется о необычности предприятия: это самая далекая, самая трудная экспедиция в мире, никогда еще человек не оказывался так далеко.42 И еще – самая дорогостоящая. По расчетам историков, экспедиция поглотила шестую часть государственного бюджета. Чтобы справиться с расходами, власть прибегает к чрезвычайным мерам: кроме сотен барж и плотов,43 которые предполагалось построить для прохода по большим рекам, Адмиралтейство готово снарядить еще пять– семь морских кораблей для разных нужд экспедиции. Чтобы справиться с этой задачей, в самых отдаленных и почти необитаемых местах устраиваются верфи. Решено в Охотске и на Камчатке, двух пунктах на пути к Тихому океану, преодолеть нехватку ресурсов, с которой Беринг столкнулся во время первой экспедиции, принудительно отправив туда переселенцев: 300 из 1 500 человек, приписанных к Якутску, получили приказ отправиться в остроги Охотска и Камчатки. Им на смену никого не прислали. Крестьян переселили, чтобы они обрабатывали землю, тунгусов и якутов – ради разведения скота. Кроме того, туда отправили отбывать наказание преступников, а также должников казны. Постепенно все эти люди увеличили население Охотского порта и Камчатки.44 На крайнем севере, где освоение тысяч километров неизведанного побережья – тяжелое испытание, все сборщики ясака, находившиеся в тесном контакте с промышленниками и кочевыми народами, получили инструкции, в которых сообщалось о скором проходе специально оборудованных судов. Сборщикам предписывалось брать с собой проводников и геодезистов, а также подготовить сигнальные огни в устьях рек. Эти огни должны помочь исследователям, уточняло Адмиралтейство, и их следует поддерживать на протяжении летних месяцев и при приближении судов.45
В начале 1733 года все готово. Шпанберг первым покинул столицу, чтобы проследить за работами на верфи. В начале марта Беринг и Чириков последовали за ним с первыми обозами. Зрелище впечатляющее: более ста саней везли все необходимое для экспедиции. Якоря, цепи, тросы, деготь, паруса, а еще на этот раз к обычному снаряжению прибавились научные приборы: астролябии, лабораторная посуда, телескопы, некоторые до 5 м длины. Многие из них окажутся слишком хрупкими, чтобы выдержать ухабы российских дорог. Каждый академик имел право на две повозки с личными вещами. Ученые везли библиотеки, состоящие из сотен томов, среди которых не только последние труды по ботанике, но и латинские классики или «Робинзон Крузо» Дефо. Огромные запасы бумаги – товара, который нельзя сыскать в Сибири, для того, чтобы писать отчеты о научных изысканиях, банки с красками для рисовальщиков, которые должны были зарисовывать растения, животных или удивительные костюмы, несомненно, ждавшие их на краю света. Не забыты и личные погреба: академики везли ром, французские и рейнские вина, коньяки и ликеры, так же заботливо упакованные, как и фарфоровая посуда, которую многие сочли необходимым взять с собой. И это не считая того, что могло понадобиться исследователям, чтобы прожить много лет в очень суровом климате.
* * *
Армия? Это то, что приходило на ум при виде кортежа, покидавшего Санкт-Петербург и направлявшегося в сторону Урала. В экспедиции участвовало 5 000 человек, в том числе 600 офицеров, матросов и солдат.46 В ней собрались представители всех профессий: от плотников, кузнецов и слуг до художников-пейзажистов, от торговцев лошадьми до секретарей. Беринг поделил гигантское «войско» на семь отрядов, каждый из которых отвечал за свой участок. Первый должен был обеспечить описание арктического побережья от Архангельска до реки Оби, второй – от Оби до Енисея. Третьему поручено описать Таймырский полуостров к востоку от Енисея, а четвертому – двинуться ему навстречу от устья Лены. Пятому предписывалось обогнуть крайнюю точку континента и пройти от Камчатки до Лены, за шестым закреплялась Америка, а за седьмым – Япония и соседние архипелаги.47 Капитан-командору поручено учредить по всей России систему подстав: ставки настолько велики, затраты настолько значительны, что Санкт-Петербург хочет быть в курсе каждого шага. Сомнений нет, и тут все историки согласны: речь идет о самой выдающейся научной экспедиции в мире. Немецкий историк географии Ганно Бек замечает, что никто еще не сталкивался со столь огромными логистическими трудностями. Даже проблемы более поздних полярных экспедиций не достигнут такого уровня сложности.48
Академики, отбывавшие в экспедицию, были с большим почетом приняты императрицей Анной Иоанновной. Во время аудиенции каждый подошел к ее ручке49, она пожелала им удачи. В последующие дни им давали аудиенции другие члены императорской фамилии. Ученым предстояло провести значительную часть жизни, осваивая неизведанные земли вдали от цивилизации. Риски огромны, никто не знал, какие именно опасности подстерегали «бродячую» академию.
Во главе научного воинства трое иностранцев, которые в каком-то смысле символизируют самые лучшие и самые худшие стороны Академии наук. Герхард Фридрих Миллер. 29 лет, немец, выходец из того потрясающего кластера учености, в который в ту эпоху входили университеты Саксонии и Тюрингии – Лейпцига, Галле, Виттенберга и Иены. Ему поручены гуманитарные изыскания: история, лингвистика и этнография – наука, которая практически зародится во время этих исследований. Портретов Миллера не дошло до нас, но, если верить современникам, он был «красивым мужчиной»50, крупным, способным переносить трудности. Миллер демонстрирует недюжинную эрудицию и удивительную работоспособность, он без устали выискивает параллели, соединяет и сравнивает факты, анализ которых требует самых разнообразных знаний. Память Миллера удерживает малейшие детали, он великолепный историк, ему легко даются языки, которые он выучивает по мере продвижения экспедиции. Путешествие приведет его в Сибирь, он проедет не менее 40 000 км и создаст монументальное описание этой страны. Несмотря на многие превратности, связанные, в частности, с его иностранным происхождением, Миллер станет одним из самых преданных слуг для принявшей его империи и основателем российской исторической школы.
Его соотечественнику Иоганну Георгу Гмелину 23 года. Он играл ту же роль, что и Миллер, но в области естественных наук. Гмелин учился в Тюбингене – можно сказать, Гарварде XVIII века. Он поступил в этот знаменитый университет в 13 лет, защитил первую диссертацию в 16, стал доктором медицины в 18 и членом Санкт-Петербургской Академии наук в 22. Ему все досконально известно: химия, физика, ботаника, зоология, геология и медицина. Книга Flora Sibirica, написанная им после возвращения, остается классическим сочинением по ботанике. Линней замечал, что Гмелин в одиночку открыл столько же растений Сибири, сколько все остальные исследователи вместе взятые.51
И, наконец, Людовик Делиль де ля Кроер, старший из братьев Делилей, но уступающий им в образовании. Имя Делиль стало известно в астрономии благодаря работам младшего брата Жозефа-Николя. Людовик попал в академические круги благодаря репутации брата и его влиянию в окружении императрицы. Однако даже самые хвалебные отзывы не способны сделать из обычного человека хорошего ученого. Коллеги не уважают Людовика и сомневаются в его компетентности: как насмешливо-доброжелательно замечает Гмелин, тот обладает добрым сердцем и огромным желанием сделать что-нибудь великое, что-нибудь прекрасное для науки, так что остается лишь надеяться, что однажды ученый мир заговорит о нем. Но Гмелин сомневается в том, что Людовика ждет успех. Тон Гмелина почти сочувствующий, поскольку астроному ничего не удается. Его измерительный прибор разбился во время путешествия. Он не смог починить его и в конце концов перепоручил большую часть наблюдений, которые еще можно было провести, своим помощникам, молодым многообещающим российским ученым. В повседневной жизни де ля Кроер был человеком приветливым, но слишком поглощенным своим статусом, внешностью и образом жизни, что очень быстро стало предметом саркастических и даже презрительных реплик его попутчиков. Людовик де ля Кроер страдал морской болезнью, но появлялся на палубе всегда напудренным и в парике. По-русски он не говорил совсем – можно представить, как он выглядел бы в компании матросов в Тихом океане. Даже глава экспедиции не испытывал к нему уважения. Однако Беринг ни на йоту не был готов отступить от инструкций императрицы. Имя француза занесено в список специалистов, которые должны отправиться в Америку, следовательно из троих братьев-академиков именно ему предстояло пройти эту часть экспедиции.
Вереница экипажей не могла проскочить по стране незаметно. На каждом этапе, в каждом городе, где ученые останавливались, они требовали лучших комнат, и Беринг во всем им потакал. Сибирь – не Петербург, и росчерка пера, пусть даже и самой императрицы, недостаточно, чтобы скромные ресурсы сами собой увеличились. Воеводы и губернаторы сибирских острогов с тревогой и даже бешенством наблюдают, как вся их энергия, весь их бюджет поглощается экспедицией. От них требуются колоссальные усилия, которые до дна истощают расположенные вдоль больших рек русские поселения. Как и в первую экспедицию, Беринг часто вынужден по несколько месяцев проводить там, ожидая, когда ледоход откроет речной путь, когда будут собраны съестные припасы и материалы или когда соберут людей, необходимых для решения стоявших перед экспедицией задач. Во время этих остановок ученые исследовали район, тщательно собирали данные. Молодые академики, жаждущие открытий, абсолютно свободны в своих действиях. Все их интересовало, все привлекало внимание. Когда Миллер услышал, что под курганами по другую сторону от границы с Китайской Империей находятся странные захоронения, он ради науки, не колеблясь, инкогнито проник в Поднебесную. На высокогорных плато Алтая, в пещерах неподалеку от Байкала, на арктическом севере – повсюду он заложил базу археологических и палеонтологических исследований для своих последователей.
Итак, экспедиция продвигается медленно. Только в 1736 году, более чем через три года после отъезда из столицы, Беринг и академики разворачивают штаб в Якутске, на Лене. Это уже само по себе испытание, ведь температура часто опускается ниже –400, а зима длится много месяцев. Однако начать выполнение основной программы экспедиции предполагалось именно в столице Восточной Сибири. К северу находится устье Лены. Оттуда должно начаться движение вдоль побережья Ледовитого океана. Это задача четвертого и пятого отрядов, которые возглавляют Василий Прончищев и Питер Ласиниус. На восток, в Охотск, а потом на Камчатку планирует отправиться шестой (Беринг/Чириков) и седьмой (Шпанберг) отряды, которым поручено достичь Японии и Америки. Якутск в то время насчитывает лишь несколько сотен деревянных домов, крепостную стену и церкви. Организовать работу экспедиции непросто. Темнеет очень рано. Гмелин записывает, что к 28 сентября начинает рассветать не ранее девяти часов. Когда идет снег, уже нельзя обойтись без освещения, а к половине третьего дня, если небо чистое, можно увидеть звезды. Большая часть жителей, едва отобедав, ложится спать, а когда день выдается пасмурным, они порой вообще не покидают постели. Спать слишком много опасно, и Гмелин решает, что под отдых следует отвести лишь часть ночи, а все остальное время посвятить науке.52 Слюдяные окна не пропускают много света, в комнатах постоянно лежит слой сажи, который пачкает рукописи и прекрасные доски художника-анималиста Иоганна Бергхана и натуралиста Иоганна Люрсениуса. Художникам пришлось менять принципы цветовой композиции с учетом длительных сумерек.53 Некоторые члены экспедиции вынуждены жить в избах без печей и вставлять в оконные проемы прозрачные пластины льда. Но холод – еще не самое страшное. В начале четвертой зимовки сгорел дом Гмелина. Пожары часто случались в деревянных строениях, где весь день горели свечи и жарко топились печи. В своих записках Гмелин вспоминал, что 8 ноября, когда прозвучал пожарный набат, он был у Миллера. Вскоре ему сообщили, что горел его дом. Когда академики прибежали на пожарище, уже ничего нельзя было сделать: дом был охвачен пламенем, и даже подойти к нему не представлялось возможным. Гмелин, оцепенев, взирал на пожар: утрачены его гербарий, наблюдения, рисунки, а также все то, что могло бы помочь восстановить утраченное, – книги и инструменты. Гмелин остался ни с чем, уцелело лишь то немногое, что было при нем в тот день. Огонь не смогли потушить, дом выгорел полностью – от фундамента до крыши. Только на третий день появилась возможность осмотреть пепелище. Там нашлось более половины монет – самого Гмелина и Миллера, чьи деньги хранились у него, сплавленных в ком.54 Гмелин рассказывает о пожаре с точностью и хладнокровием ученого, однако современники вспоминают, что он был совершенно раздавлен. Особенно он оплакивал утрату книг, в частности Institutiones Rei Herbariei французского ботаника Питтона де Турнефора[27]. И, конечно, нельзя забывать о том, что в огне погибли результаты четырехлетних тяжелейших исследований растительного и животного миров.
Это происшествие словно подтверждало, что экспедицию преследовал злой рок. В конце того же 1736 года Беринг получает от отрядов из разных концов Арктики неутешительные новости. Первый отряд, выдвинувшийся из Архангельска, не сумел, несмотря на многократные попытки, обогнуть Ямальский полуостров и достичь устья Оби. Пробиться через льды не удалось, и корабли вынуждены повернуть назад. Если неудача постигла экспедицию на пути, который уже был известен благодаря мореплавателям прежних веков, что же говорить о других отрядах, столкнувшихся с куда более тяжелыми условиями и неизвестностью. Тогда никто, конечно, не знал, что наступил «малый ледниковый период», совсем не благоприятный для освоения арктических вод.
Тем не менее помощники Беринга не щадят ни усилий, ни людей, ни собственного здоровья. В тяжелейших условиях Дмитрий Овцын, командир второго отряда, пробовал выйти к Енисею, двигаясь от Оби по морю. Овцын – один из товарищей Чирикова, тоже выпускник школы навигацких наук, детища Петра I. В 1734–1737 годах каждое лето молодой офицер предпринимал новые попытки, и каждый раз в первых числах августа его корабль упирался в поля пакового льда. И только в 1737 году отряд достиг цели. Овцын – первый из руководителей отрядов Великой северной экспедиции, выполнивший порученное ему задание. Однако через месяц после возвращения Дмитрия Овцына схватили и подвергли пыткам. Зимой, в далеком краю, он избил одного чинушу, слишком рьяно приударявшего за дочерью отправленного в ссылку князя Долгорукого. Побитый отомстил тем, что сообщил о частых визитах Овцына к опальному князю, их разговорах и даже о существовавшем якобы заговоре против императрицы. Сразу после прибытия Овцына в Енисейск его бросили в темницу, били, пытали на дыбе – связав руки за спиной, подвешивали за привязанную к рукам веревку к перекладине. Овцын не признал вины. Он сумел выжить, и, лишенный всех званий, был, по просьбе Беринга и Чирикова, отправлен матросом в отряд, готовившийся плыть в Америку.
Еще более тяжелая участь выпала двум офицерам, которые летом 1735 года ушли из Якутска на опись таинственного арктического побережья. Выйдя из устья Лены в океан, Василий Прончищев направился на запад на дубель-шлюпке «Якутск», надеясь обогнуть полуостров Таймыр. Питеру Ласиниусу было поручено двигаться от устья Лены к востоку, чтобы обогнуть оконечность Азии и выйти в Тихий океан. Молодой швед покинул Якутск, находясь под большим впечатлением от мрачных предсказаний академиков. Так, например, де ля Кроер твердил ему, что задача, которую перед ним поставили, невыполнима и что никто никогда не сумеет пробиться сквозь льды. Ласиниус рассчитывал, что его дубель-шлюпка «Иркутск» будет в пути два года. С самого начала пути он экономил съестные припасы. Через три месяца Ласиниус первым из экипажа заболел цингой. Начался настоящий мор: погибло 39 человек. Когда пришла помощь, на борту «Иркутска» оставалось в живых лишь восемь членов отряда.
Что же касается Прончищева, отправившегося в путь в тот же день, что и Ласиниус, то он взял курс на запад, несмотря на не совсем благоприятные условия. Море было покрыто льдами, и «Якутск» пытался продвигаться по узким полосам свободной черной воды вдоль припая, каждую минуту рискуя оказаться в плену и быть раздавленным подступавшимися со всех сторон торосами до нескольких метров в высоту. Прончищев получил разрешение взять с собой молодую жену Татьяну, и той очень быстро пришлось взять на себя роль медсестры. Ее муж едва держался на ногах, он страдал от ужасных болей в суставах, как, впрочем, и большая часть экипажа. Однако Прончищев не повернул назад. Он достиг 77° 29´ северной широты – никто еще не забирался так далеко по морю, и был уже очень близко от мыса, крайней северной точки Азии, к которой стремился. Однако туманы и льды заставили его повернуть назад. Но вернуться домой Прончищеву не было суждено. 29 августа 1736 года, добравшись до Усть-Оленька, где отряд зимовал, Василий Прончищев умер. 6 сентября его похоронили в тундре с воинскими почестями. Через 12 дней рядом с ним похоронили и его жену Татьяну. Могила легендарных супругов была найдена лишь в 1875 году. Тридцать человек из отряда тоже не доберется до Якутска. Штурман Семён Челюскин годом позже доставит отчет в Якутск, в штаб Беринга.55
На экспедицию напала цинга, старая приятельница моряков и первопроходцев Крайнего Севера. Эта болезнь развивается от отсутствия витамина C. Она исподтишка захватывает организм человека, попавшего в условия холода, и сначала дает о себе знать усталостью и отеками, затем кровоточивостью десен. Ротовая полость становится губчатой, зубы выпадают, сочится кровь. На этой стадии цинга сопровождается и другими патологиями, усугубляющимися общим состоянием. В конце концов больной впадает в апатию и умирает. Было замечено, что некоторые фрукты и растения могут затормозить развитие болезни, однако толком никто ничего не знал, да и способов хранить их не существовало. Экипажи оказывались в полной власти недуга. Именно цинга, а не холод, стала главным врагом экспедиции и оставалась им до самого конца.
На экспедицию обрушилось множество несчастий, однако появился и слабый светлый лучик: Герхард Фридрих Миллер, заинтригованный категорическими утверждениями своих коллег о том, что Азию можно обогнуть морским путем, погрузился в воеводские архивы Якутска в поисках свидетельств тех, кто плавал на судах вдоль берега. Летом 1736 года он нашел отчет, продиктованный Семёном Дежнёвым почти за сто лет до Великой северной экспедиции. Если рукописи излагали истину, в руках Миллера оказалось доказательства как существования прохода, так и возможности по морю обогнуть северо-восток Азии! Миллер сразу же понял всю важность своего открытия. По его собственным словам, он был «крайне взволнован»56 и тут же поспешил к капитан-командору. Нам неизвестно, какова была реакция Беринга, но вряд ли он сильно обрадовался. Конечно, отчет Дежнёва подтверждал его собственные утверждения и должен был заставить умолкнуть надменных оппонентов из верхнего эшелона Адмиралтейства. Однако правила экспедиции категорически запрещали публиковать открытия, стратегические последствия которых могут быть неконтролируемыми. Факты доказывали, что он прав, но Европа должна по-прежнему пребывать в неведении. И потом, была ли эта архивная находка утешением для того, кто полагал, что первым побывал в проливе между Азией и Америкой, и вдруг оказался лишенным славного титула первопроходца?
В целом картина представлялась капитан-командору не слишком радужной. К весне 1737-го прошло четыре года, как экспедиция покинула Петербург. Но она по-прежнему находилась в Якутске. Бюджет давно проеден, потрачено больше 300 000 рублей, а ни одна из намеченных целей не достигнута. Америка, Япония, пролив между континентами, крайняя северная точка России – все это остается неизведанным. И треть участников, столь тщательно отобранных, погибла ни за что. Сомнения поселились и в рядах членов экспедиции. Многие мечтали вернуться домой, дисциплина расшаталась, кто-то втянулся в торговлю водкой, табаком и пушниной. Сопротивление воевод и местных властей повсюду усилилось. В Санкт-Петербурге Адмиралтейство и Сенат, плохо представлявшие себе трудности, с которыми столкнулась экспедиция, начали терять терпение и искать, кого бы обвинить в том, что все больше и больше напоминало финансовый крах. Сенат, игравший роль правительства при императрице, был уже готов предложить Адмиралтейству отказаться от предприятия и отозвать экспедицию домой.57
Сведения о ней доходили урывками, они отрывочны; нужно несколько месяцев, чтобы почта дошла до столицы. Все в центральной администрации старались проявлять осторожность и дистанцироваться от провала, который выглядел все более и более очевидным. Новые интриги затевались при дворе, и без того зараженном ими. Доносы текли из разных городов, особенно из Якутска и Охотска, порта приписки тихоокеанской экспедиции, в Адмиралтейство, Сенат и Академию наук и даже в канцелярию императрицы. Историки обнаружили в архивах целые кипы таких документов. Практика доносов всегда была распространена во властных структурах империи, и она становится особенно популярной в середине XVIII века благодаря расстояниям, финансовым потерям и полному отсутствию центральной власти в отдаленных местах. Каждый может обратиться непосредственно в центральную администрацию, в частности, в Сибирский приказ, с доносом на злоупотребления или нарушения. Беринг полностью втянут в этот процесс, жалобы на него то и дело летят в Петербург. Конечно, чиновники не могли изучать все эти документы, однако некоторые читались очень внимательно. Некий Василий Казанцев, капитан-лейтенант, сосланный в Сибирь за «непристойные слова» и приписанный к экспедиции в качестве наказания, засыпает Сенат посланиями, в которых обвиняет командора в разных прегрешениях. В своих жалобах он сообщает, что предприятие организовано из рук вон плохо, что оно стоит государству огромных денег, которые к тому же расхищаются. Если экспедицией будут руководить столь же беспомощно, если бесхозяйственность будет продолжаться, – пишет он в донесении, суть которого очень похожа на демонстрацию защиты национальных интересов, – потери государства станут поистине гигантскими.58 Вслед за ним другой офицер – участник экспедиции, лейтенант Михаил Плаутинг, посылает в Адмиралтейство два доноса. В них написано, что Беринг раздает своим подчиненным испорченную муку, а себе оставляет хорошую, что он берет подарки – собольи меха, что он проводит время, изготовляя водки, и что занят исключительно заботой о собственных интересах и удобствах для своей семьи – жены и детей, которые последовали за ним. И вообще, – подытоживает Плаутинг, все указывает на нежелание главы экспедиции покидать Якутск и исполнять высочайшие приказы. Подчиненный обвиняет Беринга в том, что тот на деньги экспедиции построил судно и прогулочный экипаж, которые использует для летних и зимних развлечений. По его словам, Беринг велел изготовить огромные сани, куда могут поместиться 30 человек и стол со сладостями, и развлекался, катая в них жену, детей и местных жителей.59 «Чушь», – отвечает датчанин. Он клянется, что предпочел бы три морские экспедиции в неизвестное еще одному году в той жуткой дыре, которой являлся Якутск. Однако его положение осложняется, когда Плаутинг доносит о местном хроническом недуге – нелегальной торговле пушниной и табаком, в которой участвует, в частности, Анна Беринг, первая леди экспедиции. Если обыскать ее экипаж при выезде из города, как пишет доносчик, то доказательства тому легко сыщутся.
В Охотске начальник порта Скорняков-Писарев, сосланный на край света за участие в заговоре, которому было поручено организовать жизнь членов экспедиции и строительство кораблей для отправки Беринга и его экипажа в строну Америки и Японии, рвет и мечет: за пять лет он собственноручно написал не менее 25 доносов на Беринга и Шпанберга. Злоупотребление полномочиями, должностные преступления, нелегальная торговля мехами и табаком (особенно Шпанбергом), частое заступничество за местных в случае конфликта с русской администрацией – все идет в ход, чтобы утопить чужеземного капитана в потоке жалоб, из которых можно многое узнать о быте членов экспедиции. Так, глава охотского порта возмущается терпимостью (и даже поддержкой), которые выказал Беринг по отношению к одному молодому матросу и его возлюбленной. Парочка, воспользовавшись фальшивыми бумагами, жила вместе – как муж и жена. Их судили, и Мария (возлюбленная) была жестоко наказана плетью. Затем ей определили место жительства, но она не провела там ни единой ночи, а когда за ней пришли, чтобы снова подвергнуть наказанию, она с криком выбежала из помещения и побежала к Берингу, который не выдал ее.60 Возмутительно! – протестует начальник порта. Здесь никого невозможно наказать, Беринг все время покрывает виноватых и защищает их.
Как должен реагировать Санкт-Петербург на все эти доносы? Администрация в затруднении. Она то требует письменных свидетельств, то вызывает жалобщиков в Санкт-Петербург, чтобы провести следствие. Иногда Чирикову поручается на месте проверить действия своего непосредственного начальника. Вся эта кутерьма в конце концов ни к чему не привела, поскольку убедительных доказательств не нашлось. Тем не менее сама обстановка, сочившаяся ядом, подтверждала неутешительные выводы инициаторов экспедиции: дело организовано из рук вон плохо, выполнение главных задач откладывалось. Предприятие становилось слишком разорительным. Кто, если не Беринг, должен был ответить за все это? И администрация делает то, что делает любая администрация в подобных случаях. Сначала она высылает доносчиков: одного – молиться в монастырь, другого – служить матросом. Затем, как и полагается, в целях справедливости – принимает решение выказать свое неодобрение главе экспедиции. Ему грозят разжалованием и даже военным судом, от него требуют, чтобы он отослал жену и детей и, наконец, его лишают двойного жалования, которое ему полагалось, как и другим членам экспедиции.
Беринг оскорблен таким непониманием. Он подумывает об отставке, даже просит, чтобы ему позволили уехать в европейскую часть России. Поддается ли описанию груз ответственности, лежавший на нем? Что сделать, чтобы угодливые чиновники Адмиралтейства осознали, с какими испытаниями сталкиваются члены экспедиции, вынужденные действовать в тяжелейших условиях? Нужно ли рассказывать о днях и неделях, наполненных тревогой, когда экипажи, попавшие в ледовый плен, пробивают себе путь, разбивая кирками морской лед толщиной в 2 м? И все это лишь для того, чтобы судно чуть-чуть продвинулось вперед, чтобы пройти еще немного, как это делал Прончищев незадолго до смерти. Нужно ли описывать зимовки в кромешной тьме на берегах, где бушуют снежные бури? Бесконечные споры с начальством поселений, через которые пролегал путь экспедиции, все детали их противодействия? Он тоже мог бы слать депеши и доносы. Глава Охотска его в чем-то обвиняет? Но разве не он должен был обустроить площадку для грузов, построить выдающийся в море пирс и начать строительство кораблей? А на самом деле? Когда экспедиция прибыла на место, как сообщал Беринг, там было совершенно пусто. Ни одной постройки. Жить негде. Нет ни деревьев, ни растительности – ни на берегу, ни поблизости. Только камни. Матросы построили жилища для офицеров, а также бараки и домишки для себя. Они таскали глину и изготавливали из нее кирпичи; они запасались дровами за 6–7 км от поселения. Они ходили за водой к реке, находящейся в 2–3 км от их домов. Они сушили сухари. Они заготавливали древесный уголь для кузнеца. А затем их отправили на Камчатку, чтобы подготовить порт для морских кораблей.62
Из-за расстояний все происходит очень медленно. Отчеты и доносы идут до столицы месяцами. Потом их проверяют, и решение отправляется в Якутск. Возможно, это к лучшему. Пока Адмиралтейство собирает жалобы и изучает все перипетии экспедиции, Беринг действует. Он перебирается из Якутска в Охотск, на берег Тихого океана, вместе со своим помощником. Прежде чем уехать, Беринг возобновляет работы на арктическом побережье. Непрерывные неудачи, удары судьбы и даже гибель многих участников экспедиции не лишил его веры в успех. Беринг послал туда, где пали Ласиниус, Прончищев и их товарищи, новых лейтенантов – все они выжили после первых походов, все происходили из низших чинов. Семён Челюскин, бывший штурман «Якутска», и двоюродные братья Дмитрий и Харитон Лаптевы подхватили эстафету. От устья Лены Дмитрий отправился на восток – к восточной оконечности Азии. Харитон и Семён Челюскин двинулись на запад – к устью Енисея. Из предыдущих трагедий были сделаны некоторые выводы: борьба с цингой стала приоритетным делом. Челюскин также учел опыт местных жителей и запасся ездовыми собаками и лыжами, на которых можно месяцами продвигаться по снегу тундры. Никто в тот момент не догадывался, что имена этих путешественников шагнут в будущее и будут нанесены на все карты мира. Челюскин первым достигнет места, которое назовет Северо-Восточным мысом, самой северной точки Евразии. Братья Лаптевы сумеют достичь цели, отказавшись от пути по морю и выбрав санный транспорт. Им пришлось пройти через много трудностей при описи берегов, но много позже на картах появилось море Лаптевых.
Беринг не забыл и о Камчатке – последнем этапе перед отплытием в Америку. Туда была отправлена передовая команда, которой поручили основать на полуострове новый порт. И в этом случае были учтены ошибки и беды первой экспедиции, состоявшейся десять лет назад. Было решено построить в Охотске сразу два морских корабля. Им предстояло обогнуть Камчатку, что делало ненужной сухопутную переброску экспедиции через полуостров – предыдущий опыт стал болезненным воспоминанием для капитан-командора. Чтобы сократить расстояния, выбрано новое место для якорной стоянки: Авачинская бухта, великолепный естественный порт. Диаметр бухты – более 20 км, глубина – 22 м. Идеально для кораблей Беринга.63 Расположенная у юго-восточного побережья полуострова, бухта надежна, поскольку благодаря узкому входу защищена от океанских течений и штормов. Беринг велел построить там несколько бараков, склады, пирс и церковь, посвященную апостолам Петру и Павлу, которая даст название поселению – Петропавловск, в будущем главному городу Камчатки[28]. Беринг обратился в Академию наук с просьбой прислать ученых, чтобы они вели там долгосрочные исследования. По всей видимости, перспектива пути на Дальний Восток, о котором уже многое было известно по донесениям, а затем длительного пребывания среди камчадалов и коряков не вызывала энтузиазма. Миллер, работавший по 18 часов в день, закопавшись в рукописях, перегружен. Гмелин, которого призвание, ботаника, влечет к более умеренным зонам юга Сибири, подумывает двинуться в обратный путь. Вот уже больше четырех лет исследователи работают вдали от своих семей. Иначе говоря, идея перехода по Охотскому морю никому не улыбается. И в путь отправляется де ля Кроер, которому императрица поручила американский вояж и который поэтому никак не мог отказаться, а также двое молодых талантливых людей – Степан Крашенинников и недавно прибывший немец Георг Вильгельм Стеллер. Первым на борт поднялся Крашенинников, универсальный специалист, чьи работы, посвященные Камчатке, до сих пор считаются классическими. Его рассказ о путешествии дает полное представление о том, насколько оно было опасно. Бот «Фортуна»[29] вышел из Охотска 4 октября 1737 года. Как сообщает Крашенинников, ночью корпус судна дал течь, и в трюме вода доходила до колен, ее уровень поднялся выше орудийных портов. Единственное, что можно было предпринять, это уменьшить вес корабля. За борт полетело все, что находилось на верхней палубе, но этого оказалось недостаточно. Пришлось выбросить еще примерно шесть с половиной тонн грузов. Воду откачивали насосом по очереди, замерзая под снегом, вплоть до 14 октября. «Фортуна» прибыла к устью, однако течение оказалось столь бурным, что судно не могло двинуться дальше. Большинство экипажа настаивало на том, чтобы разобрать корабль. Вечером были сняты мачты и разобрана обшивка, а все остальное унесло море. И тогда стало ясно, какой опасности подвергался экипаж: доски корабля почернели и сгнили64.
Витус Беринг, отправившийся морем, чтобы возглавить плавание к берегам Америки, послал в Петербург длинное письмо. Этим потрясающим текстом он защищает себя и своих людей. Он перечисляет, какие препятствия и разочарования ждали участников экспедиции, какие подвиги, превышающие человеческие силы, они уже совершили, сколько кораблей спустили на воду, как прошли через весь север Азии. Это свидетельства человека, глубоко раненного упреками, усталого командира, утратившего последние иллюзии, по всей вероятности, смирившегося перед несправедливостью начальства, которое не осознавало масштаба задачи, порученной ему. Человека, решившего собрать свои последние силы, чтобы выполнить свою миссию. В конце письма, отправленного с курьером в Санкт-Петербург, Беринг писал: «Я сообщил вам об усилиях, которые я предпринимал, чтобы дело продвигалось, и показал вам невозможность более быстрого осуществления главной цели экспедиции. И все офицеры, находящиеся под моим началом, могут это подтвердить. Примите заверения в моем уважении. Витус Беринг».65
Десять часов в Америке…
Наступил 1741 год. Берингу ясно, что пробил час: пора отправляться в большое плавание. В новом порту – Петропавловске – уже вовсю шла подготовка. Два построенных в Охотске корабля успешно добрались до Камчатки. Они стояли на якоре в изумительной красивой бухте в окружении вулканов поразительно правильной формы. Корабли получили имена в честь апостолов – Святого Петра и Святого Павла, как и церковь, как и сам молодой город. На корабле «Святой Петр» должен идти сам Беринг, «Святой Павел» доверили Чирикову. Предполагалось, что суда в пути будут держаться вместе.
«Святой Петр» и «Святой Павел» – корабли-близнецы. Они были построены по одним и тем же чертежам: 27 м в длину, 7 м в ширину и 3 м осадки– точные копии балтийских бригов. Командор, уединившись в своем скромном жилище, размышлял над составом экипажа. Одна из главных проблем – астроном де ля Кроер. Поскольку у него были высокопоставленные покровители, Беринг не мог просто взять и оставить его на берегу. Однако ему многократно доводилось убеждаться в том, насколько скромны способности достопочтенного академика. И если бы речь шла только об астрономии! Для достижения самой главной цели экспедиции командору был крайне необходим географ. В последних реляциях из Адмиралтейства говорилось о необходимости разведать залежи серебра, золота и даже железа, которого России катастрофически не хватало. И, конечно же, составить описание Нового Света, как можно более полное. Месье де ля Кроер, если иметь в виду эти задачи, никак не мог считаться ценным членом экипажа. Скорее уж балластом. Его брат и кузен, оставшиеся во Франции, полагали, что посреди Тихого океана, к юго-востоку от Камчатки, находится некая земля, названная Землей Гама (Гама Лэнд). Де ля Кроер, веривший в кабинетную гипотезу Делилей, мечтал прославиться, открыв эту землю. Америка стояла для него на втором месте, что совсем не нравилось Берингу, придерживавшемуся первоначального плана. Кроме того, он понимал, что ошибки и некомпетентность способны помешать главной цели экспедиции. Академические же круги, несомненно, свяжут любую неудачу с его именем. Беринг уже начал ощущать груз нескольких лет, полных тягот и тревог. Сотоварищи вдруг заметили, что он все чаще выглядел мрачным и подавленным, его кожа приобрела желтоватый оттенок, щеки обвисли. Блеск в глазах, с которым он произносил речи в Санкт-Петербурге или спорил с властями во время продвижения экспедиции по Сибири, поблек. Беринг поседел и начал жаловаться на боли в ногах.66 Истощение? Начало болезни? Или же после стольких разочарований его неизбежно нагнала банальная депрессия? Берингу уже под шестьдесят, его семья далеко, а бремя ответственности давит все сильнее и сильнее. Возможно поэтому он совсем не прочь взять с собой ученого, который смог бы также выполнять роль личного врача. У него возникла идея. Годом ранее, когда штаб экспедиции располагался еще в Охотске, ему представили новичка, посланного Академией наук, молодого немца лет тридцати. Георг Вильгельм Стеллер – один из тех юных дарований, которых соблазнила перспектива поработать в молодой санкт-петербургской Академии. Он одержим наукой и готов ради нее на многое. Он уже поменял свое труднопроизносимое для русский имя Штёллер на Стеллер. Трудно представить дружбу двоих столь непохожих людей как Беринг и Стеллер. Впервые они пожали друг другу руки на берегу Тихого океана. Командору 59 лет. Беринг бесстрашный и мужественный человек, по характеру – флегматик. Он накопил огромный опыт, но почти раздавлен грузом ответственности. Он тщательно взвешивает любое решение, тревожится, сомневается. У него не осталось, как кажется, ни малейших иллюзий. А его собеседник – двадцатидевятилетний ученый, темпераментный, страстный, вспыльчивый, преисполненный энтузиазма и решимости преодолеть любое препятствие на пути познания. Оба они осознавали масштабы несовместимости характеров, которая нисколько не сгладится за время дальнейшего пути. Позже Стеллер скажет, что между ним и капитаном «не было ничего общего», что ничего их не объединяло, кроме пребывания изо дня в день бок о бок на одном корабле.67 Зная опасливость и осторожность Беринга, ставшую притчей во языцех, легко представить себе, как он перебирал аргументы, которые, вероятно, были вовсе не в пользу странного молодого человека, явившегося к нему и просившегося в экспедицию. Однако действительность оказалась иной: что-то промелькнуло между ними. Беринг, конечно же, как и требовала его натура, начал с того, что несколько остудил амбиции Стеллера. Несмотря на ворох предъявленных бумаг из Санкт-Петербурга, он позволил ему всего лишь ехать на Камчатку. Однако Беринг обратил внимание на многочисленные достоинства молодого человека: «Ныне обретаетца здесь, – сообщал он в донесении, – присланный из Санкт-Питербурха адъюнкт истории натуральной Штеллер, который писменно объявил, что он в сыскании и в пробовании металов и минералов надлежащее искусство имеет, чего ради капитан командор со экспедицкими офицерами определили его, Штеллера, взеть с собою в вояж, к тому же он, Штеллер, объявил же, что в том вояже сверх того чинить будет по своей должности разные наблюдения, касающиеся до истории натуральной и народов и до состояния земли и протчаго, и ежели какие руды и найдутца, то оным адъюнктом Штеллером опробованы будут».68 Беринг вспомнит о Стеллере через несколько месяцев, когда придет время записать в бортовой журнал имена тех, кто отправится вместе с ним в Америку. Имя Стеллера – одно из первых в списке экипажа «Святого Петра», флагманского корабля Беринга. Ему даже отведено место в каюте капитана. Официальная должность Стеллера – обоснование для участия в последнем этапе экспедиции – «минералог». Но, очевидно, Беринг рассчитывал на молодого ученого как на географа и своего личного врача. Ему нужен союзник, доверенное лицо среди множества русских матросов и офицеров. Возможно, командора привлекли германское происхождение молодого ученого и его приверженность протестантизму[30]. Что же касается де ля Кроера, то он, как и ожидалось, оказался приписан к кораблю Чирикова – «Святому Павлу».
* * *
Бывают такие моменты в истории, когда все решает деталь, на первый взгляд незначительная. Человек, которого, возможно, случайно выбрал Беринг, повлияет на судьбу экспедиции. Он также оставит мощный след в истории естествознания: ведь тот, кого Беринг взял в свою команду, – гений. И даже больше чем гений. Георг Вильгельм родился в воскресенье, 10 марта 1709 года, в небольшом городе Виндсхайме[31], во Франконии, в самом сердце Германии. Он был Sonntagskind [32] – то есть человек, одаренный талантами, баловень судьбы. Удача словно брала таких детей под свое покровительство. Роды были тяжелыми, и сначала даже показалось, что мальчик умер. Однако его крик возвестил о том, что ребенок родился везунчиком. Его отец был кантором в церкви, находившейся по соседству, и регентом хора. Семья исповедовала протестантизм. Виндсхайм – один из тех городков в католической Баварии, который как-то вдруг примкнул к новой вере и оставался ей предан на протяжении проследовавших десятилетий религиозной вражды. Георг Вильгельм рос в семейном окружении и в церкви, возвышавшейся над домами с островерхими крышами, над улочками, которые вели на площадь. Он рано начал импровизировать на органе, гулко звучавшем под сводами темного дерева. Одна из свадебных кантат, сочиненная им в 17 лет, даже была разрешена к печатанию.69 Казалось бы, его путь ясен – теология. Старший брат выбрал медицину, а юный Стеллер одинаково увлечен разными дисциплинами. Вера, оправдание Бога, этика, затем природа жизни – все это питало интерес к живому, а также к телу человека и его анатомии. Примерный ученик, Георг Вильгельм увлечен вскрытиями, гербариями и коллекциями не меньше, чем молитвами и пением. Современники вспоминали, что он без устали задавал вопросы70 и никогда не был полностью удовлетворен ответами. Вскоре Стеллер отправился учиться в Саксонию, где преподавали и вели диспуты самые выдающиеся умы того времени. Виттенберг, академия Лютера, затем Лейпциг, перекресток науки и педагогики, и, наконец, Галле, особенно ему полюбившийся. В соответствии с логикой учености своего времени, он стал теологом, ботаником и зоологом. Стеллер преподавал в знаменитой школе Августа Франка при сиротском приюте в Галле, необычном педагогическом заведении для бедных. И, конечно, он был врачом. Точнее, он считал себя врачом, когда в 25 лет отправился попытать счастья в Россию. Университет не захотел видеть его среди профессоров, его бурный темперамент и размах не особенно нравились руководству, и потому он добровольно отправился служить врачом в действующую неподалеку от Данцига российскую армию с твердым намерением добраться вместе с ней до Санкт-Петербурга – очага науки и просвещения.
Оказавшись наконец, после путешествия по ненастному Балтийскому морю, в столице без гроша в кармане, Стеллер снова доказал, что он Sonntagskind. Не имея знакомств, не зная никого, кто мог бы представить его местным эрудитам, он проводил время за составлением гербариев в некоем зародыше ботанического сада, названном «Аптекарский огород». Несколько акров земли, засаженных кустами и медицинскими травами, – излюбленное место прогулок одного из иерархов православной церкви, члена Святейшего Синода Феофана Прокоповича. Пятнадцать лет титанических трудов во главе реформировавшейся церкви состарили пятидесятитрехлетнего церковного деятеля до срока. Во время своих ежедневных прогулок по саду Феофан Прокопович не мог не обратить внимания на молодого ученого немца. При знакомстве тот произвел на него большое впечатление. Впоследствии они подолгу беседовали на латыни. Благодаря очередному подарку судьбы, Стеллер свел знакомство с выдающимся человеком – не только занимавшим важную должность и имевшим огромный круг обязанностей, но и обладавшим колоссальным объемом знаний и критическим умом. Феофан Прокопович – церковный деятель и просветитель. Его биография включает долгое пребывание в Вене, Павии, Ферраре, Флоренции, Пизе и Риме, где он прослушал в иезуитской коллегии курсы, предназначенные для священнослужителей славянского происхождения. В Риме он провел три года, изучая риторику, теологию, философию, физику, арифметику и геометрию, по которой он получил диплом magno cum applauso (с отличием, лат., буквально – «большие аплодисменты»).71 После этого ученый монах вернулся в Киев, где и находился до тех пор, пока его не вызвал в Петербург Петр I, задумавший реформу церкви.

Феофан трудился не щадя сил. Став одним из высших церковных иерархов в 39 лет, он модернизировал церковь, встроил в новое общество и открыл для критики, а также реформировал канонические правила. Феофан был готов идти еще дальше. В глубине души этот православный монах, выученный католиками, был убежденным протестантом. Прокопович, как он сам признавался в одном из частных писем, «лучшими силами своей души» ненавидел «митры, саккосы, жезлы, свещницы, кадильницы и тому подобные забавы».72 Его путь – молитва, его пристрастия – науки и искусство, его мотивация – реформа и строительство мощного современного государства, что отвечало чаяниям государя. У Прокоповича и Стеллера, прогуливавшихся по дорожкам ботанического сада, было много тем для бесед. Феофан на протяжении многих лет страдал от ужасных болей, вызванных камнями в почках. Он оценил консультации молодого врача и даже поселил его в одном из домов Синода и, как впоследствии и Беринг, сделал его своим личным врачом. Вместе с пристанищем в самом центре Петербурга Стеллер получил в свое распоряжение одну из лучших библиотек столицы вкупе с прекрасным винным погребом. Ибо монах Феофан, помимо прочих достоинств, знал толк в напитках. Но Георг Вильгельм видит в нем прежде всего собеседника и хорошего друга. Конечно, со смертью Петра Великого иерарх утратил поддержку, необходимую для продолжения реформ, однако он по-прежнему оставался одним из самых влиятельных людей Петербурга. За несколько месяцев до этих событий Феофан обратил внимание на другого молодого человека – на два года моложе Стеллера – помора из-под Архангельска, наделенного большими талантами. Некоего Михаила Ломоносова. Патриарх определил его учиться в только-только созданный Академический университет, а затем отправил в Германию, в Марбургский университет, где преподавал последователь Лейбница Христиан Вольф. Как только Феофан прознал, что Вторая Камчатская экспедиция, вот уже три года как покинувшая Петербург, ищет ученого адъюнкта в помощь перегруженным обязанностями Гмелину и Миллеру, он тут же пустил в ход все свое влияние, чтобы добиться назначения Стеллера. Рекомендация Прокоповича стала лучшим «сезамом» для иностранца-протестанта. Ему только нужно было сдать экзамен для поступления в Академию. Экзаменатором Стеллера стал другой будущий великий ботаник, двадцатидевятилетний швейцарский ученый Иоганн Аманн, уже тогда признанный авторитет. Наконец Стеллер приносит торжественную клятву хранить в тайне свои открытия на русской службе. И вот двадцатишестилетний ученый приписан к экспедиции в качестве адъюнкта натуральной истории. Ему отводилось несколько месяцев, чтобы подготовиться к отъезду. В качестве прощального подарка Феофан преподнес Стеллеру странную поэму на латыни, которая, с одной стороны, повествовала о неминуемой смерти автора, а с другой – со всей возможной доброжелательностью советовала молодому ученому, человеку целостному и увлеченному своим делом, проявлять осторожность, чтобы не нажить врагов. Omnis Stellerum condemnat turba moratum.73 «Вы часто бываете правы, мой молодой друг, однако люди склонны отдавать предпочтение тем, кто порой ошибается». Вот что хочет, по всей видимости, сказать православный иерарх. Это его отеческий завет. Предупреждение ценное, но такая страстная натура, как Георг Вильгельм, такой преданный научной истине, нетерпеливый и нетерпимый к несправедливости человек не может ему следовать. Мистическое эхо поэмы Феофана отзовется лишь через 40 лет после расставания: одна из лейпцигских типографий одновременно, ничего не зная об их знакомстве, издала «Теологические размышления» Феофана Прокоповича и «Наблюдения» Стеллера.74
Готовясь к отъезду, Стеллер познакомился с соотечественником, Даниэлем Готлибом Мессершмидтом, вернувшимся в столицу после восьмилетнего пребывания в Сибири, куда его отправил сам Петр Великий. Ученый привез огромное количество документов, образцов и рисунков. Однако Готлиб – человек, сломленный годами скитаний и испытаний, желчный и меланхоличный. Он жил затворником – без света и в грязи, в компании жены Бригитты. Мессершмидт старше Стеллера на 20 лет, а Бригитта – меньше, чем на год. На протяжении трех месяцев ученые вместе трудились над научными отчетами, обсуждали разные гипотезы, результаты и выводы. А потом Мессершмидт умер. Что было дальше? Молодой ботаник все чаще и чаще появлялся в доме умершего коллеги. Современный немецкий писатель Винфрид Георг Зебальд, посвятивший Стеллеру целую оду, так видит события того времени:
Бригитта поедет со Стеллером, но совместное путешествие не будет долгим. О Сибири она могла судить по состоянию здоровья своего первого мужа. Стеллер мечтает об открытиях в тайге, а она – о балах Санкт-Петербурга, о светских гостиных, об играх и веселье, которых она была так долго лишена. Когда они прибыли в Москву, то увидели наполовину разоренный город. Пожары уничтожили целые кварталы. Запах гари, черные остовы и угрюмые печи, возвышавшие над пепелищем. Бригитта решила вернуться домой, оставив молодого мужа на произвол судьбы. Она заставила Стеллера пообещать, что тот позаботится о ее содержании, а также о содержании ее дочери от первого брака, и исчезла. Аромат эротики, который уловил Зебальд, рассеялся, возлюбленные больше не увидятся, а образ Бригитты осядет «болезненной точкой» в душе Георга Вильгельма. Стеллер двинулся дальше, в Азию, где его ждал Беринг.
Мы ничего не знаем о внешности Стеллера (как и о внешности многих других участников сибирской экспедиции) – до нас не дошло ни одного его портрета. Предположительно изображением молодого ученого считается процарапанный набросок, без даты и подписи, найденный в архивах. Чуть вытянутое лицо, правильные черты, длинные волосы, расчесанные на прямой пробор, локонами опускающиеся на плечи. Большие глаза, широкий нос. Он выглядит очень юным. Однако мы располагаем куда более надежным описанием молодого человека. Его оставил стоявший выше Стеллера на иерархической лестнице Иоганн Гмелин, с которым он познакомился в Енисейске, на полпути к Камчатке: «Он никакой одеждой себя не обременял. Поскольку в Сибири приходилось самому обустраивать свое жилище, он довольствовался очень малым. Свою жажду он удовлетворял пивом, медом и водкой. Он имел всего один горшок, заполнявшийся всем тем съестным, которым он располагал. Он никакого повара не имел. Готовил все сам… Он был всегда в хорошем настроении, и с ним необычайно легко было проводить время, поскольку он всегда был весел. При этом мы заметили, какой бы беспорядочный образ жизни он ни вел, в работе был пунктуальным и все выполнял неутомимо. Исследования были для него легки, и он мог работать целый день без пищи и питья, когда рассчитывал на успех в своих научных занятиях».76
Гмелин, охарактеризовавший таким образом Стеллера, тоже немец. Его родной город находился в 100 км от родного города Стеллера. Они ровесники, однако между Гмелиным и его новым подчиненным было мало общего. Гмелин осознавал собственную сановитость, он придавал значение всему внешнему, ценил светскую жизнь, хорошую кухню и марочные вина. Не желая прощаться с комфортной жизнью Санкт-Петербурга, он взял ее с собой. В его свите повар, лакей, носильщики и секретари. Что же касается Стеллера, то он путешествует с проводником, рисовальщиком и научными трофеями. Когда Гмелин впервые увидел Стеллера, тот нес на плечах косулю и трех бакланов. Их отношения были непростыми. Но они оба жаждали открытий.
* * *
Стеллер ехал не так, как его именитые коллеги, без вереницы телег и саней, и потому продвигался быстро. Это был стремительный человек, и все в его жизни происходило стремительно. «Комета на небосклоне» российской науки77, скажет о нем один из его поздних преемников из сибирского отделения Академии наук. Ритм, в котором он жил, перемещаясь по Сибири, поражает. Летом 1739 года Стеллер провел некоторое время в горах Прибайкалья и Забайкалья. Вот, что он послал своим корреспондентам в Петербург после возвращения: 1. Flora Irkutensis, каталог, 1 100 растений, представленных в альбоме на 80 страница; 2. Каталог семян; 3. Натуральная история птиц, в которой описано 60 видов пернатых; 4. Натуральная история тайменя, хариуса, омуля, подкаменщика, сига и ленка (Байкальские пресноводные рыбы); 5. Натуральная история 100 насекомых, змей и ящериц (этот труд он рекомендовал опубликовать незамедлительно, поскольку многие виды были уже известны); 6. Натуральная история минералов окрестностей Иркутска и озера Байкал; 7. Орография окрестностей Иркутска и Байкала; 8. Описание пути из Енисейска в Баргузин по течению рек; 9. Врачи и народная медицина у русских; 10. Дополнение к истории тунгусов и бурят (местные народы); 11. Словарь тунгусского и бурятского языков; 12. Основы русско-латино-греческого словаря натуральной истории,78 над которым Стеллер, по его словам, заставлял трудиться своего ассистента, когда тот пребывал в праздности. Представляют также интерес и методы его работы. Судя по полевым записям, он, не колеблясь, идет на риск, чтобы получить ответы на свои вопросы. Например, однажды он обнаружил среди камней неизвестное ему растение, которое показалась ему похожим на растущее в его родных местах. Он выяснил, что из него можно получить темно-коричневый сок, напоминающий сок ясеня. Каковы же его свойства? Токсичен ли он? Чтобы выяснить это, Стеллер взял 50 граммов этой жидкости, растворил в чае и выпил, а потом записал, что она по вкусу напоминает мед и, вопреки первому впечатлению, совсем не похожа на сок.79 Однажды он попробовал молока не знакомой в то время науке морской коровы, чтобы описать его свойства.80 Стеллер повествует и о других похожих экспериментах: на Камчатке он обратил внимание на остров, расположенный в 27 км от берега. По первому льду он помчался туда на санях, запряженных собаками, несмотря на предостережения своих товарищей. Посреди пути лед проломился под тяжестью экипажа и сани с собаками исчезли под водой. Стеллер в совершенно мокрых туфлях добрался до берега пешком, перепрыгивая с одной льдины на другую.81 Ничто не могло его остановить. Не хватает бумаги, чтобы сушить растения, которые он собирал в невероятных количествах? Он отправляется за ней… В Китай, за несколько сот километров. Там, как он слышал, можно было найти бумагу разного качества. Стояла зима, земля промерзла, однако Стеллер продолжал делать гербарии, выкапывая семена. Его научная любознательность не знает пределов. Как-то ему объяснили, что одним из главных препятствий для заселения дальних земель является дефицит зерна, связанный с огромными расстояниями и трудностями с перевозкой, и он стал рассуждать логически: а можно ли вообще обойтись без хлеба? Лучший способ найти ответ – провести опыт. И Стеллер преодолел пешком 270 км. Он пересек полуостров, отказавшись от всех продуктов, содержащих пшеницу, ограничиваясь лишь местным рационом. И в конце пути был «живым, невредимым и лишь слегка похудевшим».82 Стеллер удивлен: он доказал, что можно жить и без пшеницы, – почему же не отказаться от нее и не перейти на что-нибудь другое?
Пользуясь любой остановкой в пути, Стеллер продолжает научную работу. Ученые участники экспедиции Беринга говорят на смеси немецкого и латыни, приправленной русскими словами и выражениями из местных языков. Стиль Стеллера отражает его характер – он лаконичен, прям, исполнен юмора и тонкой иронии. Вот как он описывает способ, которым местные жители боролись с «сибирской лихорадкой», болезнью частой, но казавшейся тогда загадочной: «Другой способ лечения острой лихорадки, применяемый жителями Томска, состоит в том, что больного ведут в баню, где он должен хорошо пропотеть, сильно натирают ему все тело очень холодными солеными огурцами, затем снова кладут в постель, ничуть не сомневаясь, что он скоро выздоровеет».83 Однако юмор часто сменяется скрежещущим сарказмом, выдающим резкость натуры Стеллера. Да, гениален, но какой неудобный характер! Достопочтенный Феофан был прав, когда предсказывал младшему другу неприятности!
24 мая 1741 года Авачинская бухта наконец освободилась от льда, и Витус Беринг приказал поднять флаг на «Святом Петре». Чириков занял свой пост на стоявшем рядом корабле «Святой Павел». На борт обоих пакетботов подняли необходимый запас провианта. По плану плавание должно было продлиться два года. Запасов недостаточно, и поэтому очень быстро приняли решение сократить его и вернуться на рейд самое позднее – в конце сентября. На «Святом Петре» отплывало 78 человек, включая командора, его первого помощника Свена Вакселя, еще одного шведа, штурмана Хитрово – эти двое станут проклятием Стеллера, путешествовавшего в их компании. Де ля Кроер, как и планировалось, отправлялся на «Святом Павле» с Чириковым. Экипаж Чирикова состоял из 74 матросов и солдат. В списке экипажа – разжалованный командир Обь-Енисейского отряда Овцын. Теперь он находился под командованием капитан-командора. Здесь же – наказанный кнутом за «блуд» во время пребывания в Охотске штурман Авраам Дементьев, приписанный флотским мастером в экипаж Чирикова. Беринг надеется как можно быстрее поднять паруса, тем более, что до него дошли тревожные слухи из Санкт-Петербурга. Над Кириловым, обер-секретарем Сената и его покровителем, часто выступавшим в качестве посредника между ним и императрицей, сгустились тучи. Ему ставились в вину огромные траты на экспедицию и, что еще хуже, с тех пор, как Миллер сообщил о своей находке в архивах Якутска, некоторые придворные задались вопросом, стоило ли бросать такие ресурсы на цель, уже достигнутую веком ранее.84 Что будет, если императрица остановит экспедицию? Все уже сделанное оказалось бы перечеркнутым! Так что следовало сняться с якоря как можно быстрее.
29 мая командор приказал выстрелить из пушки, чтобы священнослужители из маленькой деревянной церквушки апостолов Петра и Павла начали молебен, испрашивая у святых божественного покровительства для экипажей обоих кораблей. Но молебен не помог заручиться благорасположением ветров. Когда корабли с поднятыми парусами только-только отошли на некоторое расстояние от берега, ветер внезапно стих. Согласно морским традициям, это считается плохим предзнаменованием, однако Беринг отказался отложить отплытие. На протяжении трех дней экипажи спускали шлюпки на воду и переносили якоря как можно дальше, а потом вручную тянули судна. Наконец, они добрались до выхода из бухты, и 4 июня, в 9 часов утра, ветер надул паруса и позволил миновать скалы Три Брата у входа в губу. Мучительный старт остался позади.
Еще до отплытия был выработан сложный код для взаимодействия во время плавания, основанный на тщательном подсчете флажков, фонарных сигналов и пушечных выстрелов. Ко всеобщему удивлению, уже на второй день Чириков приказал выстрелить из пушки, чтобы дать знать, что, с его точки зрения, избранный путь не соответствует первоначальному плану и что «Святой Петр», маневрируя, слишком сильно забрал в сторону юга. Куда же на самом деле шли корабли? Вопрос более чем уместен. За два дня до снятия с якоря офицеры и ученые собрались на последний совет, чтобы обсудить будущую цель плавания. Людовик Делиль де ля Кроер потрясал картой своего брата и тыкал в нее пальцем, указывая координаты, где предположительно находилась таинственные Земля Жоао де Гамы и Земля Компании (Kompanieland), в существование которых французские географы твердо верили. Делиль требует, чтобы эта карта стала основой для поисков. Ситуация накалялась. «Карта, составленная в 1731 году для поисков земель и морей, расположенных к северу от южного моря» – а таково название карты – иллюстрировала скорее салонные теории европейских географов, чем реальные географические объекты. Председательствовавший на совещании Витус Беринг не стал делиться своими соображениями, пусть и основанными на важных материалах. На карте против Большого Мыса, который Дежнёв когда-то назвал «Большим Носом», не было ни следов «Большой Земли» с поросшими лесом берегами, ни пролива, на существовании которого Беринг настаивал в Петербурге. Наконец, что особенно важно, ничто не указывало на близость Америки, где побывал Гвоздев. Однако посередине Тихого океана, к северо-востоку от Японской империи, показаны неясные контуры «Земли, замеченной Жоао де Гамой», и Земли Компании.85 Чириков убежден, что Америка находится недалеко к северо-востоку и не следует уклоняться ни слишком на север, как во время первой экспедиции, ни слишком на восток в поисках дальних испанских калифорнийских или мексиканских владений. Лучше взять курс именно на северо-восток и искать острова Америки «между 50 и 65 градусами широты N», там, где климат подходит для обитания и где земли населены.86 Что же касается Стеллера, то он с присущей ему страстностью высказывался, как и Чириков, хотя и в гораздо менее дипломатических выражениях, в защиту поисков Америки напротив Чукотки. Он кричал, что мог бы привести по меньшей мере 20 важных аргументов в пользу близкого ее расположения и путей к ней.87 Беринг, несомненно, был с ним согласен. Опыт подсказывал ему, что это самая достоверная из гипотез. Но когда он осторожно предлагает двинуться сначала в сторону Америки, а только потом, осенью, на обратном пути, на поиски Земли Гамы, астроном де ля Кроер холодно бросает ему по-французски: «Ce ne serait pas conforme aux instructions, commandeur» («Это не совпадает с инструкциями, командор»).88
Говорить больше не о чем. Беринг страшился получить новый выговор из столицы.
Любой промах мог стать последней каплей и концом не только его карьеры, но и всей экспедиции. Скрепя сердце, он вынужден подчиниться желаниям французского теоретика. Корабли взяли курс на юго-восток. Берингу понадобилось несколько дней, чтобы добраться до 46° северной широты. Однако, когда они достигли точки, обозначенной на карте Жозефа-Николя Делиля, земли на горизонте не было видно.
Напрасно де ля Кроер, стоя на палубе, вглядывался в океан. Лот, брошенный в воду, не достиг дна. Стеллер впал в бешенство: эти европейские географы, удобно расположившись в своих кабинетах, предаются фантазиям и спекуляциям, но никогда не проверяют их сами, предоставляя это другим! Со свойственной ему иронией он спрашивает, не наделен ли корабль сверхъестественными способностями находить земли, стоит лишь намекнуть на их существование.89 Но все же гнев берет верх: «Кровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем»90 [В книге В. А. Дивина, посвященной Чирикову (1953), эта цитата приписана Свену Вакселю (с. 137). Прим. пер.]. И действительно, экспедиция потеряла неделю, и это сказалось на ее дальнейшей судьбе самым печальным образом.
12 июня корабли обменялись сигналами трубы – так переговаривались капитаны. Было решено, как и планировалось на совещании перед выходом в море, изменить курс и идти на северо-восток – туда, где предположительно находилась Америка. Однако несколькими часами позднее случай полностью выявил непростой характер Стеллера. С верхней палубы он заметил пятна планктона, а также несколько чаек и крачек. И заявил со свойственной ему категоричностью, что земля, по всей вероятности, находится недалеко – на юго-востоке. Сейчас нам известно, что он ошибался, что по указанному им курсу корабли плыли бы все дальше и дальше по Тихому океану, и единственным берегом в том направлении стала бы Новая Зеландия. Беринг и его офицеры не изменили принятого решения. Эта история, не имевшая последствий для экспедиции, могла бы быть быстро забыта, если бы она не высветила антагонизма между Стеллером и командой, антагонизма, не утихавшего, главным образом, из-за характера и поведения молодого ученого. Начиная с того дня, это противоречие переросло в открытую вражду. Стеллер никогда не упускал возможности сострить или сыронизировать, но не выносил шуток в свой адрес. Он был неутомим, сейчас, наверное, сказали бы – гиперактивен. Он не терпел возражений и не признавал субординации. У него было множество достоинств, однако смирение не входило в их число, и очень быстро он настроил против себя всех, включая самого последнего юнгу. Когда он, ни на секунду не сомневаясь, что цель экспедиции близка, что до нее осталось плыть не более суток в указанном им направлении, категорически потребовал изменить курс корабля,91 штурман Хитрово ответил: «русский флот не меняет курс из-за планктона».92 Стеллер впал в ярость и помчался в каюту к командору. Однако Беринг уже был сыт по горло гневными вспышками адъюнкта. Он лишь удивленно приподнял брови и отвернулся. Стеллер, по-прежнему убежденный в своей правоте, в том, что они были буквально в двух шагах от открытия, записал в дневнике: когда цель была близка, когда следовало лишь проявить здравый смысл, команда все испортила! Экипаж вышучивал или полностью игнорировал любое мнение, которое не исходило от моряков, словно знание правил навигации автоматически влекло за собой ученость и умение логически мыслить!93 С этого дня все перестали обращать внимание на рассуждения и предположения ученого. «Вы не моряк», – неизменно слышал Стеллер, не прекращавший, несмотря на свою неопытность, вмешиваться в управление кораблем и бесконечно строивший гипотезы о нахождении ближайших земель. Надо полагать, что матросы, изъяснявшиеся по-русски на своем жаргоне, были не особенно куртуазны. Стеллер стал объектом постоянных насмешек. Экипаж считал его надутым умником, ничего не смыслившим в морском деле, и к тому же еще – чужаком. Его называют «командорчиком». Прозвище выводит его из себя, – потому, возможно, что выдает его комплекс, связанный с небольшим ростом. Жизнь на борту, на нескольких десятках палубных метров, под градом насмешек, становилась с каждым днем все труднее. Спасением была лишь каюта, которую он делил с Берингом, и защита командора. Тем не менее Стеллер даже не думал менять свое поведение или хотя бы прекратить во все вмешиваться с видом «всезнайки».
Уже две недели как корабли потеряли друг друга из виду. Туман, не-прекращавшиеся ветры и волнение вынудили Беринга и Чирикова увеличить дистанцию между кораблями. На одном были спущены паруса, чтобы ветер не сорвал их, а другой продолжал идти в тумане. В какой-то момент они сблизились и 20 июня оказались на расстоянии менее десяти миль друг от друга. Конечно, такой ход событий обсуждался заранее, и каждый из капитанов продолжил плыть заданным курсом, надеясь, что корабли встретятся в другой части океана. Никто еще не знал, что им больше не суждено увидеться. Беринг и Чириков помимо своей воли вступают в гонку – кто первым (а на самом деле вторым) достигнет северо-западных берегов Америки.
И тут снова отличился Стеллер. Самое неприятное для его недоброжелателей состояло в том, что ученый с невыносимым характером был наделен особым чутьем. 10 июля, когда корабли находились в открытых водах и экипаж не видел земли уже полтора месяца, он снова убедился, что неподалеку есть какая-то суша. На этот раз наряду с планктоном стали видны пучки травы, и главное, появились морские котики и морские выдры (каланы), которые питались исключительно моллюсками и ракообразными, то есть не могли находиться слишком далеко от берега. Но на его замечание, что неплохо было бы слегка скорректировать курс «Святого Петра», штурман скептически заметил, что им как раз не хватало новой карты наподобие карты месье Делиля.94 И даже Беринг одернул Стеллера. С горьким чувством он записывает, что командор полагает неприятным и унизительным для себя прислушиваться к его советам, поскольку он не слишком сведущ в морском деле. Так происходит даже тогда, замечает Стеллер, когда капитан-командор разделяет его мнение. И в этом случае Беринг «без всякой нужды» держал сторону своих офицеров.95 Но последующие дни доказали правоту Стеллера. 15 июля напряжение стало ощутимым: половина запасов питьевой воды израсходована, и никто не мог гарантировать, что бочки, спрятанные под съестными запасами в глубине трюма, целы. Для парусных судов, если поблизости нет никакого порта, это очень тревожный сигнал, заставляющий как можно быстрее возвращаться назад. Был серый день, мокрый туман стелился по воде, матросы мокли под непрекращавшимся мелким дождем. Стеллер, как обычно, находился на палубе. Внезапно в облаках возник просвет. «Земля!» – закричал он на манер впередсмотрящего. Земля, земля! Прямо перед ними на несколько секунд возник белый конус вершины, отчетливо вычерченный на фоне неба. Стеллер созерцал его, не веря своим глазам. Затем гору снова затянуло туманом. Матросы и офицеры, прибежавшие на палубу, услышав его крики, вглядывались в горизонт, в направлении, куда указывал Стел-лер, но напрасно. «Мираж или, может быть, облако», – усмехались офицеры. Но некоторые члены экипажа засомневались – быть может, там лежала другая сторона света? Вернувшись в каюту, Стеллер записывает, что в очередной раз открытие, сделанное им, было принято за эксцентричную выходку – из-за ставшего привычным недоверия к его словам и из-за того, что вершина показалась лишь на мгновение и он не успел зарисовать ее.96 На следующее утро, когда «Святой Петр» достиг 58° 14' северной широты, туман внезапно рассеялся. Перед людьми, находившимися на палубе, открылся потрясающий вид на величественную гору с заснеженной вершиной, и на горную гряду, которая уходила далеко за горизонт. Наконец-то Америка! Зрелище впечатляющее, взметнувшийся в высоту пик, который команда назовет, согласно обычаю, в соответствии с датой, в честь Святого Ильи[33], находился совсем недалеко от берега. 5 488 м! Ночью в тумане «Святой Петр» приблизился к земле на расстояние не больше 20 км, и открывшийся мореплавателям вид был поистине головокружительным. Стеллер заметил, что никогда прежде, ни в Сибири, ни на Камчатке, не видал он таких гор.97 На корабле – ликование. Некоторые плакали, кто-то обнимался, и все строили планы на будущее. Офицеры счастливы, поскольку им было приказано поворачивать назад, если земля не покажется на горизонте до 20 июля. И вот они уже среди первооткрывателей!
Беринг взволнован больше других. Оставалось меньше месяца до его шестидесятилетия, и счастливое завершение предприятия стало вознаграждением за все испытания. Более 15 лет нечеловеческих усилий! И вот, кульминация Второй Камчатской экспедиции – обещание, данное Петру Великому, когда тот был уже на смертном одре, исполнено. Когда датчанин поднялся на палубу, его встретили восторженно: команда знала, что отныне имя капитана высечено на скрижалях истории. Беринг, опершись на леер, созерцал лежавший перед ним континент. Потом, пожав плечами, отправился в каюту и вызвал к себе адъюнкта Стеллера. Все изумлены. И только прямое свидетельство ученого позволяет нам разгадать эту необычную реакцию. Офицеры могли подумать, что она объяснялась желчностью и чудаковатостью Беринга, – рассказывает Стеллер. Но капитан-командор видел куда дальше, чем его подчиненные. «Мы думаем, – объяснял он в каюте, – что достигли цели. То, чем многие так воодушевлены, может оказаться пустышкой: никто не знает, где мы, какое расстояние отделяет нас от дома и какие еще испытания нас ждут. Кто знает, а вдруг встречные ветра не позволят добраться до порта? Эта земля чужая, а у команды нет ничего для зимовки».98 Первооткрыватель Беринг оставался, прежде всего, опытным капитаном. Он оставался также Тревожным Берингом. В то время как на палубе, позабыв о меланхоличном капитане, кто-то подсчитывал будущее вознаграждение, кто-то произносил патетические речи о предопределении, а кто-то оживленно обсуждал высадку на берег, Стеллер пребывал в замешательстве: главная цель великой экспедиции достигнута, наступила ее кульминация, а участники заняты жалкими пустяками! «Что у нас общего? – записывает он в дневник вместо заключения. – Разве что этот корабль, где мы теснимся».99
* * *
Так кто же первым «переоткрыл» Америку? В то время, когда Стеллер ссорился с командой на адмиральском корабле, «Святой Павел» Чирикова тоже продолжал поиски. Когда посреди северного Тихого океана русский капитан потерял из виду корабль своего командира, он, по всей видимости, не был слишком расстроен. Из бумаг Чирикова известно, что он хотел показать наконец на что способен. Его явно тяготила медлительность Беринга, и тот, прекрасно понимая это, старался следовать невнятным инструкциям императрицы и не допускать открытого конфликта со своим первым помощником. Чириков никогда не скрывал своего крайне скептического отношения к географическим теориям, которые защищал Людовик Делиль, в частности, к существованию Земли де Гама. Как только Чириков почувствовал, что узды больше нет, как только туман и шквальный ветер освободили его от опеки Беринга, он взял курс на восток-северо-восток, где, по его убеждению, находилось ближайшее побережье Америки. Академик Делиль, находившийся на борту, помалкивал. Безуспешный поиск Земли Гамы, на существовании которой он так настаивал, немного остудил его пыл. Французский астроном страдал морской болезнью. Маринованная оленина и соленая рыба – тяжелая еда для желудка, особенно если мощные волны без устали подбрасывают корабль. Он все реже и реже выходил на палубу, а когда вываливался из каюты, бледность и жалкий вид говорили о его состоянии красноречивей слов. Даже благоухающий носовой платок не мог заглушить кислый запах, поднимавшийся из трюма и пропитывавший все. В отличие от своего молодого коллеги, неустанно бдившего на «Святом Петре», Делиль де ля Кроер не думал о науке. Его инструменты безнадежно испорчены, а починить их он не умел.
«Святой Павел» уверенно продвигался вперед, несмотря на густой туман, окутывавший Тихий океан, – феномен, к которому северные моря и Атлантика не приучили русских моряков. Благодаря избранному курсу, Чириков опередил Беринга всего на день. Стеллер прокричал «Земля!» недоверчивой команде днем 15 июля. А экипаж «Святого Павла» увидел выросшую перед ними горную гряду тоже 15 июля, но на рассвете. Еще до этого, как и Стеллер, моряки обратили внимание на птиц, а потом на морских млекопитающих, они заметили сильную смену цвета и прозрачности воды. Согласно бортовому журналу Чирикова, «в 2 часа пополудни впереди себя увидели землю, на которой горы высокие, а тогда еще не очень было светло, того ради легли на дрейф; в 3-м часу стало быть землю свободнее видеть».100 Америка. «Признаваем без сумнения, что оная часть Америки, понеже по картам изданиям норимбергского географа Иоанна Баптиста Гоммана и по протчим от сего места отстоят уже не очень далече известные некоторые американские места», – писал капитан.101 55°21′ северной широты[34]. Чириков, действительно, находился примерно в 300 км к югу от горы Святого Ильи, которую экипаж увидит через несколько часов. Берег был скалист и не располагал к тому, чтобы бросить якорь. Капитану и его команде не терпится спустить шлюпку на воду – им необходима вода. Они, как и экипаж «Святого Петра», исчерпали запасы с Камчатки. Вода, оставшаяся в бочках, была уже гнилой, отвратительной на вкус. «Святой Павел» медленно двинулся вдоль американского побережья в поисках места для высадки. На берегу росли ели, сосны и пихты. Маневрируя вдоль берега, матросы разглядывали морских львов, тюленей и каланов. Их ничуть не вспугнуло появление парусника, поскольку они никогда раньше не видели больших кораблей. Понадобилось еще два дня, прежде чем с палубы заметили расселину в рельефе берега, похожую на проход в скрытую от глаз бухту. Чириков приказал спустить главную шлюпку и назначил старшего – рулевого Дементьева. Это тот самый пылкий любовник, который был наказан кнутом в Охотске за адюльтер во время подготовки экспедиции, а затем спасен Берингом. С Дементьевым отправляются десять вооруженных человек – на случай возможной встречи с коренными жителями этой огромной неведомой земли. Но следов их обитания экипаж пока не заметил. Чириков поручил также Дементьеву разузнать, как называется эта местность, что за люди живут там, сколько их и, наконец, кто ими правит. Разведчикам Чириков наказал держаться дружественно, без враждебности. «Ежели жителей увидите, то являть к ним приятность и дарить подарками небольшими», – напутствовал он их и передал штурману два котла – один медный и один железный, а еще бусы, иголки и куски китайской материи. «Да от меня поручается вам десять рублевиков, которые, лаская здешним народам, по рассуждению вашему, давать», – добавил Чириков.102 И наконец, людям передана небольшая пушка – для того, чтобы выстрелом дать знать о том, что они добрались до берега и отыскали пресную воду. Дементьеву поручалось также по возможности проверить, нет ли там драгоценных камней или «земли, в которой можно чаять быть богатой руде».103 Отряд должен был также разложить большой костер на том месте, где расположится. На разведку и поиск питьевой воды отведены сутки.
С палубы «Святого Павла» экипаж наблюдал, как шлюпка приближается к входу в бухту, хорошо просматриваемую сквозь пенные волны. Она обогнула скалы и исчезла из виду. Прошло несколько часов. Ни костра, ни выстрела пушки. На «Святом Павле» все встревожены. Через 24 часа отряд так и не подал признаков жизни. Прождали еще день. Второй, третий. Чириков приказал как можно внимательнее день и ночь следить за берегом – в надежде разглядеть свет костра или дым. Ничего. Пять дней протекло в тревожном ожидании. Затем поднявшийся ветер отнес корабль далеко от берега. Как только наступил штиль, «Святой Павел» вернулся. «Увидели на берегу огнь, – сообщает Чириков, – в котором чаели, что оной содержут посланные от нас служители, ибо сколько подле земли ни шли, нигде на берегу огней, строения и при берегу судов и протчих признаков к жилу никаких не видали».104 Погода вполне позволяла подойти к кораблю на веслах. Семь выстрелов из пушек через равные промежутки времени должны были подать отряду сигнал к возвращению на корабль. По-прежнему ничего. Чириков, посоветовавшись со своими офицерами, решил спустить на воду вторую шлюпку. Возможно, первая повреждена, и ей нельзя воспользоваться. Капитан послал на берег плотника и кузнеца, и с ними еще нескольких добровольцев. Им даны те же указания: развести огонь сразу после высадки и постараться вернуться назад как можно быстрее. И вот вторая небольшая шлюпка в свою очередь скрывается в бухте, а Чириков старается как можно ближе подойти к берегу, чтобы облегчить возвращение своих людей. Однако повторился тот же сценарий. Ни огня, ни выстрелов. Тишина, которую нарушал лишь звук разбивавшихся о борт корабля волн. Плотник и кузнец исчезли. Исчезла и лодка, а вместе с ней и возможность пополнить запасы питьевой воды. В двух шагах от Америки, поглотившей 15 человек экипажа, Чириков, приникнув к подзорной трубе, вглядывался в берег. Его терзали тревога за отправленных на берег людей и опасения, что он не доберется до своего порта.
Что было делать? «Святой Павел» подошел так близко к берегу, что можно было невооруженным глазом разглядеть сквозь пенные волны рифы у входа в бухту. Пушка стреляла каждый час, а на самую большую мачту водрузили фонарь, чтобы пропавшие смогли вернуться даже ночью. Все было тщетно. Днем 25 июля внезапно в отдалении показались две лодки. На короткое время вспыхнула надежда, но затем на «Святом Павле» заметили, что лодки двигались к берегу. Вскоре стало различимо красное платье одного из гребцов. с лодок доносились крики, обращенные к европейцам: «Агай! Агай!»105 Первая встреча с американцами оказалась своеобразной. Чириков хотел попытаться подойти к лодкам поближе и попросил экипаж выстроиться у борта и махать белыми носовыми платками в знак самых добрых намерений. Но ничего не получилось. К их глубокому разочарованию, лодки ушли к берегу. Стало понятно, что ждать больше нечего. Они больше не увидят своих товарищей. Они не смогут ступить на американскую землю, и нужно немедленно плыть на Камчатку, пока жажда не поубивала всех. Согласно бортовому журналу, корабль выждал еще 18 часов, после чего отправился в обратный путь.106
«Святой Павел» поднял паруса 27 июля. Бухта, в которой сгинула четвертая часть его экипажа, осталась позади. Никто больше никогда не увидит ни старшину – рулевого Дементьева, ни тех, кто отправился с ним на берег. Что же произошло? И сейчас этот эпизод в истории освоения Тихого океана остается тайной. Существует легенда, что на острове Баранова издавна живет колония русских.107 Многие авторы, в частности американские,108 полагают, что обе лодки, спущенные Чириковым, могли погибнуть при входе в бухту, который был очень опасным. Согласно этой гипотезе, одна, а потом вторая шлюпка попали в водоворот, а затем были опрокинуты волнами, так что все находившиеся в них погибли. Нечто подобное приключилось через 47 лет в том же самом, или почти в том же самом, месте с двумя шлюпками Лаперуза. Большинство российских историков считает, что первые высадившиеся на американский берег русские стали жертвами племени тлинклитов[35].
Обратный путь «Святого Павла» через Тихий океан без питьевой воды и провизии стал настоящей мукой. Почти все время дул встречный ветер. Один за другим матросы заболевали цингой, все были истощены. Цинга поразила и многих офицеров, в том числе штурманов. Команда собирала в ведра дождевую воду, которая скапливалась в парусах. Ненастье не стихало, и, пока корабль плыл вдоль Алеутского архипелага, туман делал его путь очень опасным. Судя по записям Чирикова, «Святой Павел» несколько раз оказывался в рискованной близости от неизвестного острова. и каждый раз только чудо спасало его от гибели. Чириков рассказывает, как команде пришлось бросить аварийный якорь в 400 м от камней. Он пишет, что Божьим промыслом ветер стих почти тотчас же, но спастись удалось с большим трудом и ценой потери якоря.109 Путь назад занял больше двух с половиной месяцев. Чириков повествует о нем в письме к своему коллеге Дмитрию Лаптеву. На протяжении всего плавания над экипажем нависала смертельная опасность. Было страшно плыть по незнакомому морю, не зная, где земля, почти постоянно в тумане, в тяжелейших погодных условиях, не встречавшихся в других морях. Питьевой воды не было, и приходилось выдавать людям кашу лишь раз в неделю, а все остальное время довольствоваться сухомяткой. Пили совсем понемногу, чтобы не испытывать жгучей жажды, но и эта вода была испорченной и источала зловоние. В этих тяжелейших обстоятельствах, сообщает Чириков, он сам ел вареную пищу лишь раз в день и ограничивался двумя или тремя чашками чая. Нечеловеческие усилия, отсутствие еды и питья, постоянная влажность – из-за всего этого на корабле началась жестокая цинга, от которой многие слегли, и оставшиеся взвалили на себя управление. С 20 сентября (то есть через два месяца после отплытия с Аляски и через четыре месяца – с Камчатки) Чириков уже не мог держаться на ногах и находиться на палубе. Когда корабль пристал к берегу, он был при смерти и уже не надеялся выжить. По его собственным словам, он готовился предстать перед Богом и ответить за все свои ошибки и грехи.110
27 сентября, когда оставалось не больше шести бочонков затхлой воды, паруса и снасти начали гнить, офицеры умирали один за другим или страдали на своих койках, и лишь несколько изможденных матросов пытались управлять кораблем, появились три вулкана, которые указывали на близость Авачинской бухты. 9 октября 1741 года «Святой Павел» вошел в порт. На следующий день, когда корабль уже стоял на якоре и начали выносить на берег больных, умер Людовик Делиль да ля Кроер. Перед смертью он успел надеть парик[36]. Чириков пробыл между жизнью и смертью несколько недель. Он полностью так и не оправился от болезни. «Святой Павел» вернулся из Америки, но с огромными потерями – треть экипажа уже не присутствовала при перекличке.
А что происходило со «Святым Петром», на борту которого находились Витус Беринг и Георг Вильгельм Стеллер? Когда «Святой Павел», не сумев пополнить запас воды, взял курс домой, его близнец «Святой Петр» шел вдоль американского побережья на северо-запад в поисках удобного места, чтобы бросить якорь. Ближе к 18 июля матросы заметили вдали подходящее место – гористые очертания земли, похожей на остров. Вода стала менее соленой. Значит, неподалеку протекала большая река. Этот остров сейчас известен под названием Каяк. Он просто не мог не понравиться капитану. Песчаный берег, прекрасный темно-зеленый лес, высокие деревья, скрывавшие протекавшую за ними реку. 20 июля Беринг приказал бросить якорь и приготовить шлюпку для вылазки. Экспедицию за водой он поручил штурману Хитрово. Стеллер и его помощник Фома Лепёхин мгновенно собрали инструменты и все необходимое для работы на суше. Всех лихорадило от нетерпения и восторга. Ведь речь шла о первых шагах европейцев по северо-западному побережью Америки. Предстояло столько открытий! Возможно даже, как думал Стеллер, они встретятся с местными жителями, если, конечно, они там существовали. Однако молодого ученого ждало разочарование: когда он поднялся на палубу, нагруженный оборудованием, оказалось, что командор вовсе не собирался отправлять его на берег. Главной заботой капитана было пополнение запасов воды – ее должно было хватить для обратного пути. Он опасался потери времени и сюрпризов со стороны Стеллера, который не мог похвастаться покладистостью и вполне был способен уйти далеко от отряда, которому поручались поиски воды. Беринг, как обычно, пребывал во власти тревоги. Он попытался охладить пыл ученого и даже, как вспоминал Стеллер, намекнул на возможное страшное кровопролитие.111 Может быть, этот мирный пейзаж таил угрозу? Стеллер не верил собственным ушам. Как так? Не может же быть, чтобы он пересек всю Россию, всю Сибирь и, наконец, неведомый Тихий океан только для того, чтобы с корабля полюбоваться берегом и вернуться назад! Рассказ об этом эпизоде содержится в бортовом журнале Стеллера. Можно легко представить, в каком бешенстве находился ученый. Он начал с иронического вопроса, не являлась ли целью экспедиции доставка в Азию американской воды,112 затем, видя демонстративное равнодушие командора, перешел к угрозам. Он кричал, что Беринг еще пожалеет, когда они вернутся в Санкт-Петербург. Он пожалуется в Адмиралтейство, в Академию, наконец, Ее Величеству на саботаж, не позволивший ему выполнить свою часть работы. Ему намеренно мешают, – вопил Стеллер, – интересы России попираются! Разве Беринг не понимает, что на кону реноме экспедиции и его собственное доброе имя? В документах нет описания того, как реагировал на эти речи Беринг, но, должно быть, они несколько пошатнули его уверенность, поскольку он больше всего на свете опасался бесчестия. Когда буянивший и размахивавший руками на глазах у команды Стеллер еще сильнее возвысил голос и, окончательно потеряв голову, перешел к «своеобразным», по его собственному признанию, формулировкам, Беринг уступил и изменил свое решение, позволив ученому и его помощнику занять место в шлюпке, груженной пустыми бочками. Желая, видимо, укрепить свой авторитет, он приказал торжественно трубить – так, как полагалось трубить в исключительных случаях или приветствуя самых высоких персон. Стеллер спускался по трапу, чтобы отправиться на Каяк, на дикий неведомый остров, под патетические трубные звуки и насмешливое хихиканье команды. Нос шлюпки еще не воткнулся в крупный песок и гальку, а ученый уже выпрыгнул из нее и побежал на американский берег. Он – первый европеец, ступивший на землю Аляски. Он оглядывал неизвестную землю, эмоции, как запишет он позже, рвались наружу. Аромат Бытия, осенивший эти первые минуты, великолепно передан поэтом Зебальдом:
Следующие несколько часов превратились в своеобразный марафон, который навсегда останется в истории науки. Стеллер, прекрасно осознает, что глава экспедиции крайне нетерпелив, страдает от навязчивой тревожности и поэтому способен в любой момент приказать отряду вернуться на борт, чтобы отправиться в обратный путь. В сопровождении помощника он буквально бежит по берегу, а затем по краю леса, чтобы выявить неизвестные ни ему, ни его коллегам виды растений. Каждая минута на счету, каждая минута может обернуться открытием. Это настоящий бег наперегонки со временем, цель которого – описать новый мир, открывавшийся его взору. Растения, рыбы, млекопитающие, птицы – все занимало его, все нужно было быстро осмотреть и классифицировать. Стеллер заметил на прибрежной гальке экскременты каланов. Это знак, как писал он в своих записках, что на этих пушных животных местные обитатели, при условии, что они имелись, не охотились, ведь иначе их было бы куда меньше. В том, что касалось аборигенов, Стеллеру повезло: преодолев, по свидетельству его товарищей, мелкими перебежками примерно километр от места высадки, он наткнулся на еще теплый очаг, по всей видимости, недавно брошенный людьми, которых спугнуло появление корабля. Первые следы присутствия людей. Как записал Стеллер, он нашел нечто вроде старого корыта, выдолбленного из куска дерева. В нем «дикари», явно не имевшие ни горшков, ни посуды, незадолго до этого готовили мясо при помощи горячих камней.114 А рядом молодой ученый заметил разложенные на земле раскрытые створки мидий и морских гребешков с прилипшими к ним травами и костями, с которых грубо содрано мясо. Способ обработки дерева позволил предположить, что в качестве инструмента использовался заточенный камень или кость. Огонь разжигали трением – приспособление валялось рядом. Пресную воду кипятили в корыте, бросая в нее предварительно нагретые в огне камни. Таким образом, мясо варили, а не жарили. Крупные морские гребешки использовались как тарелки, в них вымачивали травы. Технологии, которые обнаружил Стеллер, были очень похожи на те, что использовали камчадалы. Поэтому ученый предположил, что жители Америки могли быть родственниками дальневосточных народов и что это родство довольно близкое, ведь подобного сходства между народами Центральной Сибири и Камчатки он не наблюдал. А что, если первые американцы пришли из Азии? Удивительный молодой ученый, проведя в Америке лишь несколько минут, со знанием дела рассуждает о происхождении народов, закладывая, по сути, основы теории их миграции и заселения Америки. Все его гипотезы, кстати, подтвердятся в последующем. Новейшие исследования показали, что аборигены, о которых размышлял Стеллер в 1741 году, были инуитами из племени югалакмуитов, действительно генетически связанных с народами Азии.115 Оглядевшись, Стеллер решил подняться на холм высотой метров в 300, откуда он мог осмотреть окрестности и материковый берег, отделенный от острова проливом. Во время подъема, продвигаясь среди высокой травы и кустарников в сопровождении казака Лепёхина, его помощника и телохранителя, Стеллер без устали собирает растения. Его внимание привлекли ягоды, похожие на еще не созревшую малину. Позже Стеллер запишет, что эта ягода, поразительно крупная и восхитительная по вкусу, заслуживает того, чтобы попытаться вырастить ее в Петербурге, для чего необходимо взять растение прямо с землей, положить в ящик и доставить в столицу.116 Ягода, о которой идет речь, сейчас известна как малина великолепная, salmonberry из-за цвета, напоминающего цвет лосося. Стеллер обрезал растение, тщательно отделил от корней и поместил в альбом для гербария и в одну из коробочек, захваченных специально для таких целей. Потом он приказал своему помощнику поймать чрезвычайно заинтересовавшую его птицу, даже если тому придется вскарабкаться на дерево. Сам исследователь в это время изучал почвы и покрывавший их мох.
Раздвинув кусты, Стеллер увидел груду камней. Это был заваленный вход под землю. Несколько деревянных столбов поддерживали своды вырытой в земле пещеры. Ученый со всей осторожностью проник туда, оставив казака сторожить у входа. Это был склад провизии. Стеллер составил полный список того, что там хранилось. В посудинах, сделанных из коры, лежала копченая рыба, приготовленная очень аккуратно и с большим искусством.117 Стеллер, конечно же, попробовал рыбу и нашел, что она гораздо вкуснее той, что он ел на Камчатке. Еще там хранилось большое количество трав, которые использовались для копчения, и тщательно очищенные растения для плетения рыболовных сетей, стрелы, покрашенные в черное и заточенные настолько тонко, что Стеллер предположил наличие у аборигенов ножей и других железных инструментов.118 Ученый взял несколько образцов, чтобы показать Берингу, и вернулся на поверхность. С вершины холма небольшой отряд заметил в нескольких километрах дымок, поднимавшийся над деревьями, но уже на материковом берегу. Не мешкая, исследователи пускаются в обратный путь, нагруженные образцами. На берегу они застали конец работ по погрузке воды. С последней шлюпкой Стеллер отправил Берингу записку, умоляя его выделить лодку и людей еще на несколько часов. Аборигены где-то неподалеку – как упустить шанс на встречу с ними?
Стеллер не питал иллюзий насчет ответа командора. Прошло шесть часов с того момента, как он сошел на берег. Пока шлюпка с бочками свежей воды двигалась к кораблю, он разложил на берегу собранные образцы и принялся нумеровать их и составлять опись. Он признался, а подобные признания нетипичны для Стеллера, что был измучен до предела. Но тут же добавил, что у него не было времени на жалобы. Поскольку приближался вечер, Стеллер отправил казака подстрелить еще несколько птиц, которых он приметил до того. Сам же помчался на запад, откуда вернулся на закате с еще несколькими образцами и новыми впечатлениями.119
На берегу его уже поджидал строгий приказ немедленно возвращаться на борт «Святого Петра». Единственная уступка, на которую пошел Беринг, это разрешение отнести в склад аборигенов железный ящик, содержавший французский фунт (0, 489505 кг) табака, китайскую трубку и отрез шелка в обмен на то, что забрал Стеллер. После этого он был вынужден сесть в лодку, которая повезла его прочь от американского берега. Ученый сильно нервничал, однако на борту его ждал теплый прием. Беринг приказал напоить его горячим шоколадом. Отпраздновали первую высадку, которая оказалась и последней. Десять лет подготовки ради десяти часов в Америке,120 – записал Стеллер в бортовом журнале. Из которых шесть – лихорадочный сбор образцов. Его Catalogus plantarum intra sex horas… observatarum121, посвященный острову Каяк, содержит тщательное описание 144 видов растений, а также насекомых, рыб, птиц и млекопитающих.
Научных трофеев – 160 единиц, на каждом шагу – открытие. Сумел ли кто-нибудь побить этот мировой рекорд?
Больше всего Стеллер радовался сойке с ярким оперением, которую добыл ему помощник казак. Несмотря на усталость, он наблюдал за сойкой и вдруг, к удивлению окружающих, издал ликующий вопль. Эта птица, которая станет впоследствии «сойкой Стеллера», – свидетельство того, что экспедиция действительно достигла Америки. Молодой ученый снова подтвердил свою феноменальную память: он подметил, что видел похожую птицу на рисунке еще в Германии. Стеллер записал, что вспомнил описание растений и птиц Каролины, которое отыскал в какой-то книге на французском и английском языках. Птица стала окончательным доказательством того, что Стеллер побывал в Америке.122
Myoxocephalus stelleri, Cryptochiton stelleri, Polysticta stelleri, Cyanocitta stelleri, Harrimanella stelleriana, Veronica stelleri, Artemisia stelleriana, терпуг Стеллера, сойка Стеллера, орел Стеллера, белый ворон Стеллера — множество растений и животных, свидетели нескольких часов, проведенных ученым на Аляске, благодаря которым естествознание сделало несколько мощных шагов вперед, и дань уважения науки к бесстрашному молодому гению. Среди неизвестных до сих пор птиц – белый морской ворон, которого нельзя было поймать, так как он гнездился на скалах.123 Эту птицу больше никто никогда не видел. Другое открытие – белоголовый орлан, ставший знаменитым в качестве символа Соединенных Штатов Америки. Орел Стеллера строит свой дом, свое гнездо в 1,5 м диаметром на высоких скалах над водой. После Стеллера только двоим орнитологам удалось наблюдать этих птиц – и только на Аляске. Возможно, этот вид вымер. Сидя на берегу в ожидании лодки, которая должна была доставить его на корабль «Святой Петр», Стеллер корявым почерком наскоро набросал in vivo (на живую – лат.) первый в истории естествознания труд, посвященный Аляске. Америка осталась позади, но открытия не закончены. Самые удивительные ждали Стеллера в океане.
…и десять месяцев на необитаемом острове
На следующий день после поступления богатого урожая образцов Беринг, обычно сидевший в одиночестве в своей каюте, первым поднялся на палубу. Ни с кем не посоветовавшись, что было крайне необычно, он приказал готовиться к немедленному отплытию. Один из его помощников, Ваксель, заметил, что накануне удалось заполнить пресной водой всего 35 бочек и что еще 20 по-прежнему пусты. Но Беринг оставался непреклонен: он спешил вернуться в порт отплытия. Стеллер протестовал, говоря, что невозможно вот так запросто отказаться от более тщательного изучения прибрежной территории, от поиска местных жителей и от какого-нибудь символического жеста, который свидетельствовал бы о том, что представители России побывали на континенте. Беринг отвечал, что на борту уже достаточно трофеев, чтобы судить о сделанном открытии, и что с наступлением осени следует опасаться бурь и внезапных изменений в ветровом режиме, которые могут помешать кораблю благополучно добраться до порта. В тот день поднялся ветер нужного направлении, и Беринг не хотел упустить этот шанс. Видя его решительность, Стеллер сдержался от дерзких реплик, но излил свою язвительность в бортовом журнале. «Единственная причина столь поспешного отплытия, – записал он, – состоит в тупом упрямстве, в леденящем страхе перед горсткой невооруженных дикарей, и к тому же перепуганных гораздо сильнее, да еще в предательской подавленности и тоске по дому».124
Тревожность, особенно сильно обуявшая Беринга в те дни, явилась, вероятно, следствием резкого ухудшения его здоровья. Измученный сделанными в последние годы титаническими усилиями, глава экспедиции испытывал нечто вроде депрессии: все представлялось ему в черном свете, во всем он чувствовал угрозу и старался ни во что не вмешиваться. Дело не только в нервах, возникли проблемы с печенью: капитан утратил аппетит и потому становился потенциальной жертвой цинги. Однако его опасения, связанные с ухудшением погодных условий, имели под собой реальную почву: такой опытный мореплаватель, как Беринг, опасался, что с похолоданиями начнутся туманы, представлявшие смертельную опасность для корабля длиной 30 м, медленно маневрировавшего в незнакомых водах. Природа быстро подтвердила опасения Беринга. На второй день липкий густой туман опустился на воду, что крайне затруднило продвижение на запад. «Святой Петр» двигался вдоль береговой полосы в надежде при следующем удобном случае пополнить запасы воды, но стараясь обходить небольшие островки и скалы. Он медленно шел вдоль побережья Аляски. К туману добавился непрерывный дождь, постоянно сопровождавший корабль. На борту вахта и впередсмотрящие трудились в изнуряющем режиме. Команде некогда выспаться и привести себя в порядок. Зловоние пропитало корабль. Шквалы участились, становясь все более и более свирепыми, и рулевой получил приказ повернуть к юго-западу, чтобы защититься от возможного столкновения с каким-нибудь подводным камнем. Все это тормозило продвижение. За 17 дней после отплытия с Каяка корабль преодолел только несколько сотен километров. Осталось всего 26 бочек воды, крайне мало, если иметь в виду, что до Авачинской бухты еще 1 500 км. Путь в открытых водах представлялся таким образом чистым самоубийством.
«Святой Петр» держался километрах в трехстах от берега. 10 августа внимание экипажа привлекло странное животное, бесстрашно приблизившееся к кораблю. Стеллер наблюдал за ним два часа и оставил подробное описание: 1,5 м в длину, голова с острыми ушами, постоянно находившаяся над водой и напоминавшая голову собаки, усы свисали с обеих сторон от губ, что делало его похожим на китайца. Большие глаза, длинное округлое и плотное тело, сужающееся ближе к хвосту. Кожа покрыта чем-то вроде густой шерсти, серой на спине и бело-красной на животе. В воде животное казалось красноватым и напоминало корову. Хвост состоял из двух плавников, причем верхний, как у акулы, в два раза превосходил по размеру нижний.125 Все наблюдали за игрой животного. Оно подныривало под корабль и стремительно выскакивало с противоположной стороны – этот маневр был повторен раз тридцать. Иногда оно поднималось над водой на несколько минут, показывая более трети туловища. «Порой оно оказывалось настолько близко к корпусу корабля, что его можно было коснуться шестом», – записал Стеллер. О каком загадочном создании идет речь? И сейчас еще никто не может сказать с уверенностью. Стеллер назвал его «морской обезьяной». Никто с тех пор, за исключением одного моряка и его семьи, которые в 1969 году описали замеченное ими вблизи Аляски животное, сильно напоминающее морскую обезьяну Стеллера, не встречал ни одной подобной особи. Многие историки и зоологи полагают, что ученый видел на самом деле играющего морского котика, забавлявшего экипаж. Некоторые криптозоологи считают, что речь может идти о морском котике с врожденными аномалиями. Однако гипотеза, согласно которой это было исчезнувшее млекопитающее, единственным свидетелем существования которого стал экипаж «Святого Петра», вполне правдоподобна. И в ее пользу говорит длительность наблюдения со стороны такого внимательного исследователя, как Стеллер. Животное можно было хорошо рассмотреть, несмотря на вечернее освещение, и его описание очень подробно. Остроту взгляда Стеллера и удивительную память, никогда его не подводившую, нельзя поставить под сомнение.
На борту «Святого Петра» началась цинга. На 10 августа, судя по записям помощника-хирурга в журнале, команда насчитывала 21 больного. Из них многие уже не могли подняться, другим малейшее движение доставляло страдания. Кое-кто не мог ничего есть, кроме месива из раскрошенных сухарей. У заболевших распухали десна и обнажались корни зубов, они становились очень чувствительны к звукам и, лежа в гамаках, постепенно впадали в апатичное и подавленное состояние. Сам Беринг уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой, его лицо приобрело восковатый оттенок. Каждый день болезнь забирала по матросу, что делало работу здоровых все более и более тяжелой. Ситуация становилась критической, и Свен Ваксель, который de facto принял на себя командование, решил взять курс на северо-запад, чтобы встать на якорь, набрать воды и дать передохнуть измученному экипажу. 30 августа корабль бросил якорь перед ожерельем из 13 скалистых и голых островков. Ни одного дерева на горизонте. Первый больной, которого попытались вынести с корабля, стал и первой жертвой цинги: едва товарищи подняли матроса Никиту Шумагина на палубу, едва он вдохнул свежего воздуха, как отдал Богу душу на руках тех, кто его поддерживал. Остров, на котором похоронили молодого матроса, носит сейчас его имя.
Десятки больных, лежавших на берегу, придавали и без того невеселому пейзажу особенно мрачный вид. Кто был на ногах, отправились на поиски воды. Георг Стеллер пошел с ними. И снова непонимание, воцарившееся между молодым ученым и другими членами экспедиции, сыграло дурную роль для всего предприятия. Ослабевшие люди остановились у первого же встретившегося на их пути источника и тут же принялись наполнять бочки. Они уже были готовы запечатать первую, когда Стеллер заподозрил, что вода слишком жесткая, и убедился в этом, приготовив чай и сделав опыт с использованием мыла. Кроме того, заметив, что уровень воды поднимался и опускался одновременно с приливом, он предположил, что она, скорее всего, солоноватая. Стеллер попытался объяснить, что использование такой воды только ухудшит состояние больных, что из-за высокого содержания кальция их организм подвергнется обезвоживанию и они еще больше обессилят. Команда не обратила никакого внимания на предупреждения Стеллера.126 Стеллер взял образец воды, принес его Вакселю и начал растолковывать, что соленая и щелочная вода может только повредить и без того плохо функционирующей печени, что она не питьевая. Но уговоры ученого оставляют помощника капитана равнодушным. И даже когда Стеллер указал на источник хорошей воды, расположенный даже гораздо ближе, чем облюбованная командой «соленая лужица», никто не захотел прислушаться к его словам.127
Упрямство, с которым команда игнорировала слова Стеллера, станет, в конце концов, роковым примерно для ее трети, и Вакселю придется признать свою ошибку. Однако пренебрежение, с которым члены экипажа относились к затесавшемуся среди них интеллектуалу настолько велико, что они решительно отказались помочь ему собирать ягоды, устилавшие землю под кустарниками, и траву, похожую на кресс-салат, хотя ботаник утверждал, что эти растения могли помочь бороться с цингой. Чтобы моряки собирали какую-то траву? Никогда! Но Стеллер не сдался. Не желая признавать свое поражение, он сам, взяв с собой верного казака, взялся за дело. Они приступили к сбору ягод под градом насмешек матросов, наполнявших бочки и откатывавших их на берег. Но через несколько дней наступила расплата: цинга косила людей, и только Стеллер и его помощник еще держались на ногах. Ученый с горечью заметил, что сожаление пришло позже, когда лишь четверо из команды остались относительно здоровы. Даже самые упрямые и неверующие были вынуждены признать, что он за неделю сумел помочь капитану-командору, окончательно утратившему к тому времени способность двигаться из-за цинги, встать на ноги и почувствовать себя не хуже, чем в начале путешествия – и все это благодаря свежим травам.128
«Святой Петр» продолжил путь, стараясь использовать нечасто дувший попутный ветер и двигаться вдоль берега, не подходя, впрочем, слишком близко к островам, останавливаясь в бухтах, иногда на продолжительное время, когда невозможно было плыть дальше. В начале сентября, когда пакетбот вынужден был встать на якорь после неудачной попытки выйти в открытое море, находившиеся на палубе люди услышали крик, как им сначала показалось, морского льва. Но тут же они заметили две лодки, байдары аборигенов, которые Стеллер немедленно соотнес с каяками инуитов, описанными путешественниками, побывавшими в Гренландии. Это первая встреча белых людей с алеутами, населявшими архипелаг и побережье Аляски. Стеллер описал ее подробнейшим образом. Весь экипаж высыпал на палубу и наблюдал за гребцами, отдалявшимися от скалистого берега и приближавшимися к ним. На расстоянии примерно 500 м оба гребца принялись одновременно выкрикивать что-то, но переводчики не смогли уловить ни слова. Похоже, что они произносили какую-то молитву или какие-то ритуальные заклинания, быть может, приветствия. «Похожий ритуал наблюдался у народов Камчатки и на Курильских островах», – записал Стеллер, всегда нацеленный на сопоставления, позволявшие ему строить научные гипотезы.129 Поскольку никто на борту не имеет ни малейшего представления о том, что означало происходившее, все замахали руками, приглашая гребцов подойти поближе. Те в ответ показали сначала себе на рот, потом на морскую воду, а затем на берег, словно зазывая экипаж разделить с ними трапезу. Встреча заняла не больше четверти часа, но Стеллер тщательно записал малейшие детали. Перед тем как подплыть ближе, один из гребцов извлек что-то вроде комка земли цвета железа или свинца и нарисовал на щеках грушевидную фигуру, а потом набил ноздри какой-то травой. Гребцы были среднего роста, крепкие и приземистые, очень хорошего телосложения, с мускулистыми руками и ногами. Прямые волосы, черные и блестящие, падали на плечи. Лица, по словам Стеллера, темные, как бы немного приплюснутые и вогнутые. Носы тоже приплюснутые, небольшие и не слишком широкие. Глаза черные, как угли, губы крупные и мясистые. Шеи короткие. Широкоплечие, с округлыми телами, хотя нельзя было сказать, что с выпуклыми животами. У каждого на поясе, как и у русских крестьян, болтался длинный железный нож в чехле. Когда один из гребцов вытащил свой из чехла, Стеллер попытался разглядеть его. Он заметил, что нож был железным и не походил ни на один аналогичный европейский инструмент.130
Стеллер не упоминает Беринга, который, по всей видимости, находился, как обычно, в каюте. Ваксель приказал спустить на воду лодку, в которую сели Стеллер, переводчик и несколько матросов. Они добрались на веслах до берега, где их ждала толпа аборигенов, мужчин и женщин, одетых одинаково, так что «было трудно отличить их друг от друга». Люди на берегу встретили прибывших криками, в которых слышались удивление и дружелюбие.131 Опасаясь разбить лодку о камни, мешавшие причалить к берегу, Ваксель бросил якорь в 50 м от берега и приказал переводчику и двум матросам раздеться и добираться до «первых американцев» вплавь.
Сцена на берегу Аляски достойна учебника по этнографии. Она очень похожа на ту, которая несколькими годами позже будет стоить жизни великому капитану Куку на Гавайских островах. Вышедших на берег посланцев тут же окружили кричавшие и жестикулировавшие аборигены. Они не выглядели враждебными.
Некоторые алеуты бросились в воду, схватили веревку и начали тянуть лодку к берегу. Один из них сел в пирогу, дошел на веслах до лодки и встал борт о борт с ней. К ужасу Стеллера, алеуту протянули чарку с водкой. Следуя примеру русских, он выпил залпом, но тут же выплюнул. Казалось, он почувствовал себя обманутым. Ваксель предложил ему разожженную трубку, но несчастный тут же закашлялся. «Любой европеец также бы прореагировал, если бы ему предложили отведать мухомор или суп из гнилой рыбы, который камчадалы считают деликатесом», – заметил Стеллер, расстроенный бесчувственностью своих товарищей.132 Аборигены преподнесли гостям китовый жир. Их настолько заинтересовал переводчик-камчадал, похожий на них чертами лица, что они не хотели его отпускать. Чтобы выручить его, Ваксель приказал матросам стрелять из мушкетов в воздух. Звук выстрелов испугал алеутов, что позволило троице броситься в воду и спастись. Первая встреча между жителями Аляски и европейцами закончилась криками, жестами, на это раз мало дружественными, и летящими камнями.
Последовали два мучительных месяца. Осенние бури, одна лишь мысль о которых повергала командора в черную меланхолию во время пребывания в Америке, обрушились на корабль с силой, неожиданной даже для Беринга. Экипаж, ослабленный цингой, которая не пощадила никого, кроме Стеллера и его помощника, больше не в силах управлять «Святым Петром», мысли моряков «разболтаны», как «зубы в деснах».133 Беринг отсутствует – в прямом и переносном смыслах. Как-то, зайдя в каюту, Стеллер нашел капитана с застывшим безумным взглядом и даже в первую минуту подумал, что тот умер. Корабль двигался по воле течения и штормовых ветров, его корпус и мачты трещали. Он носился по океану, направляясь то на юг, в открытое море, то обратно на восток, отматывая назад порой за несколько дней десятки километров, преодоленные с нечеловеческим трудом. Стеллер сообщает: «27 сентября. Мы попали в ужасную бурю. Волны бьют с такой силой, будто кто-то стреляет из пушки, и мы словно ждем рокового выстрела <…> 28 сентября. Буря обрушилась на нас с еще большей свирепостью. <…> 30 сентября. Стало еще хуже, хотя мы думали, что такого быть не может. Каждую минуту мы ждем кораблекрушения. Мы не можем ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Никто не в состоянии заниматься своим делом. Мы во власти Господней. Многие наши, совершенно больные, лежат в глубине трюма. Другие держатся по необходимости, но, измученные бурями, мало что осознают. Мы постоянно молимся».134
Хотя Стеллер полагал, что пришел его последний час, чувство долга и склонность к наблюдениям не оставляли его. Записывая события тяжелейших дней, он замечал, что был свидетелем двух явлений, ранее никогда не виденных. Речь идет об огнях Святого Эльма, которые мигали на наэлектризованной мачте, прежде чем исчезнуть в виде ярко мелькнувшей молнии. День за днем корабль плывет в северной части Тихого океана. Казалось, его может спасти только чудо. 18 октября список больных насчитывал 32 имени. Почти каждый день море поглощало тело очередной жертвы цинги и кровотечений. 31 октября, как записал Стеллер, умерло столько больных, что некому стало следить за курсом корабля.135
4 ноября «Святой Петр» плыл почти безо всякого управления. Соленая вода в бочках стала зловонной, и ни у кого уже не было сил собирать дождевую влагу. Паруса порвались, веревки размокли, главную мачту сломал ветер, пушка от сильной качки пробила корпус и упала в море, пробоину кое-как забили досками. Горстка еще державшихся на ногах людей на палубе вглядывалась в горизонт, надеясь увидеть землю. Через восемь часов вдали внезапно возникли очертания гор. «Невозможно описать радость, охватившую людей на палубе», – записал Стеллер. Полуживые члены экипажа карабкались на палубу, чтобы увидеть землю своими глазами. Каждый благодарил Бога за милосердие.136
* * *
Земля! Но что за земля? Никто уже не понимал, где точно находился корабль, некоторые думали, что они уже рядом с Камчаткой, другие – что они у Японии или Америки. Офицеры с картами в руках утверждают, что перед ними полуостров Камчатка и что вот-вот появится проход в Авачинскую бухту. Однако легко узнаваемые три вулканических конуса, которые отмечали, подобно трем буйкам, дорогу к дому, все не показывались. И, когда в полдень вдруг прорвавшееся солнце позволило наконец, после десяти дней блужданий, определить положение корабля, им пришлось остудить воодушевление команды ушатом холодной воды. Пакетбот, «отныне обломки корабля», как заметил Стеллер, находился по меньшей мере в 200 км севернее нужного направления, и его долгота неясна. Действительно ли земля, видневшаяся вдали, была Камчаткой? Стеллер позволил себе усомниться, чем снова навлек на себя гнев штурмана: «Вы не моряк, месье». Чтобы решить, как действовать дальше, Беринг вызвал к себе всех офицеров на чрезвычайный совет. Многие из них не видели командора уже много недель. Они застыли в ужасе: его лицо спало, желтая кожа щек свисала дряблыми мешками, все зубы выпали, губы еле-еле прикрывали набухшие десны, а рот представлял собой зияющую черноту. Из-за болезни он не мог бриться, и его подбородок закрывала седая борода. Веки отяжелели, и ему требовалось немало усилий, чтобы оглядеть молчаливо столпившихся вокруг него участников совета.137
Беринг, преодолевая боль, принял сидячее положение. Его опыт, начал он, стараясь вложить в свои слова как можно больше убежденности, говорит, что нужно плыть дальше до порта. Останавливаться опасно, есть риск больше не выйти в море. Если берег на горизонте не Камчатка, он станет могилой для экспедиции, которая не сможет перезимовать в таком суровом месте – открытом всем стихиям, без деревьев. Но его авторитет уже не тот, что прежде, далеко не столь непререкаемый. Офицеры, убежденные, что впереди Камчатка, хотели плыть к берегу. Оттуда, объясняли они, можно попытаться добраться до Петропавловска. Как только они чуть-чуть наберутся сил, можно будет отправить вперед нескольких гонцов. Даже Ваксель за то, чтобы бросить якорь. Стеллер, присутствовавший при этой сцене, поддержал капитана. Но, поскольку его мнением пренебрегали с самого начала, он не настаивал: «Я ведь, действительно, не моряк».138 Беринг побежден, «Святой Петр» должен пристать к незнакомому берегу. Никто не подозревал в тот момент, что этот берег станет его последним пристанищем.
Решение принято. На корабле воцарилась странная атмосфера – смесь облегчения и смирения. Сгнивший от влажности такелаж за последние часы пришел в еще более ужасное состояние, людей, способных действовать и управлять кораблем, было мало. «Святой Петр» плыл сам по себе, по воле ветра, толкавшего его к неизвестной земле, которую экипаж считал Камчаткой. 49 человек больны, 12 уже умерли и еще 20 при смерти. Часы шли, и Стеллер практически в одиночестве, стоя на палубе, наблюдал, как приближалась земля. Он перебегал то вправо, то влево, пытался разбудить Беринга, объединить последние силы экипажа. Командор бессильно лежал на постели, его офицеры, измученные цингой, тоже расползлись по каютам. Когда на закате корабль опасно приблизился к бурунам, командовать им было некому. Матросы бросили якорь, чтобы остановить движение. Прямо перед ними лежал обширный песчаный берег, обещавший, что выбраться на него с наступлением утра будет несложно. Оставалось только провести «Святого Петра» через опасный барьер – гряду камней, отделявших его от берега. Однако сила прилива и мощность волн, разбивавшихся о них, была такова, что через полчаса якорь оторвало. Немедленно бросили второй. Через несколько минут порвался и его канат. Началась паника. Всем грозила смертельная опасность, однако, как записал Стеллер, некоторые реагировали неожиданно и говорили странные вещи. Один из матросов спросил, например, очень ли соленая вода, как если бы смерть казалась мягче в пресной,139 – иронизировал ученый. Все записные забияки и смельчаки, «смертельно бледные», попрятались в каютах. И, поскольку, согласно поверьям, трупы на палубе притягивают несчастья, две последние жертвы цинги были выброшены в воду. В полном отчаянии матросы, находившиеся на палубе, готовились бросить «единственный, оставшийся у них, уже третий, якорь, но в последнюю минуту один из сумевших сохранить хладнокровие удержал товарищей от этого рокового поступка. Это было правильно, потому что внезапно судьба словно сжалилась над «Святым Петром». Он устремился прямо туда, где пенилась вода, на камни, но неожиданно сильная волна приподняла его, перенесла над ними и опустила в более спокойные воды бухты. Чудо? А что еще, если не чудо? Спустя десятилетия станет понятно, что Беринг и его экипаж, сами того не зная, попали в единственный судоходный проход на всем восточном побережье острова, которому суждено было стать убежищем для экспедиции.
* * *
Остров? Да, вопреки надеждам матросов и громким заверениям офицеров, это была не Камчатка. Остров, который теперь носит имя Беринга, – самый крупный из архипелага Командорских островов, о котором никто не имел ни малейшего понятия до тех пор, пока «Святой Петр» не встал у его берегов. Стеллер, предполагавший, что обретенная земля была островом, получил доказательства своей гипотезы, когда утром 7 ноября 1741 года, как он уточнил, «в приятную погоду», впервые ступил на эту землю. Как только люди высадились на дюны, поросшие чахлой коричневой травой, прибитой ветрами северной части Тихого океана, тут же показались голубые песцы, крайне заинтересовавшиеся появлением незнакомцев. Их было очень много, они, нисколько не испугавшись людей, смешались с ними и, вопреки лисьим привычкам и натуре, налетели на багаж и кожаные мешки, принялись тащить их, разбрасывать провизию, с кого-то стащили сапоги, с кого-то обувь, брюки, рукавицы, куртку – все, что не удалось отбить.140 Стеллер, защищая свои нехитрые пожитки, орудуя ногами и палкой, задумался над поведением животных. Их поведение ясно указывало, что они никогда не видели людей, а следовательно, эта территория совсем не заселена или мало заселена. Не Камчатка! Он поражен тем, насколько эти животные отличались от обычных песцов дерзостью, хитростью и проказливостью.141 День за днем, очень медленно, рассчитывая свои силы, несколько членов экипажа, еще способных двигаться, выносят с корабля больных и размещают их в укрытиях, вырытых прямо в песке. Они укрепляют их выброшенным на берег плавником и застилают остатками порванных парусов. Заканчивалась первая неделя ноября, и все понимали, что впереди зима, грозившая стать страшной в этой голой и унылой местности. Нужно было действовать быстро, несмотря на слабость, поскольку «Святого Петра» со всем имуществом в трюме стоявшего на якоре, мог унести первый же шторм. Пока еще не выпал снег, следовало собрать дрова и запастись травами, чтобы попытаться спасти как можно больше больных цингой, медленно добивавшей свои жертвы. Записи в бортовом журнале передают атмосферу тех дней: 8 ноября умер Нил Янсен, 10-го пришел черед трубача Михаила Торопцова. 14-го в землянках, сооруженных из всего, что попало под руку, скончались еще четверо – едва их доставили на берег. 16-го умер Савва Степанов, 20-го – Марк Антипин, 21-го – Андрис Эзельберг, 22-го – Семен Артемьев. Побережье являло собой жалкое и страшное зрелище. Умерших не успевали хоронить. На них набрасывались песцы, подступали они и к больным, которые лежали на берегу и не могли защищаться, и нюхали их, как это делают собаки. Некоторые кричали, потому что очень мерзли, другие – от голода и жажды. У многих рот был так изуродован цингой, что они не могли есть, не испытывая сильной боли, их распухшие десны напоминали черные и коричневые губки, натянутые на зубы.142
10 ноября командора перенесли из каюты в устроенную для него песчаную землянку. Глава экспедиции страдал не меньше других. Пожелтевшее лицо, синие пятна на коже, сильнейшая боль в суставах. Его осторожно вынесли на носилках, сначала на палубу, стараясь не спешить, поскольку свежий воздух был опасен для больных и часто сразу убивал их. Через десять дней из гамаков на берег перенесли всех членов экипажа. В принципе предполагалось вытащить на берег и корабль, чтобы починить его, – тогда на нем можно было бы вернуться домой. Но, кроме Стеллера и его помощника, на ногах оставалось только четверо. Стихия решила эту проблему: в конце ноября буря сорвала корабль с якоря и разбила о прибрежные скалы.
В импровизированном лагере песцы стали почти такой же серьезной бедой, как цинга. Однажды ночью, сообщает Стеллер в своей хронике, когда один матрос вылез из укрытия и, стоя на коленях, мочился, зверь вцепился ему в тело и, несмотря на его крики, не хотел разжать челюсти. Никто после этого не выходил оправляться без палки, а песцы набрасывались на экскременты и пожирали их, подобно свиньям.143 Чувствуется, что натуралист, обычно с большим вниманием и уважением относившийся ко всему живому, утрачивал присущую ему рассудительность и философское умонастроение, когда речиь заходила о песцах. Сонмы хищников приводили его в бешенство. На третий день пребывания на острове он собственноручно за три часа убил 70 особей. Стеллер объяснял, что, поскольку песцы не оставляли людей в покое ни днем ни ночью, они, окончательно рассвирепев, принялись забивать их до смерти, молодых и старых, без малейшей жалости и самым жестоким образом – всякий раз, когда представлялся случай. Каждое утро они несли за хвост попавшихся зверей в место казни, где им отрубали голову. У некоторых были перебиты лапы. Каким-то песцам вырвали глаза, других подвешивали живыми за хвост попарно так, что они пожирали друг друга. Каких-то мучили до смерти. По словам Стеллера, одна из забав состояла в том, чтобы привязывать их за хвост, так что они начинали метаться и хвост отрывался. Сделав несколько шагов, песцы оглядывались и начинали бесконечно крутиться в поисках хвоста.144
Витус Беринг был при смерти. Опухоль, поднимаясь по ногам, добралась до живота, его буквально заедали вши, незаживающие язвы доставляли ужасную боль, умножая страдания, которые причиняла цинга. Стеллер держался рядом с ним и, несмотря на все усилия, уже ничем не мог ему помочь. Капитан-командор одной из самых великих научных экспедиций в истории лежал на берегу, и песок заносил его ноги и живот, словно хоронил заживо. Когда Стеллер хотел убрать это природное покрывало, капитан запротестовал: «Оставьте, – прошептал он своему ученому спутнику, – мне так теплее. Без песка я мерзну». 8 декабря 1741 года, за два часа до рассвета, глава экспедиции, ждавший кончины «с огромным спокойствием и серьезностью»,145 отошел в мир иной. Его извлекли из землянки, в которой он лежал, привязали к одной из досок «Святого Петра» и похоронили по лютеранскому обычаю. С тех пор остров носит имя Беринга. Он занял место в списке великих путешественников – после Колумба и до Кука. Поэт Зебальд так видит эту сцену:
В первые дни декабря, когда Беринг умирал на краю земли, в Санкт-Петербурге новая императрица Елизавета I, дочь Петра Великого, сместила с важных постов и отстранила от дел основных инициаторов экспедиции, защищавших ее интересы при дворе. Императрица, решившая выбить из рук «немецкой партии» власть, которую она полагала чрезмерной, была недовольна тем, что столь огромный проект находился в руках иностранцев. Вторая Камчатская экспедиция, задуманная и возглавляемая Берингом, доживала последние месяцы. Упрямый капитан, так тревожившийся за судьбу предприятия, ушел, лишь ненамного опередив конец своего дела. В нескольких строках эпитафии Стеллер, не знавший, конечно, о том, что назревало в 10 000 км, отзывается на этот исторический поворот: «Беринг признавался, что предприятие его оказалось гораздо грандиознее и гораздо длиннее, чем он предполагал в начале. Чувствуя себя старым, он мечтал, чтобы дело передали в руки человека молодого, деятельного, из русских».147
Беринг умер. Он был не последней жертвой цинги, которой немало способствовали холод, лишения и истощение. Завершит список погибших прапорщик Логунов, последовавший за Берингом в первые дни 1742 года. Из 78 человек, поднявшихся на борт, остались в живых только 46. Изоляция, в которой они оказались, необходимость заботиться о выживании сильно изменили отношения внутри группы. Эта перестройка иерархии в социуме очень заинтересовала Стеллера. Ни военно-морские чины, ни ученые звания больше не имели значения. Неважны стали и деньги – только практические навыки, умения, смекалка, организационные таланты и человеческие качества. Они перекроили взаимоотношения в группе. Офицеры перестали командовать, они больше не окликали матросов пренебрежительно по именам, а обращались к ним с большим уважением, используя отчество. Как записывает ученый, ставший антропологом-дилетантом, все быстро выучили, что Петр Максимович гораздо лучше справляется с делами, чем раньше это делал Петрушка. В этой новой структуре Стеллер занял подобающее место: его поразительные знания и дедуктивные таланты настолько ценны, что дурной характер уже не брался в расчет. Для штурмана Хитрово, преследовавшего Стеллера, напротив, наступили довольно тяжелые дни. Ослабевший до такой степени, что не мог ничего делать самостоятельно и полностью зависевший от других, он вынужден был расплачиваться за злоупотребления властью. Его изгнали из землянки, и он вынужден униженно просить приюта у иностранных членов экипажа.
Ситуация складывалась незавидная. Наступала зима, разбушевавшиеся бури унесли корпус «Святого Петра» далеко от берега. Гордый флагманский корабль превратился в груду щепок, засыпанную трехметровым слоем песка. Нельзя было и помыслить восстановить его хоть в каком-то виде. Но на острове не растут деревья, поэтому остатки корабля – единственный материал, из которого весной можно попытаться построить лодку. Не плыть было нельзя, ведь на незнакомом острове их ждала только неминуемая гибель. В довершение цинга погубила всех плотников. Если выжившие матросы и солдаты хотели спастись, им предстояло изучить правила кораблестроения.
Толстый слой снега покрыл берег. Обломки досок, служившие единственным топливом для команды «Святого Петра», стали неразличимы в воде. Приходилось ежедневно проходить три, четыре, а затем – 10, 15 или 20 км по берегу, чтобы запастись дровами. Остов корабля, валявшийся на берегу, трогать было нельзя. Тяжкая обязанность собирать топливо, увы, подтвердила, что кораблекрушение выбросило экипаж на остров, не нанесенный на морские карты. Окончательно это стало ясно 26 декабря, когда небольшая группа сумела дойти до противоположного берега. Это произошло на следующий день после Рождества, который открыватели Аляски худо-бедно отпраздновали печеньем, кое-как приготовленным из остатков размокшей муки, найденной в утробе корабля. Это был тяжелый удар. Все наконец осознали, что затеряны на острове в северной части Тихого океана до июля или даже до августа следующего года.
А что же Стеллер? Он, конечно же, погрузился в научные исследования. Утопая в снегу, он обошел весь необжитый остров. Он ползал по мокрой каше из песка и снега, он писал при неверном свете свечей свой главный труд, De Bestiis Marinis – детальное описание «особых» морских животных, как гласил подзаголовок немецкого издания, вышедшего в Галле через десять лет после создания.148 На 200 страницах, исписанных убористым готическим письмом, ученый спутник покойного Витуса Беринга без всякой надежды на то, что выживет и сумеет передать свой труд издателям, излагает свои зоологические соображения – самые невероятные в истории естествознания. Изложение проиллюстрировано набросками и рисунками. Эти иллюстрации, выполненные в поистине первобытных условиях, свидетельствуют о настоящей страсти к науке и неутолимой жажде знаний. Все время, проведенное на острове, Стеллер пристально наблюдал животных в их среде обитания. Он вскрывал, сравнивал, описывал и измерял – до мельчайших органов, не обращая ни малейшего внимания на собственные неудобства. Как напишет Стеллер впоследствии своему коллеге и старшему товарищу Иоганну Гмелину, этот бесценный опыт работы он не обменял бы ни на какие деньги.149 Георг Стеллер – первый ученый, описавший нелетающего очкового баклана, а также орла, названного орлом Стеллера, до гнезда которого он сумел добраться, карабкаясь по скалам. Гнездо, сообщал ученый, имеет 30 см в высоту. В начале июня он обнаружил в нем два яйца и птенцов. Орлята были совершенно белыми, ни единого пятнышка. Но когда он обследовал другое обнаруженное им на острове гнездо, на него напали родители птенцов, причем с такой яростью, что ему еле-еле удалось отбиться палкой. Несмотря на то, что ученый не причинил ни малейшего вреда птенцам, взрослые птицы оставили гнездо и устроили новое на высоте, куда уже не мог добраться человек.150
Стеллер также первым тщательно изучил жизнь морских млекопитающих. Целыми неделями и даже месяцами он вникал в особенности поведения морских котиков (которых он окрестил «морскими медведями») или морских львов, у которых на побережье острова было множество мест размножения. Морские львы, писал Стеллер, весят почти тонну, они в два раза больше морских котиков и не склонны подпускать к себе близко. Как только они замечают чужака, самцы и их гарем немедленно покидают берег и уплывают в море. Если попытаться преградить путь зверю, чтобы не дать ему уйти, он немедленно отвечает: поворачивается и наступает на врага, грозно раскачивая головой, рыча и ворча, пока противник не испугается и не бросится наутек. Стеллер провел эксперимент, однако первая попытка приблизиться к животным стала и последней.151
Стеллер терпелив и настойчив. В конце концов он нашел способ приучить этих чудищ к своему присутствию. Он заметил, что животные, обычно боявшиеся человека, переносили довольно спокойно его частые появления в период, когда молодняк еще не научился плавать. Стеллер держался мирно, и стадо позволяло ему оставаться поблизости целые дни напролет. Шесть дней он вел наблюдения из небольшого шалаша. В конце эксперимента животные расположились вокруг него, глядя на огонь и никак не реагируя на его движения, даже когда он убил одного из детенышей для подробного описания. По словам Стеллера, они мычали, как быки, молодняк блеял, как бараны, а сам он, пребывая среди них, больше всего смахивал на пастуха, находившегося в центре своего стада.152
Другой излюбленный объект любопытства Стеллера – куда более скромное животное, которое он уже встречал на побережье Камчатки, калан. Русские первопроходцы и промышленники быстро поняли ценность этого зверя. Его мех, обычно черный, настолько густой, что удерживает воздух, образуя подушку, позволявшую ему плыть, не совершая никаких движений. 400 000 волосков на квадратный сантиметр![37] Самый густой мех в животном мире, к тому же необычайно шелковистый. Калан так красив, а его мех настолько великолепен, писал Стеллер, что этому животному нет равных в море. Не будет преувеличением сказать даже, что красотой, нежностью и мягкостью меха калан превосходит всю морскую фауну.153 Калан для океана – все равно что соболь для тайги, и за ним вовсю шла охота, из-за чего, как объяснял зоолог, животные в поисках покоя и безопасности в больших количествах поселялись на необитаемых островах.154 Но такие убежища окажутся временными. На протяжении полутора столетий русские охотники за пушниной, числом превышавшие американских, будут истреблять их в таком количестве, что они почти переведутся во всем северном Тихом океане. После присоединения Аляски Соединенные Штаты, установив концессию, сделают этот промысел, а также еще более жестокую охоту на тюленей, одним из главных своих ресурсов. Доходы от промысла за сезон превышали расходы на содержание всей Аляски.155
Охотиться на каланов очень легко, поскольку животное, длина которого от морды до хвоста больше метра, неагрессивно и дружелюбно. Самки лежат в воде на спине, обнимая своих детенышей почти так же, как это делают люди. Охотникам достаточно приблизиться к самке на лодке. Одного точного удара палкой хватает, чтобы убить ее. Искусство этой жестокой охоты состоит в том, чтобы действовать очень быстро и не дать самке уйти под воду вместе с детенышем. Красота, изящество, общительность и уязвимость каланов в конце концов тронули Георга Стеллера, хоть он и старался дистанцироваться, как полагалось серьезному ученому, и прятался в панцирь науки. Некоторые его записи позволяют заметить, что Стеллер испытывал слабость к этим животным. По отношению к товарищам по несчастью подобные чувства возникали у него редко. Однажды он застал на берегу двух самок и забрал у них детенышей. Те начали стонать, как стонет раненый человек. Они шли за Стеллером на некотором расстоянии и звали своих малышей голосами, похожими на плач ребенка. Поскольку детеныши слышали этот зов, они тоже принялись стонать, и Стеллеру пришлось спрятаться в снегу и провести там несколько часов, чтобы их унять. Через неделю Стеллер вернулся на то же место и нашел там одну из самок, растянувшуюся на земле. Она даже не попыталась убежать, и Стеллер убил ее. За неделю она так оголодала, что кожа висела на костях.156
Но самое главное открытие Стеллера, самый важный объект наблюдений на протяжении долгих месяцев робинзонады – странное животное, о существовании которого никто не подозревал до кораблекрушения «Святого Петра». Судьбе было угодно, чтобы первым человеком, во всяком случае, первым человеком нового времени, с которым оно встретилось, стал Георг Вильгельм Стеллер. Эта встреча состоялась в первые часы после высадки на берег. Был прилив, и камни находились под водой. Стеллер, стоявший в воде недалеко от берега, заметил странных животных. Их черные спины, блестевшие под солнцем, были похожи на корпус перевернутой лодки. Удивительные звери медленно приближались, каждые несколько минут ритмично выдыхали воздух с шумом, напоминавшим фырканье лошади. Неизвестный вид кита? Гигантский тюлень? Стеллер расспрашивает своих товарищей, которые, тоже добравшись до берега, рухнули, обессиленные, на песок. Никто из них никогда не видел таких созданий и никогда даже не слышал о них. «Может быть, сирена?» – подумал ученый. Не та, которая живет в античных мифах, с лицом женщины и чарующим голосом, но совершенно неизвестный вид, похожий на ламантинов из отряда сирен. Это очень редкое млекопитающее наблюдали только в тропических водах, к тому же по размеру оно было сильно меньше, чем эти морские чудища, которые целыми стадами плавали вдоль берега, не смущаясь взглядов выбравшихся из воды членов экспедиции Беринга. Стеллеру не потребовалось много времени, чтобы понять, что странные животные, пользуясь приливом, поедают водоросли, устилавшие дно бухты. Из-за этого он окрестил их «морскими коровами» (Hydrodamalis gigas или Rythina Stelleri). На протяжении долгих месяцев зимовки эти морские соседи будут изо дня в день плескаться неподалеку от землянок матросов «Святого Петра», развлекать их и, в конечном счете, спасут им жизнь. Взрослая морская корова от морды до конца двойного плавника достигала около 8 м в длину. Она весила от трех до пяти тонн. Стеллер записывает в журнале, что до середины живота зверь походил на тюленя, от живота до хвоста – скорее на рыбу, а пропорциями тела – на лягушку.157 Размеры тоже необычны: объем шеи 2 м, плечи – 3,5 м, «пояс», где тело резко сужается, 6,5 м. Кожный покров черный, плотный и шершавый, «похожий на кору дерева, камень или шагреневую кожу»,158 – пишет натуралист, особенно в части, которая находится ближе к голове. Глаза по размеру как у барана, однако, чтобы их увидеть, нужно поднять много слоев кожи. И, в довершение, корова Стеллера обладала двумя нижними конечностями, длиной примерно в 70 см, которые заканчивались чем-то вроде копыт, имевшими некоторое сходство с лошадиными, но без пальцев и когтей. Эти конечности помогали животным плавать, а также вскапывать дно, чтобы добывать водоросли – их основную пищу. Стеллер первым описал это животное, он останется также и единственным натуралистом, наблюдавшим за ним в условиях обитания. Он писал, что исследовал повадки и поведение этих созданий каждый день на протяжении десяти месяцев вынужденного пребывания на острове, сидя у дверей своего убежища. Морские коровы выбирали мелкие песчаные участки берега, проводили очень много времени неподалеку от устьев пресных ручьев, куда приплывали группами. Они пережевывали еду не так, как другие животные, не зубами, которых у них не было, а при помощи двух белых роговых пластин – двух огромных зубных образований, так хорошо пригнанных друг к другу, что перемалывали пищу не хуже мельницы. Когда они «паслись», то выталкивали вперед молодняк, который всегда охраняли сзади и с боков, помещая в середину стада. Стеллер полагал, что морские коровы были моногамными. Их детеныши появлялись в любое время года, но особенно много осенью. Поскольку Стеллер заметил, что они терлись друг о друга преимущественно весной, он сделал вывод, что самка вынашивала детеныша больше года. Морская корова очень прожорлива и потому держала голову постоянно под водой, нисколько не опасаясь за свою жизнь и не заботясь о собственной безопасности. Во время еды единственное, что она делала, так это высовывала из воды ноздри каждые четыре-пять минут и выдыхала воздух и немного воды, фыркая, как лошадь. Выщипывая водоросли, она понемногу продвигалась вперед, наполовину плывя, наполовину шагая, как это делают коровы или бараны на лугу.159
Несмотря на свою величину и массу, морская корова была очень мирным и неагрессивным животным. Гигантское млекопитающее никогда не встречалось с человеком и не знало, что он-то и является единственным опасным для него хищником. Матросы на лодке могли подплывать очень близко к черным тушам, на которые садились чайки, чтобы выклевывать насекомых и маленьких моллюсков-паразитов. Морскую корову можно было погладить. Выяснилось также, что отделить одно животное от стада и захватить его было совсем нетрудно. «Мы ловили их, – писал Стеллер, – пользуясь большим железным крюком, наконечник которого напоминал лапу якоря; другой его конец мы прикрепляли с помощью железного кольца к очень длинному и крепкому канату, который тащили с берега тридцать человек… Загарпунив морскую корову, моряки старались сразу же отплыть в сторону, чтобы раненое животное не опрокинуло или не разломало ударами мощного хвоста их лодку». Но это не все. Как только раненое животное начинало биться, к нему на помощь устремлялись другие морские коровы из стада. Некоторые пытались опрокинуть лодку, толкая ее спинами, другие наваливались на веревку, чтобы ослабить ее. Они также старались сбить хвостами гарпун, и иногда им это удавалось.160 «Люди в лодке тем временем подгоняли животное с помощью другого каната и изнуряли его постоянными ударами, пока, обессиленное и совершенно неподвижное, не вытаскивали на берег, где добивали штыками, ножами и другими орудиями. Иногда большие куски отрезались от живого тела и корова, сопротивляясь, с такой силой била по земле хвостом и плавниками, что от него даже отваливались куски кожи… Из ран в задней части туловища ручьем струилась кровь. Когда раненое животное находилось под водой, кровь не фонтанировала, но стоило ему высунуть голову, чтобы схватить глоток воздуха, как поток крови возобновлялся с прежней силой».161
Даже когда добыча уже оказывалась на песке, охотников могли ждать сюрпризы: когда одну самку сумели загарпунить и притащить на берег, ее самец, тщетно пытавшийся всеми способами защитить ее и получивший множество ударов в ответ, бросился, несмотря на раны, за ней. Он стрелой вылетел на берег, но она была уже мертва. Когда охотники на следующий день пришли на побережье, чтобы разделать добычу, он все еще находился рядом с самкой. И на третий день, когда Стеллер занялся исследованием внутренностей животного, самец не покинул своего поста.162
Сначала промысел морских коров казался очень трудным. Матросы, измученные цингой, были обессилены, и раненым животным удавалось уплыть в океан. Но после первой успешной охоты экипаж Беринга с восторгом осознал, что эти «горы мяса» были поистине даром небес. Питательные свойства мяса этих животных стали своего рода спасательным кругом, а его вкус – одним из редких удовольствий. Несмотря на свой аскетизм, Стеллер замечает, что тело животного находится в слое жира толщиной в руку. Этот жир, писал Стеллер, «не маслянист, а жестковат, бел, как снег; если он полежит несколько дней на солнце, то становится приятно желтым, как лучшее голландское масло. Топленый, он превосходит вкусом лучший говяжий жир; …исключительно приятен запахом и весьма питателен, так что мы пили его чашками, не испытывая никакого отвращения». Что же касалось мяса, то оно гораздо краснее, чем мясо животных, которые водятся на земле. Конечно, его следовало дольше варить, но потом оно не отличалось от лучшей говядины.163 Как пишет Стеллер, одной морской коровы хватало, чтобы кормить команду из 33 человек на протяжении месяца.
Но записи Стеллера не ограничиваются гастрономией. Ученый продолжал работу со свойственным ему усердием и глубоким убеждением в важности собственных наблюдений, а также в том, что их результаты рано или поздно попадут в Академию, даже если он погибнет на этом острове. Часами напролет он всматривается в океан, наблюдает за морскими коровами и записывает все, что кажется ему достойным внимания. Ему даже удалось уговорить своих товарищей по несчастью помочь раздобыть одну особь для научных целей и вытащить на берег. И снова каждый жест тщательно протоколируется, каждый орган измеряется и взвешивается при помощи тех средств, которые нашлись на борту. 60 исписанных убористым почерком страниц его De Bestiis Marinis посвящены морской корове. Из этого описания мы узнаем, что ее язык достигал 30 см, диаметр ноздрей был 10,7 см, размер сердца – 56 см, пенис доставал до пупка и вид имел «устрашающий» и что, наконец, размеры желудка этого морского чудища составляли 1,8x1,5 м! Что же касалось черных сосков (7 см), находившихся в подмышках самки, то достаточно было сильно нажать на них, чтобы получить огромное количество молока, по сладости и жирности превосходившего молоко земных млекопитающих, но в остальном похожего на него.164 Нужны ли другие доказательства исключительной любви Стеллера к естествознанию?
Он измерял, препарировал на берегу – в полном одиночестве. Он ползал по трупу «своей» морской коровы. Голубые песцы нападали на него, кусали за ноги, чайки то и дело налетали стаями, набрасывались на вскрытые внутренности животного. Шел дождь, дул ветер, было холодно. Бумаги Стеллера разлетались. И он просит прощения у будущих поколений. Если не все получилось, как хотелось, при вскрытии, как пишет Стеллер, то причина тому – ужасная непогода, стоявшая в те дни, когда отловили животное, ведь работа шла под открытым небом. Прилив тоже внес свою лепту, не говоря уже о расхитителях – морских птицах, которые пикировали сверху на внутренности или вырывали куски прямо из рук натуралиста. Пока Стеллер изучал животное, они нападали на бумаги, на книги, опрокидывали чернила. Когда же он брался за бумаги, птицы набрасывались на тушу. Поэтому Стеллер просит читателя не судить его строго за недостаточно полное описание, не сомневаться в его усердии и стараниях и учитывать те обстоятельства, в которых он находился.165
Естественная история полностью оправдала Георга Вильгельма Стеллера. Благодаря ему, наука располагает уникальным описанием последних морских коров нашей планеты. Распространение человечества имело разные последствия на земле и на море: с начала XVI века на суше исчезло 500 видов животных, тогда как морская фауна, как считают исследователи, обеднела за тот же период всего на 15 видов.166 И среди них морская корова Стеллера. Если бы не страстная жажда познания, владевшая молодым ученым, выброшенным на остров, нам осталось бы лишь несколько загадочных скелетов огромного размера, о происхождении которых ученые строили бы догадки. Скелетов всего 20, и большая часть составлена из костей нескольких особей. Они составляют гордость тех музеев, где находятся[38]. Да и поиски этого добродушного животного начались только после того, как стали – известны свидетельства Стеллера и других уцелевших членов экипажа.
Натуралисту из экспедиции Беринга мы обязаны уникальными набросками, рисунками, описаниями повадок морских коров, которые словно воскрешают для нас картины жизни его тихоокеанских соседей в разное время года. Весной морские коровы совокупляются подобно людям. Они выбирают тихие вечера, когда море спокойно. Перед совокуплением они ласкают друг друга. Самка неспешно двигается по воде, самец постоянно держится рядом с ней. Описывая широкие круги, самка уворачивается от самца. Когда тот больше не может ждать, она, нехотя, несмотря на усталость, переворачивается на спину. В этот момент самец ложится на самку и оплодотворяет ее, причем животные обнимают друг друга нижними конечностями.167
Морская корова спасет выживших после кораблекрушения с острова Беринга. Летом 1742 года они заготовят впрок мясо гигантских млекопитающих и набьют солониной пять бочек. Это драгоценный запас, который позволит им отважиться на последнее испытание – путь на Камчатку. Для этого им нужно было преодолеть по океану, как они полагали, несколько сотен километров. Начиная с апреля, несмотря на смерть всех плотников, матросы, сменяя друг друга в импровизированном доке, строили из остатков «Святого Петра» более скромное судно. 14 м в длину при 12 м вдоль киля, 3 м в ширину и 1,5 м в высоту. Палуба совсем примитивная, пришлось ограничиться полусгнившими обломками корабля. К концу июля, когда потеплело и море наконец освободилось, работа над корпусом судна подошла к концу. К корме прикрепили небольшую спасательную шлюпку. Судно, собранное из остатков адмиральского корабля Витуса Беринга, унаследовало имя «Святой Петр». На борту разместили небольшие экспедиционные пушки, ядра, ни разу не пригодившиеся, бочки с мясом и питьевой водой, а также сухари, спасенные после кораблекрушения вместе с остатками муки. Каждый взял также некоторое количество личного имущества – в зависимости от ранга. Стеллер имел право на 60 килограммов – это половина того, что полагалось Вакселю, помощнику Беринга, который принял на себя командование группой. Все накопили сотни шкур каланов, которые надеялись продать за бешеные деньги, если им удастся спасти свои шкуры. Один только Георг Вильгельм предпочел взять уникальные образцы растений Аляски, чучел птиц, гербарии, бортовые журналы и свои рукописи. И украшение коллекции – особо важный груз: морскую корову в большом мешке, сшитом из кожи и наполненном травами. Когда объявили нормы багажа, Стеллер был сражен. Он кричал, умолял, просил других взять хотя бы немного из его обширного научного багажа, но тщетно. Ему пришлось оставить все на берегу. С собой Стеллер смог взять лишь рукописи, мешочек с семенами и челюсть морской коровы, которая на протяжении многих лет станет единственным доказательством существования этого животного[39].
13 августа 1742 года, через 10 месяцев борьбы за выживание на острове Беринга, уцелевшие члены экспедиции водрузили деревянный крест на могиле своего капитана. Они отслужили молебен на берегу, прося о защите, и поклялись, что, если Богу будет угодно сохранить им жизнь, возблагодарят его по прибытии на место, как подобает. Затем они, «исполненные волнения», торжественно отправились к судну, которое должно было доставить их на родину или туда, «куда угодно будет судьбе занести их», уточняет Стеллер.168 Якорь подняли в шесть часов утра на следующий день. Поскольку треть экипажа по-прежнему занята на вахте, на троих полагалось два места. Груженный мешками с пушниной, бочками с водой и солониной, снаряжением и веслами, хрупкий «Святой Петр» больше напоминает «Плот „Медузы“»[40], чем тот гордый корабль, которым он был когда-то. Сидя вповалку, прислонившись к бортам, пионеры Аляски наблюдали, как голубые песцы громили остатки их лагеря, растаскивали брошенные припасы и рвали тщательно законсервированную Стеллером морскую корову.
На борту поселился страх. Как только остров скрылся из глаз, открылись первые течи между плохо соединенными досками. Две взятые на борт помпы не справлялись. Стало очевидно: суденышко перегружено и может затонуть. В панике люди бросились к спасательной шлюпке, но в ней могло поместиться только восемь человек. Последовал приказ бросать все лишнее за борт: пушки, ядра, затем мешки с добычей – ценнейшие грузы отправились на дно Тихого океана. Несколько дюжин шкур порвали и разрезали на полосы, чтобы заткнуть щели. Извлечены все предметы, которыми можно вычерпывать воду. И так – работая насосами, вычерпывая воду, взмахивая веслами и моля о спасении, команда нового «Святого Петра» будет плыть две недели. 17 августа на горизонте появилась заснеженная вершина: вулканы Камчатки! Но только 27 августа, через 15 месяцев после отплытия и после суток плавания на веслах при полном штиле выжившие члены экспедиции достигли Петропавловска. Удивленные жители наблюдали за их прибытием. Тяжело больной Чириков выходил в море на «Святом Павле» на поиски пропавших, но давно отказался от дальнейших попыток отыскать Беринга. Когда экипаж «Святого Петра» ступил на землю, им сообщили, что их имущество, как пропавших без вести, распродано или перераспределено среди населения небольшой колонии. Последнее, что у них осталось – несколько уцелевших среди тряпья шкур каланов, тоже пришлось продать, чтобы выполнить данную на острове клятву: икона из церкви, поднявшейся над портом, получила серебряный оклад, оплаченный остатками имущества. Вот и все, что осталось от американских амбиций Беринга и его экипажа. На этом, как писал Стеллер, он распростился с офицерами и другими спутниками и отправился пешком в Большерецк – первый пункт на длинном пути к далекой России.
Можно было бы предположить, что после стольких лет страданий и испытаний Георг Вильгельм Стеллер поспешит вернуться к цивилизации, в просвещенную столицу. Ничуть ни бывало. У него нет ни копейки, его зарплата была аннулирована после объявления пропавшим без вести. Понадобится много месяцев, прежде чем новость о его чудесном «воскрешении» дойдет до Петербурга. В ожидании ответа Стеллер устроился учителем и продолжил изучать Камчатку. Он не спешил вернуться в стены Академии, потому что после возвращения узнал о воцарении императрицы Елизаветы I и о резких изменениях политики.
Анна Иоанновна окружила себя иностранцами, которые на протяжении десяти лет оставались всемогущими. Новая императрица хотела вернуть полномочия русским. В Академии наук, основанной Петром Великим 15 годами ранее, атмосфера недоверия к иностранцам и установка на ограничение их влияния посеяли хаос. Престижные ученые сообщества числят среди своих профессоров в основном иностранцев. Отечественная смена, успешно проклюнувшаяся повсюду, в том числе и во Второй Камчатской экспедиции, еще не заняла ключевые посты. Михаил Ломоносов, самый многообещающий из русских исследователей, которого позже назовут «русским Леонардо да Винчи» за удивительную эрудицию и универсальные интересы, – один из тех, кому этот «научный патриотизм» будет на руку. В 1742 году он делал лишь первые шаги в Академии. Через месяц после коронации новой императрицы постоянный секретарь Академии – сам могущественный Шумахер – посажен под домашний арест: как только в высших эшелонах появляется человек из русских, способный занять тот или иной пост, иностранец, особенно немец, должен освободить его. Обстановка подозрительности и интриганства мешала работе Академии, и до Стеллера дошли слухи об этом. Стеллер – гражданин Саксонии, и его не могло не беспокоить происходившее. Георг Вильгельм, каким бы странным это не казалось, был полон опасений – а выполнил ли он свою миссию? Сумел ли он собрать все необходимые сведения во время путешествия в Америку, оправдал ли ожидания? Он ищет что-нибудь особенное, что мог бы предъявить научному сообществу. Ожидая своего появления в европейских салонах, он надеется отыскать на еще очень мало исследованном полуострове нечто, способное создать ему имя.
Осев в Большерецке, Стеллер отсылает в Санкт-Петербург 15 сундуков с образцами – животные, гербарии, рапорты и рисунки. В сопроводительном списке рукописей числится 13 важнейших текстов, в том числе De Bestiis Marinis, «Описание острова Беринга», «Описание Камчатки» и «Путешествие в Америку». Этот ценнейший научный груз попадет в Санкт-Петербург только почти через три года. Стеллер не увидит своих трудов напечатанными. Три месяца он путешествовал по Камчатке, площадь которой более чем в два раза превосходит площадь Великобритании. Чаще всего он передвигался пешком по тропам, проложенным аборигенами, проваливаясь в глубокие и узкие ямы и рвы, по земле, где нельзя пройти километра, не вывихнув лодыжку.169 Он общался с камчадалами – ительменами и коряками, он присутствовал при сезонных праздниках, свадебных ритуалах и, как обычно, пробовал на себе все, что только можно было испробовать. У шамана он изучал состояние транса. Он присутствовал на празднестве камчадалов, селаге, для которого женщины готовят блюдо из смеси трав и ягод с рыбьим или тюленьим жиром, подолгу перемешивая все ингредиенты грязными руками. От одного только зрелища готовки этого блюда, как признавался Стеллер, любого бы затошнило. И, несмотря на свою готовность к экспериментам, он сумел заставить себя проглотить только крошечный кусочек этого вязкого месива, да и то в качестве лекарства от неизбывного любопытства.170
Стеллер как протестант, прошедший обучение у пиетистов, вступая в общение с местными народами, испытывал двоякие чувства. Ему хотелось, чтобы эти невинные души как можно скорее получили спасение и приобщились к цивилизации, приняв крещение, и он сожалел о том, что у церкви не было для этого достаточно возможностей. В одной из деревень он согласился стать крестным юного камчадала, принявшего имя Алексея Стеллера. В то же время он возмущен несправедливостями и эксплуатацией этих народов колонистами и русской администрацией. «Бог наделил эти народы большим умом и удивительной памятью, – замечал он, – и они больше, чем какой-либо другой народ в Сибири или даже в целой России готовы в короткие сроки стать добрыми христианами и российскими подданными». Они с благодарностью воспринимают извне все, что, по их мнению, является хорошим и разумным. Тщательно изучив, что им предлагается, они готовы даже посмеяться над собственными суевериями, – а это редчайшее качество, не встречавшееся у других народов Сибири. Тем не менее, как писал Стеллер, «кровопийцы» из Якутска обращаются с ними жестоко и безжалостно, попирая божеские законы. По мнению Стеллера, это противоречило божественной воле и воле Ее Величества.171 Вернувшись в Большерецк после года странствий по самым отдаленным районам полуострова, Стеллер тут же вступил в серьезнейший конфликт с местным начальством, обвинив его в плохом обращении с коренными жителями и в несоблюдении законов империи. Не раздумывая ни минуты, Стеллер, этот предшественник правозащитников, схватил перо и настрочил официальную жалобу в санкт-петербургский Сенат, в чьем подчинении находился, согласно иерархии, его враг. Тот, в свою очередь, написал жалобу на Стеллера – по всей форме. Он обвинил Стеллера в превышении полномочий, в самовольном освобождении арестованных и в организации заговора против властей.
Что могло бы войти в историю как забавный эпизод, в реальности ускорило конец натуралиста. Императрица Елизавета I уже успела объявить об официальном завершении Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции. Через две недели после получения вести о смерти Беринга, 27 сентября 1743 года, она подписала указ, положивший конец самой великой географической экспедиции всех времен. Она продлилась более десяти лет, поглотила огромные деньги, но позволила России изучить берега Арктики и достичь Америки. Она дала возможность также собрать бесценные сведения о Сибири, настолько обширные и многообразные, что до сих пор ими пользуются в России. Именно благодаря усилиям моряков и ученых экспедиции Российская Империя простерла свою власть до Тихого океана и даже дальше – в Северную Америку.
В январе 1744 года Георг Вильгельм Стеллер вызван в столицу специальным письмом – ему приказано немедленно отправляться в европейскую часть России. Он пересек Охотское море, добрался до Якутска, потом до Иркутска, где его принял губернатор. По дороге ученого настигла жалоба командира Камчатки, к которой прикладывался приказ об аресте. Губернатор Иркутска, видя абсурдность дела, после краткого разбирательства освободил его. Однако он был так занят празднованием Нового Года и Рождества, что не успел отправить бумагу о невиновности Стел-лера, так что приказ об аресте продолжил свой путь в Петербург. Тысячи километров Сибирского тракта превратились в трагикомическую гонку бумаг и самого ученого. Преодолев Урал и оказавшись в европейской части России, он нанес визит сановным промышленникам, в которых превратились отдельные представители семьи Строгановых. Внезапно он получил ошеломительное полицейское предписание вернуться в Сибирь, чтобы предстать перед судом. Офицер дал ему 24 часа на сборы. Стел-лер использует это время, чтобы навести порядок в своих коллекциях, которые он отдает Демидовым. В последнюю ночь ученый заканчивает свои путевые заметки и сочиняет инструкции для передачи в Академию, свои Pro Memoria, которые звучат как завещание. Потом он, подчиняясь приказу, снова преодолевает замерзшие зимние пространства и, через 1 000 км, на почтовой станции, его нагоняет посланник из Санкт-Петербурга с приказом о немедленном освобождении. Все эти перемещения взад и вперед по сибирскому морозу измучили Стеллера. Отпраздновав свое окончательное оправдание, он заболел, но не захотел останавливаться. Сани покинули Тобольск, административную столицу Сибири, увозя совершенно больного натуралиста. На почтовой станции ямщик даже не смог дотащить его до натопленного помещения, пока меняли лошадей. Когда они подъехали к Тюмени, Стеллер был уже не жилец. Двое призванных к нему врачей-немцев ничего не могли сделать. Стеллер умер 12 ноября 1746 года[41] на руках случайно оказавшегося рядом лютеранского пастора. Ему было 37 лет, он только что совершил одно из самых ярких в мире научных предприятий, которое не принесло ему при жизни ни славы, ни почестей. Его коллеги, историк Герхард Фридрих Миллер и географ Степан Крашенинников, узнают о его удивительных открытиях и постепенно донесут их до международной научной общественности. Могила Георга Вильгельма Стеллера, уроженца Виндсхайма, была вырыта на берегу реки Туры в Западной Сибири, в стороне от православного кладбища, а вскоре была смыта рекой.
8 декабря 1746 года в Санкт-Петербурге шло заседание Академии наук. Внезапно в зал ворвался пристав и вручил председателю депешу, сообщавшую, что адъюнкт Стеллер, возвращаясь из Сибири, скончался в Тюмени 12 ноября текущего года. Собрание удивлено и взволновано. Но потом все возвращаются к делам, забыв даже сообщить новость немецкой семье исследователя. Молодой гениальный ученый ушел даже без эпитафии.
У границ непознанного: загадочность и секретность
Политический климат, сложившийся в Санкт-Петербурге к концу Второй Камчатской экспедиции, был пропитан жаждой реванша по отношению к иностранцам, особенно к немцам, которые заправляли всем в предыдущие годы. Ксенофобия и подозрительность витали повсюду, как это случалось несколько раз в истории России, распространяясь и на тех иностранных ученых, которые положили много лет своей жизни на изучение «материка» Сибирь.
Иоганн Гмелин – молодой тридцатилетний академик, под началом которого находился Стеллер, в полной мере почувствовал на себе веяния новой эпохи.
Гмелин поступил на русскую службу, чтобы участвовать в экспедиции в качестве ботаника и химика. В этих областях ему не было равных. Но, как и его соотечественник, выдающийся академик Герхард Фридрих Миллер, Гмелин быстро оброс новыми интересами, погрузившись в историю, лингвистику, археологию и этнографию Азии.
Иоганн Гмелин выехал из Петербурга с первыми обозами и побывал в самых отдаленных частях Сибири. Как уже говорилось, пожар в Якутске уничтожил результаты целого года его трудов. После этого ученый побывал на границе с Китаем, открыл первые курганы, на протяжении тысячелетий хранившие следы кочевых цивилизаций, нашел древнейшие рисунки первобытных людей в пещерах Алтая, а также обнаружил удивительные каменные идолы народов Енисея. В 1739 году, после шести лет тяжелейших странствий, Гмелин захотел вернуться в Санкт-Петербург, но поданное им прошение было отклонено. Гмелина настоятельно просили продолжить изыскания. Более того, ему предписывалось готовиться к возможному переезду на Камчатку. Гмелин был неприятно поражен этим решением, ведь Герхард Миллер, с которым он случайно встретился в пути, сообщил, что ему позволили вернуться в Европу. «Не могу выразить, до какой степени эта новость удручила меня, особенно если принять во внимание все прошлые обстоятельства моей жизни»,172 – жалуется он в своем распухшем дневнике, где обычно не находилось места для изъявления чувств. Гмелин признается, что потерял сон. Возможно, в эти дни он потерял также и доверие к своим петербургским работодателям, свое расположение к ним. Только через три года он наконец получает разрешение отправиться в обратный путь, на запад. Гмелин изнурен пребыванием в Сибири и мечтает вернуться в Германию. Но наступил 1743 год. Ему хотелось уехать из России и, вернувшись в столицу, он уже через несколько месяцев обратился в Академию с составленной по всей форме просьбой об отпуске. Эта просьба была сочтена подозрительной. Как и все члены экспедиции, Иоганн Гмелин подписал бумагу о неразглашении сведений о сделанных им открытиях. Он привез из Сибири огромный гербарий и кипу рукописей, в которых излагались результаты десятилетних неустанных трудов, но не отчитался перед Академией и не опубликовал ни одной статьи. Уж не собирался ли он продать свои достижения на Западе?
Начался мучительный период неопределенности и интриг. Иван (Иоганн) Шумахер, серый кардинал Академии, возвращенный из опалы, уже хорошо понимал, как держать нос по ветру. Для начала он урезал жалованье Гмелина,173 которое вызывало завистливый ропот у его коллег по Академии, затем запретил натуралисту покидать Россию. И только в мае 1747 года, после длительных переговоров, Гмелин подписал новый контракт, согласно которому он получил годовой отпуск, по окончании которого он, в соответствии с контрактом, обязан провести в России еще четыре года, чтобы закончить обработку материалов, привезенных из Сибири. Секретарь Академии, желая обезопасить себя на случай неприятностей, заставил двух коллег Гмелина, немца Миллера и русского Ломоносова, других объектов собственной ненависти, письменно поручиться за его возвращение в Россию после отпуска и выполнение работ по контракту.
Иоганн Гмелин уехал в Германию, где поступил профессором медицины в университет Тюбингена – один из самых известных в Европе. Он так и не вернулся в Россию. Разумеется, это навлекло неприятности на его поручителей. Герхард Фридрих Миллер, товарищ Гмелина по сибирской эпопее, который, в отличие от своего соотечественника, всю жизнь верой и правдой служил новой родине, будет расплачиваться за соотечественника-«перебежчика», хоть такого понятия еще и не существовало, глубоким недоверием к себе.
До самой смерти, то есть на протяжении еще 40 лет, Мюллер, ставший Миллером, желая русифицировать свое имя, будет слышать упреки в лукавстве, в том, что у него слишком «немецкий» характер, и даже в русофобии. Особенно часто он терпел нападки со стороны Михаила Ломоносова, который немало шокировал немецкого ученого своим подчеркнутым презрением к нравам Академии и ее строгой иерархии. Так, когда Миллер изложил перед своими учеными коллегами теорию о происхождении русского народа, начальный период истории которого связал со скандинавами, Ломоносов, объединившись с двумя другими молодыми российскими коллегами, способствовал ее осуждению как учения, уничижительного для русских. «Следует в таком деле, – написано в отчете о заседании, – предпочесть мнение природных россиян мнению членов иностранных, и так как по указу Петра Великого велено дела решать по большинству голосов, то диссертация и запрещается».174
Бегство Гмелина произвело большое впечатление на научное сообщество, в том числе и европейское. Многие знаменитые коллеги пытались убедить его, выступив в роли посредников. Один из них Эйлер – математик из Базеля. Однако ответ Гмелина не оставляет сомнений в твердости его решения: «Я неизменно остаюсь при сознании моей ошибки <…> Чего не сделает любовь к родине? Чего не пересилят настояния любимой матери и сестер? Любовь к родине не имела у меня пределов. Я надеялся утишить ее в продолжение года, однако она у меня усиливалась более, когда я надеялся об утолении ее. Наконец, случившаяся потом опасная болезнь здешнего профессора ботаники, а вскоре за тем и смерть его открыли мне выгодное место».175 Гмелин пошел лишь на одну уступку: в 1750 году он передал Академии первые тома своего великого труда Flora Sibirica, где описана и систематизирована флора Евразии. Но годом позже он опубликовал в Гёттингене свое «Путешествие по Сибири», в котором впервые рассказал европейским читателям и властям о полном объеме исследований экспедиции Беринга, что, естественно, вызвало ярость российских властей. Стали ясны масштабы и возможности этой территории. В Санкт-Петербурге вокруг «позорного предательства» Гмелина поднялась настоящая буря. Академии приказано оценить урон, нанесенный этой «беззаконной» публикацией, а также объективную значимость сведений, которые Гмелин ввел в научный оборот. Очевидно, что соотечественнику Гмелина было опасно участвовать в этом малоприятном предприятии, и Миллер, которого пытались к нему приставить, ответил категорическим отказом: «А что сам хотел сказать о Сибири, – писал он, – то сдал в архив при конференции».176
Изучение сочинения Гмелина выявило множество фрагментов, которые сочли недоброжелательными или даже оскорбительными для русского народа. Ученый писал о его лени, грубости и склонности к пьянству. Тщательного описания открытий, сделанных во время потрясающей эпопеи, было недостаточно, чтобы искупить оскорбление, нанесенное двору. И до сих пор «Путешествие по Сибири» Гмелина не переведено на русский язык. Жестокий конфликт между профессором из Тюбингена и Россией прекратился лишь со смертью Гмелина. Ему было 46 лет. Вдова Гмелина продала российской императорской Академии наук за внушительную сумму все его документы, рисунки, эскизы, а также обширный гербарий.
История с бегством Иоганна Гмелина была бы всего лишь мелким эпизодом, если бы не выявила навязчивого страха властей. Они опасались, что иностранные державы-соперники завладеют «географическими тайнами», с таким трудом и такими муками добытыми Россией. На протяжении всей экспедиции принимались самые строгие меры для сохранения секретности. Все бумаги и, особенно, вся переписка участников экспедиции стекались в Тобольск, откуда раз в неделю корреспонденцию отправляли в Санкт-Петербург. Там ее внимательно изучали представители Сената. Любую бумагу, написанную на латыни или на каком-либо иностранном языке, немедленно переводили на русский. Столь же тщательно изучалась и личная переписка: не содержится ли в ней упоминания о каком-либо открытии? О каком-либо успехе? Особенно строгой цензуре подвергалось все, что касалось плаваний Беринга и других исследователей в Тихом океане. Существовало опасение, что любую утечку информации геополитические конкуренты России в том же регионе, в частности Великобритания, обратят против нее.
Академия также оказалась вовлечена в это помешательство на секретности, и ситуация только обострилась после «дела Гмелина». С 1746 года Сенат требовал, чтобы Академия предоставляла ему на рассмотрение все имеющиеся у нее документы, касавшиеся экспедиций на Дальний Восток. В марте 1747 года арсенал мер предосторожности пополнил специальный указ императрицы, запрещавший публикации об открытиях в Тихом океане. Проводились проверки, и одна из них показала, что Шумахер, секретарь Академии наук, зачитывал у себя дома фрагмент из рассказа Стеллера о пребывании на Аляске. Академик Миллер получил приказ собрать у своих коллег бумаги, ходившие по рукам. «По приказу кабинета Ее Императорского Величества для сведения общему собранию Академии наук», – так начиналось послание, разнесенное всем членам Академии по всему городу. «Ее Императорское Величество приказывает, что все рукописные или печатные карты или их копии, относящиеся к Камчатской экспедиции, без изъятия, вместе с отчетами Стеллера, недавно переданными Академии, должно немедленно представить в Кабинет Ее Величества к завтрашнему утру». Приказ нужно было исполнить до девяти утра следующего дня. И он был выполнен.
Документы, быстро и со всеми предосторожностями отправленные в подвалы и архивы Адмиралтейства, так и осели там надолго, некоторые – на пару веков. Однако по петербургским представительствам европейских стран бродят слухи. Какая-то информация, куцая и искаженная, попадает в западные газеты. Печатаются там и совсем фантастические истории. Одна немецкая газета рассказывала, что Стеллер после крушения «Святого Петра» в одиночку собственными руками полностью починил судно, чтобы спасти своих товарищей. Заслуги же участников Второй Камчатской экспедиции, как это ни прискорбно с точки зрения исторической справедливости, признавались крайне редко даже спустя годы. Витус Беринг – одна из жертв этой несправедливости. Его преждевременная смерть, отсутствие тех, кто мог защитить его имя, иностранное происхождение, сыгравшее против него в неудачный исторический момент, а также секретность сделанных им, стратегически важных для России, открытий, – все это привело к замалчиванию, чтобы не сказать к отрицанию, подвига командора. Всеобщая неосведомленность о героизме Беринга и его людей позволила, например, французу Жозефу-Николя Делилю, чьи теории вынудили Беринга потратить время на бессмысленные поиски в Тихом океане и погубившие затем часть экипажа, заявить в Парижской Академии наук, что это он руководил всей экспедицией. Когда слухи об этом самозванстве дошли до российской столицы, Герхард Миллер, возмущенный до глубины души такой наглостью, опубликовал в Берлине по-французски памфлет под названием «Письмо офицера российского флота»,177 где сообщил подлинные факты. Этот текст был напечатан анонимно, однако стиль выдает автора. Он указал Делилю на его место, а Берингу вернул полагающийся ему пьедестал.
Тлетворная атмосфера, насыщенная личными конфликтами, интригами и слухами, расползавшимися по Европе, – результат, прежде всего, обстановки секретности, которой петербургский двор стремился окружить все, что касалось экспедиции и результатов ее исследований. Всему европейскому научному сообществу и, конечно же, геополитическим стратегам держав-соперниц не терпелось узнать побольше об окутанной тайной части света. Все академии, канцелярии и адмиралтейства были уверены, что за десять лет исследований Россия совершила множество открытий и разгадала некоторые из оставшихся географических шарад. Доказано ли, что Азия отделена от Америки? Открыты ли новые пути в Китай? Где они пролегают? Обосновались ли русские в Америке? Сумела ли Россия застолбить права на обнаруженные богатства, подобно тому, как это сделали испанцы в своих новых колониях? И что удалось узнать о происхождении народов Сибири и аборигенов Америки?
Гробовое молчание, воцарившееся после возвращения ученых и других участников великой экспедиции в Санкт-Петербург, только подстегивало любопытство иностранных дипломатов. Если тайна охраняется так тщательно, думали они, значит, есть что скрывать! Даже Гмелин, находившийся в Германии, казалось, с удовольствием подключился к этой игре. Он подчеркивал, что, рассказывая о своем путешествии по Сибири, многим рискует. «Как осуществлялось это путешествие, – пишет он одному из своих корреспондентов, который, конечно же, спешит тут же распространить эту информацию, – очень удивит всех, когда об этом станет известно из первых источников. А это зависит исключительно от высочайшей воли императрицы Елизаветы, при правлении которой это великое предприятие было закончено». И добавляет в более доверительном тоне: «Я знаю лишь малую толику, и с моей стороны было бы непростительной неосторожностью опубликовать без высочайшего позволения то немногое, что мне известно о морском путешествии».178
Именно морское путешествие интригует больше всего. В ту эпоху география была царицей наук, поскольку объединяла страсть к научным открытиям, торговые и военные интересы. Великие открытия в одночасье раздвинули границы мира. Его новые пределы неизвестны, неизвестен и облик новых земель, однако белые пятна на картах начинают заполняться благодаря необычным или фантастическим рассказам путешественников. В журналах публикуют свидетельства очевидцев, сведения о новых открытиях. Человечество прилежно учится. Повсюду, даже в светских салонах, о географии говорят не меньше, если не больше, чем о литературе или экономике – другой актуальной теме. Географические споры вошли в моду, они слышны в клубах и в публичных библиотеках, которые открываются как раз в это время. Нередко бывало так, что читатели вмешивались в дискуссии и рассуждали о существовании еще не открытых земель, о широтах и долготах, которых еще не сумели достичь мореплаватели. В середине XVIII века северные моря открывали «хит-парад» наиболее интригующих тем. Ведь тогда почти ничего не было известно о том, что скрывается на самом севере. Арктический, или Ледовитый, океан, как его называли, с его 14 млн кв. км был огромным знаком вопроса. Неудачи голландских и английских мореплавателей еще сильнее разожгли интерес к океану. Великобритания начала освоение Тихого океана благодаря своему новому мощному флоту. Она была полна решимости проложить путь на Дальний Восток через макушку планеты. Соперничество с Россией неизбежно, тем более что его подстегивают ученые.
* * *
Живший в Берне Сэмюэль Энгель как истинный сын своей эпохи очень любил географию. Сейчас имя его практически неизвестно. Скромный отпрыск старинного, но бедного рода из города, который позже станет столицей Швейцарской Конфедерации. Однако Сэмюэль Энгель – один из тех анонимных пехотинцев, которые обеспечивают марш-бросок истории и судьба которых отражает дух времени. Он родился в 1702 году в одном из узеньких домов, образующих средневековые улочки Берна. Из-за слабого здоровья он был, как говорят германофоны, Sorgenkind, то есть «проблемным ребенком», которого не пускали играть со сверстниками. Протестантская семья Энгеля воспитывала детей в духе бескомпромиссной строгости (ригоризма). Сэмюэль пристрастился к чтению, прочел все книги, которые только ему попались, и, словно по воле провидения, в один прекрасный день стал городским библиотекарем. Гуляя меж книжных шкафов, он предавался размышлениям. Одной из интересовавших его тем была экономическая теория физиократов. Другой – тайны географии Крайнего Севера. Этот житель Берна был человеком Просвещения – их все больше становилось в Европе. Любопытство и жажда знаний господина библиотекаря не знали удержу, а должность позволяла ему заказывать все, что было опубликовано о далеких краях: рассказы о путешествиях и открытиях, описание экзотических обычаев, серьезных и безумных гипотез. Библиотека славного города Берна приобретала все доступные сочинения по географии. Перед тем как предложить книги и газеты читателям, Сэмюэль сам приникал к этим источникам знаний и поглощал одну за другой новинки от европейских издателей. Как пишет его биограф, с самого юного возраста он был просто одержим чтением179. Когда багаж знаний стал солидным, он начал писать. В 33 года, когда его опыт путешествий ограничивался поездками в соседнюю Германию и в Нидерланды, он опубликовал в достаточно известном журнале Mercure suisse статью о расположении Азии и Америки. С яростью, чуть ли не со злобой он набросился на статью одного профессора, утверждавшего, что между двумя континентами существует нечто вроде земляного моста, по которому животные и люди перешли из Азии в Америку, постепенно заселив ее. Получалось, что люди преодолели Тихий океан подобно тому, как евреи преодолели Красное море. Библиотекарь из Берна был категорически не согласен. Шел 1735 год, Вторая Камчатская экспедиция уже выехала из Петербурга, но эта полемика ясно указывает на то, что открытие Беринга, совершенное семью годами ранее во время первого путешествия, неизвестно было в Европе. Сэмюэль Энгель горячился в окружении книг. Засев за письменный стол, он решил доказать, что эти два континента разделены морским заливом, но люди смогли преодолеть его, поскольку он не особенно широк. С почти маниакальной скрупулезностью он высчитывал расстояния. Это была всего лишь небольшая заметка в Mercure suisse, но, как пишет в XX веке биограф Энгеля, с нее начался «гигантский труд», над которым он будет работать последующие 30 лет.180 Среди читателей Mercure suisse разгорелась бурная дискуссия. Споры продолжались, но Энгель не сдавался. Какая странная судьба у этого скромного дворянина из Берна! Став бальи (главой судебного округа), то есть «колониальным» префектом в Эшаллене, в соседнем кантоне Во, который тогда еще входил в немецкоязычный кантон Берн, Сэмюэль Энгель не бросил свои труды. Дни он употреблял на то, что сажал неподалеку от города клубни из Нового Света, называвшиеся картофель. Опытный участок Энгеля должен был помочь справиться с голодом, от которого страдали самые бедные крестьяне. А по вечерам, вернувшись в особняк, полагавшийся ему по рангу, зажигал свечи и погружался в документы, посвященные Арктике, разыскивая и изучая новую информацию. Он один из тех европейцев, кто с нетерпением ждал публикаций Миллера, Гмелина или Стел-лера. И из тех, кто, ознакомившись с первыми сообщениями, появившимися после возвращения ученых в Петербург в 1743 году, засомневался в их истинности. Энгелю казалось, что в них слишком много неопределенности, слишком много вопросов и противоречий, чтобы считать их правдивыми. В 1746 году вышел Атлас Санкт-Петербургской Академии, в котором уже нашли отражение некоторые сделанные Великой Северной экспедицией открытия. Этот труд не удовлетворил Сэмюэля. Отметив, что об одном отрезке арктического побережья сообщены очень скупые сведения, он писал: «Чем можно объяснить такое умолчание, если не государственными соображениями?». И предположил: «Видимо, многословность наказуема».181 Скепсис быстро превратился в подозрительность, которая с годами только росла. В 1755 году журнал Nouvelle Bibliothèque germanique опубликовал критический отзыв на российские карты, созданные по результатам экспедиции. Статья подписана загадочными инициалами «M.S.E.B. d'A», которые будут расшифрованы позднее как «Monsieur Samuel Engel Bailli d'Aarberg» (Господин Сэмюэль Энгель, бальи из Ааберга).182 Россия, уверен автор статьи, наверняка что-то скрывает.
Энгель не единственный европеец, кто так думал, но он один из первых, кто осмелился заявить об этом во всеуслышание. Когда вернувшиеся из Сибири немецкие ученые объясняли, что суровый арктический климат и льды не позволили русским путешественникам, несмотря на многие зимовки, пройти вдоль берега, Энгель удивляется: «Можно ли поверить в то, что они так и не сумели исследовать то побережье? Лично я сильно сомневаюсь, что оно осталось непознанным <…> Судя по всему, русский офицер хотел скрыть все то, что следовало скрыть, и не мог поступить иначе, поскольку в Московии тех, кто выдает государственные тайны, а географические открытия, несомненно, к ним относятся, ждет жестокое наказание».183 Когда начинает действовать цензура, любая информация воспринимается с подозрением, и любая ее интерпретация становится возможной. Это цена за контроль над информацией, которую Россия не единожды платила на протяжении своей истории. Именно поэтому Миллер и другие отважные академики, посвятившие десять лет своей жизни удивительному научному предприятию, все время наталкивались на недоверие коллег. Сэмюэль Энгель, надо признать, наиболее дерзкий из них: ведь если он и наматывал километры, то лишь вдоль книжных шкафов. Он месяцами, если не годами, собирал и изучал карты, сравнивая широты и долготы, но путешествовал по ним лишь в кабинете с компасом в руках. И вот такой человек решил оспорить сведения, сообщенные Герхардом Миллером. Согласно новым данным, Россия была больше в длину, чем предполагалось: она простиралась не до 185° в. д., как считалось раньше, а до 205°. Энгель, изучив тексты Миллера, нашел множество несоответствий. «Пусть мне объяснят, – возмущался он, – эту огромную разницу! Пусть попробуют, если это возможно, свести концы с концами!» Он не сомневался, что Россия намеренно преувеличивала размер своей территории, чтобы отвадить стратегических соперников, что это умышленная ошибка, «которая, как и все остальное, кажется мне следствием русской политики».184 Впоследствии будет доказано, что восточная оконечность России находится на долготе 191°, где-то между цифрами Миллера и Энгеля.
Но самой большой заботой Сэмюэля Энгеля, как и большинства участников крупнейшего географического диспута того времени, оставался вечный вопрос о северо-восточном проходе. Энгель убежден, что русские моряки, Герхард Миллер и даже «диссидент» Гмелин, короче, «все, кто находится на содержании петербургского двора»,185 врали, когда утверждали, что этот путь неприемлем. Он подозревает, что трудности навигации в арктических водах специально преувеличивали, чтобы отпугнуть всех конкурентов, в частности, англичан, и не дать им снова отважиться на путешествие по ледяным водам Ледовитого океана. Англичане же действительно всполошились после получении новостей из Петербурга. Полагая, что русские обошли их, как двумя веками ранее это сделали испанцы, они предприняли несколько попыток достичь востока через север и взять новый путь под свой контроль. В 1737, 1741 и 1746 годах корабли, зафрахтованные Адмиралтейством и несколькими крупными торговцами Компании Гудзонова залива, отправились на поиск северо-западного пути, который должен был огибать современную Канаду. Тщетно. Как и в русской Арктике, путь преграждали льды. Британский парламент обещал награду в 20 000 фунтов стерлингов автору плана, который позволил бы Англии достичь ее официальной стратегической цели.
Назначенное вознаграждение воодушевило Сэмюэля Энгеля, занятого по-прежнему не только своими прямыми обязанностями, но и, для души, географическими изысканиями. Вооружившись компасом, он погрузился в расчеты и пришел к выводу, что арктический путь абсолютно пригоден для навигации. По его мнению, пролив, отделяющий Азию от Америки, судоходен и, следовательно, пройти его может любой, у кого хватит решимости отправиться туда, если, конечно, он хорошо подготовится к путешествию. Более того, он разработал идеальный маршрут и высчитал длительность пути. Энгель полагал, что экипажу следовало перезимовать на Нордкапе, чтобы отплыть оттуда в самом начале лета. Далее, по его плану, нужно идти прямо, пройти между Шпицбергеном и Новой Землей, а затем, достигнув 80° широты, взять курс на оконечность Азии (современный мыс Дежнёва). Его убежденность основана на одном факте и одном предположении. Факт: расстояние будет короче, если держаться высоких широт, поскольку этому способствует кривизна Земли. Предположение: лучше держаться как можно севернее, дальше от побережья Азии. Энгель считал, что льды образуются из пресной воды рек, впадающих в океан. Поэтому-то, рассудил он, вдали от берегов море от них свободно. Если исходить из этих соображений, утверждал Энгель, и отплыть в самом начале июня, то «согласно всем вычислениям, уже в августе, если не в июле, можно войти в Анианский пролив [ныне Берингов], и, коли не захочется рискнуть и перезимовать на западном берегу Америки, вероятно, успеть вернуться в тот же год в Европу».186
Эта теория, тем более дерзкая, что создал ее человек, чья жизнь проходила в самом центре кантона Во, в 20 км от Лозанны, нисколько не заинтересовала немецких ученых и географов. Зато во Франции она постепенно получила признание, и в конце концов Дидро и д'Аламбер заказали Сэмюэлю Энгелю статьи для Энциклопедии – «Северная Азия» и «Северный путь».187 Но самый большой интерес она вызвала в Англии. Сэмюэль Энгель написал сочинение, в котором развил свои выводы, и послал его в лондонское Королевское общество, самую авторитетную британскую научную инстанцию. Проект передали для изучения в Индийскую компанию и Адмиралтейство. Лорд Ансон и лорд Галифакс пришли в восторг. Их письмо, отправленное чиновнику Энгелю, гласило, что Великобритания намерена снарядить два корабля и послать их в сторону полюса, чтобы проверить его гипотезы. Само собой, что предприятие должно оставаться совершенно секретным. Иначе другие могли попытаться обойти Англию.
* * *
Другие? Кто же, если не Россия? По удивительному совпадению, которые характерны для истории науки, очень похожий проект примерно в это же время создается в Санкт-Петербурге. И не абы кем! Его автор – гений из нового поколения членов Академии, один из первых русских, сделавших там карьеру, Михаил Ломоносов. Этот человек, имевший универсальный круг интересов и множество талантов, тоже происходил из скромной (как и Энгель) крестьянской поморской семьи с Северной Двины. И его также не оставила равнодушным главная загадка географии – северный путь. Один из создателей первого российского университета, автор многочисленных открытий в физике, увлеченный историк, литератор и лингвист, поэт и философ, отец русского Просвещения, Михаил Ломоносов, конечно же, держал в поле зрения полярные просторы. В 1758 году, когда ему было уже к пятидесяти, его назначили руководителем Географического департамента императорской Академии. Михаил Васильевич руководил работами по картографии и опубликовал первую карту Арктики. Его исследования в этой области опирались на обширные смежные знания: за несколько лет Ломоносов написал и опубликовал труд «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях», в котором впервые ставится вопрос о природе айсбергов. Он изучал северное сияние, вывел из наблюдений над поведением льдов теории о том, что, возможно, вблизи Евразии существуют земли[42], что некоторые объекты в Гренландии перенесены сюда мощными трансарктическими морскими течениями[43]. Ломоносов даже предположил наличие горной цепи под арктическими водами, которая в 1948 году, после ее обнаружения, будет названа «Хребет Ломоносова».
У Михаила Ломоносова в Санкт-Петербурге были такие же предположения, как и у Сэмюэля Энгеля в его особняке в Эшаллене. Воды океана, соленые и глубокие, не замерзают, как пресная вода. Или, по крайней мере, не замерзают в той же степени. Следовательно, наличие толстого слоя пакового льда вдоль арктического побережья русского Севера – результат того, что там находятся устья больших рек. Вдали от берегов, в открытых водах, море свободно от льда и судоходно – хотя бы летом. Неверные предположения Ломоносова и Энгеля одновременно привели исследователей к выводу: Северо-восточный путь существует, и нужно попытаться им воспользоваться. Михаил Ломоносов, беседовавший с Миллером, Гмелиным и другими членами экспедиции после их возвращения с севера, имевший доступ к их трудам, поскольку те находились в Академии, конечно же, не относился, в отличие от своего коллеги из Берна, к публикациям ученых с предубеждением. Он не считал ложью пессимистические выводы мореходов, изучавших побережье. Ему было известно, как они рисковали. Однако Ломоносов, как и Энгель, о существовании которого, он, впрочем, не подозревал, – хотел верить, вопреки накопленному уже горькому опыту, что северный путь существует. Так что можно сказать, что их общая гипотеза покоилась не столько на научных фактах, сколько на вере. Ломоносов полагал, что предыдущие неудачи проистекали «от неясного понятия предприемлемого дела, что не имели не токмо наши, но и агличане и голландцы». Он добавляет, что подготовка была «беспорядочна». Причину неудач Ломоносов видел еще и в том, что экспедиции проходили без опоры на «многолюдные компании, без которых всякие предприятия слабы».188
Исследователи единодушны: нужно опять попытать счастья. И каждый публикует обоснование нового путешествия. «Краткое описание разных путешествий по северным морям» Михаила Ломоносова опубликовано в марте 1764 года в Санкт-Петербурге. Несколькими месяцами позже, скорее всего, осенью 1765 года, в Лозанне вышли «Записки и географические и критические наблюдения о северных странах Азии и Америки» Сэмюэля Энгеля, к которым он присовокупил «Эссе о северном пути в Индию». В этих сочинениях нет ничего, что позволило бы предположить, что авторы знакомы друг с другом или с трудами друг друга. Для каждого опубликованная работа – итог многолетних исследований. Они шли разными путями, но сходство выводов настолько разительно, что не может не ошеломлять. Может ли так быть, что чиновника из Эшаллене вдохновили рассуждения великого русского ученого? В этом случае непонятно, как идеи Ломоносова перекочевали из столицы России в кантон Во и, особенно, почему Энгель не воспользовался аргументами неожиданно появившегося эрудированного союзника. Или же общность взглядов – поразительное внезапное проявление интеллектуальных амбиций самой эпохи? Ломоносов, как и Энгель, советует отплывать в самом начале весны после зимовки на северных границах Скандинавии. Энгель, как и Ломоносов, рекомендует снарядить три корабля.
И требования, которых необходимо придерживаться, совпадают во многих деталях: дать капитану полную власть над экипажем, проследить за тем, чтобы на борту оказалось достаточно сосновой настойки, чтобы предупредить цингу, не забыть оружие на случай, если придется столкнуться с агрессией местного населения, взять несколько хищных птиц, которые могут показать, в каком направлении находится земля.189 Ломоносов, как и подобает академику, добавляет еще некоторые сведения о течениях, приливах и составе вод, на которые следовало бы обратить внимание. Будучи прагматиком, он осознавал все риски плавания и возможность самого ужасного сценария, в случае которого умоляет не забыть об интересах науки: «Ежели которому судну приключится крайнее несчастие от шторма или от другой какой причины (от чего, Боже сохрани), тогда, видя неизбежную погибель, бросать в море журналы, закупорив в бочках, дабы хотя, может быть, некогда по случаю оные сыскать кому приключилось». И далее с еще большей предусмотрительностью: «Бочки на то иметь готовые с железными обручами, законопаченные и засмоленные».190
В «Кратком описании» Ломоносов демонстрирует свой талант убеждать. Ему удается в полной мере использовать геополитические аргументы и играть на струнах патриотизма. «Северный океан, – пишет он, обращаясь к великому князю Павлу Петровичу, – есть пространное поле, где под Вашего Императорского Высочества правлением усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку».191 Этот знаменитый вывод из его работы будет, можно сказать, высечен на фронтоне Арктики. К нему станут обращаться последующие режимы – от екатерининского до современных: «Таким образом, путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».192 Это воззвание не осталось без ответа: через несколько недель после появления сочинения Ломоносова в глубокой тайне организуются две морские экспедиции. Они должны проверить географические гипотезы академика. Страх утечек, которые могли бы встревожить конкурентов, настолько велик, что в официальных документах морская экспедиция называется поручением.193 Экспедиция Василия Чичагова должна взять курс на Шпицберген и плыть, следуя точно разработанному маршруту. Другая, под началом Петра Креницына, должна ждать Чичагова в Тихом океане. Через девять лет Королевский флот тоже снарядил экспедицию, исходя из теории чиновника и библиотекаря Энгеля. Капитан Джон Фиппс, которому было вверено два корабля, совершил плавание – разведку на север.
Ни Чичагов, ни Фиппс не смогли открыть северного пути. Им помешали льды. Русские и английские корабли вынуждены были повернуть назад, достигнув 80° северной широты, то есть именно той точки, где, по мнению Ломоносова и Энгеля, начинались воды, свободные от льдов. Факты оказали сопротивление теории, лед взял верх над амбициями держав-соперниц. Арктика не покорилась, и полем столкновения России и Англии стал Тихий океан.
Третья часть
Притяжение Тихого океана
Русская Америка
На крайней восточной границе России, в портах Камчатки и Охотского моря, возвращение потерпевших кораблекрушение участников экспедиции Беринга не прошло незамеченным. Если Стеллер привез естественнонаучные результаты – заметки, эскизы и образцы, то его товарищи по несчастью привезли всю пушнину, которую им удалось сохранить во всех злоключениях. С трудом придя в себя, они описывали остров не как кладбище своих товарищей, а как эльдорадо, к которому просто необходимо организовать новые промысловые экспедиции. Если в Сибири количество промысловых животных уменьшается, охота тяжела, а цены растут, то здесь им грезится перспектива собрать сорок[44] первоклассной пушнины. Рассказы о голубых песцах, которых надо отгонять палкой из-за многочисленности, морских котиках и невероятных морских коровах, которые пасутся у берегов, оставляют казаков и местных промышленников в немом удивлении. Помощник Беринга Чириков, с большим трудом восстановившийся после лишений, сам взялся за перо, чтобы написать в Адмиралтейство в Санкт-Петербург и предложить Сибирскому приказу – центральному органу управления Сибирью, как можно скорее направить к островам у берегов Камчатки охотников, в том числе местных промысловиков и камчадалов, «кои промышлять бобров обыкновенны».1 Сам он уже не предполагал участвовать в этой новой экспедиции. Многочисленные искатели приключений, обосновавшиеся на Камчатке, быстро поняли, что судьба им внезапно подкинула подарок. На следующее лето после возвращения экипажа Беринга, в августе 1743 года, сержант Емельян Басов снарядил на остров, где капитан-командор нашел свое последнее пристанище, небольшой, скоро построенный корабль (шитик). Петропавловский порт располагал только одной верфью, если можно так ее назвать, с очень ограниченными возможностями. На небольшой дощатой лодке, наспех скрепленной веревками, канатами и китовым усом, имевшей одну мачту с узким парусом, использовавшимся и как крыша, отправились 12 человек, в том числе два моряка из экспедиции Беринга, с задачей показывать дорогу. И такая экспедиция вышла в северную часть Тихого океана. Когда через год она вернулась, перезимовав на пустынном острове, лодка была нагружена 1 200 шкурами морских выдр (каланов) и 4 000 шкурок голубых песцов. На причале, куда пришвартовалась посудина, шкурка стоила от 30 до 40 рублей, но на китайской границе за нее можно было выручить втрое больше, – общая стоимость груза превышала 80 тысяч рублей. Годовой доход охотника был примерно сто рублей, поэтому не сложно представить реакцию и эмоции тех, кто видел возвращение с этого чудесного промысла. Тотчас началось нашествие на Командорские острова, походы за сокровищем, лежавшим в далеких просторах океана к северо-востоку, по направлению к Америке. Похоже на «пушную лихорадку»? Действительно, реальные доходы превышали прибыли золотоискателей на аляскинском Клондайке полутора веками позже во время «золотой лихорадки». Рыночная цена «золотого руна» морских животных, разложенного на палубе, ничуть не меньше, чем золота! Возбуждение охватило всех, кто мог найти хоть что-то, способное плавать. «Искусство сего морехода состоит в том, что он знает компас, затвердил курсы, коими он должен идти от одного берега до другого, и по привычке помнит виды многих мест»,2 – заметили два русских морских офицера, с ужасом и изумлением описывая армаду самодельных челноков, отправившихся в бескрайние просторы без малейших навыков океанского опыта и знаний навигационной техники. Даже «Святой Петр» – гукор, на котором спаслись с неведомого острова Стеллер, Шпанберг и их товарищи, был кое-как отремонтирован и снова поставлен в строй, чтобы повторить опасный переход в обратном направлении! Действительно, большинство этих случайных моряков составляли промышленники, привычные к сибирской тайге, охотники, всегда алчущие богатых зверем краев, хотя бы и находящихся на краю света. Купцы торопливо нанимали иногда русских, иногда – коренных сибирских охотников. Впрочем, кто мог тогда отличить одних от других? Многочисленные русские также были рождены матерями-аборигенками и спокойно чувствовали себя в обществе и тех, и других. Так как крещеные камчадалы носили русские имена, их невозможно выявить в официальных списках или судовых ролях3. Новая волна пушного промысла состояла из предприимчивых метисов, типичных для Сибири той эпохи, культурно и биологически скорее аборигенов, чем русских.
Конечно, главным объектом вожделения этих искателей удачи были каланы. Как соболь был двигателем завоевания сибирского континента, так калан способствовал завоеванию северной части Тихого океана – острова Медного (второго по величине в Командорском архипелаге), Алеутских островов, островов Прибылова в Беринговом море и других архипелагов у берегов Аляски и Северной Америки. Но на этот раз в игре участвовали и купцы. Один из первых и самых отважных торговцев – уроженец Иркутска Никифор Трапезников. Он нанял вернувшегося из кампании на Командорские острова сержанта Басова и уже в конце первого сезона достиг золотого дна: 7 110 шкур каланов, песцов и морских котиков. Колоссальная удача, которая позволила бы участникам этого набега уйти на покой до конца своих дней, если бы они только захотели. Но горячка охватила весь этот небольшой мир. Авантюристы также многочисленны, как и плохо оснащены, и их мечты и иллюзии требуют влезать в долги, чтобы не упустить счастья, на которое они надеются на другой стороне океана. «Случалось, – писал специалист по этой эпохе историк В.Н. Берх, – что по окончании счастливого путешествия доставалось каждому промышленнику от полупая его мехов на две и на три тысячи рублей; но ежели вывоз был не так удачен, то несчастные странники сии оставались в вечном долгу у хозяев своих».4 Когда море штормовало, они возвращались без копейки, отягощенные долгами на многие годы, обессиленные цингой, с трудом вставая на ноги. И многих никто никогда больше не видел. У судеб промышленников только две ставки – все или ничего.
Речь идет не только об организации охотничьих ватаг, их пропитании, жизни в дальних и незнакомых районах, как в течение десятилетий было в сибирской тайге. Нет, здесь надо также бороться с грозным океаном, постоянно настигающей цингой и суровыми зимовками на островах, иногда населенных более многочисленными и лучше организованными местными народами. Риски огромны. Купцы быстро решили их уменьшить, создав множество компаний, в которые вкладывались сообща. Метод имел успех: через пять лет после смерти Беринга на Камчатке уже активно работали 15 артелей; спустя 20 лет уже 44 ватаги действовали по всей северной части Тихого океана. Их деятельность относительно проста: вскладчину строится корабль, его вооружают и оснащают на один или несколько сезонов автономного плавания. Экипаж формируется из людей, зарплата которым выплачена вперед или обещана натурой в форме участия в прибыли. Некоторые специалисты, необходимые в плавании или на зимовке (плотники, кузнецы и др.), считаются вторичными инвесторами, и их вклад не может превышать 10 %. По возвращении шкуры делят в соответствии со вкладом каждого.
* * *
Заметный успех промысла не оставляет государство равнодушным. В растущей торговле с Китаем пушнина остается единственным неизменным русским продуктом. Против шелка, изделий из хлопка, фарфора, пряностей или, что еще лучше, чая, который русское общество очень любит, русские не могут предложить ничего, кроме «мягкой рухляди», которая произвела такой же фурор в Срединной империи, как незадолго до этого – в Европе. Государству остро необходимо пополнение казны: хороший ли, плохой ли год, но пушнина – треть ее поступлений. Высшие слои общества также ищут возможность поживиться плодами этого добытого в океане нового источника богатства. Императрица Елизавета обложила всех охотников за морской пушниной специальным налогом, который надо было платить натурой, отчисляя только самые лучшие шкурки. Промежуточное посредничество и экспорт в Китай также облагались налогом. Чтобы укрепить этот механизм, двор приказывал русским морякам включать открытые земли и острова в состав империи, облагая их обитателей традиционным ясаком. И, как никогда ранее не бывало, правительство предусмотрительно обязало каждый корабль, покидающий порт, брать на борт казака для контроля собранного ясака и наблюдения за ним в плавании.
Промысел столь жесток и интенсивен, что количество промысловых животных быстро падает. С каждым годом корабли становятся все больше и многочисленнее. Экипажи насчитывали теперь по несколько десятков охотников, которые методично «опромышливали» побережья островов, в то время как на морском просторе их коллеги били со своих лодок безобидных каланов, которые не знали, куда убегать от этого незнакомого хищника. Рассказы об этом периоде говорят о небывалом объеме бойни: так, промышленник Андрей Толстых объявил о добыче на одном из Алеутских островов 5 360 морских выдр. Когда тот же Толстых в 1756 году, через 14 лет после Стеллера, наблюдавшего тысячи каланов, остановился на острове Беринга, то не увидел ни одного. Он радовался наличию морских коров, которые позволили его экспедиции, как и людям Беринга, перезимовать. Еще через 12 лет, в 1768 году, на этих берегах убили последнюю морскую корову. Она пополнила собой число вымерших видов,5 которых человек не видел уже почти 300 лет.
Сибирским промысловикам приходилось уходить за добычей все дальше и дальше на восток. Скорость и направления продвижения русских в Тихий океан совпадали с направлениями отступания морских выдр. Они спустились вдоль Курильских островов до северных берегов Японии, поднялись к Берингову проливу до ледовитых морей Арктики, но самым многообещающим оставалось направление на северо-восток к Алеутским островам и архипелагам, окаймляющим Аляску, первые карты которых доставил Чириков и офицеры Беринга. Каждое из этих плаваний, для которых русские отныне использовали заимствованный из французского термин «вояж», оставалось лотереей между жизнью и смертью. Портовые журналы показывают, что от четверти до трети кораблей исчезали в море, становясь жертвами частых и свирепых бурь северной части Тихого океана. Технических качеств флота и умения судоводителей часто недоставало промышленникам – «морякам» пресных вод, что делало плавания особенно опасными.
Промысел морских животных не имел ничего общего с устойчивыми традициями выслеживания и преследования добычи в тайге. И русские быстро заметили, что в этой новой игре недосягаемые мастера – алеуты и эскимосы Аляски. Привычные с детства к гребле в открытом море, к поиску добычи, к искусным маневрам целыми флотилиями каяков, к преследованию животных и виртуозному, не портящему шкуры бросанию гарпунов, алеуты быстро стали незаменимы при организации морского промысла. Приобретенный в Сибири русский опыт потерял смысл. Надо было менять тактику, прекращать охоту привычными методами, напрасно преодолевая сложные новые условия и часто теряя добытых с трудом животных. Для получения прибыли необходимо было использовать способности более эффективных местных охотников. Произошла маленькая безымянная революция: русские сибирские охотники стали хозяевами и организаторами промысла в Америке. В противоположность обширным сибирским пространствам с редким и рассеянным населением, Алеутские острова усыпаны береговыми поселками, которые в первое время даже радушно встречали вновь прибывших. Впрочем, русские не воспринимались на этих песчаных берегах как первые иностранцы: жители острова Атту рассказывали русскому капитану, что до него приходили и бросали якорь путешественники «на маленьких одномачтовых кораблях, одетые в длинные красочные одежды из шелка и хлопка, с наполовину выбритыми головами, где часть волос спускалась на затылок косами или прядями».6 Прежде европейцев китайцы или японцы достоверно «открыли» Америку.
Но как убедить индейцев сотрудничать? Установленные императорской администрацией правила в случае встречи с аборигенами всегда строги: нападение и использование силы против тех, кого корона рассматривает как новых подданных и будущих налогоплательщиков, строго запрещены. Но Санкт-Петербург гораздо дальше, чем обычно, его представители редки и находятся в Иркутске, Якутске, пусть даже в Охотске – но в сотнях и тысячах километрах от районов промысла. Ситуация изменилась – это больше не острог и его небольшое общество, где каждый видит все преступления конкурентов, это враждебные просторы, где люди рискуют своей шкурой, плавая по несколько лет без заходов в порты, без женщин. Они сами решают, как вернуться нагруженными нежными шкурами каланов или ушастых тюленей, пусть принуждая аборигенов к сотрудничеству, даже если они строптивы или конкуренты.
В 1763 году произошла беспрецедентная по своим трагечеким последствиям стычка между казаками и аборигенами. Три корабля – «Святой Захарий и Елизавета» купцов Кульковых, «Святой Николай» и «Святая Троица» купца Трапезникова остановились против островов Уналашка и Умнак (Лисьи острова). Русские, по своему обыкновению, начали брать заложников (аманатов), чтобы гарантировать безопасность 175 человек экипажей, которые готовились к высадке на землю. По обычаю алеутов, те добровольно уступили – им это казалось формальностью, – и отдали в заложники сыновей вождей (тойонов). В то же время, опасаясь новых изъятий их родовой охотничьей территории, они показали пришедшим, в подтверждение уплаты, чек на ясак от русского капитана, который тот взял в прошлом плавании. Ситуация быстро ухудшилась. Русские моряки пришли в ярость и накинулись на собеседников, причем многих из них убили.
Имевшиеся на борту «Святой Троицы» правила, как и все императорские запреты, говорили без обиняков: «Никаких обид, утеснений и озлоблений [туземцам] не чинить… съестных и харчевых припасов или чего самовольно грабежом и разбоем не брать и не отнимать; ссор и драк от себя не чинить и тем в сумнение тамошних народов не производить под наижесточайшим штрафом и телесным наказанием».7 Но отчет, составленный несколько лет спустя священником Иоанном Вениаминовым, звучит как обвинительный акт его соотечественникам: больше, чем убийства и насилие промышленников над их сыновьями и женами, индейцев возмутило публичное наказание одного из сыновей тойона. Оно вызвало мятеж: «Таковое телесное наказание, сделанное сыну Тоэна, каковому в их быту подвергались одни только Калги (рабы) и безчестные люди и которое как никогда ими не слыханное и не виданное они почли за великое бесчестие и ужаснее самой смерти, оскорбило Алеутов до чрезвычайности»,8 – резюмирует отец Иоанн. Алеуты подождали, пока русские разойдутся по местам охоты, одновременно поднялись и начали убивать гостей по всему архипелагу. С легких лодок, байдарок, они подожгли два корабля и принудили нескольких выживших укрыться в лагере на суше, где те постепенно умирали от голода и цинги. Третий корабль, на котором часть русских попыталась уйти в море, также загорелся и взорвался, когда огонь достиг порохового погреба. Из 175 казаков и моряков только 11 человек (в том числе десять нанятых камчадалов) в конце концов вернулись к русским аванпостам в архипелаге после зимовки и блужданий на байдарках.
Когда известие о восстании и его последствиях достигло Сибири, то вызвало там шок. Русские не привыкли к сопротивлению. Никогда не было ничего подобного этому мятежу, даже когда аборигены падали как мухи во время взимания ясака завоевателями, как это было, например, с камчадалами и ительменами во время форсированного марша экспедиции Беринга по Камчатке. В Иркутске – административном центре Сибири, драма имела и экономические последствия: Никифор Трапезников, собственник двух уничтоженных кораблей, крупный торговец пушниной и, без сомнения, один из самых мощных коммерсантов на Тихом океане, разорился. В свою очередь, банкротства рикошетом поразили многих его должников, и бывший знатный человек закончил свои дни на улицах Иркутска, нищенствуя перед театром, построенным им же во времена своего блеска. Описанный эпизод стал для сибирских торговцев пушниной символом жестокого прозрения. После достижения Тихого океана и покорения моря характер русского завоевания изменился. Только мотив его сохранился прежним: безумный поиск пушнины, которая сегодня, как и вчера, влекла завоевателей на восток. Но в остальном все изменилось.
* * *
Океан поначалу стал преградой для российских амбиций: всего за 60 лет русские промышленники прошли от горных цепей Урала к берегам Камчатки. Но понадобилось еще сто лет, от похода казака Дежнёва до плаваний Беринга и Чирикова, для пересечения океана и начала освоения нового пространства. Потребовалось время, способности и множество жертв, чтобы научиться противостоять океану. Восстание на Уналашке блестяще продемонстрировало, что развитие навигационной техники и преимущество в вооружении ничего не решают. Чтобы продолжать движение за моря, русским необходимо изменить весь образ жизни.
Гибель трех кораблей и разорение богатого купца Трапезникова показало, что компании еще очень уязвимы к возможным ударам судьбы – кораблекрушениям, мятежам или неудачным промысловым сезонам. Для снаряжения своих кораблей купцы вынуждены омертвлять свой капитал на несколько лет, за которые корабль, если Богу будет угодно, вернется из экспедиции с успехом, пушнина будет обработана и приготовлена к транспортировке на крупные ярмарки. Особенно на главную из них – в Кяхту, пограничный город, где кипит торговля с Китаем. И только потом можно будет снова вложить деньги в новую промысловую морскую кампанию. Нужно быть в состоянии организовать экспедицию, вложить в нее деньги на долгое время, уменьшить неизбежные риски. Тогда еще не существовало ни помощи терпящим бедствие на море, ни механизма достаточного кредитования, чтобы поддержать рождающуюся сибирскую промышленность.
Ситуация осложнялась тем, что русские капитаны невольно способствовали появлению новых конкурентов. Возбуждение, вызванное пушным эльдорадо, привело к пересечению межконтинентальных интересов и концентрации аппетитов. Англичане, возможно, благодаря своим шпионам и дипломатам, обосновавшимся в Санкт-Петербурге, узнали о секретных экспедициях, спешно отправленных в Арктику по инициативе академика Ломоносова. Информация для Лондона оказалась настолько заманчива, что в столицу Российской империи направили специального офицера, чтобы узнать больше о маршрутах русских плаваний на Тихом океане. Его бесконечные вопросы об Аляске закончились тем, что привлекли внимание и стали объектом доклада императрице.9 Британцы не удовлетворились только сбором сведений: их лучшие капитаны изменили маршруты плаваний, чтобы как можно скорее достичь района русских открытий и продемонстрировать в совсем неосвоенной части света свою мощь. И они не были единственными: мобилизовали свои силы и испанцы, обеспокоенные своим еще пока хрупким положением в Новой Испании, на калифорнийских берегах. В большой игре открытий и дележа земель, которая перешагнула Тихий океан, выиграет тот, кто будет знать больше о замыслах соперников. Так в 1776 году при петербургском дворе узнали, что испанский капитан Хуан Перес поднялся до широты 55°[45] в сопровождении командоров Бруно де Эсеты и Франсиско де ла Бодега-и-Куадры, которые тщательно картографировали берега и окаймлявшие их лесистые острова. Опасаясь увидеть у берегов Новой Калифорнии англичан или русских, которые могут захватить их имущество, Мадрид осенью 1776 года принял решение построить у северных границ своей территории форт и миссию, названную в честь святого Франциска миссией Сан-Франциско.
В марте 1779 года жители Петропавловска-Камчатского удивились невиданному ранее зрелищу большого британского парусника в Авачинском заливе. В августе еще два корабля дальнего плавания Королевского флота, корабли Его Величества «Дискавери» и «Резолюшен», вошли в маленький порт, основанный Витусом Берингом на 40 лет ранее. Эти удивительные гости оказались соплавателями великого Джеймса Кука, который в своем третьем кругосветном плавании хорошо ознакомился с северной половиной Тихого океана. Британские моряки вынесли на берег бренные останки капитана Чарльза Клерка, умершего от туберкулеза неподалеку от Камчатки[46]. Русские первыми узнали, что сам Джеймс Кук, чья слава дошла и до этого края света, погиб несколькими месяцами ранее, во время стычки с аборигенами Гавайских островов в День Святого Валентина. Курьер немедленно отправился в путь, чтобы оповестить об этом Санкт-Петербург и Лондон, потому что офицеры «Дискавери», который покинул Англию три года назад, решили, несмотря ни на что, продолжить исследования. Недоверчивым и изумленным русским, которые получили это известие, они объявили, что поднимутся к северу, чтобы еще раз попытаться пройти на запад через пролив между Азией и Америкой. Также они хотели проверить возможность плавания далее к северу. Но затем последняя экспедиция Джеймса Кука будет остановлена льдами и ограничится «лишь» половиной пути вокруг света.
Русские подозревали, что эти корабли – только предвестники более частых и более любопытствующих визитов. Действительно, в последующие годы несколько лейтенантов Кука вернулись под британским флагом. в 1786 году настала очередь крейсировать в этих водах француза Франсуа Лаперуза. За ним более или менее часто появлялись храбрые китобои, пришедшие из Англии вокруг мыса Горн или мыса Доброй Надежды испытать судьбу в охоте на каланов или тюленей. Люди Кука не зря зашли сюда. На обратном пути, зайдя в Кантон, они были ошеломлены – стоимость каждой шкуры калана, проданной на месте русскими китайцам, превышала их двухлетнее жалованье.10 Английскому капитану даже пришлось подавлять бунт экипажа, который требовал скорее вернуться на Север, а не возвращаться в Плимут или Стромнесс. С тех пор пушная лихорадка охватила и английские порты.
Проблемы с коренным населением, ограниченность финансов, появление соперников на их охотничьих территориях, – все это убедило сибирских купцов, что система, которая до сих пор позволяла им процветать, исчерпала себя. Время изменилось, стало больше невозможно индивидуально финансировать несколько экспедиций, как происходило еще с первых вылазок в тайгу. Теперь надо смотреть на промысел в целом, создавать мощные компании, способные обеспечивать финансирование одновременно многочисленных экспедиций, основывать постоянные порты по всему Тихому океану, торговать с Китаем и Японией так же широко, как с испанскими или британскими колониями.
Необходимо было и обеспечить поддержку в верхах. Если два века продвижение русских вели первопроходцы, промышленники и финансировавшие их предприятия частные инвесторы, то для покорения Тихого океана такая система больше не подходила. Традиционно пионеры тайги открывали дорогу в сопровождении сначала казаков, потом священников и, наконец, представителей императорской таможни и воевод, военных представителей Его Величества. Завоевание было частным, государство шло следом и вносило свой взнос. Но после достижения русскими купцами Тихого океана они столкнулись с гораздо большими рисками, им стала необходима защита либо против иностранных соперников, либо против непокорных индейцев. Империя должна была в дальнейшем принимать участие в завоевании. Очень кстати пришелся иностранный опыт Компании Гудзонова залива в Северной Америке и Ост-Индской компании в Азии.
* * *
Одним из первых разобрался в ситуации мелкий торговец пушниной Григорий Иванович Шелихов. Как и большинство первопроходцев, он покинул свой маленький родной город Рыльск в центральной России, чтобы искать счастье в Сибири. Сын весьма скромного купца, он без особого труда смог заработать на хлеб в местных компаниях – взял в Якутске и Охотском порту несколько доверенностей и стал представителем одного из самых крупных торговых домов, занимающихся пушниной. Кажется, на дальних границах страны ничто не отличает его от других многочисленных искателей удачи. Но именно этот человек за 15 лет перевернет историю региона и откроет императорской России американские порты.
Кто же этот Григорий Шелихов? Свидетельства современников говорят о феноменально работоспособном человеке, твердом, уверенном в себе, непрерывно следующим опасными тропами Восточной Сибири. Иногда задиристом, не колеблясь, регулирующим небольшие разногласия кулаками. Современные российские историки, тщательно разбирая его финансовые документы, открыли многочисленные крупные и мелкие мошенничества и искусство «сложной двойной бухгалтерии одними компаньонами в ущерб другим», о чем пишет крупнейший историк Русской Америки Николай Болховитинов. Он отмечает также «детальное знание и изучение конъюнктуры рынка, исследование природных богатств новых территорий, стремление получить покровительство властей».11 Документы свидетельствуют, что Шелихов умело лавировал в лабиринтах власти и «благодарил» ответственных лиц когда и как это необходимо, чтобы достичь своих целей.
Очевидно, комбинации Шелихова не были тайной для его сограждан, которые видели в нем бессовестного, подозрительного и безжалостного к конкурентам и партнерам предпринимателя, иногда жестокого к американским индейцам, которых использовал или с которыми имел дело. Мы знаем, что Шелихов – мечтатель, но он же – хищник. Описание, которое нам оставил швед Эрик Лаксман, академик и блестящий мыслитель, который жил одновременно с ним в Иркутске, не особенно лестно: «В Северо-Восточном океане почти все торговые дела, которые можно скорее сравнить с грабежами, коль скоро они проходили через руки Шелихова, проводятся группой самых отвратительных иркутских головорезов и жуликов. Их покровитель все время говорит о жестокости испанцев в древней истории Америки, хотя сам упражняет свою саблю, свой пистолет и свое ружье на бедных алеутах».12
Григорий вошел в историю не один. В 28 лет он женился на совсем юной тринадцатилетней дочери одного из камчатских моряков. Наталья Алексеевна, ставшая мадам Шелиховой, существенно расширила свое влияние по сравнению с традиционной ролью скромной спутницы жизни. Она торчит как кость в горле у искателей приключений, ее ничто не пугает и она весьма успешно способствует процветанию этого семейного предприятия. В городе служащие компании, которой она руководит вместе с Григорием, называют ее «матушка» – имя достаточно уважительное и ласковое, обычно закрепленное за императрицей и супругами священников. Жизнерадостная и дипломатичная, искусно пользующаяся своим обаянием и улыбкой, чтобы компенсировать жесткость и грубость своего супруга, она умеет поддерживать разговор в провинциальных гостиных и убеждать своих собеседников. Жизнь сурова: в ее письмах отражается постоянная битва с болезнями, ударами судьбы и эпидемиями оспы, тифа и иных бедствий эпохи. Из десяти детей, которых Наталья Алексеевна произвела на свет, только пять выжило. Во время трех длительных отъездов своего мужа она ведет домашнюю бухгалтерию, договаривается с поставщиками и должниками. И даже могучие финансисты Демидовы никогда не забывают обратиться и к ней в своих посланиях к ее мужу.
Пара обосновалась в Иркутске, административной столице Восточной Сибири. Город стоит на перекрестке торговых путей в Европейскую Россию, Китай и на Тихий океан, и там кипит жизнь после отмены новой императрицей Екатериной II государственной монополии на торговлю с Китаем. Царица, восшедшая на трон после убийства своего мужа Петра III, решила изменить экономическую политику государства в русле либерализма (по Адаму Смиту), используя современную налоговую систему. Например, она отменила предварительно взимавшуюсю десятину с промысловой добычи на Дальнем Востоке и приготовилась отменить традиционный ясак, взимаемый с коренных сибирских народов. Это немедленно вызвало подъем пушной торговли на китайской границе, где за несколько лет были сколочены громадные состояния. Юный Григорий Шелихов также решил этим воспользоваться – он увидел, что для его небольшого предприятия и вообще всей России открылись неограниченные стратегические торговые возможности. Глядя, как многочисленные маленькие компании выбивались из сил для уменьшения рисков и могли профинансировать только одну экспедицию, ожидая прибыль долгие годы, он пришел к убеждению, что надо инвестировать по-крупному и на долгий срок. Глядя на изнурительные морские походы коллег, длившиеся иногда несколько лет, он предложил создать постоянные поселения, которые позволят работать круглый год и пользоваться рабочей силой местных народов. Где русские предполагали только защищать свои охотничьи территории, он предпочел вообразить обширную торговлю по всему Тихому океану. И в завершение этого он грезил о большой компании, основанной по европейской модели, которая станет для Российской империи инструментом господства в этой части мира. «Когда Англия захватила свои замечательные колонии в Северной Америке и организовала там всего за 24 года прекрасную торговлю, Франция начала ее ограничивать… Она помогла своим купцам наладить собственный прибыльный бизнес с помощью таких исключительных привилегий, утвержденных королем, что Англия, которая лишь смотрела на это, сегодня завидует. Россия располагает очень выгодной позицией, благоприятной для деятельности такой компании. Очень удаленное расположение Охотского порта дает много преимуществ сравнительно с европейцами, потому что он открыт к Америке с одной стороны, находится на востоке Азии и оттуда доступны Калифорния и Япония, не говоря уже про Китай, Филиппинские острова или даже империя Великих Моголов, которые достижимы европейцам только через мыс Доброй Надежды или Магелланов пролив». Этот фрагмент взят из предисловия к «Краткой истории русской торговли», направленного государыне в 1779 году. Он подписан высоким сановником, но многие русские историки13 видят там первые следы идей Григория Шелихова, тогда безвестного и недостойного их подписывать публично. Несколькими годами позже похожими словами он сам защищал свои идеи в Санкт-Петербурге. Его проект опережает попытки других промышленников создать лобби: Шелихов предлагает своей стране стать главной торговой силой в северной части Тихого океана, обменивать все со всем миром, и «…возмущая англичан, стать торговым посредником с китайцами или японцами, добиваясь к тому же в первую очередь продуктов, необходимых России…».
История не сохранила следов внимания Екатерины к этому предложению, исходящему из восточных провинций России. В то время она завоевывала турецкие берега Чёрного моря, укрепляя Россию в Крыму, и воевала в Польше. Несколько затерянных вдали купцов, составлявших не более 3 % скудного сибирского населения, конечно, не были в плотном распорядке дня главным объектом ее указов.
Шелихов упорствует. В 1781-м или 1783 году он сумел основать Северо-Восточную компанию, в которую вложил солидный капитал, и немедленно стал одним из трех лидеров отрасли, где быстро происходили объединения и слияния. Всего за несколько лет его компания взяла под контроль 14 из 36 находящихся в строю кораблей данной специализации.14 Но, вопреки обычаям конкурентов, акционеры основали ее, как минимум на 10 лет. Чтобы объединить капитал, Шелихов вступил в союз с другим местным купцом Иваном Голиковым, тоже очень активным в пушной торговле. По цене путешествия в Санкт-Петербург эти два человека обеспечили себя поддержкой представителей одной из самых крупных семей баловней судьбы в Сибири и в России – промышленной династии Демидовых. Григорий Шелихов внес около 22 % капитала новой компании, призванной использовать «как уже известные острова, так и те территории, которые еще предстояло открыть, исследовать и закрепить за Россией».15 В обмен на полное и всеобщее объединение капиталов он обещал сам оплатить свои траты, руководя первой экспедицией.
16 августа 1783 года три галиота компании «Голиков и Шелихов», специально построенные для этого путешествия, спущены на воду на верфях Охотска. Шелихов без ложной скромности окрестил флагманский корабль «Три Святителя» в честь святых покровителей 30 января[47]: Иван (имя отца Шелихова), Василий (его брат) и Григорий. На их борту 192 человека и, впервые, горсточка колонистов. Среди них беременная Наталья Шелихова (она родила в ходе плавания), которая уже держит на руках одного младенца. Плавание обещает быть испытанием: корабли подошли сначала к острову Беринга, где весь экипаж и колонисты должны перезимовать в неглубоких землянках, выкопанных в песке, ожидая прихода теплого времени года, чтобы следовать дальше. Пункт назначения – остров Кадьяк, вытянутый вдоль южного побережья Аляски. В этот раз это не просто промысловая кампания на морских животных. Григорий Шелихов решил основать первую русскую заморскую колонию. Сначала скромную контору, но в его мыслях она призвана стать новой столицей России на Тихом океане. В личном дневнике он уже окрестил ее «Славороссией» и видит центром новой лучезарной империи от Калифорнии до Индонезии, включающей Гавайские острова (которые пока еще называют Сандвичевы в честь инициатора и главного поборника плаваний Джеймса Кука), Японию и, конечно, Камчатку и Аляску. Что же касается Китая, который остается главным рынком сибирской пушнины, Шелихов надеется, благодаря развитию флота, напрямую торговать с береговыми портами, в прямой конкуренции с англичанами, но избегая затрат, бюрократии и бесконечных запретов на наземной границе в Кяхте. Россия владеет теперь северной частью самого обширного океана. В конце концов, иркутский купец надеется установить настоящую морскую границу – «линию на севере и на северо-востоке, которую они [иностранные корабли] не будут сметь преодолевать». С этой целью Шелихов взял на себя труд снабдить экипажи железными пиками, используемыми в армиях империи, которые он предполагал устанавливать на неизвестных землях «на такой манер, чтобы субъекты других наций не могли воспользоваться собственностью нашей родины».16 Изучая описания плаваний и обращая внимание даже на малейшее упоминание об этих водах, Шелихов тщательно выбрал место для поселения: остров Кадьяк один из немногих покрытых лесом, и там можно найти бревна, необходимые для строительства кораблей и домов для будущих завоеваний. Остров богат дичью, обладает множеством бухт и бухточек, идеально подходящих для постановки на якорь. Также очевидно, что там можно сажать несколько основных видов овощей и зерновых. Кроме перечисленных достоинств, Кадьяк, что еще реже, – самый населенный остров у южного побережья Аляски, а его обитатели, коняги, – родственники эскимосов и не подчиняются алеутам. Последняя попытка русских остановиться там предыдущим летом закончилась сражением, в котором пало около 40 конягов. Промышленники также были вынуждены укрыться от гибели на своем корабле, и 20 из них позже умерли от цинги из-за невозможности пополнить запасы.
* * *
Шелихов не пренебрегает ни одной из этих опасностей, но для реализации своего плана ему нужны местные жители. Американцы призваны стать новыми подданными Екатерины Великой, сидящей на троне в 15 000 км отсюда. Шелихов видел в них не только военнопленных, но и искренне преданных служащих, активно стремящихся к процветанию компании. Но как-то их встретят местные жители? Внешне оптимизм Шелихова на борту галиотов никто не разделял. Моряки опасались, что все идет не так, и в случае любого конфликта их непременно обвинят. Действительно, недавно, чтобы победить тревожные слухи, о которых ей рапортовали из далеких тихоокеанских охотничьих угодий, императрица восстановила смертную казнь за несколько особо тяжких преступлений, и среди них – невынужденное насилие против коренных народов. Адмиралтейство даже взяло на себя труд распространить новость и сообщать аборигенам об их правах.17 Перспективы быть быстро повешенным за гигантские амбиции своего предводителя не вызывали энтузиазма у участников экспедиции. Капитан одного из трех судов даже заблудился и покинул эскадру во время шторма. Историки подозревают, что он предпочел избежать прихода к островам первым. Ему потребуется… три года, чтобы присоединиться к экспедиции[48].
Начало действительно было очень нелегким. Григорий Шелихов, игравший роль русского Колумба, после высадки на Кадьяк выступил с речью, которая оставила у его людей смешанное впечатление: «Придя на Кадьяк, Шелихов представился крупным начальником, утверждая, что он не только обладает властью над островитянами, но также и над нами, верными подданными нашей обожаемой государыни, что он имеет право нас наказывать и вешать и, чтобы быть уверенным, что мы на самом деле признаем его полномочным представителем, он не сообщил нам всех важных указаний и полномочий, которые получил от властей, и что нам лучше повиноваться ему во всем».18
Коняги не замедлили с ответом. Уже через шесть дней после прибытия первого галиота начались столкновения. Разведчики доложили о сосредоточении нескольких тысяч воинов в нескольких десятках километрах от лагеря, и Шелихов решил их немедленно атаковать. Пять пушек направили на утес, где собрались коняги, и, стреляя из ружей, русские обратили противников в бегство. Опасаясь серьезных проблем, Шелихов в своем рапорте подчеркнул, что стоял лицом к лицу с 4 000 нападающих, взял в плен более тысячи человек, уточнив, что были ранены пятеро русских, в то время как число мертвых индейцев осталось неизвестным. Лекарь экспедиции, описывая настоящую бойню, говорил о 500 мертвых конягах, многие из которых предпочли броситься в море и утонуть19.
Когда его авторитет был установлен, Шелихов изменил стратегию, чтобы упрочить русское присутствие и наладить, несмотря ни на что, сотрудничество с островитянами. Главной задачей, как и в экспедициях сибирских купцов, было максимальное давление на аборигенов, чтобы получить с них как можно большее количество пушнины. Не смущало даже исчезновение промыслового вида в регионе и возможность голода и мятежа среди американцев. Компания, руководимая Шелиховым, стремилась к долгосрочной деятельности, решив прочно укрепиться и искать необходимое для достижения своих целей сотрудничество с островитянами. Шелихов в Иркутске был известен не только как отъявленный жулик, но и искусный политик. Высказывая самые прогрессивные идеи своего времени, он был убежден, что именно русская цивилизация, которая в своих новых владениях пока остается очень небольшой, единственная может создать пушную торговую империю на севере Тихого океана, о которой он мечтал. На Кадьяке он вложил тело и душу в то, что для него было только началом освоения, – в первый колониальный форпост, за которым последуют многие другие. Дочь одного из его торговых партнеров, которая часто виделась с Шелиховым в это время, описывает сильно увлеченного человека. «Его горевшая душа не столько желала богатства, сколько славы, – пишет она, – для него не существовало препятствий, он покорял все своей несгибаемой железной волей, близкие называли его «горящий огонь» не без основания».20
Со 150 верными людьми Шелихов начал строить порт в бухте Трех Святителей. Он постарался высадить первые привезенные в небольшом количестве сельскохозяйственные культуры, в которые верил вопреки здравому смыслу. Благоприятный для них сезон очень короток, из-за высокой влажности зерно не созревает или гниет на корню. Колонисты, тем не менее, сажают немного картофеля, репы и редиса. Также они привезли несколько коров, собак, коз и баранов, кобылу с жеребенком, несколько свиней, но они не вызвали интереса у конягов, потому что их пищевой режим диктовался морем.
Плохое обращение с индейцами отныне строжайше запрещено. Напротив, компания не прекращает разнообразную обработку вождей, которых одаривает и дает привилегии. Чтобы победить вражду и венерические болезни, Шелихов поощряет браки между колонистами и индейскими женщинами. Для этого он привез из Сибири свадебные подарки «для женихов и невест и будущих молодоженов», которые вручает «всем вступающим в брак в момент бракосочетания».21 Обращение в христианство и образование – два излюбленных инструмента русского влияния. Он запросил у церкви разрешения крестить местные народы. Присматривать за душами и уважать основы морали немаловажно в этом краю суровых и часто неграмотных искателей наживы.
Шелихов сохранил традицию брать заложников как гарантию для завоевателей. Но ввел новый обычай – дети вождей конягов или алеутов помещаются в интернаты и ходят в первую на Аляске школу, часто становясь опорой и соратниками компании. Помещение содержится компанией, их там их учат читать, писать, считать и преподают основы навигации. Лучших учеников даже посылают продолжать образование в Охотск или Иркутск, где их обучают чистописанию, искусствам и музыке. «Я отправил 25 юных мальчиков, жаждущих знаний, которые чрезвычайно сильно хотят быть с русскими, нежели со своими дикими родителями», – пишет Шелихов своим сибирским корреспондентам. Юные коняги в Иркутске иногда развлекают гостей на вечерах провинциальной столицы традиционными танцами и пением и, когда жена Шелихова Наталья вернется в город, она будет внимательно следить за прогрессом своих подопечных в первых сибирских лицеях и описывать их рост в письмах к мужу.22
Жизнь на Кадьяке остается тяжелой. Но первая маленькая колония, укрепившаяся на американских берегах, понемногу развивается. Шелихов открыл новую якорную стоянку, более удобную для кораблей, в которой сейчас находится порт Кадьяка. Уютная бухта Трех Святителей запомнилась исследователю Гонсало Лопесу де Аро, который встал там на якорь четыре года спустя после прихода первых русских. Его встретил помощник Шелихова. «Крепость была хорошо обставлена, стены покрыты китайскими обоями, комнаты с большими зеркалами, многочисленными иконами и пышными кроватями». Некоторые русские женщины носили «китайские платья очень хорошего качества» и сервировали чай в фарфоре того же происхождения. Испанец увидел несколько огородов и описал портовую церковь, «в которой, по его словам, службы шли ежедневно».23
Григория Шелихова, конечно, такой размах не устраивал. Ведь что такое Кадьяк? Всего лишь начало его гигантского проекта завоевания всей этой части света. Он воображал русские корабли, идущие в Америку, Китай, Японию, Корею, обменивая нежную пушнину на необходимые продукты питания, он видел Россию господствующей торговой державой этого нового тихоокеанского мира, самой мощной в Азии. Для начала, по его идее, русские должны реализовать свои преимущества на американских берегах, распространяясь как можно дальше. «Прежде всего, я усилил, – пишет он в рапорте генерал-губернатору Иркутского и Колыванского наместничества Ивану Якоби, – продвижение вдоль американского берега на юг к Калифорнии, выбирая удобные места для русских поселений и устанавливая символы нашего суверенитета в этой части света таким образом, чтобы предотвратить все попытки других наций отметить первенство над нашими поселениями».24 Отныне иностранная конкуренция делает больше, чем просто показывает кончик носа. Последнее плавание Кука разбудило англичан, их колонии в Северной Америке стали независимыми. Их корабли зачастили в те же воды, что и русские промышленники. Возвратясь с Кадьяка, Шелихов обнаружил парусник Компании Гудзонова залива в Петропавловске-Камчатском, и разговор с его капитаном убедил его в преимуществах торговли с ней.
Но для этого надо поменять масштаб. Удивительно, но иностранные корабли, прошедшие Магеллановым проливом или вокруг мыса Доброй Надежды, не выигрывали время при достижении Тихого океана по сравнению с русскими торговыми караванами, пересекавшими Сибирь. Техника мореплавания еще недостаточно улучшилась, и большие объемы груза шли не быстрее, чем в обвязанных веревками мешках по опасным и часто труднопроходимым сибирским тропам. Правительственной почте, располагавшей специальной подорожной императорской администрации[49], требовалось более девяти месяцев, чтобы из столицы достичь Кадьяка. Путь курьера туда и обратно, принимая во внимание период навигации, требовал более двух лет. И это еще без учета трудностей перегрузки товара в портах Камчатки, Охотске, Якутске и на каждой большой реке. Григорий Шелихов это прекрасно понимал: географическое положение России, раскинувшейся на трех континентах – европейском, азиатском и американском, безусловно, очень благоприятно, и она может им воспользоваться, чтобы освоить новые владения. Но русская торговля не может быть конкурентоспособной, если использует только традиционный наземный путь сибирских купцов. Надо строить флот, который будет способен, подобно европейским конкурентам, использовать морские пути Атлантического и Индийского океанов, потому что северный путь использовать невозможно. Необходимы новые мощные ресурсы, намного превышающие средства самых богатых иркутских предпринимателей. Одним словом, привлечение государства стало безусловным и даже неотложным. Империя, если она хочет сохранить свое место в этом регионе мира, не должна более удовлетворяться усилиями купцов и поощрять их далекие инициативы и жертвы. Необходимо действовать, и быстро.
В очередной раз Григорий Шелихов первым понял такой разворот дел. Пока его коллеги и соперники как можно интенсивнее выжимали промысловые ресурсы и ждали от короны хоть какого-нибудь внимания, руководитель колонии на Кадьяке зимой 1787–1788 годов отправился в Санкт-Петербург к своему компаньону Голикову. Шелихов имел в кармане амбициозный проект, развивавший и дополнявший прежние, который он обдумывал около десяти лет. Вместе с партнерами он рассчитывал хорошо заработать, убедив саму императрицу.
Начало года – самый благоприятный период для путешественников по Сибири. Дороги установились, реки замерзли, сани следуют большими обозами, и в феврале Григорий Шелихов достиг заснеженных улиц столицы. Его ждала плохая новость – его партнер Голиков внезапно умер, его только похоронили. Но в остальном великий замысел компаньонов следует, кажется, многообещающим курсом. Интенсивное лоббирование, организованное Голиковым, Натальей Шелиховой и иркутским генерал-губернатором, приносит первые плоды: проект удостоен внимания самой Екатерины II, и уже две инстанции – Совет при высочайшем дворе и Коммерц-коллегия – дали благоприятные отзывы. Равно как и генерал-губернатор Иркутского наместничества Иван Якоби, который в рапорте для императрицы поддержал идеи Шелихова.
* * *
О чем шла речь? О создании в России сильной национальной компании, ответственной за колонизацию Тихого океана. Шелихов, конечно, был вдохновлен примерами компаний Гудзонова залива и Ост-Индской, – вооруженных рук мощной британской империи в Северной Америке и Азии. Он предлагает дать новой компании торговую монополию во всем регионе, вменив ей в обязанность строительство отделений, поселков, портовых и оборонительных сооружений, управление ими, устройство школ. Государство должно вложить 200 тысяч рублей в проект под контролем иркутского генерал-губернатора. Вооруженные силы и духовенство, которые также должны быть в колониях, содержатся за счет компании. И, само собой разумеется, территориальные приобретения компания делает под знаменем и суверенитетом империи.
Аудиенция у императрицы обещана, и двое компаньонов ждут, удваивая усилия по организации поддержки. Князь Воронцов, один из самых влиятельных придворных, поддержал их и составил свои собственные соображения по содействию купцам. Но аудиенция так и не состоялась. Когда Екатерина Великая в апреле приняла решение, всех постигли полное удивление и разочарование. Ходатаям и их придворной партии было жестко отказано. Никто не предполагал столь категорического ответа. И не только в вопросе о монополии, но даже в торговых привилегиях. Россия не считает нужным вкладывать даже маленькую сумму в Тихий океан, тогда как есть острая необходимость в деньгах на войну, которая только что началась на Чёрном море против Оттоманской империи. «Двести тысяч рублей? И без интереса, – удивляется императрица в своем ответе, – мы не имеем больше ничего в казне. Такой кредит выглядит как чье-то предложение выучить в тридцать лет слона говорить!» И когда его автора спросили о выгодах такого заема, он ответил: «Слон может умереть, я могу умереть, человек, который мне предоставил сумму, может умереть».25 Ответ полон сарказма. Единственное утешение, дарованное Екатериной II купцам, – несколько благодарностей. Одобрение их действиям и ордена за их усилия на пользу родине.

Этот эпизод весьма поучителен для освещения положение при русском дворе, в котором императрица тщательно изучает дело и берет на себя труд самой разъяснять мотивы подробного ответа в трех пунктах, содержащих тринадцать аннотированных ее рукой комментариев. Первое объяснение отказа довольно сухое и носит идеологический характер – Екатерина, как просвещенный монарх, впитывает передовые мысли своего времени. Известна ее переписка с Вольтером, Дидро, обмен письмами с д'Аламбером. Но государыня также почитатель Адама Смита и его теории либерализма. Любая идея монополии ей чужда. Кроме того, она была ей чужда еще и до чтения проекта, потому что один из первых указов немецкой принцессы, ставшей русской императрицей, – указ о запрете с 1762 года всех форм экономической монополии на своих землях. Она сама констатировала, что привилегии, данные ее предшественниками купцам, торгующим с Персией, не принесли ожидаемых прибылей.26 Шелихов и Голиков показали убедительные примеры из европейского опыта, но Екатерина Великая была принципиальной женщиной и оказалась большим либералом, чем ее английские королевские кузины. «Это ходатайство – настоящая монополия, – пишет она гневно на полях документа, – это противоречит моим принципам». И она возмутилась теми инстанциями, которые поддержали просьбу: «Это они отдали Тихий океан в монополию». И дальше: «Эти господа Голиков и Шелихов, безусловно, храбрые люди, но, чтобы вообразить, что им надо дать исключительное право торговли, нужно забыть, что в мире существуют и другие храбрые люди».27
Идейная справедливость – не единственный мотив энергичного отказа Екатерины. Ее мир – это мир европейской государыни, и в Европе находятся ее главные интересы. Мир этой эпохи – Европа, окруженная зависимыми территориями, и это также и ее взгляд. Она ведет на своих южных границах важную войну против Оттоманской империи за владение Украиной, Крымом и Молдавией. Надо ли действительно рисковать, раздражая такие мощные мировые державы, как Англия и Испания? И все это ради нескольких торговых контор на американских архипелагах, населенных дикарями. «…Многое распространение в Тихое море не принесет твердых польз. Торговать дело иное, завладеть дело другое», – пишет она в подтверждение своих мотивов. Князь Потёмкин, который ведет войну на юге и запрашивает дополнительные средства, энергично просит отступиться от экономической и политической авантюры на другом краю света. Потёмкин не только ее полководец, он ее фаворит и, безусловно, едва ли не самая сильная любовь в жизни, и государыня прислушивается к его мнению больше, чем к мнению Воронцова и группы придворных вокруг него.
Наконец, эти сибирские купцы не вызывают у нее доверия. Спорщики, мошенники, внезапно появившиеся со своих диких промыслов, покупают благосклонность придворных и клянчат привилегии, потому что, бесспорно, хотят получить сочные прибыли! Екатерину беспокоят эти новые актеры, которые движимы прежде всего денежными интересами и не очень уважают патрицианские ценности: только что люди такого свойства в колониях Новой Англии показали свою верность британской короне. Кто знает, вдруг эти сибиряки, привлеченные тихоокеанскими пространствами, однажды не захотят сыграть ту же пьесу. Недоверчивость императрицы усилилась несколькими неделями позже, когда она получила рапорт капитана Биллингса, начальника посланной ею новой секретной экспедиции. На Кадьяке доктор и священники рассказали ему о начале деятельности Шелихова на острове. Эхо этих свидетельств мы находим в личном дневнике кабинет-секретаря Храповицкого: «Я читал рапорт Биллингса и описание варварства Шелихова на американских островах; примечательно, как все за Шелехова старались для доставления ему монополии: он всех закупил и, буде таким же образом открытия свои продолжать станет, то привезут его скованным».28
Получив такую звонкую пощечину лично от императрицы, любой ходатай закончил бы дело. Любой, но не Григорий Шелихов. Разочарованный, но далеко не раздавленный, хитрый лис вернулся в Иркутск к своей супруге. Он знает, как превратить свое поражение в почти победу. В городе быстро разнесся слух, о чем беседовали с купцом при дворе, что у него есть высокопоставленные друзья и его проекты высоко оценила сама императрица! Чтобы отметить свою будущую удачу, чета Шелиховых построила великолепный деревянный дом в центре Иркутска. Генерал-губернатора Якоби, инициатора их прошения, уже сместили, но Наталья Шелихова – одна из очень редких персон, которую иногда приглашают в салоны вместо него. Из-под печатных станков Иркутска внезапно появляется книга, излагающая важнейшие идеи Григория Шелихова. Власти кричат о разглашении административных секретов, Наталья Шелихова клянется, что самые секретные идеи ее мужа похищены, о чем свидетельствуют несколько опубликованных фрагментов их личной страстной переписки. Как и ожидается, книга становится бестселлером, ее даже хотят выпустить вторым изданием. Что касается вопроса о монополии, то это неважно! Шелихов убежден, что его усилия увенчаются успехом, это только вопрос времени. В ожидании он со своими партнерами увеличивает число компаний, создавая видимость процветающего бизнеса и разнообразия участников.
Григорий Шелихов не оставил свою главную идею. Он упрям, как и государыня. Но его великий замысел суждено исполнить другим – в 1795 году купец внезапно умер. Уход Шелихова – настолько жестокий удар, что его многочисленные враги среди купцов, в среде которых он стал одним из самых заметных, высказали подозрение, что его отравила собственная супруга, более чем предприимчивая и более чем свободная в своих взглядах. Действительно, именно Наталья продолжила пламенную идею Григория. И ее ответом злым языкам стал памятник, надгробная стела, которую она воздвигла на могиле своего мужа в 1800 году. Обелиск из белого мрамора высотой больше 3 м господствует над кладбищем и настолько величественен, что иркутский епископ Вениамин колебался, стоит ли дозволять ставить его перед Знаменским монастырем[50]. Мода на пирамиды и обелиски только начала появляться в Санкт-Петербурге, Иркутск еще никогда не видел ничего подобного. Более того, Наталья украсила разные стороны обелиска несколькими надписями, – осторожными сведениями счетов и не совсем скромными заявлениями. Для Истории, с «подмигиванием» Екатерине: «Здесь в ожидании пришествия Христова погребено тело по прозванию – Шелихова <…> в царствование Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской, государыни славной и великой, расширившей свою империю победами врагов ея на западе и на полудне, он отважными морскими своими путешествиями на Востоке нашел, покорил, присовокупил Державе ея не только острова Кыхтак, Афогнак и многие другие, но и самую матерую землю Америки», – читаем мы на одной стороне. Для злых языков Иркутска – на другой стороне: «Поставила сие надгробие в память почтенному и добродетельному супругу горестная вдова с пролитием горячих слез и сокрушенным воздыханием ко Господу». Памятник стоит 11 760 рублей.29
Наконец, на третьей стороне Наталья поместила стихотворную эпитафию «Колумбу росскому», который «преплыл моря, открыл страны безвестны». Стихи не очень важны, но подпись много значила для современников. Это строки Гавриила Державина, одного из самых влиятельных придворных Петербурга. «Шелиховы за работой, – сигнализирует вдова своим соперникам, – и еще не сказали своего последнего слова». И у них есть союзники.
Калифорнийский романс Николая Резанова
В Иркутске смерть влиятельного купца вызывает вспышку агрессии и желание отомстить покойному. Мстители сосредоточиваются на его вдове. Разражаются споры с дольщиками о перераспределении капитала, оспаривается ее право на наследство, затеваются тяжбы о недоимках, – начинается травля. На момент смерти в июле 1795 года Григорию Шелихову было только 48 лет, а Наталье – всего 33. Она беременна. Из ее первых девяти детей к тому времени в живых осталось только пятеро. Из них всего один мальчик, ему четыре года.
Защищая себя, защищая компанию и наследство Григория, Наталья рассчитывает на двух людей. Первый – это Главный правитель Русской Америки Александр Баранов, родом из города Каргополя на севере России. Он из тех поморов, что подались в Сибирь в поисках счастья. Пять лет назад Григорий Шелихов назначил его своим заместителем. Выбор этот крайне разумный, Баранов возьмет в руки бразды правления компанией и будет блестяще ей руководить 28 лет, продолжая экспансию в Америке, о чем мечтал его наставник.
Второй отвечает за стратегию компании. Его зовут Николай Резанов. Полгода назад он женился на одной из дочерей Шелихова, Анне, которой едва исполнилось 15 лет. Ему же 31, и он младше своей тещи всего лишь на два года. Смерть тестя сделала его наследником колоссального состояния. Торговый оборот компании Голикова – Шелихова на тот момент составляет около трех миллионов рублей, в то время как государственный бюджет достигает примерно сорока миллионов.30 Однако это огромное состояние скорее виртуальное. Оно представляет собой акции, стоимость которых может резко упасть, если на смену внезапно иссякшей энергии его создателя не придут новые силы.
Ничто не предвещает, что Николай Резанов будет играть эту роль. В отличие от тестя, тещи, других родственников, связанных с компанией, и от большинства иркутских купцов, ставших его конкурентами, он не из круга первопроходцев, людей с железным характером, ваяющих свои судьбы на девственных территориях Сибири или Камчатки. Он ничего не знает ни о жизни таежных охотников, ни о запутанном устройстве таких губернских городов, как Иркутск. Резанов, не будучи дворянских кровей, стал успешным придворным. Он родился в Санкт-Петербурге в семье высокопоставленных чиновников. Благодаря семейным связям ему удалось получить военное образование в самых престижных учебных заведениях и дополнить его службой в элитных столичных воинских частях. Затем, однако, он уклонился в сторону, нацелившись на карьеру камергера, что привело его в непосредственное окружение императрицы. Сначала он служит правителем канцелярии Гавриила Державина, чьи восторженные стихи высечены на надгробном памятнике Шелихова. Державин одновременно придворный поэт, президент Коммерц-коллегии и, самое главное, кабинет-секретарь императрицы, то есть именно он принимает решение, передавать или нет Ее Величеству бесчисленные прошения, ходатайства, заявления, ежедневно ей направляемые. Взяв себе в личные помощники молодого Резанова, Державин открывает для него святая святых – Зимний дворец в Санкт-Петербурге, резиденцию Екатерины. Николай получил там скромный кабинет всего в нескольких метрах от бьющегося сердца империи.
Согласно императорскому протоколу, Екатерина встает рано утром, в шесть часов, и затем до 11 занимается государственными делами. Одного за другим она принимает чиновников и советников в своих апартаментах в Зимнем дворце на берегу Невы, а летом – в своей роскошной резиденции в Царском Селе, среди дышащих свежестью окрестных лесов. Именно во время этого рабочего утра около восьми часов Державин представляет Ее Величеству прошения подданных. Резанов в качестве главы канцелярии готовит документы.
Вскоре юного чиновника замечает еще одна могущественная особа – граф Платон Зубов. Ему всего 27 лет, но он правит сердцем императрицы – пять лет назад она выбрала его своим новым и, видимо, последним фаворитом. Его имя, разумеется, постоянно обыгрывается в связи с характером его отношений с императрицей, он человек тщеславный и развращенный. Зубов коллекционирует звания и государственные должности,31 а также ценные подарки: влюбленная императрица дарит ему то бриллианты, то тысячи крепостных. У любовника Екатерины есть апартаменты в Зимнем дворце на одном этаже с императрицей, и он наносит ей визиты в «час фаворитов», то есть во время отдыха после легкого обеда посреди рабочего дня.
Переходя от Державина к Зубову, Николай Резанов совершает своего рода прыжок из передней в спальню. С такими хозяевами он оказывается в самом центре власти. Это и возбудило интерес Григория Шелихова к блестящему молодому человеку.
После первой неудачи у Екатерины Великой супруги Шелиховы не отказались от своего проекта монополии в Америке. Они убеждены, что отныне именно в Санкт-Петербурге разыгрывается судьба и будущее Сибири и Русской Тихоокеании. Крупные торговые и военные суда, необходимые для их предприятия, должны уходить из столицы или из столичного порта – укрепленного острова Кронштадта, расположенного в глубоких водах в нескольких километрах от города. Стало быть, именно здесь следует наладить управление торговыми делами и экспедициями. Кроме того, в Санкт-Петербурге есть и средства, необходимые для финансирования этого исключительного предприятия. Здесь же и сердце государства, неизбежного партнера запланированного ими продвижения на восток. Наконец, переезд в Петербург – это лучший способ обойти конкурентов или даже партнеров по компании, замкнувшихся в своем маленьком иркутском мирке, без инструментов влияния, без доступа к великим богатствам России. Прощай, провинция! Решено, Шелиховы как можно скорее должны обустроиться в столице. Они находят отличную усадьбу для дочери Анны, и вскоре уже компания располагается на набережной Мойки, 72, в нескольких сотнях метров от Сенатской площади.
Стратегический ход Шелиховых сопровождается активными попытками лоббирования. Благодаря своим могущественным кредиторам, Демидовым, никогда не сомневавшимся в их успехе, сибирские купцы получили расположение самой сильной группы придворных – Державина и Зубова. Таким образом они и знакомятся с Николаем Резановым. Его быстро пленила сначала идея готовящегося грандиозного предприятия, а затем и Анна, их дочь, которую он впервые встретил на приеме у Шелиховых.
С тех пор как Екатерина наложила вето на ходатайство Григория Шелихова, прошло уже восемь лет. Николай Резанов, действующий теперь в самом центре административного аппарата, преисполнен надежд, что ближайшему окружению удастся убедить императрицу пересмотреть решение. Теперь просители располагают новыми солидными аргументами. Прежде всего, как и предвидел Шелихов, продолжает расти иностранная конкуренция. Под этим натиском сибирские купцы сами вынуждены объединяться, в некотором роде опережая образование монополии. Особенно настойчивым и угрожающим русским интересам становится присутствие иностранных держав в Тихом океане. Испания снарядила новые морские экспедиции, и их капитаны поднялись далеко на север вдоль прибрежных американских архипелагов, и лишь Нуткинская конвенция 1790 года удерживает Мадрид от продолжения завоеваний к северу от реки Колумбия[51]. Великобритания в центре событий – прямые наследники Джеймса Кука, в частности капитан Ванкувер, беспрестанно ходят в этой части океана, не опасаясь конкуренции с несколькими торговыми кораблями с русской Камчатки или с острова Кадьяк. Наращивая свою военно-морскую мощь, англичане и их теперь уже независимые собратья из Соединенных Штатов тоже начинают поглядывать на сибирские прибрежные воды, богатые китами и тюленями. Правильно это или нет, но русские беспокоятся из-за растущего интереса к Сибири со стороны англо-саксов. В 1787 году один из лейтенантов Кука даже дерзнул доехать до Иркутска, несмотря на все запреты имперских властей. Джон Ледиард, представившись «благородным американцем», встретил там Григория Шелихова, который, обеспокоенный его вопросами, тут же донес на него за шпионаж. Авантюриста выслали.32
При всех своих либеральных принципах Екатерина не остается равнодушной к речам своих придворных. Это становится заметно, когда в сентябре 1796 года она утверждает проект создания новой компании на Тихом океане, который умолял рассмотреть ее официальный воздыхатель Зубов. Проект, подписанный Николаем Резановым и Натальей Шелиховой, повторяет основные предложения покойного Григория и даже превосходит его: планируется основать «Российско-Американскую компанию» (РАК), которая бы объединила интересы всех сибирских купцов этой отрасли, с участием государства и частных придворных акционеров. Предполагается, что РАК будет обладать монополией на всю торговлю на Тихом океане, и ее задача – установить российское господство на берегах Америки вплоть до Калифорнии. Благодаря Компании Гудзонова залива, как объясняет Резанов двору, королева Великобритании Елизавета покорила то, что впоследствии станет Канадой, а Екатерина с помощью «Российско-Американской компанию» овладеет побережьем Тихого океана!
Увы, через несколько недель успех предприятия вновь оказывается под вопросом. Смертельный приступ настиг Екатерину Великую прямо в уборной. Зубов, вскочив с кровати, не успел ничего сделать, и он с минуты на минуту может потерять могущество, влияние и положение в правящих кругах. Все терпеливые усилия и, конечно же, щедрые подарки от Натальи Шелиховой и ее зятя – все это впустую. Царем становится Павел, сын императрицы, вступивший на престол в 1796 году как Павел I. Новый император – человек непредсказуемый, одержим военными порядками, парадами и почестями, к тому же не без параноидальных наклонностей. Он настолько ненавидит свою покойную мать, что при каждом удобном случае старается разрушить все, что она создала, разорвать терпеливо налаженные союзы, уничтожить ее наследие. Он меняет императорскую резиденцию, упраздняет служившие Екатерине элитные воинские части, утверждает для всей армии новую форму, которая ближе его прусским вкусам. Он даже велит установить во дворце почтовый ящик для осведомителей, из которого лично забирает корреспонденцию.33
Одним из немногих придворных Екатерины, сохранивших расположение наследника императорского трона, остается Гавриил Державин. Он всячески подчеркивает неприязнь покойной императрицы к любым торговым монополиям, и всего за несколько месяцев убеждает императора разрешить создание нового предприятия. 8 июля 1799 года Павел I подписывает указ об учреждении «Российско-Американской компании», преподнося тем самым Николаю Резанову, празднующему в тот день свой 35-й день рождения, Америку в качестве подарка. Императорский указ о привилегиях РАК будет подписан 27 декабря того же года. Тем самым XIX век открыт стремлениям молодой, но влиятельной российской компании. На 20 лет РАК получает монополию на торговую деятельность на американских берегах и близлежащих архипелагах севернее 55-го градуса северной широты. Император, поставив в Петербурге этот рубеж, сам того не зная, определил границу между Аляской и будущим соседним государством – Канадой – в то время колонией британской короны. Капитал компании объединяет большую часть бывших конкурентов Шелиховых. Кроме того, 20 акций по 500 рублей каждая были преподнесены государю. Тем не менее, главная роль остается за Резановым и его новой семьей: доля Шелиховых в компании составляет 35 700 рублей, и в ведении Николая Резанова, назначенного распорядителем финансов, оказывается весь капитал компании.
* * *
С приходом Резанова меняется природа и характер освоения новых земель. Переместившись из Сибири в Санкт-Петербург, торговая власть ушла от купцов, промышленников, охотников и путешественников, которые более двух веков принимали на себя все труды и отодвигали российские границы на восток. Отныне иркутские купцы не стратеги этой торговой экспансии, а лишь ее исполнители. Они больше не распоряжаются, они следуют движению, определенному и организованному в столице. После Григория Шелихова, могучего представителя первопроходцев старого времени, последним воплощением такого исключительного сибирского предпринимательского духа был Алекандр Баранов, которому супруги Шелиховы предложили пост исполнительного директора «Российско-Американской компании». Он отправляется руководить на остров Кадьяк. Как и его предшественник и образец для подражания, Баранов смотрит на российские земли в Америке как на плацдарм для установления российского торгового превосходства на Тихом океане, а отвечает за это компания. Как и Шелихов, он ничего не имеет против нового плана расширения влияния. С Кадьяка он отправляется осваивать многочисленные прибрежные острова, богатые лесом и рыбой. Это бег наперегонки с испанцами, которые двигаются на север из Калифорнии, и с охотниками Компании Гудзонова залива, продвигающимися с востока через континент. Чтобы закрепить преимущество, на одном из самых южных островов у границы, установленной Павлом I, Баранов основал новую столицу. Форт на земле могущественного индейского племени тлинкитов окрестили Ново-Архангельском[52]. Благодаря торговле между подконтрольными им берегами и лежащими к югу обширными прериями, где живут, например, сиу, они стали одним из самых богатых племен в Северной Америке. Русским, до сих пор имевшими дело с малыми островными народами – алеутами и кадьякцами (племя кониаг) – предстоит познакомиться с новыми культурами и противостоять новым опасностям. Дело в том, что многочисленные тлинкиты населяют все побережье и организованы в множество родовых союзов с опытными военными формированиями. Главному правителю Русской Америки Баранову доведется много раз в этом убедиться на собственном горьком опыте.
На что похожи русские колонии в Америке? Ново-Архангельск и Кадьяк, два главных поселения, – форты с деревянными стенами, построенные почти так же, как строили в предыдущие века во время освоения Сибири. Но вот население тут совсем другое. Коренные русские, в основном сибиряки и поморы, остаются в меньшинстве. За всю историю Русской Америки их количество не превысит тысячу человек. И откуда взяться поселенцам, если в России до сих пор крепостничество, и крестьяне в большинстве своем прикреплены к имениям хозяев? Нехватка поселенцев из метрополии – это одна из главных проблем русской колонизации. Форты в Америке населены в основном метисами, родившимися от смешанных браков. Это дети алеутских или кадьякских охотников и рыбаков, присоединившихся к русским и следующих за ними. Тлинкиты же, даже находясь вблизи от русских поселений, сохраняют традиционный образ жизни. Для русских колоний такая этническая и социальная неоднородность – условие выживания, ведь именно местная рабочая сила в лице охотников и рыбаков приносит прибыль компании. Четыре пятых русских34 работают в торговой администрации, в церквях или школах. Кое-кто служит солдатом в малочисленных военных отрядах, посланных Адмиралтейством, но содержащихся за счет компании. Русская Америка ничем не похожа на ранее завоеванные в ходе сибирской эпопеи территории. Аляска – это первая настоящая колония, где живут русские, окруженные туземцами, превосходящими их в численности и организованности. Российское присутствие постоянно под угрозой из-за держав-конкурентов, всегда готовых бросить им вызов. Все абсолютно ново, и ничто не готовило русских к такому опыту во время обширных завоеваний в Евразии. Восстания тлинкитов и налеты американских пиратов заставляют малочисленных поселенцев жить с постоянным чувством тревоги и неуверенности. Эта вечная незащищенность будет далеко не последним аргументом при продаже Аляски спустя несколько десятилетий. Противник повсюду и нигде, как внутри, так и снаружи. Живя на краю света, люди скорее заимствуют традиции алеутов, кадьякцев или даже тлинкитов, а не ведут образ жизни сибирских промышленников. Языки смешиваются так же, как и цвета кожи. Сам Баранов живет, как и многие его сограждане, с женой из племени тлинкитов. Она воспитывает их детей в большом деревянном квадратном доме на высоком мысе над портом Ново-Архангельска. Если Александр Баранов, всячески старающийся закрепить за империей новые американские владения компании, – пример угасающего поколения первопроходцев, то Николай Резанов – воплощение растущего класса. Устроившись в роскошных апартаментах в Санкт-Петербурге со своей женой Анной, урожденной Шелиховой, бывший придворный камергер работает над развитием «Российско-Американской компании». Он одновременно ее главный координатор и, по наследству, один из ее крупнейших акционеров. Вращаясь в высшем обществе, где стал любимчиком, Резанов с помощью знатных аристократических семей обеспечивает компании головокружительный взлет. Царствование Павла I, даровавшего ей монополию, оказалось недолгим: в 1801 правителя убивает группа придворных, возмущенных все более своенравным и маниакальным поведением монарха. На смену приходит его сын Александр, который становится Александром I. Новый император сразу же оказывается достойным продолжателем американской политики, намеченной его покойным отцом. «Цивилизаторский» проект покорения новых земель отвечает либеральным принципам, в которых его растили, под строгим надзором швейцарских и французских наставников – приверженцев идей Просвещения. Для этого их и подбирала для него бабушка, Екатерина Великая, старательно готовя любимого внука к трону. Кроме того, преимущественно торговая, а не политическая или военная стратегия, делающая из «Российско-Американской компании» инструмент русского присутствия, скорее отвечает экономии бюджета. Это не столь откровенный и, как считалось тогда, менее затратный способ занимать территории от имени России и противостоять стремлениям держав-соперников. Своего рода более действенный и более доходный колониализм. Главной же целью компании и патронирующего ее государства остаются не столько новые территории, сколько добыча шкур и пушнины. Ведь именно благодаря пушнине компания получает ожидаемый доход.
С момента основания компании в 1799 году в числе ее акционеров числились Павел I и великий князь Константин. Несколько пакетов акций купил, в свою очередь, Александр, потом императрица, а затем и младший брат царя Николай. Царская семья подала сигнал – аристократия и зарождающаяся крупная буржуазия, располагающие огромными средствами, последовали ее примеру. И вот покупатели толпятся в величественном дворце на берегу Мойки, главном центре компании. За три года количество акционеров возрастает от 17 до более чем 400, а цена за акцию взлетает от 1 000 до 3 727 рублей.35
Участие столь специфических вкладчиков не может не повлиять на отношение государства к компании. Сначала оно предоставляет ей кредит на 250 тысяч рублей, в следующем году еще один на 100 тысяч рублей, а потом третий, через несколько лет, на 200 тысяч рублей. «Российско-Американская компания» возносится до небес, но мало-помалу начинает ощущаться, как на основанное Шелиховым и его партнерами предприятие по торговле пушниной неумолимо давит государство. Вскоре РАК и ее американские владения начинают походить на торговую империю Строгановых два с половиной века назад: получастная компания, управляемая предпринимателями, но с необычайными привилегиями и тесно связанная с государственными интересами и берущая на себя некоторые особые поручения. Государство, привлеченное перспективой исключительной прибыли благодаря монополии, желает получить свою долю без особых затрат и берет торговую деятельность в свои руки. В российской истории такое происходит не в первый и не в последний раз.36
В октябре 1802 года у Николая Резанова, вознесенного успехом компании, неожиданно случается личная трагедия. Его супруга Анна, дочь Шелиховых, родив второго ребенка, Оленьку, умирает от осложнений после родов. Удар настолько тяжелый, что одаренный придворный, которого, казалось, ничто не может остановить, погружается в глубокую депрессию – «меланхолию», как тогда говорили. Ему ни до чего нет дела, он пренебрегает своими обязанностями. «Кончина жены моей, – пишет он своему другу, – составлявшей все счастье, все блаженство дней моих, соделала для меня всю жизнь мою безотрадною… Двое милых мне детей хотя некоторым образом и услаждают жизнь мою, но в то самое время растравляют они сердечные мои раны…»37 Беспокойство охватывает близких, достигает дворца. В сущности, Резанов представляет собой очень ценные политические и экономические инвестиции, судьба которых не может оставить власть равнодушной. Таким образом, спустя полгода после кончины супруги Резанов приглашен на частную аудиенцию к царю в его летнюю резиденцию Царское село. На ней ставится вопрос о большом путешествии – посольстве. «Государь, посочувствовав моему горю, – пишет Резанов в личной переписке, – сперва советовал мне развеяться и предложил путешествие. Деликатно намекая получить мое согласие, Государь наконец объявил свое желание поручить мне миссию в Японию».38 Развеяться? Как минимум три года плавать по морям, оставив дома двоих детей, при том что слабенькая Ольга еще грудной младенец? Резанов не скрывает, что потрясен подобным предложением, но незамедлительно принимает его.
В начале XIX века Япония, как и Китай, – жемчужины международной торговли. Еще в свое время Григорий Шелихов имел их в виду, мечтая о российской торговой империи на Тихом океане. Аляска была для него лишь деталью огромного пазла, основными частями которого должны были стать Китай и Япония. В свою очередь компания – наследие его великой идеи – позаимствовала это устремление, и в 1800 году Павел I подтвердил, что установление отношений с империей сёгуна – исключительная прерогатива РАК. Следовательно, предложение Александра I Резанову не столь уж неожиданно. Он может собирать чемоданы, его формальное назначение полномочным представителем России при «небожителе и самодержавнейшем государе обширнейшей империи Японска» произойдет через два месяца после аудиенции.
* * *
В действительности этому проекту уже несколько лет, и Резанов сам слышал его обсуждение руководством компании за несколько месяцев до смерти Анны. Дело в том, что посольство при сёгуне – это лишь одна из целей большого тайного плана России. Речь идет о первом кругосветном плавании русского военного флота. В 1722 году царь Петр I, а спустя десять лет императрица Анна тоже лелеяли эту грандиозную мечту. Адмирал Головин, который в свое время оказывал активное содействие Берингу и его экспедиции перед царицей, также всячески доказывал, что морской путь «чрез Большое море-океан», то есть знаменитый северный пролив, непременно станет превосходной альтернативой пути по суше через Сибирь. Он полагал, что путешествие к островам восходящего солнца «отсюда [из Санкт-Петербурга] займет около 11 месяцев, понеже галанские корабли всякий год ходят и назад в 18 и 16 месяцев возвращаются».39
В конце XVIII века эту идею подхватил и развил другой русский мореплаватель, капитан Адам Йоханн фон Крузенштерн, которого русские звали Иван Фёдорович. Крузенштерн, один из множества остзейских дворян, служивших во флоте Его Величества. Крузенштерну 32 года, и он тоже продукт своей эпохи: едва получив боевое крещение на войне с Турцией, он был отправлен на несколько лет в британский флот для углубления знаний о больших военных парусниках – в то время силы и гордости Великобритании. Взойдя на трон, Екатерина Великая постоянно, год за годом, отправляла юных моряков осваивать хитрости морского дела, сделавшие Англию владычицей морей. Крузенштерн, которому посчастливилось оказаться в их числе, служил с 1793 по 1799 год на кораблях Королевского флота, воевавших против революционной Франции. После этого он дополнил свое обучение: желая разобраться в принципах работы Ост-Индской торговой компании, приводившей его в восхищение, он подал прошение для участия в плавании на Карибские острова, а затем на Дальний Восток. «Служив в английском флоте во время войны с 1793 до 1799 г., – пишет он во вступлении к своей книге «Путешествие вокруг света…», – смотрел я неравнодушно на обширность их коммерции, наипаче же на важность ост-индской и китайской, которые привлекли особенное мое внимание. Участие россиян в торговле морем с Китаем и Индией казалось мне не невозможным».40 Остановка в Кантоне особенно поразила молодого мореплавателя: «В бытность мою в Кантоне пришло туда небольшое, в 90 или 100 тонн, английское судно от северо-западного берега Америки. Оно вооружено было в Макао и находилось в отбытии из Китая 5 месяцев. Груз… состоял в пушных товарах, которые проданы за 60 000 пиастров. <…> По сим причинам казалось мне, что россияне несравненно с большей выгодой могли бы производить пушной товар из своих колоний в Кантон прямо».41
По возвращении в Россию в 1799 году Крузенштерн направил в Коммерц-коллегию донесение с замыслом сформировать на Камчатке достойный российский флот, сравнимый с балтийским или черноморским. Благодаря ему, как утверждает молодой офицер, которому на тот момент нет и тридцати, Россия смогла бы в полной мере получить выгоду от торговли стран, «изобилующих разными естественными произведениями». «Торгующие европейские нации участвуют почти все в оной; успевшие же в том, – продолжает он в своем докладе, – преимущественно достигли высочайшей степени благосостояния. <…> Через сие можно было бы достигнуть до того, чтобы мы не имели более надобности платить англичанам, датчанам и шведам великие суммы за ост-индские и китайские товары».42
Именно с такими намерениями Крузенштерн предлагает совершить первую кругосветную экспедицию. По его мнению, она должна достичь Русской Америки и воспользоваться ее благами – загрузиться ценной пушниной, затем дойти до порта Кантон, открыв его для российской торговли. После этого экспедиция должна вернуться в Санкт-Петербург и доставить туда самые редкие азиатские товары. Проект и коммерческий, и научный, а кроме того – политический. России необходимо застолбить свое место на Тихом океане, пока соперники не заняли его полностью. Безусловно, дальние плавания Джеймса Кука послужили примером, но кроме того они стали причиной беспокойства – появилась угроза конкуренции. Для юного царя Александра эти аргументы звучат как напоминание о бесконечных предостережениях «Российско-Американской компании».
Таким образом, летом 1802 года он возлагает на капитана Ивана Крузенштерна руководство первой русской морской кругосветной экспедицией. Первое поручение – найти два современных парусных судна, пригодных для океанского плавания на любых широтах. Крузенштерн и его помощник Юрий Лисянский, который младше его на три года, однако прошел ту же английскую морскую школу, покупают и ремонтируют в лондонских доках два парусника, поврежденные в боях с французами. Переименованные в «Надежду» и «Неву», эти суда позволят России вслед за Португалией, Испанией, Великобританией, Голландией, Францией присоединиться к небольшому сообществу стран, чьи экипажи совершили путешествие вокруг света.
Александр I, вечно озабоченный состоянием государственной казны, поручает организационные вопросы «Российско-Американской компании», тут же выразившей свою крайнюю заинтересованность. В самом деле, в компании очень обеспокоены развитием событий. Общественность и инвесторы не знают, но она переживает опасный кризис: с 1797 по 1802 год три ее судна потерпели крушение где-то между родиной и колониями; люди и товары бесследно исчезли в северных водах Тихого океана. За долгие годы Русскую Америку не посетил ни один корабль под флагом империи. Теперь берег контролируют мелкие судовладельцы и рыбаки из Бостона. Для покрытия рисков они придумали систему морского страхования, которой так не хватает компании. Их китобои занимаются промыслом в русских водах Аляски, и никто не в силах им помешать. Они отважились дойти до самого Китая, где обменивают товары на чай, все более любимый их соотечественниками. В своей деревянной крепости Александр Баранов вне себя от гнева: каждый год в портах Ново-Архангельска и Кадьяка останавливается десяток американских кораблей – больше, чем русских за 20 лет! Бостонцы могут спокойно игнорировать требования российской администрации, что и происходит: они наращивают улов и ничего не платят взамен, тогда как для соперничества с ними РАК располагает только флотилиями местных байдар. Хуже того, бостонские торговцы налаживают прямые отношения с тлинкитами. И торговля идет полным ходом! В обмен на шкуры морских выдр (каланов) – основу тлинкитской торговли, индейцы требуют и получают оружие и порох. Также в Ново-Архангельске говорят, что люди из Бостона снабдили тлинкитских воинов маленькими пушками в тайной надежде, как подозревают русские, что индейцы вытеснят поселенцев и освободят место. Не имея прямых новостей из России, если не считать сообщений иностранных кораблей, Александр Баранов не находит себе места. Он понимает, что ситуация накаляется, особенно учитывая поведение соседей-индейцев. Что касается поселенцев и их алеутских работников – обстановка ничуть не лучше. Без снабжения из России колонии угрожает голод.
В Санкт-Петербурге руководство компании тоже понимает, что решается вопрос о будущем колонии. И если кто-то еще сомневается, опыт первых лет наглядно показывает, что выбранная модель управления удаленной колонией неприемлема. Пуповина, связывающая столицу с отделениями компании на Аляске, слишком растянута. Сначала товары отправляют на санях или по разбитым грунтовым дорогам, с несколькими перегрузками сплавляют на баржах по разным рекам; затем предстоит преодолеть трудные перевалы по дороге к Охотску, после чего чаще всего приходится строить из всего что есть суда, способные доставить груз на Камчатку, а затем на Аляску – на этих перевозках почти половина таких плохо оснащенных кораблей пропадает без вести. Одежда, инструменты, оружие, предметы первой необходимости, – при столь чудовищных затратах из всего этого доходит лишь малая часть. Продукты портятся еще до прибытия в пункт назначения, даже собаки на Кадьяке не притрагиваются к солонине, выгруженной из суденышек компании. Такой бесконечный маршрут не предполагает транспортировку слишком тяжелых грузов. Приходится даже распиливать на части корабельные якоря, чтобы перевезти их по трудной дороге из Якутска в Охотск, где их затем сплавляют в единое целое. В колонии люди живут в постоянной нужде, свирепствует цинга, дальше так продолжаться не может.
Естественно, идея с помощью больших парусных кораблей добраться до колоний прямо из Петербурга, как спасительная альтернатива затратному переходу через Сибирь, получает полную поддержку компании. Официально руководство сообщило об этом двору в июле 1802 года в момент покупки Крузенштерном двух кораблей для экспедиции. Этот морской путь мог бы стать новой транспортной линией империи. Компания даже готова взять на себя бо́льшую часть затрат, при условии получения также и непосредственного руководства экспедицией. Вот настоящая причина, по которой Александр пригласил Николая Резанова в свой летний дворец. В самом деле, можно ли найти лучшего посла и руководителя экспедиции, чем уполномоченный представитель самой компании, распоряжающийся ее капиталом, к тому же придворный камергер, и таким образом показать Российскую империю в лучшем виде? Все решено. 10 июля 1803 года министр коммерции передает Николаю Резанову императорский указ, согласно которому он назначается не только полномочным послом в Японии, но и «полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке». Во избежание недоразумений, в документе уточняется: «Сии оба судна [«Нева» и «Надежда»] с офицерами и служителями, в службе компании находящимися, поручаются начальству Вашему».43
Все ясно? На самом деле не совсем. Капитан Крузенштерн, осуществляющий всю надлежащую подготовку с самого зарождения идеи путешествия до покупки парусников и подбора экипажей, естественно, считает себя главнокомандующим и руководителем экспедиции. Его мало волнует, что она находится под патронажем компании. Крузенштерн готовится стать русским Джеймсом Куком, и для него Николай Резанов, сопровождающий его на борту, не более чем держатель кошелька. Это всего лишь простое недоразумение. В самом деле, традиционные правила Адмиралтейства гласят, что на корабле должен быть один хозяин – капитан, и у Крузенштерна нет никаких оснований предполагать, что здесь дело обстоит иначе. Или же царь предпочел не слишком настаивать на вверяемых Резанову полномочиях, чтобы избежать конфликта с капитаном, на которого уже возложена ответственность за выполнение задач? Впоследствии Крузенштерн весьма странным образом скажет, что инструкции он «продержал, но не читал».44
Когда 26 июля 1803 года «в восемь часов пополуночи» два парусника покидают Кронштадт, все введены в заблуждение и никто не подозревает, что между двумя руководителями подспудно зреет конфликт, которому суждено вырваться наружу. «Мы покинули Россию с твердым убеждением, что Р [Резанов] обычный пассажир на борту»,45 – напишет потом офицер «Невы» лейтенант Герман фон Левенштерн. Притом в глазах моряков пассажиром он был раздражающим и стесняющим, учитывая весь хлам, который Резанов посчитал нужным погрузить в качестве будущих подарков в ходе кругосветного путешествия. Список: четыре пары ваз Императорского фарфорового завода; 71 зеркало Императорского стеклянного завода; 15 стеклянных подставок оттуда же; гобелен с портретом Александра I из Императорской шпалерной мануфактуры; еще три ковра и гобелена оттуда же; мех чернобурой лисицы и горностая; 300 м шелка; 350 м бархата; 11 отрезов английского фетра; испанский фетр; бронзовые механические часы в форме слона из Эрмитажа; четыре шкатулки их слоновой кости; 100 чашек из слоновой кости; пистолеты; мушкеты; сабля и шпага; складной стальной стол; четыре подсвечника; 12 стеклянных кувшинов; две лампы с увеличительными зеркалами для маяков; 25 золотых коронационных медалей; 200 серебряных медалей; 39 м синей ленты для медалей; 142 м ленты ордена Святого Владимира; два набора стальных пуговиц!46
На остановке в Лондоне Резанов дополнил свой скарб, купив электрическую машину, способную давать жизнь трупу. Ее он тоже вознамерился подарить императору Японии. Он видел демонстрацию с телом приговоренного к смерти и был очень впечатлен движениями рук, ног и глаз (!), вызванными электрическими разрядами.
* * *
Но начало плавания проходит очень мирно. Общество, собравшееся на борту, могло бы украсить собой лучшие гостиные столицы. Помимо Крузенштерна и Резанова, в списке офицеров насчитывается несколько имен, которые войдут в историю русского флота. Среди них Беллинсгаузен, братья Отто и Мориц (Маврикий) Коцебу, которым также посчастливилось получить образование в британском флоте и стать в будущем известными путешественниками. Среди них именитые ученые, например, астроном и физик Иоганн Каспар Горнер из Гёттингенского университета, натуралист Фёдор Бринкин из Академии наук, ботаник Вильгельм Тилезиус из Лейпцига, астроном Ермолай Карлович Фридерици. Ученые были столь заворожены проектом кругосветной экспедиции, что один из них, врач, барон Георг (Григорий) Лангсдорф, получив отказ во время набора команды в Санкт-Петербурге, своим ходом добрался до Копенгагена, где его все же приняли с условием полного отказа от жалования и каких бы то ни было привилегий. Среди руководства экспедицией много немцев, а среди офицеров – балтийских немцев. Все они лютеране. Нетрудно представить, как и в экспедиции Беринга почти полтора века назад, что такой офицерский состав не мог не повлиять на взаимопонимание на борту. Из 22 человек за капитанским столом только девять русских, и то в основном из свиты Николая Резанова.
Курс на экватор, затем мыс Горн, после которого предполагается выйти в Тихий океан. Вечера на юге Атлантики посвящены беседам или концертам камерной музыки. Лейтенант Ромберг – первая скрипка, Резанов – вторая, Тилезиус – контрабас, Лангсдорф – альт, Фридерици и Горнер – флейты. Имеются детальные описания досуга и распорядка дня, так как эти господа все ведут путевые дневники и не откажут себе в удовольствии впоследствии опубликовать из них большие отрывки. Таким образом мы узнали о проделках лейтенанта Фёдора Толстого, офицера элитного Преображенского полка, известного своим пристрастием к дуэлям (за свою жизнь у барьера он убил 11 человек). Фёдор Толстой отличился эффектными пьянками, за что выслушал от Резанова множество угроз разжаловать его и взыскать с него штраф. В конце концов его высадили на берег и отправили по суше в Санкт-Петербург[53].
Между Крузенштерном и Резановом наконец вспыхнул конфликт. Поводом стало самое обыкновенное расхождение во мнениях по поводу следующего захода. Капитан хочет бросить якорь на Тенерифе, а полномочный представитель РАК – на Мадейре. История не сохранила мотивов ни одного, ни другого; но внезапно вспыхнувшая ссора продлится половину кругосветного плавания. Когда Резанов выходит из своей каюты и с капитанского мостика громко зачитывает служебное предписание, врученное ему самим императором, команда готова взбунтоваться. Крузенштерн чувствует себя обманутым, он уверен, что Резанов хочет присвоить себе всю славу путешествия, где он и автор, и сценарист, и режиссер. Офицеры и матросы тотчас объединяются с капитаном против самодовольного наглеца, совершенно не считающегося с морскими законами и обычаями. Резанов топает ногами, негодует, кричит о предательстве и мятеже против воли императора. Ничего не помогает, в ответ лишь тяжелое враждебное молчание команды, выполняющей приказы только Крузенштерна. Разногласия между ним и Резановым обостряются по мере того, как «Нева» и «Надежда» пересекают новые параллели. Зайдя в бразильский порт, два начальника экспедиции пишут жалобы, в которых обвиняют друг друга в самых страшных злодеяниях, и отправляют их в Петербург. Крузенштерн улучает момент, когда Резанов на суше, и просит старшего плотника разделить большую каюту, где проживают офицеры и посольство, чтобы поселить Резанова с компанией многочисленных образцов бабочек, ящериц, крабов, змей и жаб, собранных учеными. При прохождении мыса Горн лейтенант Левенштерн пишет в своем дневнике, что холод мыса Горн не может быть столь сильным, как холод, питаемый офицерами в отношении Р., а он сам, понимая безответственность такого отношения, очень надеется на шторм у мыса Горн.47 На Маркизских островах при пополнении запасов пресной воды мореплаватели отвлеклись на туземцев, подгребающих к самому борту флагманской «Надежды». Они залезали с бортов, предлагали свои услуги и свежие продукты. Среди посетителей также много женщин с иными «угощениями». Движения их «страстны и похотливы»,48 как отмечает Крузенштерн, при этом уверяя, что ни один русский не поддался искушению. То же происходит при подходе к каждому новому архипелагу. Например, капитан «Невы» Лисянский, встав на якорь у острова Овиги (Гавайи), пишет: «После захода солнца, когда запрещенное время кончилось, к нам приплыли около ста женщин. Но так как я приказал ни одной из них не входить на корабль, то они и отправились обратно на берег, негодуя на свою неудачу».49
Однако, эта чувственная интермедия не разрешает спор Крузенштерна с Резановым и конфликт превращается в открытую вражду. Возмущенный отказом капитана устроить обмен товарами с жителями Маркизских островов, Резанов, собрав всех офицеров, зачитывает подписанный царем документ с назначением его верховным главой экспедиции. «Ступайте, ступайте с вашими указами, нет у нас начальника, кроме Крузенштерна», – кричат ему офицеры. А один из лейтенантов даже предлагает «его, скота, заколотить в каюту». Резанов сражен. «Я едва имел силу уйти в каюту, – сообщит он по прибытии на Камчатку, – и заплатил жестокой болезнью, во время которой доктор ни разу не посетил меня <…>. Ругательства продолжались, и я принужден был, избегая дальнейших дерзостей, сколь ни жестоко мне было проходить экватор, не пользуясь воздухом, высидеть, никуда не выходя».50
Когда корабли проходили через острова Гавайи, Резанов ненадолго выходит на воздух, но обменивается с офицерами одними лишь оскорблениями. Николай Резанов любуется великолепными татуировками, которыми туземцы покрывают все тело, отчитывает лейтенанта Толстого, который естественно сразу же предоставил художникам-татуировщикам свою спину, торс и руки, воздает должные почести королю Катенуа – и вдруг чувствует, что у него сдают нервы. В момент поднятия якоря, после очередной перебранки моряки «Надежды» видят, как он возвращается в свою каюту, мрачный и изможденный. Он не выйдет оттуда, будет тосковать там два месяца вплоть до самого Петропавловска-Камчатского.
На Гавайях управляющий «Российско-Американской компании» узнает очень плохую новость. Место остановки – стратегический центр в сердце Тихого океана, где китобои и торговцы пушниной из Бостона останавливаются на пути в Китай, чтобы пополнить запасы питьевой воды и отремонтировать корабли, пострадавшие во время плавания. Проезжий англичанин рассказал, что в Ново-Архангельске, столице РАК в Америке, произошла трагедия. Кошмарный сон Александра Баранова сбылся, тлинкиты взбунтовались. Устав наблюдать, как на их землях европейцы охотятся на каланов, они воспользовались оружием и порохом, купленными у торговцев Новой Англии, и взяли штурмом форт и поселение в Ново-Архангельске. Говорят, что головы 29 русских и 55 алеутов, защищавших крепость, были насажены на колья лицом к океану в качестве предупреждения. Александр Баранов вроде бы цел, но ему пришлось отступить вместе с выжившими на Кадьяк.
Первоначальный план Резанова предполагал выгрузить на Камчатке запасы продовольствия для Русской Америки, а затем дойти до Японии. Однако новость об этой катастрофе все меняет. Перед тем как запереться в своей каюте в грузовом отсеке, Резанов приказал капитану Лисянскому и его «Неве» незамедлительно взять курс на Аляску и оказать поддержку Баранову. Сам он вместе с Крузенштерном на «Надежде» будет продолжать свою японскую миссию, возложенную на него императором. На этот раз Крузенштерн все-таки соглашается. Корабли расходятся. В то время как уполномоченный представитель императора, заточенный в своей каюте, движется к Петропавловску, «Нева» идет на восток выручать соотечественников.
Летом 1804 года шлюп Лисянского входит в порт под крики «ура» поселенцев, укрывшихся на Кадьяке, – первом оплоте компании, основанном Шелиховым. «Нева» – первое парусное судно из европейской России, достигшее Русской Америки. Александр Баранов испытывает огромное облегчение. Уже два года прошло после поражения от тлинкитов, и русские в Америке начинают отчаиваться. С корабельными пушками, вооруженными матросами и поселенцами он может надеяться вновь овладеть Ново-Архангельском и выгнать оттуда тлинкитов. Явление корабля как знак судьбы. И в самом деле, приход в бухту Ситка заокеанского корабля, стреляющего из всех орудийных портов на фоне развалин Ново-Архангельска, производит впечатление на индейских воинов. Жесткие бои идут несколько дней, после чего тлинкиты отступают в лес, оставляя раненых и младенцев, успевших родиться в их новом укрепленном лагере. Зайдя в крепость, русские обнаружат две пушки и несколько сотен ядер, забранных тлинкитами при прошлой победе или купленных у проезжих торговцев. а вот пороховые склады пусты, что, несомненно, и вынудило их отступить.
Во время боев Александр Баранов ранен, но все понимают, что настоящий победитель – капитан Лисянский и экипаж «Невы». Без них колония точно была бы потеряна. Этот эпизод станет символическим началом новой эпохи, нового порядка в Русской Америке. Ново-Архангельск, восстановленный Барановым, из небольшого поселения превращается в столицу русской Аляски, вполне сравнимую с другими колониями европейских держав в Северной Америке. Кроме того, переходит своего рода передача браздов правления от сибиряков-первопроходцев, промышленников, стоявших у истоков, новым властям – офицерам флота Его Величества, выходцам из русской аристократической элиты. «Нева» – это только первый из многих кораблей, отныне соединяющих Санкт-Петербург на Балтике с бухтой Ново-Архангельска. С 1803 по 1849 год 34 трехмачтовых корабля вслед за «Невой» и «Надеждой» пройдут по их маршруту и обогнут земной шар. До 1867 года их число достигло 45,51 и таким образом Российский флот обеспечил себе первенство по количеству кругосветных путешествий. Их будет больше, чем у английских и французских моряков вместе взятых. Новый путь к Аляске быстрее и удобнее бесконечного перехода через Сибирь. Вскоре, как это ни парадоксально, колония в Русской Америке окажется ближе к Санкт-Петербургу и Европе, чем маленькие фактории на сибирских реках или рыбацкие поселки на Охотском море. Не заставляет себя ждать и соответствующее влияние на местное население. Хорошо обученные и закаленные в морях экипажи, офицеры-полиглоты, воспитанные в высшем свете, приходят на смену охотникам, рыбакам и предпринимателям. Для последних Аляска по большому счету была не более чем продолжением Азии за океаном. Видя, как их Америка вдруг становится «цивилизованной» и европеизированной, они потихоньку начнут перебираться обратно в Сибирь и жить там, как им нравится. За несколько лет их заменит новое поколение поселенцев, среди которых много финнов, бывших тогда гражданами империи, а также балтийских немцев, составивших почти треть жителей колонии. Отношения с туземцами тоже изменились: новые хозяева менее склонны к насилию и жестокости, они видят себя носителями цивилизации в мир «варваров». С увеличением социальной дистанции нет больше речи о смешении кровей, о сожительстве, о креольском языке. Каждый на своем месте, как это принято в испанских или британских колониях. После того как Баранова, последнего из прежней формации, отзовут в 1818 году[54], Аляской будут управлять только морские офицеры. Ничего общего с Сибирью – никаких воевод или казаков для обеспечения порядка. Аляска – это отдельная часть Российской империи, единственная ее колония. Все это только облегчит процесс деколонизации после передачи Русской Америки Соединенным Штатам в 1867 году.
* * *
Чем же все это время был занят Николай Резанов? Посланник царя и «Российско-американской компании» так и не покинул каюты, пока на горизонте не показались камчатские вулканы. Остановка в Петропавловске-Камчатском, необходимая, чтобы пополнить запасы одежды, инструмента, металлических изделий, соли и продуктов, истощившиеся со времени последней стоянки на Гавайях, послужила поводом для сведения счетов с Крузенштерном, которого Резанов обвинил в злоупотреблении полномочиями, вероломстве и незаконном удержании его в заложниках. Дело кончилось компромиссом, позволившим все же продолжить плавание в сторону Японии. Выстроившись в шеренгу на петропавловском причале, Крузенштерн и офицеры принуждены были по очереди принести Резанову извинения. Последний, со своей стороны, согласился передать управление экипажем и судном его капитану на все время плавания и письмом уведомил государя о примирении двух руководителей экспедиции. Примирение, однако же, не было вполне искренним: по свидетельствам очевидцев, произнося слова извинения, Крузенштерн сдерживал слезы и грозил подать в отставку.52 Офицеры тоже не остались в долгу, большинство из них нелицеприятно отзывались о «пассажире Р» в своих дневниках, впоследствии опубликованных в европейских столицах. Немного погодя унижение пришлось пережить самому Резанову. Это произошло в Японии, где, по расчетам придворного камергера, его ожидал триумф. Экипаж «Надежды», как и следовало ожидать, не выразил по этому поводу особого сожаления.
Действительно, сразу по прибытии шлюпа на рейд Нагасаки в конце сентября 1804 года дела приняли оборот, явно отличный от того, на который рассчитывали Резанов и его сановные друзья из Петербурга. В Зимнем дворце давно грезили таинственной японской империей, и после года изнурительного странствия Резанов уже был готов пожать его плоды. На палубе судна он велел выставить несметное множество богатых подарков для сёгуна, в радостном нетерпении предвкушая скорую встречу с ним. Нагасаки в то время был единственным окном в государство, известное своим изоляционизмом; лишь голландцам (и снова им!) удалось основать здесь торговый плацдарм. В бухте Нагасаки сёгун велел насыпать небольшой искусственный остров в форме веера, на котором и разместились голландцы. Остров Дэдзима образовывал своеобразный район торгового порта Нагасаки, на нем поместились несколько десятков домов, традиционная японская архитектура сочеталась здесь с голландскими мотивами, хранилищами для зерна, складами для товаров и небольшой протестантской церковью. Попасть на остров можно было по охраняемому мостику, по которому японцы переходили для переговоров с европейскими партнерами[55]. По указу сёгуна, внешняя торговля более двух веков могла вестись только на острове Дэдзима. Таким образом, голландцы, сменившие португальцев, с 1609 года занимали единственный подступ к процветающей Японии. Когда сюда прибыли русские, голландцы, по сути, обладали монополией на внешнюю торговлю с Японией и в полной мере пользовались этим.
Резанов рассчитывал пробить брешь в невидимой стене, которой окружила себя Япония, но не успел он облачиться в один из своих лучших посольских мундиров, как начались неприятности. Вместо приветствия прибывших со своих лодок, как на предыдущих стоянках, местные рыбаки жестами недвусмысленно дали им понять, что в этих краях их визиту не рады. Следом появились представители властей, передавшие русским распоряжение: бросить якорь в четырех морских милях от берега, на ветреном просторе, где те сполна насладились качкой во время долгого ожидания.
Ожидание продлилось полгода. Все это время Резанов и его команда вели ежедневные переговоры, сначала о праве зайти в порт, затем о праве пристать к берегу, наконец, о разрешении сойти на берег и разместиться на суше. Японцы были скупы на уступки. Как с иронией заметил Левенштерн, «все, что мы смогли узнать о японцах, мы узнали через подзорную трубу».53 Те не уставали повторять: доступ закрыт всем иностранцам, кроме голландцев, чей представитель Хендрик Дофф часто был посредником на переговорах (ни один из японских эмиссаров не говорил по-русски, по-французски или по-английски). Делегации вынуждены были вести переговоры, прибегая к нижненемецкому диалекту, который немного знал доктор Лангсдорф, или к голландскому языку. Сами переговоры больше напоминали разговор глухих. Так, на вопрос русских, как зовут их сёгуна, японцы отвечали: это тайна[56]. Где находится его резиденция и можно ли нанести ему визит? «Ни в коем случае», – отвечали японцы, заодно указывая Резанову на то, что его верительные грамоты составлены на простом и даже простонародном японском[57]. Сколько же времени ожидать его согласия? «Вам уже повезло, что вы добились милостивого дозволения пристать к берегу», – был ответ.
Все это говорилось с неизменной японской улыбкой. Резанов вначале встречал обстоятельства с достоинством. Желая наладить общение, он стал изучать японский язык и принялся за составление словаря, в который вошли несколько тысяч слов. Но время шло, и терпение его было на исходе, случаев взаимного непонимания и взаимных оскорблений становилось все больше. Резанов убеждался, что лишь решимость – достойное отражение могущества его великого государя – может повлиять на другую сторону. В ответ на очередное извинение со стороны японских сановников он разражался бурным гневом и протестовал, на что ему лишь замечали, что его поведение не согласно с правилами японской учтивости. Он отказывался отдавать поклон и садиться, сложив ноги. Когда же он увидел голландского представителя, согнувшегося в поясе и положившего руки на колени, он презрительно заметил: «Японцам никогда не удастся подвергнуть нас такому унижению».
Шли месяцы, и раздражение Резанова лишь нарастало. Офицеры «Надежды» вели учет всем его вспышкам ярости и малейшим промахам, занося их в свои личные дневники. Видели, как камергер, стоя на палубе в исподнем, справлял малую нужду за борт. «Резанов предстал перед лицом японского народа», – писал Левенштерн. А когда русские получили разрешение поселиться на суше, в закрытом лагере из нескольких бамбуковых хижин в стороне от города, Георг Лангсдорф, врач экспедиции, заметил, что местные наблюдали за ними в щели в бамбуковой ограде и смотрели на них, «как смотрят в Европе на диких зверей», и смеялись, видя, как глава миссии ходит по лагерю «в длинном халате, ночном колпаке и без штанов».54
Однажды власти Нагасаки прислали к русскому послу врачей, беспокоясь о его здоровье. «Кажется, он страдает лицемерием и недостатком чувства юмора»,55 – сделали вывод посетители. «Резанов утратил значительную часть доверия у японцев, чрезвычайно высоко ставящих этикет. Они презирают нас, европейцев, и в этом они правы».56
Ответ сёгуна, полученный наконец 23 марта 1805 года, стал ударом для Резанова. Через посланника император велел передать, что Япония «имеет небольшие потребности и принимает немного заграничных товаров», что «ее скромные запросы вполне удовлетворяют голландцы и китайцы и двор не желает ввозить предметы роскоши». Резанова просили благодарить его государя за щедрые подарки, но принять их отказались: «Япония недостаточно богата, чтобы достойно ответить на такую щедрость и нагрузить ваши суда лакированной утварью».57 Резанов сидел напротив японского чиновника, по японскому обычаю подогнув ноги, он был ошеломлен и не мог говорить. Аудиенция продолжалась полчаса, затем японский дипломат встал и серьезным тоном заметил, что «должно быть, трудно долго находиться в столь непривычной позе». Николаю Резанову, глубоко раздосадованному и униженному, оставалось лишь уйти в море. Перед отплытием ему передали пакет с семенами для государыни, чтобы она могла наслаждаться цветением японских растений в своих садах. Миссия окончилась провалом.
Еще одна рана была нанесена самолюбию Резанова в Петропавловске. Сюда пришло письмо от Александра I. Государь император заранее поздравлял своего полномочного посланника с успехом его посольства ко двору сёгуна и выражал радость по поводу выгод, которые сулил новый торговый союз. Он также писал, что получил известие о примирении с Крузенштерном, и объявлял, что намерен наградить последнего Святой Анной. Это была самая высокая награда из тех, какими мог похвалиться сам Резанов. Но в письме не было ни единого слова благодарности, ни единого щедрого жеста в его сторону! Камергер не мог еще знать о другом письме, ласковом и полном обещаний, которое вместе с личным подарком от государя уже было в пути из Петербурга в багаже императорского посыльного. Его самолюбие страдало. Положение было незавидное. Как в таких обстоятельствах было, не уронив достоинства, вернуться в Петербург? Как было объяснить государю неудачу, которую он потерпел в Японии? Да к тому же присутствовать при триумфе Крузенштерна… Камергер чувствовал что, прежде чем снова предстать перед государем, он должен совершить новый подвиг, и он должен совершить его в Америке. «Я навек останусь в Америке, в Америке титулы и награды не нужны»,58 – писал он государю. Тон письма был разгневанный и дерзкий. Его письмо встретилось в пути с личным письмом государя. После такого обмена разумнее было не спешить ко двору. Резанову больше не суждено было увидеться с Александром I и получить от него письмо.
Прощание с Крузенштерном было коротким. Капитан встретился с «Невой» Лисянского в Кантоне и продолжил кругосветное плавание на «Надежде» до Петербурга, где был встречен, как герой.
Резанов тем временем на первом же судне достиг сначала острова Кадьяк, а затем Ново-Архангельска, который перестраивался под началом Баранова, отбившего его у тлинкитов. Поселение было в плачевном состоянии. 200 русских и 300 кадьякцев строили новую крепость на более удобном для обороны месте[58]. Резанов привез с собой несколько пушек для укреплений на господствующих высотах. Предполагалось также построить причалы для швартовки парусных судов, которые должны были в будущем осуществлять сообщение с Россией. Несколько месяцев, которые камергер и основатель «Российско-Американской компании» провел в Ново-Архангельске в обществе Баранова, были отмечены бурной и чрезвычайно энергичной деятельностью. Резанов писал одно донесение за другим, множил жалобы и обвинения в адрес чиновников и церкви, подход которой к общению с коренным населением казался ему слишком мягким и уступчивым, он давал разнообразные рекомендации, опираясь на собственный опыт: православным священникам советовал брать пример с парагвайских иезуитов; управлению колониями, расположенному в Петербурге, предлагал опираться на опыт британцев в Ботаническом заливе, в Австралии, недавно исследованной Куком, то есть отправлять в эти отдаленные земли заключенных и каторжников как поселенцев. По его мнению, Аляска как нельзя лучше подходила для такого опыта, к тому же здесь не хватало рук, ведь крепостные крестьяне в европейской России не могли отрываться от земли.
Но самой серьезной проблемой, от которой страдало население колонии, по-прежнему был недостаток продуктов. Жители Ново-Архангельска постоянно нуждались в зерне, овощах и фруктах. После прибытия Резанов приобрел на имя компании прибывший из Род-Айленда бриг «Юнона» с грузом продовольствия: муки, сахара, рома, сухарей, риса и табака. Однако всего несколько месяцев спустя, весной 1806 года, стало ясно: голода не миновать. Запасы продовольствия подошли к концу, новые торговые суда ожидались не ранее лета. Восемь русских поселенцев умерли от цинги, 60 других лежали без движения в тени барака, служившего диспансером и наполнявшегося смрадом от их дыхания. На «Юноне», по-прежнему стоявшей на рейде, Резанов надеялся продолжить продвижение на юг, в Калифорнию, куда прежде дал себе слово добраться его тесть Григорий Шелихов. Александр Баранов мечтал основать там факторию или хотя бы наладить торговлю с испанцами, далекими соседями, завладевшими этими плодородными землями. В Европе в этот самый момент войска Наполеона вторглись в Испанию. Кто мог знать, что происходило тогда в далеких калифорнийских колониях Мадрида…
25 февраля 1806 года Николай Резанов с группой самых сильных людей (18 человек) и тяжелобольными (в надежде их спасти, 15 человек) покинул Ново-Архангельск и направился к югу. Начинается один из самых захватывающих эпизодов его путешествия по Сибири и Америке.
В марте судно подошло к устью реки Колумбии, где сегодня проходит граница между штатами Орегон и Вашингтон. Баранов предполагал основать в этой местности новую русскую колонию. Но море было неспокойным, дожди преследовали путешественников с той поры, как они миновали гору святой Елены (современное название Сент-Хеленс), и состояние больных постоянно ухудшалось. Песчаная отмель в устье Колумбии давала ничтожные шансы войти в реку. Вдали на другом ее берегу они заметили дым. По невероятному стечению обстоятельств русские оказались в 8 км от лагеря экспедиции американских первопроходцев Льюиса и Кларка, которых направил сюда президент Джефферсон. Они должны были найти по возможности судоходный торговый путь от Луизианы к северу через бассейн Миссури к Тихому океану и… Азии. Пройдя за два года через всю Америку и преодолев Скалистые горы, американцы чуть-чуть разминулись с экспедицией Его Императорского Величества. Две великих страны почти соприкоснулись, но историческая встреча не состоялась.
28 марта, когда взошло солнце, «Юнона» подошла к заливу Сан-Франциско, где сегодня раскинулся мост Золотые Ворота. Выступающий в море мыс занимал тогда самый северный испанский гарнизон, расквартированный в укреплении (преcидио), возвышавшемся над заливом. Немного ниже уже лет тридцать располагалась францисканская миссия, давшая имя поселению. С палубы брига русские заметили на мысу какое-то волнение. Это были испанцы. Не ожидая гостей, они размахивали руками и с помощью рупора пытались дать понять, что заходить в бухту запрещено. Согласно официальным распоряжениям Мадрида, воспрещалось любое взаимодействие с иностранцами. Русские, конечно же, понимали, но у них не было иного выбора, кроме как попытаться зайти в бухту и пополнить запасы продовольствия: экипаж был изнурен, и даже Резанова сразила цинга. Пытаясь убедить испанцев не наводить на них пушки, они стали кричать что было сил: «Si, Señor! Si, Señor!» и делать вид, что становятся на якорь, рулевой же тем временем направлял корабль ко входу в бухту. Операция заняла несколько минут, и когда испанцы все же выстрелили из орудия, «Юнона» уже скользила по спокойным водам бухты, опустив паруса.
На берегу русских встречал небольшой верховой отряд: несколько офицеров в черно-красной форме, в сапогах мягкой кожи с огромными шпорами, в широкополых шляпах, и один монах из францисканской миссии. Резанов надел парадный мундир камергера, который эффектно дополняли ключи – атрибут камергерского чина, орден Святой Анны с бриллиантами и орден Вюртембергской короны. Он надел и свою великолепную треуголку и взял с собой доктора Лангсдорфа. Русский и испанский отряды приветствовали друг друга со всей возможной торжественностью. Отец Хосе Антонио Уриа и доктор Лангсдорф, владевшие латынью, выступили в качестве переводчиков. «Habitationes nostras in regione ad septentrionem tenemus, appelata Russia est»,[59] – сообщил Лангсдорф. Испанцы понимающе закивали, до них доходили сведения о возможном прибытии некоего Резанова, командующего двумя кораблями, совершающими кругосветное плавание. «Это ведь вы?» – спросил один из офицеров. Удивленный, польщенный и немного встревоженный, Резанов поспешил объяснить причину несвоевременного визита: ему были жизненно необходимы зерно, фрукты и свежая провизия, и он готов предложить хорошую цену или обменять их на пушнину, сложенную в трюме его судна. Военные стали извиняться, поясняя, что комендант города, дон Хосе Дарио Аргуэльо, отлучился на несколько дней в Монтеррей на встречу с губернатором Калифорнии. В ожидании его возвращения и распоряжений русских пригласили ужинать к супруге коменданта, донье Марии, и просили воздержаться от общения с местными.
В тот же вечер Николай Резанов, все в том же парадном офицерском мундире императорского двора, и доктор Лангсдорф пожаловали в пресидио. 11 из 13 детей четы Аргуэльо вышли приветствовать гостей. Старший сын и был тем самым офицером, что встречал путешественников на суше. Но взгляд Резанова сразу же упал на старшую дочь, донью Марию де ла Консепсьон, совершенно очаровавшую гостей. Консепсьон было 15 лет, и ее брат с гордостью представил ее как «самую прелестную красавицу двух Калифорний».[60] Доктор Лангсдорф сохранил яркое воспоминание об этой встрече: «Донья Консепсьон отличалась поразительным изяществом, живым и веселым нравом, глаза ее лучились искристым светом и пробуждали любовь, у нее были небольшие зубы, выразительные и приятные черты и фигура, восхитительное лицо и множество других достоинств, в особенности же естественность и безыскусность».60 Мы почти не располагаем достоверными портретами Консепсьон Аргуэльо. Один из них – групповая фотография – не совсем резкое изображение середины XIX века. Но, пожалуй, лучшим свидетельством о Марии можно считать описание, оставшееся от одной из подруг последних лет ее жизни, рисующее уже женщину преклонного возраста: «Черты и само лицо Кончи были прекрасны. Ростом она была немного ниже среднего и миниатюрного сложения. Лицо ее было небольшим, скорее овальным, чем круглым, и даже после 60 лет не покрылось морщинами. Щеки, правда, немного опустились, и, когда я узнала ее в эти годы, цвет ее лица принял слегка оливковый оттенок. Но особенно притягательными были ее глаза! Они были довольно большие и с годами совершенно не утратили своего блеска. Описать их вполне точно можно, сравнив их с двумя глубокими синими озерами. Прямо как небо, у глядящего в них было полное ощущение, что он погружается в синеву океана».61
Какой необыкновенной была эта женщина! Сколько в ней было изящества! И какой роковой оказалась встреча с ней… Юная калифорнийка, заключенная в этой далекой испанской крепости, совершенно затмила своей красотой нимф с Маркизских островов и служанку из тлинкитов из Ново-Архангельска. Николай Резанов, неведомо почему велевший называть себя «графом Резановым», был просто покорен очаровательной доньей Консепсьон. Пока все ждали возвращения коменданта крепости, которого успели оповестить о неожиданном прибытии русской экспедиции и который намеревался встретиться с ними в присутствии губернатора Верхней Калифорнии, дона Хосе Хоакина де Арильяги, испанцы, гораздо более гостеприимные, чем это дозволялось официальными предписаниями из Мадрида, «баловали» (выражение Лангсдорфа) гостей. Молоко, фрукты, белый хлеб, баранина, овощи в изобилии, наконец, улыбки дочерей Аргуэльо и их матери, – все это казалось раем! К слову, не прошло и трех дней, как пятеро русских матросов были арестованы за попытку дезертировать и без разбирательства осуждены военным судом. В наказание их высадили на безлюдном острове в заливе, Ла Исла де лос Алькатрасес («остров пеликанов»), современном острове Алькатрас. «Граф» Резанов, тем временем, проводил светлую часть дня в прогулках по окрестностям крепости в обществе доньи Консепсьон, которую вскоре стал называть Кончитой. Впрочем, от крепости они отходили не слишком далеко (испанцы опасались шпионов, которые могли бы зафиксировать их позиции), но достаточно для того, чтобы покорить прекрасную калифорнийку, прежде не смевшую и мечтать о подобном сопровождении. Свой безупречный французский Резанов пытался перекроить на испанский лад, понятный Марии. Очевидно, это удавалось ему без особого труда. Он писал министру коммерции Румянцеву: «Ежедневно куртизуя гишпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ее, честолюбие неограниченное, которое при пятнадцатилетнем возрасте уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ее не-приятною».62 «Да, прекрасная земля, теплый климат. Хлеба и скота много, и больше ничего», – не уставала повторять камергеру юная Кончита. Резанов разглядел в этом скрытое приглашение к действию: «Я представлял ей российский [климат] посуровее, и притом во всем изобильный, она готова была жить в нем, и наконец нечувствительно поселил я в ней нетерпеливость услышать от меня что-либо посерьезнее до того, что лишь предложил ей руку, то и получил согласие».
Подобные слова, подобное, напоминающее, скорее, донесение или доклад, изложение событий едва ли можно приписать безнадежно влюбленному. Быть может, Николай Резанов был лишь расчетливым манипулятором, готовым на все, чтобы завоевать расположение испанцев? В самом деле, мог ли придворный, мужчина 42 лет, овдовевший за более чем четыре года перед тем, найти в прекрасной Кончите источник новой силы, веры, обещание новой жизни, «узнав настоящую любовь под сенью апельсиновых рощ»,63 как писал историк-эмигрант Семёнов? Искренность столь неожиданно вспыхнувшей страсти вызывала сомнение у историков и специалистов по русско-американским отношениям. Не следует упускать из виду, что идиллическая любовь между русским дворянином с офицерской выправкой, гривой седеющих, но густых вьющихся волос, гордо носящим парадный мундир и ленту Святой Анны, и Кончитой, ослепительной в очаровании юности, понимавшей, что этот человек – ее единственная надежда однажды увидеть большой свет, была геополитическим делом.
* * *
В самом деле, что бы произошло, если бы в начале XIX века королевство Испании и Российская империя дали разрешение на заключение в Северной Америке этого брака? Николай Резанов, жаждавший (не будем забывать об этом) большой победы, которая помогла бы ему вернуть расположение государя, сразу же понял, какую выгоду можно извлечь из такого положения. «Блеск глаз доньи Консепсьон глубоко запечатлелся в его сердце, и он понял, что брак с дочерью коменданта Сан-Франциско станет шагом к достижению важных для него целей»,64 – писал Лангсдорф в своих воспоминаниях. Сам Резанов в письме к министру коммерции Румянцеву признавал, что его любовные порывы не были лишены расчета. Его любовь началась «отнюдь не по пылкой страсти, в [его] летах уже места не имеющей, но совсем из других побуждений и, может быть, столько же и по остаткам тех еще в [нем] чувств, которые некогда делали счастье жизни [его]».65
Продолжая настойчивые, но неизменно учтивые ухаживания за доньей Консепсьон, посланник государя и «Российско-Американской компании» успел расположить к себе и остальных членов небольшого испанского общества. Кончите и ее матери он дарил брюссельские кружева, янтарь с побережья Балтийского моря, бирюзу, уральские полудрагоценные камни, служанкам – рубашки из хлопка. С францисканскими монахами он проводил часы досуга за разговорами о состоянии мира и рассказами о последних открытиях. Все это, несомненно, было нужно, чтобы расположить к себе калифорнийских соседей, побороть их недоверчивость и запрет на ведение торговли, чтобы наполнить, наконец, трюм «Юноны» и добраться до заветной колонии Ново-Архангельска.
Вне всякого сомнения, Резанов имел более серьезные, далеко идущие планы. Он рассчитывал на процветание торговли между Калифорнией, Гавайями, Кантоном, Камчаткой и Русской Америкой, в которой при содействии испанцев русские могли бы занять ведущее положение. Он писал по этому поводу: «Камчатка и Охотск могут снабжаться хлебом и другими припасами. Якуты, ныне возкою хлеба отягощенные, получат спокойствие».66 Тихий океан, за которым будущее, позволил бы Сибири и Русской Америке развиваться независимо от европейской метрополии. Возможно, подобная перспектива не вызывала восторга у государя и в Петербурге, но это уже другая история.
Когда командующий гарнизоном, отец Кончиты, наконец прибыл в пресидио в сопровождении губернатора Арильяги, симпатии местного общества уже были на стороне Резанова. «Я искренно скажу вам, что нужен нам хлеб, который получать можем мы из Кантона, но как Калифорния к нам ближе и имеет в нем избытки, которых сбывать не может, то приехал я поговорить с вами, как начальником мест сих, уверяя, что можем мы предварительно постановить меры и послать на благорассмотрение и утверждение Дворов наших».67 Францисканцы горячо поддержали Резанова, и, спустя несколько дней сопротивления, в течение которых губернатор Верхней Калифорнии все твердил, что он-де не нарушит верности испанской короне, он все же согласился пойти на исключение, по сути гуманитарное.
«Юнону» нагрузили зерном до предела ее возможностей. Помимо двухсот тонн зерна, ссыпанного в кожаные мешки, трюмы пополнились маслом, солью, бобами и горохом, говядиной и овощами,68 в которых жизненно нуждалось ново-архангельское население.
Между тем нужно было что-то решать со сватовством. На вопрос cмущенных супругов Аргуэльо не могли вразумительно ответить даже монахи. Для начала Кончиту долго исповедовали, пытаясь укрепить ее в лоне католической веры. С чего вдруг ей вздумалось влюбиться в православного? Не мимолетное ли это увлечение? Но Кончита была непреклонна, и совет францисканцев все же решил просить разрешения на этот брак у папы. Резанов и сам собирался отправиться за таким разрешением и пообещал будущему тестю по своем возвращении в Петербург просить у царя назначения послом в Мадрид. Миссионеры рассудили, что обручение можно считать состоявшимся, но договорились держать его в тайне до получения папского согласия. Николай поклялся, что не пройдет и двух лет, и он приедет на свадьбу.
В пресидио был устроен прощальный бал. Николай и Кончита танцевали вместе в последний раз. Все светское общество испанской колонии, русские офицеры и доктор Лангсдорф были растроганы до слез. Во время прогулки на один из островов залива дочь коменданта подарила жениху, в обмен на прядь из его шевелюры, медальон, в котором был заключен завиток ее собственных волос, черных, как смоль. Сцену прощания уже в 1960-е годы реконструировал писатель Гектор Шевиньи, автор популярных романов: «Кончита, ты уверена, что дождешься меня? – Я уверена. – Если я не вернусь прежде, чем истекут два года, считай себя свободной от данного обещания. – Я буду ждать. Я буду ждать тебя вечно. (Она сжала его в объятьях.) – До свидания, любовь моя, adios. (Она едва заметно улыбнулась.) – Poverito, мне еще нужно как следует научить тебя испанскому, у нас говорят не adios, но hasta luego».[61]
На самом деле, единственное свидетельство прощания принадлежало доктору Лангсдорфу, неизменно краткому: «Губернатор собрал все семейство Аргуэльо, их друзей и знакомых перед фортом, и они стали прощаться с нами, размахивая шляпами и носовыми платками». 69
Затем «Юнона» подняла паруса и покинула залив, отдав прощальный залп из шести пушек, на которые испанцы ответили залпом из девяти орудий. Ново-Архангельск Резанов нашел опустевшим и словно вымершим. Навстречу вышла лишь небольшая лодка, «гребцы в ней были так истощены, что напоминали живые скелеты»,70 записал Резанов. Жители поселения, среди которых был и Баранов, потеряли надежду дождаться помощи и лежали в домах, неспособные пошевелиться, ожидая неизбежного набега тлинкитов. Прибытие «Юноны» оживило Ново-Архангельск, который оставался столицей Русской Америки до ее передачи Соединенным Штатам в 1867 году.
Спешил ли Николай Резанов в Рим и Мадрид, как он уверял Кончиту, чтобы получить разрешение на брак? Во всяком случае, при первой возможности он отправился обратно в Россию. В июне 1806 года «Юнона» ошвартовалась в Ново-Архангельске, а в июле уже направилась в Охотск, где Резанов должен был сойти на сибирский берег. В августе она достигла порта. Верхом, без промедления, Резанов отправился в Якутск по горному пути, на котором некогда окончили дни многие люди Беринга. В пути его поджидали характерные для осени в этих краях снег и холода, реки, которые уже начинали покрываться льдом и которые нужно было переходить вброд. «Я ужасно утомлен, – писал он в своих заметках, – я заболел».71–72 Он упал с лошади и пробыл сутки без сознания в якутской юрте, куда его отнесли спутники. В октябре он достиг Якутска, «где врачи лечили [его] десять дней, в течение которых [он] боролся за жизнь». Однако Резанов продолжил путь, как только выпало достаточно снега («И я продолжу путь, не останавливаясь»,73 – пишет он далее). Следующий этап – Иркутск. Столица Сибири, родина его жены, Анны Шелиховой, город, с которым связано столько воспоминаний, где друзья готовились чествовать его. «Наконец я в Иркутске! – пишет он своему шурину в конце января 1807 года. – Лишь я увидел город сей, то и залился горькими слезами <…>. Я день, взявшись за перо, лью слезы. Сегодня день свадьбы моей [с Анной Шелиховой], живо смотрю я на картину прежнего счастья моего, смотрю на все и плачу». Следующие строки напоминали завещание: «Я увижу ее прежде тебя, скажу ей. Силы мои меня оставляют. Я день ото дня хуже и слабее. Не знаю, могу ли дотащиться до вас <…>, но не могу умирать на дороге, и возьму лучше здесь место, в Знаменском, близ отца ее [Григория Челихова]».
Он пробыл в Иркутске три месяца, отвечая на приглашения, проводя «каждый день в праздниках, обедах, балах и ужинах». Это были его последние дни. Когда он снова отправился в путь в сторону Петербурга и Европы, здоровье его еще не восстановилось, и близкие убеждали его не покидать его сибирское пристанище. Когда 1 марта 1807 года его сани добрались до Красноярска, Николай Резанов был без сознания. Казаки сопровождения перенесли его в дом одного красноярского купца, где он и умер в возрасте 43 лет.
Была ли любовь камергера Его Величества к калифорнийской невесте вполне искренной? Основываясь на разных интерпретациях архивных документов, русские и американские историки и писатели долгое время расходились во мнениях по этому вопросу. Первый возможный ответ, вероятно, содержится в последнем письме шурину, отправленном из Иркутска и, по всей видимости, записанном под диктовку секретарем обессилевшего Резанова: «Из калифорнийского донесения моего не сочти, мой друг, меня ветреницей. Любовь моя у вас в Невском под куском мрамора, а здесь следствие моего воодушевления и новая жертва Отечеству». Но к этим первым фразам Резанов добавляет несколько слов о своей американской невесте: «Контенсия мила, как ангел, прекрасна, добра сердцем, любит меня; я люблю ее и плачу о том, что нет ей места в сердце моем, здесь я, друг мой, как грешник на духу, каюсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну».74
Наконец, недавние исследования в русских архивах пролили новый свет на намерения Николая Резанова. Российские историки75 обнаружили несколько вариантов писем Резанова в Петербург по возвращении из Калифорнии. Донесение, которое он составил о ходе своей миссии и где подробно изложил историю отношений с Кончитой и ее семьей, насчитывало 120 рукописных страниц, но это не помешало Резанову переписать его, по крайней мере, дважды. Многочисленные расхождения, обнаруженные при внимательном сличении рукописей, ясно свидетельствуют о тревогах автора. Опасаясь за свою репутацию после провала миссии в Японии, глава экспедиции не был уверен, что история его любви к Консепсьон Аргуэльо не будет воспринята властями как действие в личных интересах или хуже, как предательство. В самом деле, кто мог с уверенностью сказать, в каком состоянии будут отношения с испанским королевством, когда донесение попадет в Петербург? Резанов разумно и осторожно замаскировал свои чувства, скрыв их за ширмой геополитических интересов, которые было легче отстаивать.
Как сложилась судьба Кончиты? Известие о смерти жениха дочь коменданта Сан-Франциско получила лишь спустя несколько лет. Рассказывали, что Кончита отказывалась верить в неверность возлюбленного и продолжала ждать его возвращения. Другая версия была ближе к фактам: новость о смерти Николая сообщил один англичанин, проездом оказавшийся в форте. По свидетельствам членов ее семьи, Конспепсьон Аргуэльо отказывала всем последующим женихам и в конце концов ушла в монахини. Приняв имя сестры Марии Доминги, она стала первой монахиней доминиканского ордена в Калифорнии. Согласно третьей версии, сестра Мария Доминга узнала причину исчезновения своего жениха в монастыре, в разговоре с одним путешественником-иностранцем, волей случая оказавшимся здесь и не знавшим, что героиня его рассказа сидела с ним за одним столом. История эта не соответствует истине, но рассказана так эмоционально, что заслуживает быть приведенной здесь: «Тогда [рассказав о смерти возлюбленного Консепсьон] английский путешественник, не знавший, кто перед ним, спросил, жива ли еще невеста Резанова. За столом – на несколько мгновений – воцарилось молчание. Затем из-под белого покрова одной из монахинь послышался тихий голос: „Простите, сеньор, она тоже умерла“».76 Вероятнее же всего, как на то указывают архивные данные, новость, разрушившую все ее надежды, Кончита узнала от отца или брата. Было найдено письмо Александра Баранова коменданту форта: глава «Российско-Американской компании», находившийся тогда в Ново-Архангельске, приносил семье невесты Резанова соболезнования и уверял, что во время долгого обратного путешествия тот дважды просил его оповестить Консепсьон о своем твердом намерении сдержать слово, и «пройдя через кадисский порт в [их] отечестве, вернуться к [ним] самым скорым образом в 1808 году»77. Сестра Мария Доминга, урожденная Консепсьон де Аргуэльо, обрученная с придворным камергером Николаем Петровичем Резановым, скончалась 23 декабря 1857 года в монастыре Бениша (Калифорния), где еще несколько лет назад можно было увидеть ее могилу[62].
Смерть Николая Резанова не поставила точку в русском освоении Америки. Прошло несколько лет, и неутомимый Александр Баранов предпринял новый шаг: примерно в ста 150 км к северу от Сан-Франциско в 1812 году, ровно в тот день, когда Наполеон овладел Смоленском и начал русскую кампанию, он основал русский форпост, крепость Росс. Как предполагал когда-то Резанов, поселение должно было снабжать русскую Аляску зерном и другими продуктами питания. Еще через шесть лет Баранов попытался присоединить к Российской империи Гавайи, чтобы укрепить торговые позиции России в Тихом океане. Однако обе попытки обернулись неудачей. Крепость Росс, не окупавшая расходов на свое содержание, была продана эмигранту швейцарского происхождения Джону Саттеру, ставшему известным благодаря роману Блеза Сандрара «Золото», опубликованном в 1925 году. Прошение гавайского короля о принятии его владений под покровительство России русский царь отклонил, так как увидел в подобной аннексии залог будущих конфликтов с другими европейскими державами.
Империи приходилось соизмерять свои силы и расставлять приоритеты. В Петербурге все больше сомневались, что Америка – один из них.
Флотилия плотов покоряет Амур
В ночь с 12-е на 13-е марта 1848 года вереница саней на большой скорости въехала в Иркутск. Этот город в окрестностях Байкала, откуда вышли купеческие династии, возглавившие русских первопроходцев в Америке, переживал тогда пору расцвета. Благодаря удобному расположению на пересечении торговых путей, между Тихим океаном, Камчаткой и Русской Америкой на северо-востоке, Китаем на юго-востоке и Европейской Россией на западе, Иркутск быстро развивался, чему способствовало также открытие месторождений золота и серебра в Восточной Сибири. Самые богатые купеческие семейства воздвигли для себя настоящие дворцы, строились все новые церкви и монастыри, на улицах было полно питейных заведений и игорных залов, куда золотоискатели приходили спустить свое состояние или залить горе. «Сибирский Париж» – так прозвали Иркутск проезжие иностранцы, с наслаждением погружавшиеся в городской комфорт после утомительных недель, проведенных в повозке или санях, чтобы добраться до него.
В Иркутске с нетерпением ожидали человека, прибывшего той ночью после такого путешествия по бескрайним заснеженным просторам. Николай Николаевич Муравьёв был новым генерал-губернатором Восточной Сибири, незадолго перед тем назначенным ко всеобщему изумлению царем Николаем I. В Петербурге «некоторые gros bonnets[63] увидели настоящий скандал в этом назначении»,78 – говорит, употребляя французское выражение, Иван Барсуков, летописец жизни Н. Н. Муравьёва. В свои 38 лет граф Муравьёв, отпрыск знатной и прославленной аристократической фамилии, был и впрямь слишком молод для занятия одного из самых престижных и при этом самых сложных постов в Российской империи. Генерал-губернатор был не просто чиновником высокого ранга или региональным представителем царя: он являлся чем-то вроде вице-короля, подчиненного непосредственно государю и пользовавшегося крайне редкой для русской политической системы автономией. В принципе титул генерал-губернатора полагался самым высшим руководителям проблемных пограничных регионов – Польши, Кавказа или Сибири. Разумеется, Николай Николаевич прошел проверку боем, он храбро сражался против турок в Болгарии, а затем воевал против мятежного имама Шамиля на Кавказе и сделал там карьеру. С Кавказа он даже вернулся с золотой саблей, особым знаком отличия, полученным лично от царя, который повелел выгравировать на рукоятке слова «за храбрость». И тем не менее! Сам факт, что такой «мальчишка», как Муравьёв (словечко пустил его коллега, князь Горчаков[64]), оказался вознесен на столь высокий пост, уже был нарушением традиции в глазах консервативного большинства при дворе. К тому же Николай Николаевич был известен своим вольнодумством и прямотой. На своем предыдущем посту тульского губернатора он отличился тем, что направил правительству обстоятельную записку-исследование[65] с обоснованием необходимости аграрной реформы, которая могла бы избавить русское крестьянство от беспросветной нужды и голода. Он стал первым губернатором в стране, открыто высказавшимся за отмену крепостного права: в правление Николая I, одного из самых консервативных царей в истории России, подобное поведение было редким и рискованным – его позволяли себе лишь оппозиционеры. Что касается человека столь высокого ранга, как Муравьёв, трудно сказать, было ли это храбростью или безрассудством. Уже само его имя, кстати, отдавало крамолой: во время попытки государственного переворота, предпринятой в декабре 1825 года против того же Николая I группой молодых либеральных офицеров, которых с тех пор прозвали «декабристами», восемь мятежников были выходцами из его семьи. Злые языки поговаривали, что лишь юный возраст Николая, которому в момент выступления офицеров было всего 16 лет, помешал ему примкнуть к заговорщикам. Царь, отправивший на виселицу или пожизненную каторгу молодых декабристов, имел цепкую память, и можно было предполагать, что имя Муравьёва не станет первым в списке кандидатов на эту должность. То, что подобный человек избран для управления самой большой и, несомненно, самой проблемной из всех русских губерний, произвело в Петербурге эффект разорвавшейся бомбы, и можно понять, что местная администрация в Иркутске тоже с нетерпеливым любопытством ожидала своего нового начальника.
Первая ночь в провинциальной столице была недолгой для нового генерал-губернатора, отдавшего распоряжение всем своим подчиненным явиться на следующий же день в 10 часов утра в большую залу его официальной резиденции, окна которой выходили на реку Ангару[66]. Чуть раньше назначенного часа зала уже заполнилась народом. Немногочисленные военные стояли спиной к окнам; старшие чиновники, также облаченные в мундиры, выстроились в шеренги сообразно с их местом в иерархии гражданской службы, так что самые важные оказались впереди. Купцы, представители городской Думы, мещан и ремесленников ожидали в соседней столовой. Среди собравшихся уже разнесся ошеломляющий слух. На предыдущем этапе пути новый генерал-губернатор якобы наотрез отказался заехать к Машарову, одному из крупнейших золотопромышленников в регионе, после ознакомления со следственным заключением о махинациях последнего при разделе приисков. Новый губернатор, вероятно, хотел подать пример чиновникам и, как шептались в зале, Машаровы будут раздавлены этим дерзким молокососом. Что бы все это значило? Продолжение сцены мы приводим в изложении Всеволода Ивановича Вагина, который был тогда скромным секретарем, сопровождавшим своего начальника на приеме у генерал-губернатора: «Спустя минуту дверь в залу отворилась и вошел человек среднего роста. Лицо еще молодое, но красное и опухшее, волосы светло-русые, курчавые. На нем был общий армейский мундир; левая рука, раненая при штурме Ахульго[67], висела на перевязи (это было особого рода франтовство, потому что впоследствии Муравьёв одинаково свободно размахивал обеими руками). Началась длинная церемония представления <…>. Муравьёв переходил от одного присутствующего к другому, не кланяясь, не подавая руки и ни с кем не разговаривая. Затем, обойдя всех военных, он выслушал рапорт командования и, не произнеся ни слова, перешел к гражданским. Вот он подходит к моему бывшему начальнику Тюменцеву: тот стоит, вытянувшись, раскраснелся, как рак. И снова Муравьёв прошел мимо, ничего не говоря, а ведь Тюменцев – важнейший в Главном управлении. Минуя высших гражданских чиновников, он прошел в соседнюю комнату принять хлеб-соль от горожан. В зале зашушукались. Муравьёв появился вновь, сделал поклон и ушел в кабинет. Прием продлился не более двадцати минут».79
Все остались в полнейшем изумлении. Это было чем-то неслыханным, и даже скромный секретарь Вагин пребывал в смущении: «Муравьёв больше походил на подпоручика, чем на генерал-губернатора», – отпустил он замечание. Этот странный спектакль имел продолжение вечером, во время ужина в честь нового хозяина Восточной Сибири. Банкетный зал уставили разными столами – «соляным», «серебряным» и прочим, в зависимости от важности гостей. За «золотым» столом, самым престижным на банкете, восседал начальник Горного ведомства Мангазеев, известный всем как один из самых крупных взяточников и марионетка в руках крупных золотопромышленников. Вот что поведал сам Мангазеев: «Стою, а возле меня стоит Савинский. Он и моложе меня по службе и заведывал-то всего соляным столом. Представляют его Муравьёву – «Я так много слышал о вас хорошего», – и пошла писать: рассыпался в комплиментах… Потом вдруг спрашивает: «А где же Мангазеев?» – Ну, думаю, если уж Савинского так расхвалил, то меня просто расцелует. Кланяюсь. – «Я надеюсь, что вы не станете со мной служить». – Вот тебе и похвала!»80 И действительно, прямо во время этого приема или в последующие дни, целый ряд чиновников лишился своих постов. Среди них были иркутский городничий, губернский казначей, почтмейстер и почти все адъютанты и чиновники по особым поручениям, состоявшие при губернаторе.81 Некоторые были просто уволены, другие отправлены служить в инвалидные роты, сопровождавшие обозы, а несколько особо злостных спекулянтов хлебом и зерном, схваченные с поличным, были даже принародно высечены. На Муравьёва потоком посыпались жалобы в Петербург: кто этот молодой наглец, возомнивший, что ему по силам изменить правила игры? Муравьёв располагал необходимой поддержкой сверху, но ему было рекомендовано по возможности не афишировать это. «Действуйте как можно осторожнее, с бо́льшим хладнокровием, без шума, избегайте давать повод жалобам и наветам»,82 – написал ему министр внутренних дел Перовский. Новый губернатор нажил себе смертных врагов, которые ни за что не желали сдаваться и прикладывали все усилия в самой Сибири или по возвращении в столицу, чтобы любой ценой сорвать его планы.
Уволив множество чиновников, Муравьёв постарался опереться на молодых офицеров, недавно окончивших петербургские военные училища и искавших приключений на этой еще дикой окраине Империи. Он также окружил себя недавними выпускниками лицеев и лучших императорских высших учебных заведений. Один из них, Бернгард Васильевич Струве, так описывает энтузиазм, побудивший его и его товарищей отправиться в Иркутск: «Поступил я на службу в Восточную Сибирь вслед за выпуском из Императорского Лицея[68] в 1847 г., в то именно время, когда Н.Н. Муравьёв был назначен генерал-губернатором. Решимость моя, 20-летнего юноши, отправиться на службу в Восточную Сибирь считалась в то время необыкновенным подвигом. Директор Лицея Д.Б. Броневский показывал меня моим товарищам и младшим курсам Лицея как какое-то чудовище. Нас было всего трое из молодых людей, получивших образование в высших учебных заведениях, которые с юношеским увлечением отправились к Муравьёву в Сибирь на борьбу с неслыханными злоупотреблениями».83
Большинство этих недавних учащихся новый хозяин Сибири знал лично, поскольку служил вместе с ними или получил рекомендации от своих друзей, таких же сторонников либеральных идей, как и он. В этой когорте новаторов было немало имен, впоследствии вошедших в историю России и Сибири благодаря своим подвигам, завоеваниям или написанным книгам. Они отличались не только компетентностью, но также высокой культурой и хорошими манерами: «Столь приятные, любезные джентльмены, что я мог вообразить себя в какой угодно столице, но уж никак в этой глухой дыре»,84 – отметил в своих воспоминаниях контр-адмирал и географ Римский-Корсаков. В скором времени эта элитная молодежь стала заправлять в Иркутске: Муравьёв полностью, почти слепо, доверял ей, но взамен требовал безраздельной преданности и готовности на любые жертвы. Некоторые молодые люди получили назначение в самые отдаленные места, другие денно и нощно работали в губернаторском дворце на берегу Ангары: в этом медвежьем углу России власть перешла в руки молодых реформаторов.
* * *
Николай Муравьёв получил лично от царя поручение навести порядок в гигантской губернии, простиравшейся от Енисея до Камчатки. Российская империя испытывала финансовые затруднения; на Чёрном море усиливалось напряжение между не только между Россией и Османской империей, но и Англией и Францией, поддерживавшими последнюю. В подобных условиях центральная власть не могла более мириться с тем, что затраты короны на огромные сибирские земли все еще превышали приносимые ими доходы. Пора было покончить с субсидиями, должностными злоупотреблениями и казнокрадством. Предшественник Муравьёва был отстранен от занимаемого поста и понижен в чине из-за коррупции, однако обойтись одними административными чистками было явно недостаточно: требовалось активизировать торговлю и добычу золота, сократить расходы, модернизировать нарождающуюся промышленность и, наконец, развивать сухопутную торговлю с Китаем, переживавшую упадок, что вызывало озабоченность. Для достижения этих целей император Николай в конце концов пошел на уступки либеральному лобби, во главе которого стояли его сын, Великий князь Константин, министр внутренних дел Л.А. Перовский, высоко ценивший предложения молодого губернатора об отмене крепостного права, и наконец, но не в последнюю очередь, Великая княгиня Елена Павловна, одна из самых влиятельных теток царя. Великая княгиня, урожденная Шарлотта Вюртембергская, воспитанная в парижском интеллектуальном окружении, также была последним оплотом либеральных идей, столь ненавистных ее венценосному племяннику. Она ратовала за новую экономическую политику в Сибири, а еще лучше – за переворот в мозгах. Орудием этого и призван был стать Николай Муравьёв.
Царь также поручил своему новому представителю в Сибири зорко следить за развитием ситуации на китайских рубежах. Уже около двух веков российско-китайская граница оставалась спокойной, и Николай не желал, чтобы положение изменилось. Правда, основания Поднебесной пошатнулись: британцы, полные решимости торговать там опиумом, разгромили китайцев, унизили их императора и добились открытия морских портов. Следовало не допустить, чтобы из-за этого чрезмерно пострадали русские интересы в Азии или на Тихом океане. Впрочем, царь и его министры были озабочены не столько Азией или Сибирью, сколько событиями в Европе – революционными выступлениями 1848 года, антимонархическими настроениями во многих европейских странах. Ну так к черту Азию и Тихий океан! Не нужно создавать там осложнений или конфликтов с другими великими державами того периода. Не переусердствовать! Во время свидания в императорском дворце царь внушал своему новому полномочному представителю, что ему не следует попусту тратить время на разъезды по этим столь обширным и диким краям. «Не думаю, что ты сможешь отправиться на Камчатку. Дорога трудная, только время потеряешь», – обронил государь. В подобной ситуации высокопоставленному чиновнику, только что получившему назначение, полагалось лишь согласиться, однако Муравьёву было не занимать характера и честолюбия, и он поверг в изумление императора своим простым, но решительным ответом: «Ваше Величество, я постараюсь отправиться туда».85 И он сдержал свое слово[69].
Отправляясь к своему новому месту назначения, Муравьёв взял с собой и молодую жену Катрин де Ришмон, уроженку Франции. Они познакомились во время пребывания Муравьёва на водах под Кёльном и поженились всего за несколько месяцев до отъезда в Сибирь. Молодая француженка, после перехода в православие ставшая Екатериной Николаевной, разделяла многие из либеральных убеждений своего мужа. Особый интерес она проявляла к политическим ссыльным, которых было немало в новой области ее проживания. Некоторые из них были участниками выступления против царя в декабре 1825 года – «декабристами», приговоренными к пожизненному поселению в сибирской глуши после отбытия части своего срока на каторге. Другие политические появились в Сибири позже: поляки, участвовавшие в восстании 1830 года, члены интеллигентских кружков оппозиционной направленности, также приговоренные царским судом к сибирской ссылке. Вместе со своими семьями, присоединившимися к ним в этой ссылке, декабристы, отпрыски лучших аристократических семей России, образовали как бы параллельное высшее общество, с которым местные влиятельные купеческие или чиновничьи семейства старались не соприкасаться. Декабристы, по-прежнему находившиеся под надзором полиции, жили обособленно. Со временем они занялись разными разрешенными им видами интеллектуальной деятельности. Некоторые посвятили себя медицине или преподаванию, другие – краеведению или естественным наукам. Дома таких семей, как Волконские или Трубецкие, конечно, уступавшие в роскоши дворцам крупных иркутских купцов, тем не менее, были одними из самых привлекательных и блестящих в Иркутске. Супруга Муравьёва проявляла особый интерес к этим осужденным, к тому же немногим, с кем она могла поговорить по-французски. Вскоре распространился слух, что жена губернатора посещает семьи политических ссыльных и беседует с ними на своем родном языке. Поговаривали также, что Екатерина Николаевна обсуждает с декабристами разные темы и якобы собирает писания Лунина[70], одного из самых несгибаемых из них, скончавшегося на каторге тремя годами раньше. Генерал-губернатор по своему обыкновению не стал ничего опровергать, а, напротив, решил подать пример, открыто пригласив некоторых декабристов на обед в свою резиденцию. Он даже пошел дальше, приняв ряд из них на работу в свою администрацию, что строжайше воспрещалось особыми пенитенциарными правилами, разработанными для этой категории государственных преступников. Он оказывал им помощь, заботился об образовании их детей и даже брал с собой их письма, когда переезжал из одного места ссылки в другое. Все это было чревато скандалом, и, разумеется, недруги генерал-губернатора поспешили донести в Петербург о странном поведении и дурных знакомствах нового представителя государя. Последний, не проявлявший особой снисходительности к тем, кто некогда пытался свергнуть его, тем не менее продолжал доверять Муравьёву. Когда генерал-губернатор, принужденный центральными властями объясниться по поводу этих наветов, заявил в свое оправдание, что нет «никакой причины вечно держать их [ссыльных] в стороне от общества, ведь по своему воспитанию, нравственным качествам и нынешним политическим убеждениям они имеют право быть его полноправными членами»,86 самый консервативный царь в XIX века закрыл дело, собственноручно сделав краткую, но любопытную пометку: «Благодарю. Муравьёв меня понял»[71].
Фрондерское, а иногда вызывающее поведение Муравьёва нажило ему немало врагов в столице, включая и ближайшее окружение царя. Самым непримиримым его противником стал министр иностранных дел, канцлер граф Карл Нессельроде, выходец из остзейского дворянства, питавший к Муравьёву не только острую личную неприязнь, но и глубокое политическое отвращение. Нессельроде, которому к тому времени исполнилось 68 лет, был ветераном русской дипломатии, более 32 лет направлявшим внешнюю политику России. Он стоял во главе группы консерваторов, верил лишь в альянсы традиционных монархий в Европе и не терпел, чтобы ему наступали на пятки или проявляли дипломатическую, политическую или военную инициативу в Азии. Стремясь поставить на место зарвавшегося «мальчишку», он мог всегда рассчитывать на поддержку своего коллеги по правительству, министра финансов Ф.П. Вронченко, и без того считавшего слишком дорогостоящей эту удаленную, бесполезную провинцию.
В своем новом регионе, обширном, точно какая-нибудь империя, Николай Муравьёв не щадил усилий, чтобы для начала постараться оживить местную экономику. Прежде всего следовало восстановить контроль над чайной торговлей с Китаем. Прошло полтора века, как две империи, Поднебесная и Российская, договорились о том, что торговые обмены между ними будут осуществляться в одном-единственном транзитном пункте: городе Кяхта к юго-востоку от озера Байкал, по обе стороны границы с Китаем. Город состоял из двух обособленных кварталов – один на российской, другой на китайской стороне. Каждое утро с каждой стороны открывались ворота и купцы пересекали ничейную полосу, чтобы вести дела со своими китайскими или русскими партнерами. В других же местах по всей линии протяженной границы между двумя великими державами торговля была строго воспрещена. И даже в Кяхте китайцы, опасавшиеся проникновения возможных чужеземных веяний, нарочно выбрали место, малопригодное для торгового города. Река, снабжавшая его водой, была мелкой и пересыхала летней порой. На китайской стороне присутствие женщин не допускалось, чтобы не дать образоваться постоянному торговому населению. Благодаря своим исключительным привилегиям Кяхта на протяжении длительного времени считалась одним из богатейших городов, причем не только России, но и мира. На ее рынке, или, на русский лад, гостином дворе, каждый день совершались сделки и целые состояния переходили из рук в руки, а во внутренних дворах скапливались штабеля кирпичей чая. Множество китайцев разгружали тюки шелковых тканей или фарфора с верблюдов, пересекавших монгольские пустыни. Русские построили там церкви, купеческие дворцы, школы, музей, типографию; кяхтинские купцы первой гильдии принадлежали к числу богатейших жителей России того времени.
* * *
Однако время легкого обогащения, похоже, миновало, а с ним улетучились и огромные налоговые поступления от таможенных пошлин. Китайская империя, которая в XVIII веке еще оставалась одной из ведущих торговых держав мира, пошатнулась под ударами Великобритании, задавшейся целью добиться силовым путем открытия этого огромного рынка и навязать китайцам потребление опиума, приносившего ей баснословные прибыли. До той поры Поднебесная, стремившаяся всеми способами не допустить проникновения чужеземных влияний, ограничивала торговлю заморских купцов лишь портом Кантона, который для Южного Китая был тем же, чем была Кяхта на северной границе, то есть единственным пунктом Срединной империи, открытым для иностранцев. И все же сила оружия заставила Пекин покориться: британцы атаковали несколько портов, их военные корабли поднялись вверх по течению крупных китайских рек, и в 1842 году бывшая императорская столица Нанкин даже пала под их ударами.87 Кабальный договор, который Запретный город был вынужден подписать, открыл англичанам множество брешей в стенах торговой крепости, какой являлся Китай. При помощи военной силы британцы добились открытия нескольких портов, основали концессии, пользовавшиеся исключительными правами и экстерриториальными привилегиями. Китайскому правительству пришлось смириться с опиумной торговлей, организованной английскими коммерсантами и разлагавшей общество. Поражение Китая было не только военным или торговым, но и политическим: оно подорвало доверие к Маньчжурской династии, правившей страной на протяжении двух столетий, и разбудило аппетиты других европейских колониальных держав, которые стали готовиться отхватить свою часть добычи. В середине XIX века Китай был всего лишь тяжело раненым зверем, тушу которого европейцы собирались разделить между собой.
Крайняя уязвимость великого азиатского соседа не осталась без последствий для России. Прежде всего, это проявилось в драматическом обрушении традиционной торговли через Кяхту. Вынужденная либерализация внешней торговли Китая под нажимом англичан и, как следствие, открытие его морских портов для западных торговцев составили сильнейшую конкуренцию континентальному пути, проходившему через всю Монголию и Сибирь. К чему теперь, собственно, было надрываться, собирая караваны верблюдов для перехода через пустыни и преодолевая бесчисленные бюрократические препоны со стороны китайцев и русских, если появилась возможность просто погрузить те же самые товары, сбываемые по более высокой цене, на корабли, отплывающие прямо в Европу? Крах кяхтинской транзитной торговли – лишь одна из проблем, решение которых российское правительство поручило новому генерал-губернатору. Кроме того, Муравьёв должен был – предписания, поступавшие из столицы, неустанно напоминали ему о том – навести порядок в вопросе, вызывавшем сильную озабоченность Министерства финансов: любым способом запретить русским купцам в Кяхте реализовывать товары за наличный расчет. С Китаем дозволялся только бартер! Это необычное предписание говорило о наличии серьезных проблем: внешнеторговый баланс изменился не в пользу русских, товары которых (в первую очередь, как всегда, пушнина) были более не в состоянии компенсировать закупки чая, тканей, пряностей и ювелирных изделий, предлагаемых китайцами. Вследствие всего этого и вопреки строгому запрету царя, русские купцы в Кяхте неожиданно стали рассчитываться наличными за приобретаемые товары, что не на шутку встревожило Министерство финансов. Как опасались в Петербурге, продолжение подобной практики могло привести к тому, что русская национальная валюта, дефицит которой и так ощущался на протяжении нескольких веков, окажется «выкачанной» Китаем. К тому же, по мнению русского правительства, бартер – удобный способ заставить китайцев покупать русские товары и тем самым поддержать отечественных производителей.
Либерализм, приписываемый Николаю Муравьёву, был прежде всего политического и морального свойства, а не опирался на новые экономические учения того времени: лишь по прошествии целого ряда лет генерал-губернатор убедился, что его усилия по борьбе с наличной торговлей и навязыванию бартера лишь препятствовали процветанию и росту торговли региона, о чем он так радел. Притом что молодой генерал-губернатор был и прогрессивным, и реформатором, государственная монополия и строгое регулирование оставались естественными инструментами его политики. Деятельность Муравьёва по организации поисков месторождений золота и золотодобычи утвердила его в этих взглядах: как явствует из его переписки со столичными властями, он исходил из убеждения, что совокупность природных ресурсов России является собственностью государства, олицетворяемого монархом, и не переставал возмущаться положением сибирских купцов, по его мнению, наносившем вред государству и его политике.88
Однако последствия, которыми для России обернулись постепенный развал Китайской империи и удары, нанесенные ей британцами, намного превосходили упадок трансграничной торговли в Кяхте и уменьшение из-за этого поступлений в казну. Китай сотрясали восстания, грозившие перерасти в гражданскую войну; власть правящей маньчжурской династия Цин оказалась серьезно подорвана; французы и американцы старались урвать себе еще несколько кусков у «больного человека Азии», каким стал Китай: происходящее было, в сущности, не чем иным, как переустройством всего политического пейзажа Дальнего Востока в интересах восходящей сверхдержавы – Великобритании королевы Виктории.
Ничто не ускользало от внимания Николая Муравьёва, активно интересовавшегося международной политикой, жадного читателя газетных новостей и пламенного честолюбивого патриота. Еще до занятия своего поста в Иркутске, занимаясь в разных министерствах сбором всевозможной информации, необходимой ему для работы в этом новом качестве, молодой генерал-губернатор Восточной Сибири ясно разглядел за китайскими неурядицами главные проблемы, с которыми России предстояло столкнуться в ближайшем будущем. Во время своего последнего разговора с царем накануне отъезда в Сибирь89 он первостепенное внимание уделил вопросу о приграничных территориях с Китаем. Государь отвечал лишь уклончиво, но губернатор вновь и вновь возвращался к этой теме. В происходивших событиях он видел как серьезную угрозу, так и исторический шанс для своего Отечества. Угроза: отправив свой флот в верховья крупных китайских рек, Великобритания захочет повторить то же самое несколько севернее, выбрав на этот раз реку Чёрного дракона, Хэйлунцзян, называемую у русских Амуром. В таком случае России придется распроститься с продвижением к Тихому океану, а возможно, и с контролем над Сибирью, ведь Амур позволял проникнуть в самое ее сердце. Шанс: слабость Китая давала России возможность самой овладеть огромными территориями, формально находившимися под маньчжурским контролем, но фактически являвшимися no man's land [ничейной, никому не принадлежащей землей – англ.], без четко обозначенной международной юрисдикции, где проживали автохтонные народы – гиляки (нивхи), удегейцы, ульчи и др.
* * *
Для понимания того, о чем здесь идет речь, необходимо взглянуть на карту. В этот период Российская империя занимала всю северную часть Азии и побережья Тихого океана. Ее флаг развевался над Камчаткой и Аляской, фактории «Российско-Американской компании» располагались по всему северному побережью Охотского моря вплоть до Аяна. Однако южнее огромный бассейн реки Амур оставался вне юрисдикции российской власти. Во время великого броска на восток промышленников и казаков в XVII веке, несколько русских отрядов из Якутска и с берегов Лены открыли путь на юг к Амуру. Предводитель одного из таких отрядов, Ерофей Хабаров, даже спустился на несколько тысяч километров вниз по течению великой реки в 1651–1653 годах. Вдоль его пути образовались отдельные поселения крестьян и охотников под защитой традиционных острогов с деревянными башнями и стенами, обитатели которых смешивались с коренным сибирским населением. Правда, русское присутствие сохранялось там недолго. В отличие от остальной части Сибири, где русские форпосты наталкивались лишь на сопротивление местных народностей, берега Амура с их аборигенами интересовали также и Китай, столица которого располагалась всего лишь в 1 500 км. Прибытие первых русских отрядов на Амур в середине XVII веке в точности совпало с ростом могущества маньчжуров, непосредственных соседей амурских племен. Их князья и воины захватили Пекин в 1644 году, а затем овладели остальной частью Китая, основав новую династию Цин и, помимо всего прочего, обязав чиновников и ученых по всей империи носить косу в соответствии с типично маньчжурским обычаем. Когда новые повелители Китая, только что подчинившие южные провинции страны, узнали о появлении на севере, неподалеку от их исконных земель, новых завоевателей с косматыми бородами, принуждавших местное население к выплате ясака, маньчжурские армии совместно с их монгольскими союзниками повернули на север. В тот период Россия не имела сил для достойного отпора, и в 1689 году представитель царя Фёдор Головин, почти осажденный в крепости Нерчинск к востоку от Байкала, был вынужден подписать договор, оставлявший за Поднебесной бассейн реки Амур. Новая граница была проведена по рекам Аргуни и Уде; в обмен на установление регулярных торговых отношений русским пришлось, в частности, оставить свою крепость Албазин, затем до основания разрушенную маньчжурами. Нерчинский договор – первое соглашение между Китаем и европейским государством. Русский полномочный посол князь Василий Голицын с удивлением обнаружил, что в состав китайско-маньчжурской делегации входят два советника-иезуита (француз и португалец), которые в самом сердце континентальной Азии составили оригинал договора на латыни, переведенный затем на маньчжурский, монгольский, китайский и русский языки.

Когда Николай Муравьёв занял свой пост, прошло полтора века после подписания договора, ограничившего русскую экспансию на юго-восток и в Приамурье, и Китай уже не отличался былой воинственностью. Территории, отошедшие к Китаю по Нерчинскому договору, не были освоены, и всего несколько тысяч китайских поселенцев обосновались на южном (правом) берегу реки.90 Что касается северного, левого, берега, маньчжуры лишь эпизодически появлялись там, вступая в сношения с охотниками-гиляками или собирая с них дань. Тот факт, что китайские территории на несколько тысяч километров по течению огромной реки оставались малонаселенными, объяснялся не чистой случайностью или каким-то просчетом. К своим китайским подданным, ханьцам[72], численное превосходство которых было подавляющим в Китайской империи, Маньчжурская династия питала столь же сильное недоверие, как и к дальним соседям, русским, поэтому она зорко следила, чтобы область Амура не подверглась массовому заселению китайцами, так как в противном случае Маньчжурия, колыбель и бастион Цинской династии, оказалась бы быстро наводнена ханьцами. В Запретном городе смотрели на обширный бассейн реки Амур скорее как на буферную зону, чем на обычную провинцию империи[73]. Подобное почти что безразличие удивило английского путешественника Джона Кокрейна, который в 1820 году пешком прошел через эти края.91 По убеждению Муравьёва, подобное положение не могло долго сохраняться. Даже если бы Китай и хотел, у него больше не было средств для защиты своих северных рубежей, установленных в Нерчинске в 1689 году. Англичане и французы взяли под контроль китайские морские порты и теперь добивались неограниченного доступа ко всей китайской территории. Императорский двор оказался бессилен сдержать расширение рынка опиума, обеспечившего процветание англичан. Европейские и американские миссионеры распространились по всему внутреннему Китаю вплоть до Маньчжурии. Пол-империи было охвачено народными восстаниями против иностранного вмешательства и Маньчжурской династии, обвиненной в предательстве. В этих условиях, предупреждал новый губернатор Восточной Сибири, не за горами тот час, когда англичане проникнут в бассейн Амура и завладеют им. В великую реку впадает множество крупных притоков, и английские канонерки могли легко подняться вверх по их течению, войдя прямо с Тихого океана. Действительно, из всех главных рек Сибири Амур – единственная, в которую можно зайти с моря. Порты на Оби, Енисее и Лене защищены льдами Арктики, делающими любое морское вторжение практически невозможным. Амур же, одна из самых длинных рек в мире, представляет собой водную артерию протяженностью более 4 000 км, ведущую прямо в центр Сибири. Его бассейн площадью более 2 млн кв. км[74] обеспечивает доступ к половине Китая и Прибайкалью. Если бы вражеская держава только пожелала, Российскую империю можно было бы атаковать в самое сердце. Это нетрудно понять, как написал Муравьёв министру внутренних дел 14 сентября 1848 года, всего через три месяца после своего вступления в должность в Иркутске, ведь «Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура».92
* * *
Дело не терпело отлагательства. Расширение промысла тюленей, каланов и китов в северной части Тихого океана привлекало все больше английских и американских торговых и китобойных судов. По рассказам аборигенов, они появлялись на Сахалине и в Охотском море, одном из самых богатых промысловой фауной на планете.
«Я на днях получил известие, что китовая ловля сосредоточивается с прошлого года в южной части Охотского моря; это привело туда множество судов различных народов, которые трутся около Сахалина и легко могут занять северную часть его, никем необитаемую, могут сделать это даже без распоряжений своих правительств», – написал встревоженный Муравьёв в Петербург в одном из своих первых докладов.93 «Враг совсем близко, – признался он одному из своих молодых помощников, – больше не время дремать».94 Наблюдая за развитием ситуации из своего иркутского дворца, новый генерал-губернатор был также удивлен присутствием в регионе англо-саксонских путешественников, проявлявших выраженный интерес к русским владениям на Тихом океане и к способам попасть туда. «Под видом ученых разысканий Гиль прожил тут три месяца, и я вполне убедился, что он такой же ученый, как и я. Я слишком подробно разобрал Гиля, чтобы не убедиться в истинной цели его путешествия: ему надобно видеть только Камчатку <…> Явился второй англичанин, Остен, и покатился по другому пути сообщения Сибири с Восточным [Тихим] океаном: за Нерчинском р. Шилка, за Шилкою Амур, в устьях Амура необитаемый Сахалин, ожидающий господ, чтобы запереть плаванье по Амуру»,95 – доносил он в Петербург. Наконец был задержан и третий заезжий иностранец, которого выдворили из России через ее европейскую границу. Какие еще сигналы тревоги требовались петербургским министрам? «Не пройдет, может быть, и года, даже несколько месяцев, и сперва весь мир, а потом Петербург прочитает в своих «Ведомостях», что англичане, или французы, овладели, по добровольному согласию китайцев, устьем Амура и получили дозволение ходить вверх и вниз по этой реке до Нерчинска … Странно будет это известие; но оно неизбежно … Если Россия не хочет видеть своих сокровищ, – надо же, чтоб кто-нибудь их видел и брал свои меры! … Место свято не будет пусто!»96
Английский натиск на тихоокеанском фланге угрожал не только Амуру. Как показал опыт, русские владения на побережье Тихого океана, – Камчатку и аляскинские колонии, было очень затруднительно снабжать и защищать. Доставка туда продовольствия, оружия и других материальных ресурсов осуществлялась по суше через всю Сибирь, причем на это уходили месяцы, а затраты были непомерными. Лишь несколько военных судов, сильно уступавших кораблям английского флота, могли в случае необходимости достичь Тихого океана, чтобы защитить тамошние колонии, но им пришлось бы тогда совершить кругосветное путешествие, отправляясь в плавание из Балтийского моря. Все это, по словам Муравьёва, объяснялось тем, что никакой судоходный путь не связывал Сибирь с океаном. Завоевание Приамурья могло бы решить названные проблемы и обеспечить русское присутствие на Тихом океане. «Амур столь же необходим восточным губерниям России, как и восточный берег Балтики ее западным губерниям», – написал еще его предшественник на посту генерал-губернатора. Муравьёв сделал дополнительный шаг: отныне России следовало действовать, не дожидаясь изменения ситуации. В этом он видел исторический шанс для своего Отечества, а для себя – стратегическую задачу. Отныне Амур стал его делом.
Однако петербургским чиновникам ситуация виделась совсем в ином свете. Министр иностранных дел, ветеран российского правительства, и слышать ничего не хотел о военных инициативах на китайских рубежах, да еще исходивших от такого авантюриста, каким он считал Муравьёва. Карл Нессельроде был человеком старой закалки, для которого единственный интерес представляла Европа и борьба великих держав, сталкивавшихся там. Что нужно было России в этих дальних, но при этом столь близко расположенных к Китаю, краях? Его мнение разделял военный министр Чернышёв, с тревогой наблюдавший за ростом напряженности на Чёрном море и Балканах и считавший момент совершенно неподходящим для обострения отношений с британцами. Их коллега по финансовому ведомству также страшился неминуемых пагубных последствий раздора с Китаем для кяхтинской торговли, а значит, и для таможенных сборов, столь необходимых казне. Эти господа в сюртуках, закрывшиеся в своих кабинетах на берегах Невы, «синклит немецких чиновников, пронизанных всеми предрассудками, зловещее влияние которого стоило России стольких слез»,97 – по словам мемуаристки той эпохи, близкой к Муравьёву, выступили единым фронтом против предложений иркутского губернатора, умолявшего царя занять Приамурье, пока вместо него это не сделают другие. Вероятная реакция того же Китая и наличие договора, регулировавшего его границы с Россией, не представлялись существенным препятствием в глазах Муравьёва, рассчитывавшего убедить китайского императора в том, что русское присутствие на Амуре предпочтительнее нового вторжения и оккупации со стороны англичан. В этом вопросе столкнулись два видения мира и будущего России. Николай Муравьёв, а до него сибирские купцы-первопроходцы и основатели Русской Америки видели в России будущую великую тихоокеанскую и азиатскую державу, способную на равных противостоять английским амбициям в этой стратегически важной зоне. Для консерваторов Сибирь выступала всего лишь задворками, которые было опасно открывать влияниям с тихоокеанских просторов. Нессельроде говорил о Сибири как о «глубоком мешке, в который спускались социальные грехи и подонки в виде ссыльных, каторжных».98 Другие, как публицист Кузнецов, сравнивали сибирскую тайгу с «лесным кордоном»,99 защищающим Европейскую Россию от дурных влияний. Князь Горчаков, губернатор Западной Сибири и, стало быть, сосед Муравьёва, один из виднейших представителей консервативного лагеря, почитал за принцип «держать жителей Сибири в стороне от всякого непосредственного контакта с иностранцами – контакта, который может оказаться роковым».100 Когда Европу стали сотрясать антимонархические волнения и буржуазные революции, консерваторы, сгруппировавшиеся вокруг Нессельроде, забеспокоились. В особенности их страшил пример бывших британских колоний в Америке, чья независимость, отвоеванная у метрополии, и республиканские идеи могли вызвать симпатии в Сибири. Отсюда их пристальный интерес к Муравьёву и сплотившейся вокруг него группе молодых либералов, заправлявших в Иркутске. Чтобы застраховаться от любых непредсказуемых действий Муравьёва, Нессельроде добился в конце 1848 года, то есть всего лишь несколько месяцев спустя после вступления в должность «иркутского смутьяна», создания Амурского комитета[75], уполномоченного вырабатывать русскую политику и правила поведения в дальневосточном вопросе. Естественно, он стал председателем нового органа, где большинство составляли его друзья, а Муравьёву вменили в обязанность представлять Комитету регулярный доклад. Сущность политики Нессельроде выражалась в следующем его изречении: «Пусть все делается без шума и с должною осторожностью».101
Главный довод Нессельроде основывался на географической ошибке. Как только парусники крупных экспедиций достигли этой части Тихого океана, их капитаны один за другим пытались найти устье реки Амура, но всякий раз безуспешно. Первым потерпел неудачу француз Жан-Франсуа Лаперуз, которому в 1787 году не удалось обнаружить устья реки и достичь западного берега Сахалина. Столь же безрезультатно окончилась аналогичная попытка англичанина Броутона в 1796 году, а затем и русского мореплавателя Крузенштерна во время его кругосветной экспедиции. В проливе между Сахалином и материком моряки неизменно натыкались на гигантскую песчаную отмель – непреодолимое препятствие для больших кораблей. Из этого они заключили, что огромная река Амур не имеет настоящего устья, но теряется в песках, достигая океана. Отмель была, по их мнению, сухопутной перемычкой, едва прикрытой водой и соединяющей, подобно естественному мосту, Сахалин с остальной Азией. Сахалин не является островом, а река Амур не имеет устья: эти два географических предположения позволили Нессельроде успокоить царя – о чем и впрямь волноваться Его Величеству, если военному судну невозможно войти в реку с моря и подняться вверх по течению? Для очистки совести Николай I в 1846 году все же приказал возвращавшемуся с Аляски корвету «Константин» под командованием капитана Гаврилова попытаться открыть путь через лиман. Однако «Константин» вышел слишком поздно, совсем не располагая временем, чтобы задержаться в этих опасных водах, и его капитан с легким сердцем подтвердил выводы своих предшественников: со стороны океана Амур не судоходен[76]. Нессельроде мог с облегчением вздохнуть, ведь с авантюрами на Востоке было покончено. На докладе экспедиции Гаврилова царь Николай наложил собственноручную резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить. Лиц, посылавшихся к Амуру, наградить».102
Казалось, все точки над i были расставлены. Так оно бы и осталось, если бы во время петербургских приготовлений к отъезду в Сибирь общие знакомые не представили Николаю Муравьёва – молодого морского офицера. Капитан-лейтенант Геннадий Невельской был на четыре года моложе Муравьёва. То же самое поколение, познавшее вкус победы над Наполеоном, те же либерально-конституционные веяния, привезенные из походов в Европу, тот же реформаторский круг: капитан Невельской прослужил 11 лет под началом Великого князя Константина, сына царя, официального куратора «Российско-Американской компании», знаковой фигуры среди реформаторов.
Та же страсть к исследованиям и к Дальнему Востоку: еще в годы учебы в Морском корпусе Геннадий Невельской снискал известность своей одержимостью географической загадкой, связанной с устьем Амура. «Он копался в архивах, просиживал над картами и расчетами. Весь свой пытливый дух, всю тайную страсть своей души он сосредоточил на этой проблеме, в то время как его ум, столь обширный и логический, не мог согласиться с ответом, к которому он неизменно приходил»,103 – пишет его дочь в книге-жизнеописании своего отца. Любознательный офицер действительно был не в состоянии поверить, что одна из крупнейших рек на земном шаре не могла проложить для себя выхода в море и теряется в песках. Он горел желанием доказать, что это не так.
Встреча будущих героев состоялась зимой 1848 года в петербургском доме Муравьёва. Это было одно из тех ярких событий, которые нам порой дарит история. О нем красочно, хотя наверняка и без излишней исторической скрупулезности, рассказала дочь Невельского, переехавшая жить во Францию: «Геннадий Иванович [Невельской] уже был наслышан о генерале Муравьёве. Говорили, что он очень умен, очень деятелен, русский до мозга костей, ненавидит, как и капитан [Невельской], иностранное влияние и бюрократический дух. <…> После нескольких часов непринужденной беседы эти две великие души открылись друг другу. Они поняли и полюбили друг друга и с тех пор рука об руку трудились на благо своего возлюбленного Отечества. Бурное красноречие капитана Невельского, его восхитительные расчеты, ясность и точность, при помощи которых он сумел доказать справедливость своих предположений, его познания, скромность, пламенный патриотизм, его мужественная энергия – все это привело в восторг и покорило Муравьёва. Вдохновенная речь худенького, невысокого офицера, с горящими глазами и повелительными жестами, время от время прерываемая нервным, сухим кашлем, подтвердила то, о чем он сам много раз думал, и теперь его мечта казалась осуществимой».104
Но как было приняться за дело? Когда в последний раз на аудиенции у государя Муравьёв заикнулся о возможном рейде русских в Приамурье, полученный ответ прозвучал предельно ясно: «Нужна ли нам эта река, если абсолютно точно доказано, что лишь пиро́ги и шлюпки отваживаются заходить в ее устье?»105 Попробовать поймать удачу, невзирая ни на что, означало не только перехитрить могущественных британцев или американцев с их торговыми интересами, ни даже затеять игру с Китайской империей, а пойти на открытое нарушение инструкций Амурского комитета, руководимого Нессельроде и его клевретами, и бросить вызов высочайшей воле Николая I. Никакая протекция не смогла бы здесь помочь, никто не удержался бы на своем посту, допустив подобную дерзость.
И тогда был разработан следующий план: Невельской, имеющий право претендовать на командование военным кораблем, попросится капитаном на небольшое транспортное судно «Байкал», которому надлежит доставить в порт Петропавловска-Камчатского груз, необходимый Муравьёву в этом отныне вверенном ему регионе. «Байкал» как можно раньше с началом навигации покинет Петербург и под всеми парусами устремится через Атлантический и Тихий океаны к месту назначения. Там по приказу нового генерал-губернатора его быстро разгрузят. Затем, имея в запасе несколько недель, «Байкал» под командованием Геннадия Невельского направится прямиком к предполагаемому устью Амура для съемки и составления карт. Вторая часть задания была облачена в осторожно-расплывчатые формулировки; управляющий морским министерством, близкий к Великому князю, оказался посвящен в тайну перед тем, как подать приказ на подпись царю. Параграф, составленный самим Невельским, – «По сдаче груза в Петропавловске следовать в Охотское море, тщательно осмотреть и описать юго-восточный берег Охотского моря до лимана Амура» – был вычеркнут начальником Главного Морского штаба князем Меншиковым и заменен формулировкой: «Осмотреть юго-восточное побережье Охотского моря между пунктами, определенными другими мореплавателями». Это была неуклюжая хитрость, чреватая крупными неприятностями для Невельского, которому Меншиков пообещал вырвать позднее у царя формальное позволение на подобную затею.
«Байкал» вышел из Кронштадта 21 августа 1848 года. Когда транспорт бросил якорь на Камчатке в мае 1849 года, никакого позволения туда не поступило. Продолжать плавание, невзирая ни на что, означало рисковать серьезным конфликтом с Китаем и в особенности подпасть под закон об оскорблении Величества. Невельской собрал своих офицеров и торжественно объявил им, что берет на себя все последствия предприятия, которое хочет успешно завершить. 30-го мая «Байкал» снялся с якоря, 7-го июня корабль достиг берегов, описанных предшествующими экспедициями, и Невельской, действительно, увидел перед собой огромные песчаные мели, препятствовавшие всякому продвижению вперед. Командир приказал спустить шлюпку на воду и «все время бросать лот». Сильные двусторонние течения и туман затрудняли движение, и можно было расслышать грохот волн, разбивавшихся о скалы у берега Сахалина, расположенного совсем близко. Шлюпка шла впереди, транспорт медленно следовал за ней. Офицеры вели судно с большой опаской, но оно то и дело садилось на мели, с которых надо было сниматься. Двигаясь пешком по берегу, отмечали вехами песчаные мели. Случалось, шлюпку захлестывало сильными волнами на подводных грядах и валах. Тем не менее постепенно стало ясно, что старые карты, имевшиеся у Невельского, приблизительны, а то и ошибочны. Моряки «Байкала» сделали сразу два открытия, изменившие ход русской истории в этом регионе. Первое: между Сахалином и материком имеется пролив.
Сахалин – это, конечно же, остров, и все предыдущие мореплаватели ошибались на сей счет. Пролив Невельской назвал «Татарским», «хотя мог бы дать ему свое имя»,106 – скромно замечает его дочь. Россия получила прямой выход в Японское море из Охотского. Второе открытие было сделано 22 июля 1849 года: в самом проливе Невельской обнаружил «широкий, свободный проход между песчаными мелями и бурунами».107 «Байкал» беспрепятственно вошел туда: это и было устье Амура. Еще несколько недель плавания, и доказательство получено: великая река судоходна, и самые крупные корабли, если внимательно вести их, могут обеспечить сообщение между Тихим океаном и Восточной Сибирью. Маститые географы оказались посрамлены настырным капитан-лейтенантом, которому тогда было 36 лет.
* * *
Николай Муравьёв, непосредственно причастный к этой секретной операции, не мог усидеть дома и прибыл в порт Аян на Охотском море, чтобы присутствовать при развязке драмы. Его жена Екатерина пожелала сопровождать его в этой долгой, изнуряющей поездке, где, как она понимала, решается судьба супруга. В Аяне среди зашедших в порт моряков ходили самые фантастические слухи: к примеру, рассказывали, будто «Байкал» затонул в Тихом океане. И вот, когда 3 сентября 1849 года паруса транспорта показались на горизонте, Муравьёв сел в лодку и приказал грести навстречу Невельскому, которого он не видел с самого отъезда из Петербурга. «Невельской! Откуда вы явились?» – крикнул Муравьёв из шлюпки, как только его голос можно было услышать на корабле, и в вопросе чувствовалось сильное волнение. Встав на юте, капитан прокричал ему в ответ: «Ура! Ваше Превосходительство, Сахалин – остров, вход в лиман возможен для мореходных судов с севера и с юга, вековое заблуждение рассеяно!»108 Шлюпка взорвалась от радости, и крики «Ура, ура, ура!» огласили бухту.
Едва встретившись, Муравьёв и Невельской, полные эйфории, отдались полету фантазии. Завтра, мечтали они, Россия приступит к колонизации этих берегов, займет и сделает процветающим бассейн Амура, который станет пуповиной между Европейской Россией и тихоокеанскими владениями. Здесь Россия создаст свою собственную Калифорнию! Она бросит вызов британской сверхдержаве! Поневоле придется смириться даже китайцам, следов которых Невельской ни разу не обнаружил за несколько недель обследования устья Амура. Ни минуты не сомневаясь, что их ожидает благосклонный прием, они пустились через всю Сибирь в долгий обратный путь в столицу.
В Петербурге их окатило ледяным душем. Нессельроде был вне себя от ярости, консерваторы подняли вопль об оскорблении Величества и неповиновении приказам императора. Они обвинили Невельского и Муравьёва в опасном подрыве отношений с Китаем. И, что было еще хуже для прожектов обоих героев, капитан «Байкал» был обвинен в распространении лживых измышлений. Согласно свидетельствам, поступавшим ранее, китайцы усилили берега Амура многочисленными крепостями и значительной армией. Как посмел Невельской утверждать, что среди лагун, отмелей и заболоченных берегов ему попалось лишь несколько гилякских селений, не принадлежащих ни одному суверенному государству? Амурский комитет, специально созданный для выработки и проведения российской политики в этой части света, собрался на экстренное заседание, обвинив Невельского во лжи, и потребовал, чтобы он был немедленно и с позором разжалован.
В высших эшелонах российской власти и правительстве завязалась жестокая борьба. Муравьёв и его союзники, разумеется, безоговорочно встали на защиту капитана, объявленного ими героем, и потребовали вмешательства самого государя. Как это не раз уже повторялось в истории покорения Сибири и как это будет еще происходить в последующие десятилетия, самые яростные баталии развернулись в Петербурге. Анархист Бакунин в письме Герцену, жившему в эмиграции в Европе, написал по поводу Муравьёва: «Петербург, весь высший официальный мир его ненавидит; в Третьем отделении[77] он записан как архикрасный».109 Характер Муравьёва отнюдь не способствовал его избавлению от этой дурной репутации: по свидетельству близких, с годами он становился все более вспыльчивым, неуравновешенным, авторитарным, капризным, жестким и пребывающим на грани нервного срыва вплоть до того, что выдержка изменяла ему всякий раз при упоминании имени Нессельроде. Муравьёв желал, чтобы ему предоставили свободу действий, наделив всей полнотой власти на месте. В разговорах с близкими он вздыхал о славных временах XVI–XVII веков, когда казаки могли овладеть сибирскими просторами, не будучи «опутанными Сенатом или департаментами».110 Теперь же никто не был готов взять на себя столь непомерный риск. На одном из докладов восточносибирского генерал-губернатора с требованием предоставления ему большей автономии ради блага Империи царь даже в ярости написал: «Вздор!»111 А во время одной из бесед с ним Николай I отпустил язвительный комментарий: «Ах, Муравьёв, ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от Амура!»112
Эта борьба с петербургской администрацией – источник всех битв Муравьёва, которому до самого конца пребывания на генерал-губернаторском посту приходилось делить свое время между новыми краями, постепенно присоединяемыми к России, и столичными салонами, где он должен был сражаться не менее решительно, добиваясь признания и поддержки своих действий. Лето он проводил на Амуре или на Дальнем Востоке, зиму – в Петербурге, а промежутки между этими периодами – в бесконечных переездах, преодолевая тысячи километров в санях: это было в интересах дела, но под конец подорвало его здоровье. К моменту отставки, согласно его помощнику Венюкову, он наездил по сибирским дорогам в общей сложности более 120 000 км верхом или в обычных повозках.113
Муравьёву и его союзникам виделся новый мир, поднимающийся на Востоке, тогда как старик Нессельроде и большинство членов правительства смотрели только на Запад, к которому они принадлежали всей душой. Царь пытался остудить пыл участников этого яростного противостояния двух кланов и найти компромиссные решения. Весной 1850 года Невельского оставили в звании, но тут же отправили обратно к устью Амура для изучения возможности ведения торговли с туземцами северного (левого) берега реки. Если представится возможность, туда будет направлена «Российско-Американская компания»: изящный способ закрепиться в спорном районе, не вовлекая в это напрямую Российскую империю. Дипломаты Нессельроде еще раз напомнили, что никоим образом нельзя нарушать возможные права китайцев в этом районе, а следует действовать «без шума и с должною осторожностью».
Но в Петербурге плохо знали горячий нрав капитана Невельского. Уже через шесть месяцев, осенью 1850 года, он рапортовал о поднятии русского флага в амурском устье. По его словам, времени ждать не осталось, так как местные гиляки подтвердили ему, что «ранней весной ежегодно в Татарский пролив приходят большие суда, останавливаются часто у берегов, и белые люди, спускающиеся оттуда, англичане и американцы, берут насильно у них рыбу и меха и делают различные бесчинства, за которые их никто не наказывает».114
Что касается китайцев, и речи быть не могло, чтобы оставить за ними защиту этого края от иностранных притязаний. При посещении гилякских селений ему всего лишь один раз повстречался маньчжурский представитель, с которым он обошелся по-свойски. Каким же образом? Вот что он рассказывает в своем дневнике: «Я подошел к старшему из маньчжуров, которого гиляки называли джангин, что значит богатый старик; этот маньчжур сидел с важностью на обрубке дерева и тем оказывал свое начальническое влияние на окружавшую его толпу маньчжуров и гиляков. Он важно и дерзко спросил меня, зачем и по какому праву я пришел сюда. В свою очередь и я спросил маньчжура, зачем и по какому праву он здесь находился. На это маньчжур с еще большей дерзостью отвечал, что никто из посторонних, кроме них, маньчжуров, не имеет права являться в эти места. Я возразил ему, что так как русские имеют полное и единственное право быть здесь, то я требую, чтобы он со своими товарищами маньчжурами немедленно оставил эти места. На это маньчжур, указывая на окружавшую его толпу, потребовал от меня, чтобы я удалился и что в противном случае он принудит меня сделать это силой <…>. В ответ на эту угрозу я выхватил из кармана двухствольный пистолет и, направив его на маньчжур, объявил, что если кто-либо осмелится пошевелиться, чтобы исполнить его дерзкое требование, то в одно мгновение его не будет на свете. Вооруженные матросы, по моему знаку, немедленно явились ко мне. Такой совершенно неожиданный для всех поступок так ошеломил всю эту толпу, что маньчжуры сейчас же отступили, а гиляки, отделившись от них, начали смеяться над их трусостью и, видимо, были довольны этим действием, давая понять, что будут на моей стороне».115
Находясь в Петербурге, капитан Невельской убежденно заявлял: «Река Амур должна непременно принадлежать Российской империи, а русский флаг – развеваться на ее берегах». Что и было им сделано по возвращении в эти края. «В присутствии собравшихся из окрестных деревень гиляков и при салюте из фальконета и ружей, я поднял русский военный флаг 1 августа, а затем оставил при флаге военный пост, названный мною Николаевским».116
Карл Нессельроде, разумеется, не читал этих строк из дневника капитана, но легко себе представить его ярость, когда курьеры с Дальнего Востока принесли эту новость. Измена, оскорбление китайского государства, нарушение царских приказов, да еще повторно и, несомненно, предумышленно! Министр иностранных дел желал не только головы непокорного офицера, но и его унижения. Когда Амурский комитет собрался на заседание, чтобы вынести свой приговор по этому делу, Муравьёв попробовал отстоять своего протеже, заявив, что Невельской действовал с его ведома. Он говорил, что дело было вовсе не в отказе, а в его патриотизме, ведь на карту были поставлены судьбы русского Дальнего Востока и Сибири. Комитет, пылая негодованием, решил дело иначе. Было составлено прошение к царю о том, чтобы разжаловать Невельского в матросы. Николаевский пост следовало «стереть с лица земли», «Российско-Американской компании» нечего было больше делать в Татарском проливе и на Сахалине.
Казалось, Муравьёв потерпел полное поражение. Но когда обескураженный генерал-губернатор спускался по монументальной лестнице Зимнего дворца, где состоялось заседание, он услыхал, как кто-то окликнул его сзади и положил ему руку на плечо. Это был Великий князь Александр, сын Николая, будущий царь, который сказал, улыбаясь: «Муравьёв! Амурское дело велено рассмотреть в моем присутствии. Будем работать и трудиться вместе!»117 Николай I только что определился, чью сторону ему принять. Именно в тот момент, по признанию Муравьёва, сделанному им позднее в близком кругу, он осознал, что сражение было выиграно и вопрос об Амуре решен. Было назначено новое заседание. Наследник престола сменил Нессельроде на посту председателя Амурского комитета. Его младший брат, Великий князь Константин, давний покровитель Муравьёва, стал курировать морской флот. Невельской не только не был разжалован, а получил орден Святого Владимира, и лишь чересчур явное неповиновение, выказанное им во время Амурской экспедиции, оставило его без звания контр-адмирала. На полях императорского указа царь сделал примечание, которое впоследствии не раз на все лады будут повторять русские националисты: «Там, где однажды поднялся российский флаг, он уже опуститься не может!»118 Муравьёв выиграл затеянное им противоборство. Русский орел неожиданно повернул голову и устремил свой взор на Восток.
* * *
Однако все только предстояло сделать. Редкие посты в нижнем течении Амура влачили жалкое существование из-за нехватки ресурсов. Размещенные там гарнизоны донимал голод и косил тиф. Капитан 1-го ранга Невельской (таково было его новое звание), на деле доказывая свой патриотизм, поселился с молодой женой у Амурского лимана и вкусил все тяготы жизни первопроходцев: он жил в холодной избушке бок о бок с гиляками, первый его ребенок умер от болезни, а измученная, исхудавшая и впавшая в глубокую депрессию жена была спасена лишь неожиданным появлением русского корабля с севера. В Китае незадолго перед тем скончался император, оставивший престол слишком юному наследнику, что лишь усилило экспансионистские аппетиты западных стран. Военный и торговый натиск великих держав на Тихом океане нарастал, и теперь ежегодно более 500 иностранных судов занимались незаконным промыслом у русских берегов Берингова и Охотского морей. Конгресс США выделял крупные суммы на исследование северной части Тихого океана, включая Курилы, Сахалин и устье Амура. В 1853 году командор М. Перри во главе американской эскадры сумел сделать то, что не удалось Николаю Резанову 50 годами ранее: угрожая Японии военной силой, он принудил ее открыть свои порты для американской торговли. Еще более тревожным для России явилось стремительное ухудшение ее отношений с Францией, Великобританией и Османской империей. В 1853 году Муравьёв, взяв на несколько месяцев отпуск, проехал через Европу, чтобы отдохнуть на родине своей супруги: отправляясь обратно в Россию, он был убежден в неотвратимости войны. Война, объявленная России султаном, разразилась на Чёрном море за несколько дней до его прибытия в Петербург.
Муравьёв сразу же усмотрел пользу, которую можно было извлечь из этого конфликта для его собственных планов. Вступление англичан и французов в Крымскую войну на стороне турок неожиданно сделало актуальными его предупреждения, неоднократно звучавшие в предыдущие годы: тихоокеанские владения России на Камчатке или Аляске находились под ударом флота союзников, несравненно более мощного, чем несколько русских кораблей. «Я много видел портов в России и в Европе, но ничего подобного Авачинской губе [бухте Петропавловска-Камчатского] не встречал; Англии стоит сделать умышленно двухнедельный разрыв с Россией, чтобы завладеть ею и потом заключить мир, но уже Авачинской губы она нам не отдаст».119 Теперь же угроза была отнюдь не гипотетической: без незамедлительной отправки подкреплений утрата Россией своих тихоокеанских владений – лишь вопрос нескольких месяцев. Но каким образом в столь короткий срок доставить эти подкрепления из одной части планеты в другую?
Ответ, данный Муравьёвым, звучал предельно лаконично: по Амуру. Воспользовавшись пребыванием в столице на обратном пути из Франции, генерал-губернатор предложил царю дерзкий план, незадолго до того созревший в его голове. Следовало собрать войска, какие только найдутся в Сибири, и немедленно доставить их по Амуру к Тихому океану, откуда они смогут добраться до береговых укреплений, и даже до Петропавловска-Камчатского, самого выгодного и стратегически важного пункта. Солдаты должны были также взять под усиленную охрану устье Амура, чтобы воспрепятствовать какой-нибудь англо-французской эскадре проникнуть по нему в сердце Сибири и открыть там второй фронт против России. Для осуществления этих целей Муравьёв предложил образовать речную флотилию из всех барж, рыбачьих лодок и пароходов, какие только было можно мобилизовать или построить за несколько недель, чтобы прямо на виду у китайцев спуститься – под его личным командованием – на несколько тысяч километров вниз по течению: путь, который до той поры ни один русский корабль не сумел проделать за один раз. Никто, кстати, также не знал, каковы у Амура русло, фарватер, есть ли там подводные камни. Предложенная идея была не совсем нова: за два года перед тем Муравьёв уже озвучил ее царю, однако вместо ответа получил лишь негодующе поднятые брови. План казался фантастическим, однако после объявления войны даже Нессельроде пришлось с ним согласиться: без этого Петропавловск был обречен, ведь английский и французский флоты как раз в те дни объединялись. Началось соревнование на время между маневрировавшими кораблями французов и англичан и группой разношерстных плавательных средств, которые собирал Муравьёв. 14 января 1854 года Николай I дал свое согласие и предоставил Муравьёву полномочия на ведение переговоров с Китаем (реакция которого была более чем предсказуема) о новом разграничении сопредельных земель. Царь был явно обеспокоен возможной интерпретацией Муравьёвым выданной ему карт-бланш: «Но чтобы при этом не пахло порохом…» – нацарапал он в качестве примечания к официальному указу.
Четыре месяца спустя Николай Муравьёв вступил на борт парохода «Аргунь», своего флагманского корабля, пришвартованного вместе с остальной сибирской флотилией на реке Шилке, единственном притоке Амура, протекавшем тогда по русской территории. Покинув Петербург, он вернулся в Иркутск, отдал приказ о строительстве лодочной флотилии, собрал воинские части, уговорил своих противников в городе, крупных иркутских купцов, профинансировать эту операцию. Она ему виделась последним шансом. Потом доехал вместе с солдатами и мастеровыми до города Нерчинска в Забайкалье. На берегу Шилки, прямо на пойме, установили стол, призванный служить алтарем. В качестве символа на нем поместили икону, которую двумя столетиями ранее увезли из крепости Албазин, уступленной китайцам по Нерчинскому договору[78]: окрестности огласились звуками гимна «Тебя, Бога хвалим», и все участники похода преклонили колени перед святым образом. Раздвигая толпу, Муравьёв в окружении своего штаба поднялся по трапу и обвел взглядом новорожденный речной порт. На реке теснились самые разномастные плавательные средства: 18 парохода, флотилия включала пять лодок, четыре парусника, 18 шлюпок, 13 барж, восемь плашкоутов и 25 плотов, приткнувшихся к берегам Шилки[79]. Всего амурская флотилия располагала 400 тоннами провизии и четырьмя пушками. Она насчитывала 754 сибирских линейных стрелка, шесть офицеров, 120 казаков, а также шесть ремесленников и 14 музыкантов.120 Поднявшись на ют, Муравьёв поприветствовал своих спутников: «Детушки! Пора выступать. Помолимся Богу, испросив Его благословения в нашем путешествии».121 Священники на берегу пропели молебен о путешествующих. По его окончании Муравьёв распорядился поднять флаг на флагманском корабле. «Запестрели перед нами берега Шилки, оглашаемые громкими криками «ура»! Мы быстро неслись по ней, чтобы достигнуть реки Амура. Заводская пушка приветствовала флотилию, и население Шилки бросало шапки вверх и кричало «ура»! Это были радостные, восторженные и единодушные пожелания открытия пути по реке Амуру»,122 – вспоминает один из участников экспедиции.
Под предводительством единственного парохода «Аргунь» флотилия начала сплав по реке. Несмотря на сильное течение, продвижение вперед замедлялось бесчисленными песчаными перекатами, требовавшими сложных маневров от лоцманов более крупных судов, чтобы избежать частых посадок на мель. Невесть откуда взялись слухи, что китайцы перегородили реку цепями длиной несколько километров. По правде говоря, никто не потрудился предупредить заранее маньчжурские власти о походе столь необычного флота по их территории. Формальная граница была достигнута через четыре дня после отплытия, когда пароход «Аргунь» покинул Шилку и вошел в русло самого Амура. Это произошло в половине третьего пополудни, под дождем, зарядившим с самого утра. Трубачи экспедиционного оркестра торжественно заиграли гимн России «Боже, Царя храни». В лодках и на плотах все встали и перекрестились. Муравьёв, придававший большое значение символическим жестам, зачерпнул из реки стакан воды и, подняв его перед всеми участниками похода, осушил до дна под крики «ура» обступивших его участников речной экспедиции. Можно ли было лучшим образом дать понять, что Россия твердо намеревается овладеть гигантской водной артерией, текущей на восток?
Никакой цепью китайцы реку не перегородили. Они совершенно ничего не знали об этом походе. Первые маньчжурские селения на правом берегу реки русская флотилия обнаружила лишь спустя три недели после начала плавания. Когда сплав приблизился к Айгуну, китайскому административному центру на «реке Черного дракона», Муравьёв направил курьера к тамошнему наместнику. В полном соответствии с указаниями, полученными из Петербурга, запрещавшими какие бы то ни было насильственные действия в отношении Китая, его послание было подчеркнуто миролюбиво: никакого беспокойства, мы лишь проплываем мимо, направляясь к устью реки, чтобы защитить наши тихоокеанские владения от французов и англичан, ставших отныне общими врагами обеих наших империй. Маньчжурский наместник был немало удивлен происходящим, тем более что никаких указаний на сей счет из Пекина не поступало. Вначале он ответил решительным отказом на просьбу пропустить русскую экспедицию. Однако увидев на следующее утро суда, выстроившиеся в линию на реке по команде Муравьёва, с солдатами на борту в полной боевой готовности, он решил потянуть время. В китайском порту насчитывалось всего 35 джонок, лишенных всякого оружия; никто еще в этих краях не видел корабля без парусов, как «Аргунь», чей дым вселял беспокойство в местных китайцев. Русскую делегацию пригласили в шатер, устроенный на берегу реки, и, чтобы ввести незваных гостей в заблуждение, китайцы поставили позади шатра тысячу человек с палками, спешно выкрашенными в черный цвет, чтобы придать им сходство с копьями, и луками на плечах. «По всей видимости, китайцы, живущие в этой части страны, не достигли никакого прогресса за два последних века»,123 – отметил британский географ и картограф Эрнст Равенштайн, выпустивший в 1861 году книгу, целиком посвященную Амурскому вопросу. В сущности, как рассудил наместник, будет лучше, если беспокойная армада отплывет как можно скорее и как можно дальше. Он удовольствовался лишь тем, что запретил русским высаживаться где бы то ни было на берегу, после чего флотилия, ободренная отсутствием всякого вооруженного сопротивления со стороны китайцев, вновь подняла паруса.
После этого экспедиция двигалась вниз по течению Амура почти без приключений. В летописи похода упоминается лишь буря, чуть было не потопившая все плоты и баржи и вынудившая сделать стоянку на два дня, чтобы высушить провиант. И больше ничего. Маньчжуры (если только они там были) покинули берега при известии о прибытии русских, прочие же местные жители с любопытством взирали на этот причудливый караван, проплывавший перед их глазами. У капитана «Аргуни» не было под рукой никакой карты реки, чтобы ориентироваться, и ему приходилось пользоваться общей картой Азии: никто отчетливо не представлял себе, какое расстояние еще требуется преодолеть, чтобы достичь двух русских постов, основанных Невельским – Николаевского в устье Амура и Мариинского, отстоящего от него в нескольких сотнях километрах вверх по течению.
10 июня Муравьёв, погруженный в думы о завершении плавания и, вероятно, озабоченный скорейшей отправкой части перевезенных солдат в подкрепление на Камчатку, заметил небольшой русский парусник, шедший против течения им навстречу. Даже не удосужившись поприветствовать офицера, стоявшего на корме, он крикнул: «Сколько еще до Мариинского поста?» И получил ответ: «500 верст!»[80] Но разочарование быстро сменилось радостью, поскольку офицер привез хорошие новости: Невельской сообщал своему начальнику, что в конечном пункте сплава все уже подготовлено. Четыре торговых судна «Российско-Американской компании» и военные корабли собраны и готовы к отплытию с солдатами, оружием и провиантом на борту.
Встреча с Геннадием Невельским произошла 14 июня, ровно через месяц после начала сплава. Муравьёв и Невельской крепко обнялись. «Император поручил мне передать вам, что Его Величество чрезвычайно доволен Вами и благодарит Вас от имени всей России», – якобы сказал Муравьёв своему соратнику, одинаково измученному неблагодарностью правительства и тяготами исследований дальних краев. В своих «Воспоминаниях» Вера, дочь капитана и будущего адмирала Невельского, впоследствии прибавит, что «две сверкающие слезы скатились из темных глаз скромного героя и застыли на его дрожащих губах».124 Без единого выстрела и в значительной степени вопреки желанию правительства Россия соединила Дальний Восток с Сибирью. Этот исторический шаг был сделан благодаря усилиям двух героев, заключивших друг друга в объятия.
Сотни стрелков и артиллеристов, совершивших сплав по Амуру, были незамедлительно отправлены в качестве подкрепления в Петропавловск-Камчатский. Время поджимало: среди китобоев и охотников на тюленей разнесся слух, что у берегов Перу замечены крупные военные корабли, направляющиеся на север, а возле Калифорнии якобы сформирован англо-французский флот, намеренный взять курс к русским владениям на Тихом океане. К началу августа люди Муравьёва заняли оборонительные позиции в Авачинской бухте, вырыли траншеи, укрепили подступы к селению с церковью, где когда-то молился Беринг перед выходом в море. Уже 15 августа 1854 года, всего лишь через неделю после их прибытия, на горизонте появилась внушительная англо-французская эскадра, которая вскоре вошла в широкую круглую бухту, защищенную от ярости океана. Три фрегата, один корвет, один бриг и один пароход, все выкрашенные в черный цвет, насчитывали в общей сложности 2 000 человек и 190 пушек на борту. Несмотря на прибытие подкрепления, русские могли им противопоставить лишь 800 человек (включая судовые экипажи, жителей поселка и аборигенов) и 71 пушку, из которых 27 находились на борту двух кораблей, укрывшихся на рейде у входа в порт.
Эта странная дуэль между европейскими державами, моряки которых вели свою Крымскую войну на самом краю света, продлилась 10 дней, и ее жертвами стали более 500 человек. Выстроившись полукругом, англичане и французы подвергли петропавловский форт и прилегающее селение непрерывному артиллерийскому обстрелу. Однако координация между союзниками вскоре нарушилась: британский адмирал Прайс, главнокомандующий эскадрой, неожиданно застрелился у себя в каюте в приступе депрессии на второй день сражения. Бой пришлось остановить, чтобы искать укромное место на берегу для погребения покойного, оставив его офицеров в полном замешательстве от столь неожиданного поворота событий. Командование операцией перешло к французскому адмиралу Феврие де Пуанту, «очень пожилому офицеру и инвалиду»,125 по замечанию английского репортера Равенштайна. Англичане высказались за высадку на суше, де Пуант колебался, и в конце концов два сухопутных штурма союзников с участием сотен стрелков захлебнулись на подступах к петропавловским укреплениям. После погребения погибших англичан и французов эскадра снялась с якоря. Когда известие об этом успехе достигло Петербурга, в Генштабе с облегчением перевели дух. В то самое время, как Севастополь, знаменитый русский плацдарм в Крыму[81], был взят в осаду, тихоокеанский фронт вроде бы держал оборону. Смелая стратегия, разработанная Николаем Муравьёвым, принесла свои плоды. И пока все умы в Европе были заняты войной на Чёрном море, Россия без лишнего шума овладела крупным куском Азии.
Весной 1855 года все повторилось заново. Вторая флотилия под командованием того же Муравьёва спустилась вниз по течению Амура. Зрелище было еще более внушительным, чем годом ранее: по реке растянулась более чем двухкилометровая вереница из 125 речных судов разных типов. На иллюстрациях той эпохи можно увидеть громадные плоты длиной более 50 м каждый, с палатками и наспех поставленными шалашами, вокруг которых разместились коровы, лошади, куры и гуси. Дело в том, что, помимо военных подразделений, призванных защитить берега Тихого океана, распоряжением генерал-губернатора для колонизации земель в нижнем течении реки была отправлена первая группа сибирских крестьян: 51 семья, в общей сложности 484 человека. Они-то и основали первые пять русских сел на Дальнем Востоке.
Но усилились не только русские: то же самое можно сказать и об англо-французском флоте, вернувшемся из Европы с серьезными подкреплениями. 17 военных кораблей (из них один французский), вооруженных 480 пушками, образовали ударную силу, более чем вдвое превосходившую прошлогоднюю. Царский флот мог противопоставить им семь небольших кораблей, насчитывавших в общей сложности 90 пушек. На этот раз союзники поставили перед собой цель выявить, а затем уничтожить все военно-морские силы России на Тихом океане, чтобы руки западных держав в этом регионе были развязаны.
Но когда эскадра под командованием адмирала Брюса вошла в узкий проход, ведущий в Петропавловскую бухту, она не обнаружила там никаких признаков жизни, ни единой шлюпки. И вновь Муравьёв опередил противника. Предвидя возвращение союзников после поражения, понесенного ими предшествующим летом, и не располагая достаточными ресурсами, генерал-губернатор отдал распоряжение об эвакуации к сибирским берегам главного порта Камчатки вместе со всем вооружением и скарбом. Находясь в Иркутске, вдали от театра военных действий, Муравьёв решился на этот шаг, ничего не зная о подлинных намерениях противника и не имея никаких распоряжений от царя и правительства. Его инициатива шла вразрез со всеми принципами работы, принятыми в русской администрации. И вновь фрондирующий губернатор поставил на карту свою карьеру. Рассматривая в подзорную трубу оставленный Петропавловск, адмирал Брюс заметил лишь американский флаг, водруженный над одним из складов как бы в пику английским гостям. Британцы разрушили артиллерийские позиции и предали огню административные здания, «правда, без согласия на то адмирала»,126 как подчеркивает историк этого похода Равенштайн. Затем союзный флот без промедления отправился в погоню за русскими.
Но куда же они подевались? Согласно плану Муравьёва, весь флот следовало укрыть в удаленных протоках амурского устья несколько выше по течению. Таким способом он надеялся обмануть лучший в мире флот, офицерам которого еще ничего не было известно об открытиях Невельского. Когда быстрые британские фрегаты под всеми парусами приблизились к пресловутым песчаным мелям в Татарском проливе, они различили в весеннем тумане несколько тяжеловооруженных кораблей, укрывшихся на рейде. Не зная, что на борту находятся последние штатские, эвакуированные из Петропавловска, адмирал не решился рисковать и предпочел дожидаться в открытом море подхода подкреплений. Когда же туман рассеялся, «пташки упорхнули»,127 по замечанию Равенштайна. «Может показаться самонадеянным, что штатский человек позволяет себе какие-то комментарии по поводу военно-морских операций, но мы не можем удержаться от мысли, что флота из 17 судов было бы вполне достаточно для блокирования входа в Амур с севера и юга даже в случае, когда сочли неразумным атаковать позиции русских на нижнем Амуре»,128 – невозмутимо отметил летописец, информировавший английское общественное мнение о событиях. В свою очередь адмирал рассеял свои силы по всему Охотскому морю в поисках русского флота, но ему удалось лишь разрушить несколько факторий «Российско-Американской компании» и захватить в плен горстку финляндцев, служивших там. «14 пленных: блистательный успех военно-морской кампании в Тихом океане!»,129 – резюмирует Равенштайн, обращаясь к своим читателям в Европе.
Муравьёв спас русские военные корабли и поселенцев. Возможно даже, что именно благодаря ему Россия удержала свои позиции на Дальнем Востоке. Ибо когда на следующий год английские и французские парусники снова появились на Тихом океане, Крымская война уже закончилась, и союзный флот двинулся южнее, к берегам Китая, который был поставлен на колени в результате жестокой колониальной войны. После этого англичане, занятые подавлением восстания сипаев в Индии, на многие годы оставят в покое азиатское побережье Тихого океана. В Петербурге военная хитрость генерал-губернатора Сибири, принесшая России победу, была расценена как акт героизма, тем более утешительный, что страна вынуждена была смириться с поражением в Крыму. «Наше Амурское дело должно возместить России весь ущерб, причиненный ей Западом»,130 – написал Муравьёв из поездки своему адъютанту Корсакову. Приняв единоличные тактические решения на Тихом океане и даже не удосужившись предупредить об этом столицу, Муравьёв, по замечанию его биографа И.П. Барсукова, проявил неслыханную дерзость, но при этом также рассчитывал на свои доверительные отношения с царем Николаем I. Когда того не стало за несколько недель до окончания войны, в стране многое переменилось.
* * *
Николай I, вступивший на престол одновременно с восстанием офицеров-декабристов, был консервативным самодержцем. Александр II, сменивший его во главе России, униженной и отчасти разоренной войной, стал государем-реформатором, самым либеральным из всех русских царей. Николай Муравьёв, которого все вроде бы сближало с молодым императором, полным решимости изменить Империю, тем не менее не сумел наладить с ним столь же доверительных, тесных отношений, как с его предшественником, ненавистным всей прогрессивной Европе. Не то что бы новый царь не питал симпатий к этому дерзкому губернатору, стремившемуся расширить территорию Российской империи, просто Муравьёв с трудом выносил взбалмошный нрав государя и его вечные конфликты с большинством министров. Как заметил царь в письме своему младшему брату, Великому князю Константину Николаевичу, возглавлявшему либеральный клан, Муравьёв «постоянно стремится к достижению такой власти, которая сделала бы его независимым от центральных управлений, чего я никак допустить не могу».131
Генерал-губернатор тоже изменился. Это был уже не тот офицерик со светло-русыми волосами в наглухо застегнутом мундире, явившийся в Иркутск, а своего рода вице-король, окруживший себя целым двором преданных помощников и все чаще позволявший себе вольное толкование распоряжений императорской администрации. Из Иркутска в столицу лился поток жалоб. Сколько из них имело под собой основания? Муравьёв с горечью отмечал, что его даже не извещали о наветах. Один богатый золотопромышленник, рассорившийся с кем-то из окружения губернатора, был без всяких доказательств заключен в тюрьму за распространение слухов о коррупции среди муравьевских помощников. Несколько скандалов вызвало пересуды даже в местных модных салонах: так, возникли сомнения в правильности дуэли с участием одного из приближенных Муравьёва. Губернатора обвинили в том, что он ведет себя точно царь Сибири и беззастенчиво покрывает окружающую его великосветскую молодежь.
В нелегальных журналах русских политэмигрантов, осевших в Лондоне или Женеве, был напечатан ряд статей оппозиционеров, которые в свое время были сосланы в Сибирь и благосклонно приняты там Муравьёвым, а затем рассорились с ним: эти материалы чернили Муравьёва, обвиняемого в служебных злоупотреблениях или в том, что великий проект освоения Амура он «украл» у прогрессивно мыслящих деятелей. В жалобах, скапливавшихся в центральных ведомствах, было много преувеличений и вымыслов, однако не вызывает сомнения, что характер Муравьёва также переменился. Здоровье его ухудшилось, участились приступы изнурительной лихорадки, которую он подцепил в молодые годы на Кавказе. Он страдал вдобавок от желудочных болей и пытался подлечиться в Карлсбаде или в По, где жила семья его супруги. Губернатор становился все более раздражительным, нетерпеливым и мнительным. Он все болезненней реагировал на проявления самостоятельности со стороны своих подчиненных, требуя от них, чтобы они действовали строго в рамках отдаваемых им распоряжений. Его ближайшие соратники впали в немилость, а их заменили на новых, более покладистых помощников. Даже Невельской был отстранен от занимаемой должности[82], и ему с трудом удалось продолжить свою карьеру: «Невельской теперь для Амура не годится, время его про-шло»,132 – написал Муравьёв о своем прежнем сподвижнике. Оказавшись проездом в столице, сибирский губернатор пережил едва ли не нервный припадок при известии, что князь Барятинский, друг юности царя, произведен в фельдмаршалы и назначен наместником на Кавказе, чтобы завершить там бесконечную войну. Он был также глубоко обижен тем, что царь решил пересмотреть составленное им представление к наградам отличившимся участникам Амурской эпопеи, и все чаще поговаривал о своем намерении уйти со службы.
Губернатор торопился. Его наверняка удручала невозможность завершить историческую задачу, поставленную им перед самим собой, и он стремился сделать все, что в его силах. В 1856 году он организовал третий амурский сплав, в котором сам не смог участвовать из-за проблем со здоровьем. На этот раз речная флотилия насчитывала 697 плавательных средств, в том числе два парохода с революционными для того времени гребными колесами, произведенными в сибирских мастерских. Вместо военных на борту находились теперь переселенцы: губернатор намеревался занять территории, переселив туда крестьян, готовых пойти на риск. В первые годы таких смельчаков набралось несколько сотен, в период 1859–1882 годы их станет 14 тысяч, а до 1907 года 243 тысячи крестьян133 переселятся в новые восточные районы в надежде избавиться от нужды, царившей в деревнях Европейской России. Кроме того, Муравьёв пытался дать шанс ссыльным и каторжникам, осужденным на страшные сибирские рудники, начать новую жизнь, послужив Отечеству. Он добился от тюремной администрации смягчения сроков наказания для добровольцев. «С Богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем…» – с таким напутствием он обратился к группе бывших арестантов, сделавшихся поселенцами.
По окончании конфликта между европейскими державами взаимоотношения и границы с Китаем вновь приобрели первостепенное значение в глазах восточно-сибирского генерал-губернатора. По крайней мере в этом вопросе Александр II и новый министр иностранных дел Александр Горчаков, положивший конец управлению Нессельроде, были полностью с ним солидарны. Поражение в Крымской войне и смерть Николая I стали эпохальным событием. Россия столкнулась не только с целым рядом социальных, экономических и политических проблем (из которых вопрос об отмене крепостного права относился к числу самых острых), долгое время не решавшихся покойным царем, но и с враждебностью своих бывших европейских союзников. 40 лет назад царь Александр I прошел парадом по Елисейским полям; Англия, Пруссия и Австрия на все лады превозносили его как освободителя Европы, избавившего, наконец, континент от Наполеона. А теперь его внуку – второму, кто носил славное имя Александра – пришлось заключить постыдный мир с теми же Англией и Францией, чтобы сохранить лицо. Новый царь и его министр иностранных дел видели в Дальнем Востоке почти естественную возможность для России вернуть влияние, утраченное ею на Западе. Более того, по их мнению, именно в Азии и на Тихом океане были сосредоточены вызовы завтрашнего дня. «Предвижу, что там будут решаться будущие судьбы»,134 – написал по-французски Александр II в письме своему другу, князю Барятинскому. Разочарование в европейцах побудило Россию обратить свои взоры к Азии. Смена курса. Смена перспективы. Смена действующих лиц и политики. «Мы имеем исторические права на устье этой реки. Свободная навигация по Амуру является для нас насущной потребностью и не подлежит обсуждению», – написал в 1857 году министр иностранных дел Горчаков в инструкции русскому послу в Вашингтоне Эдуарду фон Стёклю. Такая позиция была полной противоположностью надменной осторожности Нессельроде.
Взгляды, упорно отстаиваемые Николаем Муравьёвым, неожиданно получили поддержку официальных кругов. Сибирский губернатор стал популярным как в петербургских салонах, где восхвалялся его прозорливый патриотизм, так и интеллигентских кружках, видевших в новых территориях на Востоке, завоеванных реформатором, своего рода лабораторию грезившейся им новой России. В столице тон задавали «амурцы», сторонники целенаправленного, твердого курса на русскую колонизацию Дальнего Востока. Они имели свои клубы и группы влияния при дворе, устраивали вечера, издавали газеты, выражавшие их взгляды. «Амурская эпопея у всех на устах. Фигура Муравьёва стала своего рода легендой»,135 – написал современник. Великосветская молодежь и даже политэмигранты были зачарованы Дальним Востоком. Некоторые сорвались с места и отправились туда, чтобы лично принять участие в этом историческом движении. Одним из них был князь Кропоткин, отпрыск знатной семьи, прилежный читатель Прудона, будущий теоретик либертарного коммунизма и анархизма. В 1862 года молодой человек окончил Пажеский корпус и, к ужасу своей семьи, решил отправиться на Амур: «Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, о субтропической растительности по Уссури; я восхищался рисунками, приложенными к уссурийскому путешествию Маака. Кроме того, я думал, что Сибирь – бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей деятельности».136
Муравьёв почувствовал себя окрыленным. Он был способен также сыграть на чувствительных струнах и дать России символы, в которых она нуждалась. В Крымской войне померкли мечты о Константинополе? Но не восточные амбиции Российской империи. В 1859 году, увидев на тихоокеанском побережье очень удобную для стоянки судов бухту, он назвал ее Владивостоком («Владей Востоком»), что намекало на мечту о Константинополе, утраченную во время Крымской войны. Чтобы не оставалось никаких сомнений, ведущий к ней пролив нарекли «Восточным Босфором», а саму узкую бухту, глубоко вдающуюся в сушу – «Золотым Рогом». Длительное время губернатор далекой Сибири должен был довольствоваться передачей дипломатической почты, предназначенной для Пекина, в запечатанном виде, не имея права просматривать ее. И вот он оказался на первых ролях, будучи наделен всеми полномочиями на ведение переговоров с Небесной империей об окончательной демаркации русско-китайской границы. Муравьёв решил воспользовался выпавшим ему шансом. В начале 1858 года он осознал, что настало время закрепить свои приобретения. Китай повсюду отступал под давлением флотов и армий европейских стран и не мог позволить себе открыть второй фронт против России. Более того, он был остро заинтересован в том, чтобы стать союзником своего северного соседа. Генерал-губернатор направил эмиссара в Пекин с предложением китайцам провести личную встречу по окончании ледохода в городе Айгун, расположенном на их собственной территории, на правом берегу Амура. В повестку дня Муравьёв предполагал включить обсуждение способов совместного противодействия английскому влиянию в этом регионе, а также двусторонний договор об установлении границы.
Российско-китайские переговоры начались 9 мая 1858 года с небольшого инцидента. Расположив свой лагерь на русском берегу, Муравьёв поднялся на борт катера, сопровождаемого двумя канонерками, чтобы пересечь реку, ширина которой в этом месте превышала километр. Стоя на палубе в парадной форме, он вглядывался в приближающийся к нему маньчжурский город с причаленными к берегу джонками. Когда русская делегация вошла в порт, китайцы дали приветственный салют из незатейливых старинных пищалей. Русские канонерки немедленно ответили мощным артиллерийским залпом. Китайцы перепугались и выразили протест. Муравьёву пришлось отдать приказ своим артиллеристам воздержаться на время переговоров от всякой показательной стрельбы.
Сойдя на берег, он проследовал по улицам города при большом стечении любопытных до крепости, где его ожидали амбань, маньчжурский наместник, и цзянь-цзюнь, главнокомандующий Амурскими силами, князь И Шань. Первый день ушел на застольные беседы. Чем потчевали участников этой второй в истории русско-китайской встречи в верхах? Русский военный инженер Дмитрий Романов, служивший адъютантом у Муравьёва, оставил подробное описание исторического события: «Началось угощение, состоявшее из чая и разных сухих сластей, поставленных на стол в нескольких блюдечках, потом подавали жареную баранину, жареного поросенка, нарезанных мелкими кусочками, которые приходилось класть в рот по-маньчжурски двумя палочками, и в заключение – подобие супа с клещевинным маслом … несколько раз подавали теплую рисовую водку».137 И далее: «Обед прошел весьма весело, говорили любезности, сообщали друг другу новости, но о главном деле не упоминали ни слова». В семь часов вечера Муравьёв и его свита, наевшись до отвала, вернулись на левый берег реки.
Лишь на следующий день были затронуты серьезные вопросы. Возвратившись на китайский берег, генерал-губернатор в течение пяти часов излагал позицию русской стороны, сопровождая свое выступление демонстрацией карты, на которой была обозначена граница в соответствии с притязаниями России. Предложение Муравьёва сводилось к нескольким пунктам: передача левого берега Амура России – от самого начала реки вплоть до океана; подтверждение суверенитета Китая над правым берегом до впадения в Амур реки Уссури, где граница резко поворачивает на юг и продолжается вдоль этого амурского притока до Кореи. Таким образом, Россия претендовала не только на раздел реки, но и на земли так называемой «Приморской области», отделявшей Амур от Корейского полуострова. Данный пункт составлял сердцевину предложений русских. Помимо того, предлагалось оставить право на судоходство по Амуру лишь за двумя государствами, русским и китайским, дать один год переселенцам обеих стран для обустройства на берегу, принадлежащем соответственно их государству, и стимулировать двустороннюю торговлю. Китайцы были повергнуты в шок: все это разительно отличалось от Нерчинского трактата, навязанного ими России 169 лет назад. Согласившись на такие условия, Китай терял бы всякий контроль над северным берегом Амура и, что еще хуже, лишался выхода к морю севернее Кореи. Когда цзянь-цзюнь собрался высказать свои соображения, Муравьёв сослался на усталость и предложил продолжить переговоры на следующий день, а теперь пригласил китайцев посетить прием, устроенный на русском берегу. Очевидно, генерал-губернатор не хотел, чтобы его собеседник дал волю эмоциям в ответ на столь обширные притязания. День закончился русским угощением с шампанским, под звуки хора трубачей. Музыка очень понравилась цзянь-цзюню, «в особенности веселые мотивы русских плясовых песен, которые по его желанию повторялись несколько раз».138 На следующий день Муравьёв сказался больным и не явился на встречу. На самом же деле, по признанию его адъютанта, генерал-губернатор спрятался за перегородкой в соседней каюте русского катера, на борту которого велись переговоры. Два русских представителя получили приказ говорить громким голосом, чтобы их начальник мог слушать, размышлять и реагировать, посылая к ним курьеров с записками.
Так проходили, согласно рассказу русских очевидцев, переговоры, призванные поделить Азию между двумя империями на территории в несколько тысяч километров. Китайцы пытались кое-как возражать. К примеру, они заявили, что не сомневаются в благих намерениях русских, желавших иметь доступ к Амуру, чтобы сражаться против общих врагов двух государств, но как посмотрела бы Россия, если бы китайцы проникли в Сибирь для усмирения там мятежных «варваров»? Однако никто не питал особых иллюзий: соотношение сил было слишком неравным. Единственной уступкой, выторгованной маньчжурами, было оставление вопроса о Приморской области и ее границах открытым. «Кроме прежних доказательств, что у них по берегу моря везде есть свои караулы, маньчжуры приводили, что на юге Приуссурийской страны находится родина их императорской фамилии и что поэтому уступка этой страны была бы с их стороны государственной изменой».139
* * *
Договор был заключен 16 мая 1858 года. На этот раз обошлось без латыни и составителей-иезуитов: две версии были составлены на русском и маньчжурском языках. «Ни одного пушечного залпа в честь события в соответствии с полученными приказаниями», – говорит летописец событий. Но когда Муравьёв, вернувшись на теперь уже официально русский берег, обратился к своим подчиненным, его слова были встречены бурей радостных криков и шквалом аплодисментов: «Товарищи, поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России! Святая православная церковь молится за вас! Россия благодарит! Да здравствует император Александр! Ура!»140 Чтобы увековечить эту историческую дату для России и Сибири и возблагодарить Провидение, Николай Муравьёв официально основал новый город Благовещенск, ставший впоследствии одним из важнейших центров русского Дальнего Востока. Когда новость о подписании договора распространилась, никто не сомневался, что Россия приобрела не только реку и огромную территорию, но прежде всего статус тихоокеанской державы. В ряде хвалебных статей, опубликованных в самых влиятельных журналах, инженер и публицист Дмитрий Романов из числа пламенных «амурцев» сравнил подвиг Муравьёва с деяниями Петра Великого. Подобно тому, как великий царь прорубил окно в Европу, добившись при помощи оружия выхода к Балтийскому морю, Муравьёв покончил с изоляцией Сибири, обеспечив ей доступ к Тихому океану.141 «Мы не можем скрывать от себя, что на протяжении последних 30 лет, десятилетие за десятилетием, значение Тихого океана лишь возрастало. Не за горами время, когда вопросы исторического значения для всего человечества будут решаться в этом районе. Самые сильные актеры нашего времени, державы с мировым влиянием, все они совершили выход на эту новую историческую сцену, и каждая из них старается подыскать там себе место»,142 – написала одна иркутская газета в 1858 году.
Когда Муравьёв возвратился в Иркутск, героя встречала триумфальная арка, воздвигнутая в его честь. Город был увешан флагами, всю ночь сияла иллюминация, центральная площадь светилась фонариками, складывавшимися в слова «Амур наш!». Даже в США новость была воспринята с благосклонностью как чувствительный удар по британским амбициям и залог создания новой зоны торговли, в которую непременно должен был превратиться район Тихого океана. «Нам также не мешало бы отпраздновать это событие, значение которого неизбежно покажет история последующих 50 лет <…>. В конце концов, Сибирь – наш единственный цивилизованный сосед»,143 – отметила филадельфийская газета Daily Evening Bulletin. Перри М. Коллинз, влиятельный американский предприниматель, который вскоре станет известен в США своими дерзновенными начинаниями в Азии, определил новую политическую и торговую ситуацию после заключения Айгунского договора, чеканной фразой: «Отныне Соединенные Штаты лежат больше не к западу от России или Европы, а к востоку, за Амуром и Калифорнией».144
Александр Герцен, один из главных оппозиционеров царского режима, проживавший в изгнании в Западной Европе, также откликнулся на это событие в своем журнале «Колокол» приветственной статьей под названием «Америка и Сибирь». Он выразил свою радость по поводу прорыва к многообещающему Новому Свету, который мог бы стать неким подобием республиканской, демократической Америки, расположенной на другом берегу Тихого океана, и видел в этом хорошие предпосылки для развития новых отношений между двумя нарождающимися великими державами: «Между ними [Россией и Америкой] целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого местничества и остановившейся цивилизации. <…> Черед явным образом за Америкой и Россией».145 Что касается официального Петербурга, подписание договора было, естественно, воспринято там как первая солидная компенсация за неудачи предыдущих лет. В поздравлении Муравьёву, направленном императором, в частности, говорилось: «Просвещенным действиям Вашим обязан этот край началом своего гражданского возрождения; благоразумными и настойчивыми мерами, Вами принятыми, упрочены мирные сношения с соседним Китаем и заключенным Вами трактатом дарован Сибири новый торговый путь по реке Амуру». И в качестве награды Николай Муравьёв был возведен в графское достоинство. Его имя, отныне звучащее как Муравьёв-Амурский, увековечило завоевания, которыми Россия была обязана своевольному губернатору Сибири.
После заключения Айгунского договора потребовалось еще два года, чтобы императорская Россия окончательно закрепилась в Приамурье и на дальневосточном побережье Тихого океана. Китай, которому Муравьёв-Амурский выкрутил руки, проявлял недовольство и тянул с ратификацией текста, который лишал его преимуществ, приобретенных в результате длительной борьбы полтора столетия назад. Более того, в Пекине боялись, что если сделать эту первую, громадную территориальную уступку, российская экспансия будет продолжаться. Например, в сторону Приморья, расположенного между Амуром и Кореей, ведь в русско-китайском договоре его статус не был определен. Китайцы справедливо опасались, что эта неопределенность была лишь вопросом времени. Срединная империя ослабела настолько, что могла опасаться и худшего, а именно утраты Маньчжурии или продвижения России к корейским рубежам. В самом деле, многие русские публицисты того времени, воодушевленные успехами Муравьёва-Амурского, настоятельно рекомендовали царю продолжить российскую экспансию вплоть до Великой Китайской стены и Жёлтого моря,146 обеспечивающего доступ к Тяньцзиню и Пекину. В своей переписке генерал-губернатор также выражал желание как-нибудь заняться Маньчжурией и Монголией, которые, как он написал своему сподвижнику Корсакову, «должны отделиться от Китая и составить два отдельных княжества под покровительством России».147 Рассчитывая на благоприятный для себя исход военного столкновения с европейскими державами, китайцы в течение нескольких месяцев лишь делали вид, что намерены выполнять взятые на себя обязательства. Однако новые, унизительные поражения сломили их упорство. В октябре 1860 года французские и британские войска ворвались в Пекин и в течение трех дней грабили, опустошали и жгли роскошный Летний сад в Пекине, где Цинская династия хранила свои сокровища и воздвигла чудеса архитектуры. Китайская столица была оккупирована, чем не преминул воспользоваться молодой двадцативосьмилетний русский дипломат Николай Игнатьев, предложивший Запретному городу свои услуги в качестве посредника на переговорах о выводе иностранных войск. Цена посредничества высока: Китай обязался ратифицировать Айгунский договор и, кроме того, уступить России земли к востоку от реки Уссури до Тихого океана, статус которых оставался неопределенным. 14 ноября 1860 года Китай подписал Пекинский трактат, подтверждавший и дополнявший Айгунский договор и передававший новые территории Российской империи, которая позднее образовала Приморскую область, включившую весь русский Дальний Восток с Владивостоком в качестве региональной столицы.
Слава Муравьёва-Амурского находилась в самом зените. Изрядно утомившись за 13 лет трудов в Сибири, генерал-губернатор рассчитывал извлечь кое-какую выгоду из своих успехов и мечтал о более высоком предназначении. Проделав десятки тысяч километров в разъездах по Сибири, Камчатке и наконец-то присоединенному Дальнему Востоку, он желал отдохновения и более спокойной жизни. Он вынашивал план разделения вверенного ему огромного региона на два генерал-губернаторства, во главе которых встали бы два его ближайших сподвижника – Корсаков и Казакевич. На самом деле ему хотелось получить новый титул наместника Сибири, чтобы сохранить некоторое влияние на этот регион, ставший его империей. Когда в январе 1861 года он уезжал из Иркутска, чтобы изложить свои планы при петербургском дворе, все понимали, что генерал-губернатор больше не вернется. В кругах городской интеллигенции не особенно сожалели об его уходе, считая местным деспотом. Но простой народ устроил пышные проводы сибирскому герою, каким в его глазах был Муравьёв: из Вознесенского монастыря, расположенного на выезде из города, местные чиновники вынесли Муравьёва на руках, а затем граф очутился на руках крестьян, передававших его друг другу до самой повозки. Наконец экипаж тронулся в сторону Европейской России: «Все стояли без шапок; кто бежал сзади, кто обратился к монастырю и крестился, кто набожно благословлял отъезжающего».148 Однако эта последняя поездка завершилась совсем не так, как хотелось Муравьёву-Амурскому. В Сибирском комитете, куда он был вызван, чтобы представить свои предложения по административной реформе, заседали отнюдь не его друзья, и почтенные сановники не намеревались идти ни на какие уступки. Они единодушно воспротивились новому административному делению Сибири, идее нового иерархического титула и даже заблокировали кандидатуры преемников, слишком преданных неуемному покорителю Амура. Возмущенный и оскорбленный до глубины души этим, как ему казалось, преступлением против его достоинства, Муравьёв-Амурский немедленно подал прошение об отставке. Оно было удовлетворено государем («из душевного сострадания», как напишет позже Александр II149). В указе от 19 февраля 1861 года царь поблагодарил своего преданного слугу Николая Муравьёва-Амурского, назначил его членом Государственного совета и позволил выехать из России во Францию. По иронии судьбы, в тот же самый день Александр II подписал важнейший документ своего царствования – Манифест об отмене крепостного права, сторонником чего ушедший в отставку Муравьёв был с самого начала своей карьеры. Позднее у себя в парижском доме граф Муравьёв-Амурский будет принимать ветеранов Амурских экспедиций. Там он и скончается в ноябре 1881 года от гангрены и найдет упокоение в семейном склепе Ришмонов на кладбище Монмартр[83].
Между американским соблазном и автономией: когда сибирь повзрослела
Владивосток, новый маяк России, засиявший на Тихом океане, поначалу был скорее дерзновенной мечтой, нежели реальностью. Путешественники, прибывавшие в город, основанный для «владения Востоком», о чем говорило уже само его название, могли увидеть лишь несколько деревянных причалов, русскую церковь, китайский храм и лачуги, лепившиеся вдоль грязной улицы, которая поднималась от гавани к господствующим над ней холмам. Среди уличной толпы китайцы и корейцы встречались столь же часто, что и русские, но в остальном все поразительно напоминало Far West [Дальний Запад] по другую сторону океана. Горстка русских офицеров, зашедшие в порт моряки да отдельные авантюристы были основными посетителями кабаков, где вечера нередко заканчивались потасовками. По свидетельству очевидцев, в моде было развлечение под названием «игра в тигра»: военные собирались в задней комнате кабака, где гасился свет, один из них должен был выкрикнуть «Тигр!», после чего остальные начинали беспорядочно стрелять в полной темноте туда, откуда донесся звук.150 Как и в Калифорнии, торговля цвела пышным цветом. Со временем вдоль набережных выросли конторы иностранных фирм, избравших «русский Гибралтар» в качестве своей главной опорной базы на Дальнем Востоке. Американцы, немцы, скандинавы, британцы, китайцы, японцы, корейцы открывали свои лавки и брокерские конторы. Среди иностранных семейств, обосновавшихся во Владивостоке, особенно выделялось семейство швейцарских коммерсантов Бринеров, ставшее одним из самых влиятельных в городе; один из его потомков, известный как Юл Бриннер[84], стал впоследствии звездой Голливуда. Ничто, казалось, не могло остановить «бум» Дальнего Востока.
Владивосток – Калифорния: взаимное родство этих земель первопроходцев, лежащих на противоположных берегах Тихого океана, приходило в голову и казалось очевидным. На протяжении двух десятилетий главная улица Владивостока именовалась «Американской[85]». И, конечно, вряд ли было чистой случайностью, что пароходо-корвет, с которого высадился основатель города губернатор Муравьёв-Амурский, назывался «Америкой».
Америка занимала все умы, и кто-то даже назвал генерал-губернатора «Муравьёвым-Американским». В последние годы его правления в новой русской провинции на Тихом океане ощущалось политическое и умственное возбуждение, охватившее либералов по всей стране. В доме под названием «Россия» генерал-губернатор прорубил широкое окно с видом на океан и далее на Америку: через это окно мог беспрепятственно поступать свежий воздух либерализма и революционных идей. Как заметил один молодой офицер из окружения Муравьёва: «Если легкому западному ветру вольностей не дозволено проникнуть через царские таможни [в Европе], то все, что потребно Сибири, принесет восточный ветер. И поступать он будет через Амур и торговлю с Америкой».151 Американская модель будоражила пытливые умы и прогрессистов того времени. При помощи Франции новорожденные Соединенные Штаты одержали победу над своей британской метрополией и с тех пор вызывающе процветали. Их флот бороздил все моря, их торговцы составили конкуренцию старым европейским нациям в Китае и даже Японии, куда американцы в конце концов открыли для себя доступ, опираясь на силу своего военно-морского флота. США выступали оплотом новых ценностей демократии, федерализма, конституционализма, верховенства закона. Золотая лихорадка, охватившая Калифорнию и Западное побережье, воплотила и безумную мечту первопроходцев. Русским революционерам и реформаторам представлялась очевидной историко-географическая параллель между завоеванием американского Запада и покорением русского Дальнего Востока. Обе державы сходным образом двигались через бескрайние девственные просторы к Тихому океану; они одержали верх над «варварством» и невежеством «дикарей», вставших на их пути, и обеспечили торжество европейской «цивилизации». Так не ожидала ли их схожая судьба?
Восточная Сибирь и Амур являлись новыми границами, пространством мечты и утопии, в которых столь нуждались русские оппозиционеры. Там, вдали, была пробита брешь в старом порядке, крепостничестве и архаике. Там, вдали, все казалось возможным. Тихий океан позволял порвать со Старым Светом, олицетворяемым Европейской Россией, и точно также Соединенные Штаты воплощали собой новое поколение государств, пришедших на смену Великобритании с ее колониальной надменностью. Вглядываясь в Тихий океан, сторонники обновления России ощущали зов моря, зов американских свобод, казавшийся им приглашением к подражанию американским первопроходцам, которые являлись в некотором смысле прообразом новых людей.152
Александр Герцен написал из своей женевской эмиграции, что Сибирь – это «Америка sui generis[86]». В письме итальянскому революционеру Джузеппе Мадзини он сравнивал поселенцев, прибывших на Урал, с фермерами, отправившимися обрабатывать девственные земли Висконсина.
Сибирский опыт для него – «настоящий роман Купера»,153 а покорение Сибири – «чудо». Его младший современник, князь Кропоткин, говорил об Амуре как о «Миссисипи Дальнего Востока», и даже Муравьёв называл Николаевск или новый портовый город Владивосток не иначе как русским Сан-Франциско.
Атмосфера эйфории и свободы наложила глубокий отпечаток на характер этого региона, яркое свидетельство чего примерно 30 лет спустя оставил писатель Антон Чехов, самый знаменитый из всех русских путешественников, посетивших эти края. «Амур чрезвычайно интересный край. До чертиков оригинален, – говорит он в письме к своей сестре Марии. – Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т. е. эта жизнь, напоминает мне рассказы из американской жизни. <…> Жители не исполняют постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки курят папиросы, а старухи трубки – это так принято. Странно бывает видеть мужичек с папиросами. А какой либерализм! Ах, какой либерализм! <…> Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько влезет. Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой. Доносы не приняты».154 На следующий день Чехов продолжил свое восторженное описание в письме к издателю газеты «Новое время» и театральному критику Алексею Суворину: «Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России».155 И в другом месте насчет жителей Дальнего Востока: «Если внимательно и долго прислушиваться, то, Боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. <…> Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша».156
Этот аромат свободы, столь милый сердцу интеллигентов, критиков и противников царского режима, приносился ветром с другого берега Тихого океана. В их глазах Америка была не столько иностранной державой, сколько примером для подражания, воплощением того, чем должна была увенчаться их долгая и зачастую отчаянная борьба с царизмом. По выражению британского историка Марка Бассина, «Америка [в их представлении] была не страной, а процессом, благодаря которому она стала свободной и обрела свое собственное существование».157 Восхищение Америкой было таково, что изобретались безумные утопии. Особенно это ощущалось в Иркутске, столице Муравьёва, причем иногда в его ближайшем окружении. С тех пор как генерал-губернатор и его супруга начали посещать ссыльных, ряд которых даже стали редакторами местных газет и журналов, вольнолюбивые выражения и мысли были усвоены даже некоторыми из его офицеров и адъютантов. «Амур – это способ вырваться из объятий царизма»,158 – написал один из них своему другу, оставшемуся в Петербурге. Иначе говоря, русские Сибирь и Дальний Восток и были истинной Россией, свободной от имперского бремени. Также обсуждалась возможность завоза в новые регионы Дальнего Востока переселенцев из Америки – например, недавно эмигрировавших туда чехов, – чтобы скрестить между собой славянский характер, сибирские завоевания и американские идеалы. Самый же смелый проект касался образования Соединенных Штатов Сибири. Отдать швартовы! Предоставить Европейскую Россию самой себе и последовать путем бывших британских колоний в Америке, делая ставку на будущее Тихоокеанского региона! Эта тема горячо обсуждалась в революционных кружках, особенно среди политических ссыльных, определенных на жительство в Восточную Сибирь. Анархисту Михаилу Бакунину даже грезилось слияние этой новой Сибири с независимой Америкой. В письме Герцену он заметил, что благодаря Амуру и выходу к Тихому океану «союз с Соединенными Штатами из платонического, каким он был до сих пор, станет реальностью». В своих «Воспоминаниях» князь Петр Кропоткин касается разговоров между Муравьёвым и Бакуниным в Иркутске, в кабинете генерал-губернатора, причем в присутствии некоторых из его приближенных. Там якобы затрагивался вопрос о «создании Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с Северо-Американскими Соединенными Штатами».159 Правда, ничто из написанного самим Бакуниным, равно как и из воспоминаний сподвижников Муравьёва-Амурского, не подтверждает это гипотетическое утверждение, мало совместимое, кстати сказать, с пламенным патриотизмом губернатора. По всей видимости, поводом для подобного слуха стала упорная борьба генерал-губернатора Восточной Сибири за предоставление ему большей автономии. Сам этот слух мог быть также пущен консервативными противниками Муравьёва. В письме Герцену, написанном за два месяца до отставки Муравьёва, Бакунин пишет: «Нет сомнения, что Амур со временем оттянет Сибирь от России, даст ей независимость и самостоятельность. Этого сильно боятся в Петербурге, иные даже опасались серьезно, чтобы Муравьёв не провозгласил независимость Сибири». И далее он вопрошает: «Но такая независимость, невозможная теперь, необходимая может в довольно близком будущем, – разве беда?»160
Притягательность Америки была не только философского или политического свойства. В портах Владивостока и Николаевска, служивших перевалочными пунктами для речных и морских судов, наблюдалось быстрое развитие транс-тихоокеанской торговли. «Вестник Императорского Русского географического общества» писал: «Магазины предлагают наилучший выбор японской и китайской мебели, дорогих манильских или гаванских сигар, сладких пирожных, фруктов, устриц, крабов, ананасов, винограда, рома…», и все это доставлялось на американских парусниках или пароходах, пользовавшихся освобождением от налогов, введенным по распоряжению Муравьёва для стимулирования развития новых городов. Американцы и англичане, проникновения которых в устье Амура ранее столь опасались, теперь беспрепятственно торговали в этих краях. Немало было там и немцев. В 1857 году в Петербурге была основана Амурская компания – смешанное российско-американское предприятие, занявшееся эксплуатацией речного транспорта на великой водной артерии. Ее акции были распроданы менее чем за один день, и компания вскоре заказала на американских верфях 17 пароходов, сопоставимых с теми, что ходили по Миссисипи. Севернее, в Беринговом море, все больше судов из Новой Англии и Калифорнии, занималось китобойным промыслом. На Чукотке англо-саксонских рыбаков было такое множество, что аборигены понемногу стали переходить на употребление английского языка вместо русского, и это вызывало озабоченность царских чиновников. Американские объятия сжимались все крепче.
* * *
Замечательно воплотил нарождающуюся идиллию между землями первопроходцев в Сибири и Соединенных Штатах Перри МакДонаф Коллинз, юрист, выходец из семьи нью-йоркских первопоселенцев. В 1849 году, захваченный калифорнийской Золотой лихорадкой, он поселился в 200 км от Сан-Франциско. Став членом коллегии адвокатов Калифорнии, он оказался причастен к ряду коммерческих сделок, что позволило ему свести знакомство с представителями «Российско-Американской компании». Во время Крымской войны Коллинз воспользовался своими связями, чтобы стать постоянным поставщиком русских колоний на Аляске, отрезанных от метрополии действиями англо-французского флота на Тихом океане. Он занялся экспортом мяса, мануфактуры и виски в обмен на древесину, рыбу, уголь и колотый лед – товар, оказавшийся крайне востребованным на калифорнийском рынке: его добывали в реках и озерах Аляски и затем поставляли в бары и салуны, которых в Сан-Франциско становилось все больше для удовлетворения спроса золотоискателей.
Однако страсть к приключениям не отпускала адвоката, по-прежнему мечтавшего об открытиях, поисках Эльдорадо и удаче. Занимаясь бартером с китобоями, возвращавшимися с промысла на тихоокеанских просторах, Перри МакДонаф проникся их рассказами о фантастических краях. Поговаривали, что там, по другую сторону океана, лежат неосвоенные, тучные земли, пересекаемые огромной рекой, на которой русские высадились лишь недавно. Работы там был непочатый край, и Коллинз, почувствовав себя предпринимателем-завоевателем, современным Колумбом, углубился в изучение отчетов путешественников об экспедициях на Амур, равно как и в чтение великих классиков жанра – от Геродота до биографий Марко Поло или Чингисхана. «Не пробудятся ли предприниматели, чтобы занять свое место в этом новом ареале азиатской торговли?» – вопрошал он, обращаясь к аудитории, собравшейся в местном Клубе путешественников. И продолжал: «Они покроют северную часть Тихого океана нашими кораблями и будут соперничать у знаменитых берегов Южных Индий и их островов. Так возьмем же эту торговлю в свои руки и не повторим ошибки Венеции, оставшейся безучастной и апатичной к рассказам Марко Поло».161 Чтение доступных ему отчетов путешественников, по большей части британских, убедило Коллинза в том, что Сибирь и русский Дальний Восток призваны сыграть важную роль в будущем Америки. Если бы Соединенные Штаты перешагнули через океан, перед ними открылась бы дорога в обетованную землю международной торговли, какой ему представлялась Сибирь. «Когда новость о захвате русскими Амура дошла до нас в 1855 году, – напишет он позднее в своей первой книге, – в моей голове уже созрела мысль, что река Амур – это судьбоносная водная артерия, по которой американские предприниматели проникнут в темные глубины Северной Азии и откроют новый мир для торговли и цивилизации».162
Первым делом он поставил перед собой задачу удостовериться в пригодности Амура для судоходства по всей его протяженности, относительно чего существовали противоречивые свидетельства. «Когда на этот вопрос будет дан утвердительный ответ, все остальное последует само со-бой»,163 – заметил он. Чтобы ничего не упустить, он отправился в Вашингтон с целью добиться аудиенции у государственного секретаря и президента, которым он собирался лично представить свои планы и выводы. Его приняли вместе с бароном Эдуардом фон Стёклем, сыном австрийского иммигранта, ставшим посланником царя в столице молодой американской демократии. Политико-коммерческая теория гостя сводилась к нескольким ключевым моментам: primo[87], развитие и европеизация Китая являются залогом мирового процветания; secundo[88], необходимо побудить европейцев финансировать его модернизацию, коль скоро они обосновались в этой стране; и tertio[89], не упустить шанс воспользоваться бурным ростом региональной и международной торговли, который неизбежно наступит, для чего у американцев и русских имеются особенно хорошие предпосылки, если только они заблаговременно к этому подготовятся. Сам текст доклада Коллинза не сохранился, но, надо полагать, он прозвучал убедительно, поскольку 24 марта 1856 года калифорнийский адвокат и предприниматель был назначен «торговым агентом Соединенных Штатов на реке Амуре»: ни к чему не обязывающий титул, однако, по мнению участников вашингтонской беседы, он должен был помочь ему открыть кое-какие полезные двери в России.
Само собой разумеется, Коллинзу не терпелось увидеть собственными глазами все то, о чем он прочел в книгах. Через два месяца после получения письма о назначении он уже прибыл в Петербург и стал посещать великосветские салоны, развивая там свои идеи. В августе он был принят в резиденции особы, представлявшей для него наибольший интерес и способной единолично решить судьбу его инициативы как в положительную, так и в отрицательную сторону: речь идет о Николае Муравьёве, еще не ставшем графом Амурским, который тоже приехал в столицу отстаивать свои планы после наделавших столько шума его двух первых амурских сплавов.
Между собеседниками сразу же установилось полное взаимопонимание. Да и могло ли быть иначе? Губернатор-смутьян увидел перед собой искателя приключений на государственной службе. Оба они вынашивали грандиозные планы в отношении одного и того же региона. Первый был военным и политиком, покорившим эти новые территории, второй – дельцом, горевшим желанием их осваивать. Оба они как нельзя лучше представляли новое поколение своих стран, да и разница в возрасте между ними составляла всего лишь четыре года. Покорение Востока как параллель покорению Запада. Сибирь и Америка, объединенные взаимной симпатией. Зеркало, в котором отражались обоюдные увлечения. Мы можем вообразить себе, как в петербургских кабинетах они раскладывали карты, вычисляли расстояния, безбоязненно строили дальние планы. Муравьёв не имел еще никаких законных прав на реку, однако идея регулярного коммерческого судоходства по Амуру, да к тому же налаженного «Российско-Американской компанией», проект которой предложил Коллинз, пришлась ему как нельзя по душе. Решение было принято. На дворе стоял еще конец лета, и дороги были слишком плохи, чтобы трогаться в путь. К тому времени, когда Перри МакДонаф Коллинз и его спутник Пейтон, закутанные в тулупы, наконец-то уселись в теплую меховую полость саней и отправились навстречу холоду, они располагали полной поддержкой генерал-губернатора Восточной Сибири и самого царя, к которому обратился Муравьёв.
Путешественников повсюду тепло встречали. В Иркутске, куда Муравьёв прибыл раньше, в их честь был устроен пышный прием – в той самой зале, где за несколько лет до того Муравьёв вступил в должность перед лицом оцепеневших чиновников. Муравьёв поднял тост за Россию и Америку, «за исторический момент и за просвещенную, мудрую и дальновидную политику», объединяющую их. Коллинз, которому пришлось импровизировать, отвечал по-английски. Для начала он выразил свое удивление тем, что «столько удивительных богатств [Сибири] так долго пребывали в спячке, будучи неизвестны широкому миру», а затем предсказал, что «Россия, спускающаяся с высот Алтая [sic] к Великому Восточному океану, и Соединенные Штаты, спускающиеся к противоположному берегу с высот Сьерра-Невады, пожмут друг другу руки, чтобы наладить торговые взаимоотношения через это могучее море».164
В четверг 4 июня 1857 года, в 10 часов утра, как гласит запись в дневнике педантичного Коллинза, река Амур предстала перед его взором. Созерцая предмет своих мечтаний, адвокат-путешественник не смог удержаться от патетического тона: «Я вряд ли буду первооткрывателем этой реки, не буду и первым белым человеком, как де Сото, достигший берегов Миссисипи, но, пожалуй, стану первым в жизни янки, увидевшим ее. Признаться, меня переполняет чувство некоторой гордости за американский народ, ведь уже два года я только и делал, что настойчиво двигался вперед, ни на минуту не сворачивая с пути; трудясь с упованием, надеждой и верой, я ожидал того дня, когда окажусь у истоков Амура».165
Обследуя бассейн великой реки при содействии представителей Муравьёва-Амурского, Коллинз не оставлял своей идеи коммерческого судоходства до самого сердца Сибири, но затем его привлек совсем другой проект. Ничто не могло остановить его, ничто его не страшило, разве только идея, что его может опередить какой-нибудь конкурент, еще более дерзкий, чем он. Познакомившись с главным инженером Дмитрием Романовым, одним из специалистов генерал-губернатора, Коллинз поначалу заинтересовался его планом: проложить через эти еще девственные земли железную дорогу, которая соединила бы напрямую тихоокеанское побережье с нижним течением Амура, что позволило бы избежать устья с его коварными песчаными мелями. По своему обыкновению американец тут же взглянул на дело шире: а что если соединить Амур еще и с Байкалом? «Дорогу следует довести до Иркутска, откуда будет производиться вся сибирская торговля, что сделает Иркутск великим городом, которым он по справедливости должен стать, центром и столицей не только Восточной Сибири, но и Северной Азии»,166 – написал Коллинз своему партнеру Муравьёву. Но, несмотря на активную поддержку генерал-губернатора, употребившего все свое влияние в Петербурге, тогда этот проект так и не воплотился в жизнь. Сибирский комитет встретил его в штыки. Как отмечалось в протоколе секретного заседания, состоявшегося 22 апреля 1857 года, подобная затея могла спровоцировать негативную реакцию китайских соседей. В особенности же «это поставит внутренние интересы восточной части Сибирского края в зависимость не от метрополии, как это до сих пор было, но от иностранцев и в особенности от североамериканцев».167 Итак, категорический отказ. При этом мотивы решения следовало хранить в строжайшей тайне, а Муравьёву поручили «объявить Коллинзу в самых учтивых и лестных выражениях, что правительство нашло предложение его преждевременным».168 Слишком рано, слишком дорого, слишком рискованно: проект Романова и Коллинза стал предвестником Транссибирской магистрали, о чем оба автора даже и не подозревали.
Что ж, у инженера Дмитрия Романова были припасены другие сумасшедшие идеи для посетившего его Коллинза. Одна из них вылилась в скором времени в невероятное предприятие. Межконтинентальная телеграфная связь! Телеграфная линия, которая позволила бы Сибири сообщаться с Америкой. Романов уже развивал эту идею в ряде столичных периодических изданий. В Европе и США прокладка телеграфных кабельных линий велась тогда полным ходом. Не прошло еще и 20 лет с того, как Сэмюэль Морзе запатентовал свое изобретение, но оно уже революционизировало торговлю и совершило переворот в военном деле, особенно во время Гражданской войны, которая угрожала США. В России сеть континентальной телеграфной связи только что преодолела символическую границу Урала. Сибирь же, включая и ее столицу, соединялась с центром все еще при помощи конной почты. На недавно присоединенных землях Приамурья инженер Романов уже провел телеграфную линию, позволявшую первым основанным там городам сообщаться друг с другом. Однако его проект «русско-американского международного телеграфа» открывал совершенно другие горизонты. Дмитрий Романов предлагал ни много ни мало завершить сеть, связав одновременно Россию с Сибирью и Сибирь с Америкой. Чистое безумие! Ибо уровень техники в то время не позволял преодолевать столь широких водных пространств, как Тихий океан. Чтобы осуществить эту идею, следовало протянуть линию из Калифорнии в Британскую Колумбию, а оттуда на Аляску, пересечь Берингов пролив и двигаться на юг, к устью Амура, повторяя извивы сибирского побережья, которое оставалось еще по большей части неисследованным. Проекты именно такого рода были по душе Коллинзу.
Калифорнийский адвокат горячо приветствовал развитие этого нового вида технологии: «Быть может, мы вправе считать себя открывшими то, что с такой настойчивостью искали философы и мудрецы былых времен. Быть может, мы вправе утверждать, что электричество является эманацией Духа или сущностью Мировой души»,169 – втолковывал он своим потенциальным спонсорам. Ему было хорошо известно о битве гигантов, развернувшейся в США между компаниями «Вестерн Юнион» (Western Union Telegraph Company, Компанией западных соединительных телеграфов) и Американской телеграфной компанией (American Telegraph Company). «Вестерн Юнион» контролировал всю телеграфную сеть на американском Западе, а его конкурент, доминировавший на Восточном побережье США, пытался проложить подводные кабели через Атлантику, чтобы достичь Лондона – центра мира в середине XIX века. Соперничество двух американских лидеров в области коммуникации выступало аллегорией картины мира Коллинза: в то время как Новая Англия оказывалась привязанной к старой Европе, перед американским Западом открывались перспективы новых связей с Сибирью, Китаем и всей Азией. Стоит ли говорить, на чьей стороне были предпочтения новоявленного калифорнийца (Перри родился в штате Нью-Йорк и переехал в Калифорнию)? Коль скоро стихия противилась всяким попыткам прокладки кабеля по морскому дну, этим стоило воспользоваться, соединив Нью-Йорк с Лондоном, но уже через Калифорнию, Берингов пролив, Сибирь и Европейскую часть России! Лишенный, как всегда, чувства меры, Коллинз даже мечтал о том, чтобы распространить эту сеть из Соединенных Штатов на Латинскую Америку. В результате весь мир мог быть объединен телеграфной сетью с центром в США, а торговля, техника и геополитика оказывались тесно переплетены друг с другом. Это и было главной идеей Перри МакДонафа Коллинза.
При всей своей экстравагантности идея эта заинтересовала «Вестерн Юнион», с которым Коллинз вступил в переговоры. Автор проекта вооружился поддержкой изобретателя телеграфной азбуки, самого Сэмюэля Морзе, который полагал, что условия полярных районов не должны помешать связи, поскольку, по его мнению, холод – один из лучших проводников. Чтобы убедить «Вестерн Юнион», Коллинз представил потрясающий бизнес-план: 10 млн долларов инвестиций, которые должны были окупиться всего лишь за год эксплуатации. Ежедневно через телеграфную связь можно было посылать как минимум тысячу телеграмм по 25 долларов каждая. В случае успешного завершения проекта это была бы золотая жила. Американец, определенно обладавший необычайным даром убеждения, привлек на свою сторону также и английские власти, выдавшие ему разрешение на прокладку кабеля через свою новую колонию Британская Колумбия. Он заверил, что его русские друзья примут участие в этой гигантской стройке, построив за свой счет участок длиной 5 600 км, которого не хватало для подключения Сибири и Приамурья к телеграфной сети Европейской России. Несмотря на гражданскую войну, бушевавшую тогда в США, ему удалось заручиться также поддержкой Конгресса, выдавшего разрешение на прокладку кабеля, и содействием Военно-морского флота для пересечения Берингова пролива. В самый разгар конфликта президент Линкольн заверил его в своей полной поддержке, прислав следующее сообщение: «Незыблемая гармония в отношениях между Соединенными Штатами и Российским императором еще более укрепится благодаря этому предприятию, ставящему целью провести телеграфные линии через азиатский континент и тем самым соединить нас со всей Европой через новый канал связи».170
В мае 1863 года, после длительной осады русских властей, убедив Великого князя Константина и министра иностранных дел Горчакова и даже добившись свидания с царем, Коллинз получил концессию сроком на 33 года на строительство и эксплуатацию телеграфной линии, которая должна была соединить Николаевск-на-Амуре с южной границей русской Аляски через Берингов пролив. Кроме того, русские обязались самостоятельно подключить Николаевск-на-Амуре к существующей сети. Стремясь склонить русских собеседников на свою сторону, Коллинз сполна воспользовался чрезвычайно дружественной атмосферой, царившей тогда во взаимоотношениях Петербурга и Вашингтона. Россия была единственной великой державой, твердо вставшей на сторону Севера во время гражданской войны в США – она даже послала эскадру поддержки северянам, возглавляемым Линкольном. Американцы, в свою очередь, проявили себя верными союзниками во время Крымской войны, когда Англия и Франция угрожали русским владениям на Тихом океане.
В обеих столицах ничто из этого не было забыто, и сердечность взаимоотношений была столь искренней и неподдельной, что в инструкции американского госсекретаря Уильяма Генри Сьюарда своему посланнику в Петербурге мы можем прочесть следующее: «Что касается России, дело очевидное. Наша дружба обеспечена ей во всех отношениях предпочтительно перед всеми прочими державами, потому что она постоянно желает нам успеха и предоставляет нам устраивать свои дела так, как мы сами находим для себя наиболее выгодным».171
* * *
В марте 1865 года в Петербурге был подписан окончательный договор между русскими, Коллинзом и компанией «Вестерн Юнион». В результате на свет появилась Русско-Американская телеграфная компания, выступившая как филиал «Вестерн Юнион». Коллинз получил 10 процентов ее акций и еще 100 тысяч долларов наличными. Уговорить русских оказалось труднее, чем предполагалось, поскольку они косо смотрели на предоставление «Вестерн Юнион» контроля над мировыми системами связи. Чтобы подлить масла в огонь, барон фон Стёкль, русский посол в Вашингтоне, стал владельцем ста акций новой компании, а его американский коллега в Петербурге получил указание распределить тысячу акций среди российских высокопоставленных лиц, чья поддержка проекта была необходима.
Оставалось выполнить самое сложное: через каждые 50 м вбить деревянные столбы высотой 7 м и диаметром 15–20 см. И все это на протяжении 8 тысяч км, в самых отдаленных и неизведанных районах земного шара, через пролив, покрытый льдом несколько месяцев, через неисследованные горы и тысячи километров болотистой тундры. Чтобы справиться с этой титанической задачей, «Вестерн Юнион» наняла множество работников для изысканий вдоль западных и восточных берегов Тихого океана. Все руководители набираемых отрядов вышли из военного телеграфного корпуса: они сыграли решающую роль в победе северян, после чего их вскоре демобилизовали. Отдельные экспедиции были направлены в Британскую Колумбию, в бассейн район реки Юкон на Аляске, на побережье Охотского моря и Чукотский полуостров и берега Берингова пролива. Восемь кораблей, из которых два зафрахтовала Россия, отвечали за опись берегов, снабжение полевых партий и прокладку подводного кабеля. Это была самая настоящая армия, занявшая боевые позиции для проведения телеграфа с одного континента на другой. Соединенные Штаты едва покончили с Гражданской войной, бушевавшей на протяжении четырех лет. Набережные Сан-Франциско были заполнены молодыми искателями приключений, не сумевшими разбогатеть на Золотой лихорадке, которая перекинулась теперь на труднодоступные северные районы. Заработки, предлагавшиеся им, были ничтожными, но при этом устроиться в отряды было крайне сложно, о чем поведал молодой Джордж Адамс, вышедший, как и многие другие кандидаты, из рядов армейских телеграфистов: «Чтобы я не докучал своими приставаниями, меня направили к майору Кенникоту. Тот уверил меня, что его бригада из 12 человек уже укомплектована и он не собирается больше никого нанимать. Желая отбить у меня всякую охоту, он заявил, что его люди должны уметь стойко переносить любую боль, любое страдание, и рассказал об одном парне, который, как он слышал, прожег себе руку сигарой, чтобы продемонстрировать силу воли. В тот момент я курил сигарету, и вот когда он окончил, я закатал рукав рубашки, прижал кончик зажженной сигареты к коже и затянулся, пока мое мясо поджаривалось. «Господи, мой мальчик! – воскликнул майор, вскочив со стула и отведя сигарету от моей руки. – Ты сожжешь себе артерию». Но мой неожиданный безумный поступок впечатлил его. «Очень хорошо, Адамс, – сказал он мне, – такие чокнутые, как ты, относятся к типу парней, выживающих в экспедициях, подобных той, что я готовлю. Если образуется вакантное место, ты его получишь».172 И вакансия образовалась. Точнее, Адамс купил себе место у уже зачисленного кандидата.
Адамс походил на десятки других искателей приключений, которых Русско-Американская телеграфная компания намеревалась направить на северные берега Тихого океана. Среди нанятых на работу были, к примеру, английский художник Фредерик Уимпер, заядлый путешественник и брат Эдуарда Уимпера (покорителя альпийской вершины Маттерхорн, правда, ценою гибели нескольких восходителей), капитан Чарльз Скэммон, стреляный воробей, которого русские наградили за помощь экипажу потерпевшего кораблекрушение корабля во время Крымской войны, или Сергей Абаза, молодой русский дворянин, получивший образование в США и решивший внести личный вклад в развитие своей страны на Дальнем Востоке. Отдельно следует назвать человека, чье имя окажется даже более значимым в сибирской эпопее, нежели имя предпринимателя Коллинза, и мы уже можем взять его на заметку. Звали его Джордж Кеннан, ему было всего 20 лет, родом из семьи убежденных протестантов в Огайо. От своего отца, ученого-любителя и мастера на все руки, Джордж унаследовал интерес к телеграфу. Рассказывают, что свою первую телеграмму по проводной связи Кеннан-младший отправил в шестилетнем возрасте. Когда вспыхнула гражданская война, он, подобно множеству других молодых людей, оставил учебу и записался в корпус телеграфистов армии Севера. Однако ему наскучили поручаемые задания, и вот, узнав о недавнем подписании договора о мировом телеграфе, он поспешил послать свою заявку. Лаконичный, как и положено, ответ пришел ему по телеграфу: «Готовы прибыть на Аляску через две недели?» – спрашивали его. Кеннан тут же отбил ответ: «Я буду готов через два часа».173
«Вестерн Юнион» и ее акционер Перри МакДонаф Коллинз не могли терять времени даром. В июне 1865 года, всего три месяца спустя после подписания договора, два первых экспедиционных парохода, «Голден Гейт» и «Райт», вышли из бухты Сан-Франциско в сторону Берингова пролива и Камчатки. За ними другие корабли развезли отряды по канадскому и сибирскому побережьям. В сентябре первый столб телеграфной линии был установлен в Нью-Вестминстере[90] (Британская Колумбия). Оттуда планировалось протянуть 8 000 км кабеля до стыковочного узла, который русские обещали построить в Николаевске-на-Амуре. В отсутствие данных изысканий и просто достоверных топографических карт предполагалось по возможности придерживаться течения крупных рек, таких как Юкон, протекавший в сердце русской Аляски, и таинственный Анадырь, по которому за 200 лет до того проплыли казак Дежнёв и выжившие участники его похода.
Офицеры, набиравшие добровольцев, не обманывали: привлекательная коммерческая сделка, соблазнившая руководство «Вестерн Юнион», очень быстро обернулась фантастической одиссеей. Наступила зима, и условия работы сразу же сделались крайне суровыми: после опасных речных порогов и волоков потребовалось приспосабливаться к царству льда. На Крайнем Севере Канады, как и в Сибири, отряды должны были работать в снегах при температуре –40–50 °C. Участникам экспедиций пришлось научиться жить, работать и спать, не снимая меховой одежды. Им понадобилось привыкнуть есть и пить очень быстро, прежде чем еда успевала заледенеть, а миски, из которых они ели, прилипнуть к губам и пальцам. Кастрюля с кипятком, снятая с огня и поставленная в 30 см от очага, покрывалась льдом за четыре минуты. Ели обычно пеммикан – смесь измельченного вяленого мяса с салом и ягодами: это высокопитательное блюдо было заимствовано у индейцев.
Изыскания продолжались многие месяцы. Экспедиции старались отыскать зимовья (форты), построенные охотниками-трапперами или военными отрядами, хотя нередко после нескольких недель изнурительного похода выяснялось, что там уже давно никого нет. Форт Сент-Джеймс, форт Коннолл, форт Стейгер: телеграфисты углублялись в глухие лесные дебри, где встречали индейцев, с которыми вступали в торговые отношения, чтобы запастись провизией и арендовать «тобогганы» – легкие бесполозные сани длиной 2 м, запряженные четверкой собак. В начале апреля 1866 года отряд Франклина Поупа обнаружил племя вождя по имени Чуагута, который сердечно приветствовал гостей и выразил свою искреннюю радость по поводу того, что наконец-то увидел белых людей, о которых столько слышал.
Севернее часть эскадры «Вестерн Юнион» пыталась найти идеальный маршрут подводного телеграфного кабеля, который должны были подвезти другие корабли. Для обеспечения этой первой в истории постоянной связи между двумя континентами требовалось сократить морские участки и найти самые безопасные места для установки реле на входе в море и на выходе из него. Береговой склон должен быть достаточно пологим и устойчивы, лучше скальным. После нескольких недель изысканий и бурения лучшим показался маршрут через две акватории. Первый отрезок длиной 285 км должен был пересечь Берингов пролив на широте Порт-Кларенса (Аляска), а затем выйти на сушу у самой восточной точки Азии. Далее кабель вновь уходил под воду на втором отрезке длиной 335 км на юг через Анадырский залив. Наибольшую трудность для экспедиции представляли не технические сложности, как можно было бы ожидать. Опасности подстерегали с другой стороны. Неспокойно было на море, где, как предупредили в первом же порту, куда зашла эскадра, корабль продолжавших войну южан «Шенандоа» незадолго перед тем потопил китобойное судно северян. Плюс ледяной холод: в сентябре 1866 года корабль «Голден Гейт» в Анадырском заливе за одну ночь оказался скован льдом. Судно «Уэйд », пытавшееся вытащить его из ловушки, само налетело на плавучую льдину у берега. Оба экипажа только успели эвакуировать груз, провизию, кабели и вспомогательные материалы, как корпус «Голден Гейт» треснул под напором льдов. Пришлось остаться на зимовку. Столбы, которые успели выгрузить, пошли на возведение барака для зимовки длиной 10 месяцев. Запасы продовольствия, рассчитанные на один экипаж, пришлось строго нормировать. Боцман заведовал ежедневной раздачей пищи, и, как рассказывал один из потерпевших крушение, «очень скоро дни недели стали называться не своими именами, а по главному продукту дня. Так появились день фасоли, день белого хлеба, день сахара и т. п.».174 Вдобавок ко всему, телеграфисты, запертые на берегу морскими льдами, оказались окружены отрядами чукчей, относившихся к пришельцам с недоверием, а порой и враждебностью, и успокоить их было нелегко. Ну как было втолковать этим полярным охотникам, что экспедиция пришла на их заметенную пургой землю с одной единственной целью установить через каждые 50 м деревья без веток, соединенные между собой проводом? «Если вы и впрямь явились с миром, то почему же не привезли с собой жен и детей?»175– слышали люди «Вестерн Юнион» от аборигенов.
Для большинства строителей Великого телеграфа эти годы в тундре стали сплошной чередой испытаний. Летом их донимали тучи комаров, столь же густые, «как дым в воздухе», по словам одного из участников экспедиции. По ночам надо было остерегаться волков, рыщущих вокруг лагеря. Порой неожиданно попадался медведь. Недели напролет приходилось терпеть голод и лишения. От уныния не был застрахован никто. Как-то раз, отчаянно желая выпить, участники аляскинского отряда завладели колбами со спиртом, в которых зоологи из Смитсоновского института, сопровождавшие экспедицию, хранили образцы местной фауны. «Соблазн был слишком велик, и они бросились пить жидкое содержимое. Утолив свою жажду так, что эффект был налицо, они покончили затем с остатками содержимого колб: снедаемые голодом, они набросились на заспиртованных ящериц, змей и рыб, собранных совсем в других целях».176 У кого-то в конце концов сдавали нервы. Один из изыскателей сибирского отряда, прошедший войну, впал в тоску из-за того, что его окружали лишь проводники из аборигенов с собаками, и свел счеты с жизнью в таежных дебрях. Начальника отряда на Юконе утром нашли мертвым неподалеку от лагеря: выпив стрихнин, он лег на землю головой на север, как бы указывая направление, подобно карманному компасу, оставшемуся лежать на песке подле него.
Несмотря на столь ужасающие условия, строительство продвигалось быстрыми темпами, в соответствии с пожеланиями инвесторов и авторов проекта. В октябре 1865 года, телеграфный аппарат экспедиции, работавшей в Британской Колумбии, затрещал, принимая первую телеграмму. В ней подтверждалось, что генерал Ли, командующий силами южан, сложил оружие несколько месяцев назад и ужасная Гражданская война, опустошавшая Соединенные Штаты на протяжении четырех лет, наконец-то закончилась. Месяц спустя отряд из Британской Колумбии рапортовал, что прошел первые 500 км, соорудив 15 зимовий и множество мостов, проложив дорогу и установив 9 246 столбов. В августе 1866 года первый столб появился на азиатском берегу Берингова пролива. Строители и местные жители собрались на торжественную церемонию поднятия флага компании «Вестерн Юнион», который отныне развевался в Азии. К этому времени уже были проложены сотни километров линии в Британской Колумбии, на Юконе и побережье Тихого океана. Казалось, все идет точно по плану «Вестерн Юнион» и Коллинза. Однако самое суровое испытание еще ждало впереди.
В июне 1867 года отправленный на Юкон молодой Адамс, зачисленный в отряд благодаря инциденту с сигаретой, вероятно, одним из первых узнал новость. Ее сообщил случайно попавшийся ему навстречу лавочник в форте Сент-Майкл. Стройка прекращалась, первопроходцы Великого телеграфа распускались по домам, компания «Вестерн Юнион» отказывалась от проекта. Поговаривали, что причиной того стал успех ее конкурента, сумевшего проложить подводный кабель по дну Атлантического океана. Поначалу товарищи Адамса усомнились: у строителей на Юконе, затративших такие неимоверные усилия, просто в голове не укладывалось, что «Вестерн Юнион» могла с такой легкостью отступиться от уже начатого дела. Несколько недель спустя новость получила официальное подтверждение в виде сообщения от компании, которая направила катер, чтобы известить своих сотрудников и приказать им как можно быстрее собрать вещи. В конце июля информация дошла до отряда, работавшего на побережье Аляски. Там тоже не могли поверить в случившееся: «Странная для нас новость. Ведь все мы радовались успешному завершению строительства межконтинентального телеграфа. Причина такого завершения работы покрыта мраком неизвестности»,177 – написал один телеграфист в журнале экспедиции, носившем название «Эскимосы».
Еще более сильное разочарование постигло находившихся в Сибири, где Джордж Кеннан проработал два года. И там новость узнали случайно, в связи с возобновлением навигации. Капитан американского китобоя, прибывшего после разрушения льдов, немало удивился, когда Кеннан представился ему членом телеграфной экспедиции. Телеграф? Разве вам не известно, что с ним покончено? И капитан поднялся на борт судна за номером газеты «Бюллетень Сан-Франциско» с описанием завершения авантюры «Вестерн Юнион». Кеннан, только что вернувшийся из отважной поездки на нартах по Восточной Сибири и одним из первых исследовавший и разведавший тысячи километров побережья Охотского моря, был страшно потрясен. Он написал: «До чего же тяжело отказываться от цели, которой отданы три года твоей жизни; чтобы достичь ее, нам пришлось перенести все мыслимые лишения, вызванные холодом, голодом и пребыванием на чужбине». Разочарование, постигшее его, было тем горше, что всего за несколько месяцев до того молодой доброволец, не сомневаясь в грядущем техническом и коммерческом успехе предприятия и полагаясь на гарантии, данные его работодателем, потратил свои скромные сбережения на покупку акций Русско-Американской телеграфной компании, доставленные ему в Иркутск на санях.
А ведь все было готово для завершения Великого телеграфа: помимо 75 американцев и 150 местных жителей, уже приступивших к работе, 600 других находились в пути, чтобы присоединиться к ним. Были отесаны 15 тысяч столбов, мобилизованы сотни ездовых собак, оленей и якутских лошадей. «Однако выбора у нас не было, и мы немедленно приготовились к отъезду».178
Требовалось как можно скорее сбыть русским и аборигенам оставшиеся материалы, принадлежности и запасы продовольствия. Кеннан рассказывает: «Мы завалили рынок кирками и лопатами с длинной ручкой, заверив аборигенов, что они пригодятся для погребения покойников. Также мы распродали по дешевке большое количество замороженных огурцов и других средств борьбы с цингой, гарантировав, что они продлевают жизнь. Мы предложили в придачу мыло и свечи каждому, кто купит у нас засоленную свинину и сушеные яблоки; также мы научили аборигенов изготавливать освежающие соки и сладости, чтобы у нас была возможность продать излишки апельсинового сока и разрыхлителя теста. Всю свою энергию мы употребили на то, чтобы создать искусственные потребности в этом обществе, прежде жившем довольно и счастливо, и предложили им товары, которые этим бедным аборигенам были не более полезны, чем каяки или капканы сахарским туарегам. В общем, мы щедро раздавали блага цивилизации».179 «Вестерн Юнион» предполагала выручить 15–20 тысяч долларов от этой распродажи остатков, однако за все про все компания получила 150 долларов.
* * *
К тому времени уже три миллиона долларов было вложено в этот небывалый проект. Правда, ничто из построенного не могло еще эксплуатироваться: готовые участки в Северной Америке не были связаны между собой, не хватало более 900 км для соединения Аляски с Британской Колумбией. Что же случилось с «Вестерн Юнион»? Ровно за год до описываемых событий, 7 августа 1866 года, технические препятствия, мешавшие прокладке кабеля по дну Атлантики, были устранены, и первое испытание прохождения сигнала между Ньюфаундлендом и Ирландией состоялось успешно. Это достижение и было представлено членам экспедиции как главная причина сворачивания проекта и их отзыва. К чему тратить несколько миллионов долларов на западный маршрут, если был уже открыт маршрут на востоке? В реальности же «Вестерн Юнион» решила действовать на опережение, слившись со своим конкурентом, Американской телеграфной компанией, в июне 1866 года, то есть за два месяца до завершения прокладки кабеля через Атлантический океан. Отныне «Вестерн Юнион» могла извлекать выгоду из новой линии связи с Европой, и, хотя продолжение работ вокруг Тихого океана по-прежнему сохраняло смысл в техническом и финансовом отношении, руководство компании сочло за благо сэкономить миллионы долларов, необходимые для завершения линии, и пользоваться своей монополией на трансатлантическую связь.
Сворачивая свой легендарный проект, руководство «Вестерн Юнион» без лишнего шума предложило некоторым акционерам своего филиала обменять их акции на акции материнской компании. Никто тогда и не подозревал, что строительство на Тихом океане будет свернуто. Большинство членов административного совета – крупных акционеров проекта, без зазрения совести воспользовались этим предложением. Когда в марте 1867 года неожиданно объявили об официальном банкротстве филиала, жертвами его стали преимущественно мелкие держатели и русские акционеры, оставленные в неведении. Одним из них был Джордж Кеннан, еще не знавший о происходящем в Соединенных Штатах и работавший в своей сибирской хижине. Российские официальные лица были настолько ошарашены, что не могли поверить в эту новость. Их реакцию передает следующая телеграмма: «Чрезвычайно удивлены. Ждем объяснения. Несмотря ни на что, уверены в добросовестном исполнении договора».180
Выбор, сделанный «Вестерн Юнион», был продиктован исключительно стремлением получить максимально быструю прибыль, невзирая на жертвы, принесенные экспедициями в сибирской тундре и на Аляске, но он имел также геополитическое измерение, на что сразу же обратил внимание тогдашний госсекретарь Уильям Сьюард: «Выражаю глубокое разочарование прекращением строительства межконтинентальной телеграфной линии через Тихий океан. Я ни на йоту не отказываюсь от своих предыдущих суждений относительно важности этого предприятия. Не думаю, что Соединенные Штаты и Россия напрасно выразили обоюдную уверенность в его осуществлении».181 Отказавшись от уже спроектированной жизненно важной линии связи с русским Дальним Востоком и Сибирью и отдав тем самым предпочтение традиционному пути к Старому Свету в ущерб поднимающейся Азии, «Вестерн Юнион», сама того, возможно, даже не сознавая, изменила начавший было складываться баланс сил на Тихом океане и похоронил связанные с этим надежды.
В начале октября 1867 года корабль «Вестерн Юнион» в последний раз покинул порт Охотска, приняв на свой борт почти всех сотрудников, работавших на сибирском участке закрытого проекта. Джордж Кеннан остался на суше вместе с тремя спутниками. В кармане у него лежала всего тысяча долларов из его последних зарплат, но он уже думал о смене сферы деятельности. Он решил проехать через всю Россию и собрать по дороге материал, чтобы рассказать соотечественникам о небывалой трансформации Сибири, увиденной им собственными глазами. Джордж Кеннан уже говорил по-русски. У него завязались тесные дружеские отношения с местными коллегами. Эта новая роль лектора, бытописателя и летописца меняющейся России как нельзя лучше подходила ему. Он еще заставит говорить о себе.
Менялась вся Россия, но в еще большей степени Сибирь, переживавшая тогда захватывающий период в своей истории. Реформы, запущенные царем Александром II, начиная со столь долгожданной отмены крепостного права, всколыхнули страну, что вызывало беспокойство в консервативных кругах и воодушевляло все более многочисленных оппозиционеров, причем некоторые из них жили предчувствием скорой трансформации режима или даже падения самодержавия. В Сибири известие об отмене векового крепостного права не получило столь непосредственного отклика по причине отсутствия там крупных помещиков и феодальной аристократии. Крепостничество с его многочисленными социально-экономическими последствиями было чем-то чуждым молодым сибирским провинциям, где психологические эффекты рабства не смогли наложить свой отпечаток на менталитет населения. Тем не менее, эта великая реформа, явившаяся потрясением для центра империи, в Сибири тоже воспринималась как сигнал к великому перевороту и его символ. Благодаря завоеваниям Муравьёва огромная территория казалась землей для реализации всех возможностей. Политическая открытость умножала эффект расширения пространства.
Все казалось доступным, ничто не исключалось для представителей сибирской элиты и интеллигенции, которые одновременно с тем начали извлекать непосредственную выгоду из первых благотворных результатов экономического роста, из отношений с Китаем и тихоокеанским регионом. В городах вовсю кипела работа; крупные купцы из Иркутска, Кяхты, Нерчинска, Томска, Тобольска завершили первопроходческую эпоху и основали настоящие торговые династии, занявшие доминирующее положение в международной торговле, добыче и разведке полезных ископаемых, а также в пушном промысле, переживавшем спад. Их мощные фирмы принимали деятельное, заинтересованное участие в главных российских ярмарках, проводившихся вдоль тракта – большого пути, соединявшего Кяхту на китайской границе с Европейской Россией. В Сибири появились первые публичные библиотеки, первые музеи, научные и художественные собрания. Они функционировали как своего рода клубы, где можно было обменяться мнениями и поспорить, послушать лекции, высоко ценимые купцами, которым не хватало светских развлечений, встретиться с крупными фигурами из числа ссыльных, если власти закрывали на это глаза. Кропоткин, бывший в Иркутске проездом, с удивлением отметил, что более 120 человек ежедневно посещали местную публичную библиотеку, удовлетворяя тягу к знаниям.182 Становилось все больше школ и гимназий, в том числе женских, что далеко не было нормой в других частях России. Также на средства купцов открывались приюты, развивались разные формы благотворительности и социального вспомоществования. Именно тогда появились первые сибирские типографии и параллельно с ними – первые газеты. Это стало подлинной революцией для общественности и интеллигенции региона, которые прежде не располагали никакой публичной информацией, касающейся Сибири. Лишь недолговечный «Сибирский курьер» (1818–1824) посвящал ранее несколько страниц восточным губерниям Российской империи и их проблемам, но выходил он в Петербурге. Теперь же голоса самих сибиряков зазвучали в Томске, Омске, Чите, Кяхте и, конечно же, в Иркутске при Муравьёве. Появилось увлечение региональной историей, познание которой находилось еще в зачаточном состоянии, этнографией коренных народов, открытием неизведанных районов горного Алтая, степной Монголии и бескрайней тайги, куда стали направляться научные экспедиции. При освещении событий местной политической жизни большое внимание отводилось проблемам простых граждан и купцов, страдавших от произвола чиновников. «Редакция газеты уполномочена заявить, что ее страницы неизменно предоставляются всем, кто своими статьями желает содействовать необходимой открытости и гласности. В Иркутске не боятся этой открытости, а, напротив, стремятся поощрять ее»,183 – говорилось в официальной газете административного центра Восточной Сибири. Диапазон свободы слова, который не везде и не всегда был одинаковым и быстро сузился после ухода Муравьёва-Амурского, тем не менее свидетельствовал о более либеральной социально-политической атмосфере в Сибири по сравнению с Центральной Россией и даже столицей. Кроме местных изданий, большим спросом пользовались номера оппозиционных журналов, в особенности «Колокола», рупора идей Александра Герцена и Николая Огарёва, издававшегося в Лондоне и Женеве. Журнал находился под запретом, его тираж был крайне ограниченным[91], но, вопреки тому, сибирякам удавалось заполучить немало контрабандных экземпляров через китайскую границу или тихоокеанские порты. Некоторые купцы оформляли даже подписку на этот журнал, что было возможно на китайской стороне Кяхты. Влияние «Колокола» в этой части Российской империи было значительным, поскольку он являлся единственным полностью свободным форумом, где обсуждались проблемы Сибири. Как мы уже видели, Герцен пристально следил за развитием в ней политической ситуации. Сибирь он рассматривал как «новую страну», «Америку своего рода, именно потому, что она страна без аристократического происхождения», как «дочь казака-разбойника, не помнящую родства», «страну, в которую являются люди обновленные, закрывающие глаза на всю прошедшую жизнь».184 И он печатал – с указанием имен авторов или анонимно – статьи многих корреспондентов, сосланных в этот отдаленный край.
Развитие региональной прессы и ее интерес к специфическим сибирским условиям – географическим, этническим, историческим, политическим или социальным – шли рука об руку с ростом влияния русского населения, уже родившегося и прочно обосновавшегося в Сибири, а выразителями его чаяний выступали купцы и первые местные интеллигенты. Это были сибиряки, то есть коренные жители Сибири русского происхождения, все громче заявлявшие о своей особости. Они были русскими, но при этом сибиряками; сибиряками, но при этом русскими. Их настойчивые поиски самобытности подпитывались ощущением принадлежности к уникальному природному миру, ставшему для них родным, и близости к автохтонным азиатским народностям, жившим бок о бок с ними. Но также – и прежде всего – эти поиски подпитывались все менее скрываемым чувством обиды на матушку-Россию, «метрополию», как вскоре они стали ее именовать, и на ее наместников.
Отнюдь не случайно в фокусе внимания сибирской прессы и нарождающейся интеллигенции оказалась критика региональной администрации, ее злоупотреблений и беспредельной коррупции. В этом проявилось возмущение постоянных жителей Сибири временщиками, озабоченными лишь своим быстрым обогащением. В первой половине XIX века, как и в предыдущие столетия, когда происходило покорение края, власть была сосредоточена в руках губернаторов или высокопоставленных чиновников, назначаемых в Сибирь на несколько лет, и никто из них не собирался там задерживаться.
Ярчайшим представителем этого типа был Иван Пестель, один из предшественников Муравьёва, который 10 из 13 лет своего генерал-губернаторства (1806–1819) провел у себя дома в Петербурге, а на месте заправлял его ставленник-самодур, чванливый почтовый служащий, погрязший в коррупции[92]. Правление Пестеля и его приспешников надолго запомнилось сибирякам бесконечными поборами, незаконными арестами и применением телесных наказаний. «За какие такие страшные преступления людей подвергали телесным наказаниям? – спрашивает писатель Иван Калашников, сибиряк, типичный представитель этой первой волны поисков местной идентичности. – Ты не вспахал как надо – кнут; твой дом или двор грязен – кнут; у тебя рубаха или кафтан дырявые – кнут; за все кнут!»185
Прибыв в Сибирь, зачастую вопреки собственному желанию, чиновники обирали до нитки подвластное им население, а некоторое время спустя отзывались назад в Россию, что было связано со скандалом или повышением по службе: так в общих чертах выглядела типичная карьера представителей императорской власти в Сибири. Не многим лучше обстояло дело с другими категориями присланных из центра, будь то военные или даже командированные технические специалисты. Всем вновь прибывшим центральная власть предоставляла льготы и надбавки, а для старожилов не делалось ничего. Стоит ли удивляться, что купцы чувствовали себя жертвами эксплуатации со стороны иностранного государства, а немногочисленные местные интеллигенты питали больше симпатий к политическим ссыльным и вынужденным переселенцам, трудившимся на благо и развитие Сибири, куда их отправили на вечное жительство, чем к случайно оказавшимся там алчным и зачастую кичливым начальникам.
Поведение этих чиновников, лишенных стыда и совести, в какой-то мере отражало господствовавший в Петербурге взгляд на отдаленный регион. До появления Муравьёва Сибирь воспринималась как некий громадный пустырь, куда можно было беспрепятственно ссылать самых закоренелых преступников и «без вины виноватых», по характерному русскому выражению. Пространство, не представлявшее существенного интереса, не считая нескольких рудных месторождений, которые было трудно эксплуатировать. В 1819 году генерал-губернатор Сибири заявил: «Я смело утверждаю, что Сибирь есть просто Сибирь, то есть прекрасное место для ссылочных, выгодное для некоторой части торговли, выгодное и богатое для минералогии; но не место для жизни и высшего гражданского образования, для устроения собственности, твердой, основанной на хлебопашестве, фабриках и внутренней торговле».186
Автором приведенной цитаты был не кто иной, как Михаил Сперанский, назначенный преемником Пестеля для исправления несправедливостей, допущенных последним, и считавшийся самым прогрессивным, самым честным и самым дальновидным из всех сибирских губернаторов до Муравьёва. В основном же огромная Сибирь оставалась просто-напросто забытым краем. Первой высокопоставленной особой, побывавшей там, стал цесаревич Александр, наследник трона, будущий царь-реформатор Александр II, который в 1837 году посетил с кратковременным визитом ряд западносибирских городов. В петербургских или московских журналах эта часть империи упоминалась лишь для того, чтобы посетовать, сколь дорого она обходится государству, и задаться ироническим вопросом о ее перспективах. Наибольшее распространение в кругах, близких к властям, получил тезис об инертной, бесполезной Сибири – обузе для России. «Питаясь соками России, она сама мало от того тучнеет, а отнимает силы у своей кормилицы»,187 – писал, к примеру, популярный журналист Николай Герсеванов в 1841–1842 годах. А один из самых известных в столице публицистов добавлял: «Капиталы, ум и предприимчивость совершенно не следует понапрасну тратить на Сибирь – бесплодную пустыню, подобную датской Исландии»[93]. Некоторые мнения того времени отличались еще большей категоричностью, и ряд крупных чиновников доказывал в своих докладах, что тратиться на Сибирь не только бесполезно, но и вредно, поскольку, дескать, это может превратить «Сибирь, страну богатую и довольную, – в нищую», навсегда зависимую от питающей ее метрополии.
Надменного равнодушия, смешанного с нарастающим недоверием к огромной азиатской провинции, не убавилось даже тогда, когда Муравьёв присоединил к России Дальний Восток и основал крупные порты на Тихом океане. Всего три недели спустя после его отставки, весной 1861 года, Императорское Русское географическое общество (ИРГО) посвятило отдельное заседание своего политико-экономического комитета обсуждению разных сторон жизни этого региона, явно представлявшего для империи деликатную проблему. Что делать с Сибирью? Этот вопрос, похоже, вызывал в России замешательство. Географическое общество, занявшееся им, объединяло в своих рядах самые светлые умы того времени, и все понимали, что от его заключений будет зависеть многое, ведь ИРГО служило своего рода «научным предбанником» для властей, обладая значительным влиянием. Основанное 15 годами ранее группой военных и ученых по образцу одноименного общества в Великобритании, оно вскоре стало пользоваться покровительством Великого князя Константина, главы либерального лагеря.
Отнюдь не случайно в число его основателей входил Николай Муравьёв. В 1850 году в Иркутске открылось сибирское отделение ИРГО: именно ему губернатор поручил организацию большей части крупных экспедиций, которые на протяжении последующих десятилетий исследовали горные массивы Восточной Сибири, Тянь-Шаня, Алтая, Монголии и Дальнего Востока. ИРГО собирало и обрабатывало информацию, открывало музеи, распространяло знания и формулировало рекомендации для высших органов власти. В самой престижной части Иркутска отделению Общества отвели дворец, ставший одним из излюбленных мест встреч местной интеллигенции, политических ссыльных и заезжих гостей. За считанные месяцы его ряды возросли от горстки энтузиастов-основателей до более чем сотни активных членов и добровольцев, среди которых было несколько местных богатеев.
Когда в петербургской штаб-квартире Общества началось заседание, на котором предполагалось публично обсудить наиболее предпочтительный вариант будущего Сибири, собралась большая аудитория. Проведенные дебаты оправдали возлагавшиеся на них ожидания. Особенно интересной и показательной стала дискуссия между академиками Егором Мейендорфом и Карлом Бэром. Подобно большинству выступивших в ходе двухдневного заседания, оба они сходились в том, что Сибирь рано или поздно отделится от России. Прошло уже почти столетие после отделения США и обретения ими независимости; в сознании еще были свежи воспоминания о борьбе латиноамериканских республик против Испании, и даже Австралия совсем недавно обрела автономию. Сведущие люди, коих среди собравшихся было немало, делали из этого заключение, что история неизбежно приводит аграрные или богатые природными ресурсами колонии к их отделению от метрополии. А чем была Сибирь, как не аграрной провинцией, эксплуатируемой прежде всего из-за своих руд? Она являлась колонией: слово было пущено, и оно глубоко засело в сознании ряда слушателей, присутствовавших на упомянутом заседании, а позднее стало употребляться в ходе общественной дискуссии. Сибирь – колония! И, как показывали зарубежные примеры, ничто не мешало думать, что завтра она освободится от России.
Данный вывод казался чем-то сенсационным. Тем не менее, он не породил разногласий между собравшимися. Мысль о том, что Сибирь освободится от России, воспринималась учеными из ИРГО как нечто очевидное или, по крайней мере, как одна из наиболее вероятных возможностей. Некоторые, правда, полагали, что если уж Сибирь будет потеряна, то не следует в нее вкладываться или продолжать ее заселение. Другие, напротив, считали, что Россия лишь выиграет, подготовив гармоничное отделение своих сибирских территорий. «Каждый совершеннолетний сын тоже отделяется от родителей, ужели же в виду этого будущего сепаратизма родители не должны заботиться о своих детях?»188
Примечательный спор. Великий князь Константин, раздраженный поворотом, который приняло заседание, поспешил закрыть его. По крайней мере, так он полагал. И речи не могло быть о подготовке к отделению Сибири, а тем более об обсуждении его исторической неизбежности или о дискуссиях по поводу форм, которые оно могло принять. Само слово «колония», вызывавшее всеобщие ассоциации с Соединенными Штатами, Калифорнией, Золотой лихорадкой и независимостью, отвергалось как нелепый вздор. Сибирь и Дальний Восток были и останутся русскими. Дошло до того, что на некоторых официальных картах империи географическое название «Сибирь» было заменено более подходящим словосочетанием «Азиатская Россия».
Зажигательные новаторские идеи, открыто прозвучавшие в стенах Географического общества, поразили не одних только консерваторов, обеспокоенных как собственным будущим, так и будущим России. Они произвели глубокое впечатление также и на нескольких молодых зрителей, оказавшихся особо восприимчивыми к доводам, приведенным в ходе этой необычайной словесной баталии. Действительно, среди публики, присутствовавшей на заседании, посвященном проблемам Сибири, было несколько студентов-сибиряков, которые с замиранием сердца внимали произносимым там речам. Слова «колония», «метрополия», «эксплуатация», «независимость», которые еще совсем недавно было невозможно произнести вслух, находили в их душах живой отклик, подтверждая давно посещавшие их самих догадки и предположения. «Когда мы начинали читать, то помним наше изумление, открыв в первый раз аналогию, что мы «колония» и чуть ли не будущая Америка!»189 – напишет впоследствии один из них в своих воспоминаниях.
В аудиториях столичного университета училось еще не так много студентов из Омска, Тобольска, Томска, Иркутска или Красноярска. Самое большее – несколько десятков: первый интеллектуальный авангард Азиатской России. Необыкновенное возбуждение, охватившее страну, с особой обостренностью переживалось студенчеством. Запоздалые реформы, начатые царем, породили широкое движение политического и социального протеста. После отмены крепостного права не прошло и месяца. Наступила эпоха больших вопросов, интеллектуальная весна, и неслучайно беспокойное поколение середины XIX века получило у русских название шестидесятников, что подчеркивает сродство данного явления с волной недовольства, столетие спустя пробудившей молодежь Западной Европы. Жажда перемен захватила петербургских шестидесятников. Студенты запоем читали журналы, служившие рупорами новых идей, бегали на лекции отдельных профессоров, слывших «героями», глотали газетные строки, «как чашку кофе после моциона», проводили бессонные ночи в жарких философских спорах. И сибиряки желали потрясений не менее страстно, чем их товарищи из старинных крупных городов. Подобно всем шестидесятникам, они упивались великими теориями, запретной литературой, социальными идеалами и фантастическими политическими построениями. Были ли они социалистами? – Да кто же не был социалистом в этой толпе горделивых студентов, свято веривших, что они являются посланцами прогресса и активными двигателями эпохи, пронизанной светлыми надеждами и оптимизмом? Разумеется, они были социалистами, но социалистами сибирскими, сильно отличавшимися от своих собратьев из Москвы, Одессы или Варшавы. Эти студенты из провинции не были ни отпрысками аристократии или детьми крупной буржуазии, ни поляками, воодушевленными борьбой за национальное освобождение, ни выходцами из еврейских местечек, страдавшими от извечной дискриминации. Как правило, они отличались скромным происхождением: дети священников, чиновников, купцов или казаков, а порой даже крестьян-староверов или инородцев.
Сибирские шестидесятники находились на историческом перепутье. В то время как их товарищей увлекали революционные движения всякого рода, провинциалы с далекого края империи выступали против иных несправедливостей. Они обличали хроническую отсталость своего региона, отведенную ему роль исправительного учреждения для изгоев общества и колониальную эксплуатацию его ресурсов, подлинные масштабы которой начали им открываться. У студентов этой группы, заброшенных судьбой в столицу, стало формироваться сибирское самосознание, и постепенно они ощутили свою особость. От прочих русских их по большому счету отличал дух первопроходчества, вольницы, предприимчивости, открытости к бескрайним таежным и океанским просторам, но также отпечаток насилия, каторги и притеснений.
В целях взаимопомощи петербургские сибиряки вскоре объединились в подобие землячества, названное ими «Сибирским кружком». Поначалу это были собрания, проводившиеся по установленным дням и сопровождавшиеся употреблением пива и исполнением студенческих и народных песен. Кроме того, была основана касса взаимопомощи для самых нуждающихся. Мало-помалу на петербургских вечерах зазвучали и политические речи, окрашенные сибирским патриотизмом. Сибирское областническое движение – патриотическая и социальная реакция на режим имперского угнетения, парадоксальным образом зародилось под крышами Петербурга, в плохо отапливаемых студенческих комнатах.
На одном из четвергов «Сибирского кружка» произошла первая встреча двух студентов, каждого из которых впереди ожидала незаурядная судьба: речь идет о двадцатишестилетнем Григории Потанине и Николае Ядринцеве, которому тогда было всего 19 лет. Оба они были типичными представителями сибирского студенчества. Привычки Григория Потанина отдавали чем-то монашеским: по рассказам его друзей, он предпочитал голодать днями напролет, но не отказываться от покупки книг, к которым испытывал настоящую страсть. Он был худым, носил маленькие круглые очки в металлической оправе, бороду стриг клинышком по студенческой моде того времени. Высокий, открытый лоб и зачесанная назад шевелюра довершали его облик интеллигента. А между тем Григорий Потанин был казаком, казачьим сыном, родившимся в бедной станице на берегу Иртыша. Подружившись с одним киргизом, сыном старейшины рода, он выучил киргизский и казахский языки, открыл для себя обычаи кочевников и мог часами слушать их сказки и традиционные песни. Интерес к культурам коренных народов он пронесет до конца своих дней, что сделает его одним из крупнейших географов и исследователей Сибири. Молодой казак, по уставу обязанный отслужить 25 лет в войске, сумел уклониться от службы и поступить в университет. Потанину в этом помог войсковой доктор, придумавший ему болезнь – грыжу, чтобы его признали негодным к кавалерийской службе. «Доктор, вручая мне свидетельство, напутствовал: „Так что не забудьте – грыжа у вас в левом боку, запомните – в левом!“»190 – любил растроганно рассказывать Потанин.
Николай Ядринцев, соратник Потанина, с которым тот познакомился в «Сибирском кружке», происходил из совсем иного мира. Если Потанин сумел поступить в университет благодаря счастливой случайности и своей необыкновенной целеустремленности, то Ядринцева уже с нежного возраста к этому готовили его деятельные, просвещенные родители из мелких купцов, не жалевшие средств на образование сына. «Меня рано учили танцевать и французскому языку в двух пансионах. Я десяти лет уже напоминал маленького джентльмена»,191 – вспоминает Ядринцев в своей «Автобиографии». В доме Ядринцевых часто принимали политических ссыльных – декабристов или польских интеллигентов, навечно высланных со своей родины, в семье имелась одна из немногих в Омске библиотек, и еще подростком ему доводилось присутствовать при жарких спорах. Вот что он говорит о своей юности: «А тут еще свет и приток великих европейских идей, о которых мы и не слыхали. Мы в первый раз услыхали о прогрессе, о человеческом братстве, о лучших стремлениях человека. Мы были дети дальней семьи русского общества, его глухой стороны, для которой был неизвестен целый мир. На нас хлынуло все разом: европейская жизнь, история и идеи, волновавшие Европу полвека. Руссо и Вольтер, Дидро и Даламбер, Кондорсе – все для нас было ново».192
Воспоминание о встрече казака и провинциального интеллигента врезалось в память младшего из них: «Я застал Потанина, – пишет Ядринцев, – в квартире на Васильевском острове; помню его почти всегда расхаживавшего с книгою по комнате, увлеченного естествознанием, но читавшего также много тогдашней литературы и знакомого уже с общественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла о сибиряках в Петербурге и о необходимости перезнакомиться, вспоминать родину и придумать, чем мы можем быть ей полезны. Идея сознательного служения краю в тот момент, когда в Европейской России пробуждалось то же самосознание, вот идея, которая легла в основу нашего сближения»193. Очень скоро молодые люди стали неразлучны. Они без слов понимали друг друга, ощущали одну и ту же привязанность к своей родной Сибири и были готовы выступить в крестовый поход за признание своих прав. Ядринцев о Потанине: «В беседах с Потаниным я не только сходился, но и увлекался его умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником, он же определил мое призвание. Я фанатически последовал его патриотической идее, и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группирования. Идея соединиться сибирякам в Петербурге и перезнакомиться привлекала своею новизною и оригинальностью».194 Потанин о Ядринцеве: «В нашей маленькой компании Ядринцев был самый прирожденный журналист. Я почувствовал, что он пойдет во главе сибирского движения, которым уже веяло в воздухе, и что мне предстоит сделаться только его помощником».195
В «Сибирском кружке» царил дух фрондерства, озорства и патриотизма одновременно, что напоминало крупные студенческие объединения того же периода в Германии или Швейцарии. За тем лишь исключением, что патриотизм здесь был сибирский, поэтому вместо идеи национального единства, о котором мечтали в других частях Европы, интеллектуальные беседы под руководством Николая Ядринцева и Григория Потанина вели к осознанию сибирской самобытности, отличной от Европейской России. Постепенно, от беседы к беседе, политизированность студентов нарастала. Они задались целью осуществить у себя в Сибири, которую отныне считали своей родиной, революционные идеи, модные тогда в университетской среде. «Вместо страны несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, мы представляли ее себе населенною, свободною, жизнерадостною и ликующею. Мы назвали эту страну «страною будущего», подобно Америке и Австралии».196 Этот областнический кружок не имел какой-либо политической программы, считая себя скорее интеллектуальной колыбелью великой идеи, нежели революционной партией или организацией. Своей задачей областники ставили не столько освобождение Сибири, сколько насаждение там образования. Необходимо было помочь Сибири осознать свое прошлое, настоящее и будущее, в котором, как они верили, ее непременно ожидает процветание. Следовало открыть Сибири глаза на ее самобытность, придать ей уверенность в себе, в чем она так нуждалась. По их мнению, главным было сформировать и развить подлинно сибирскую интеллигенцию, отсутствие которой представлялось им одной из главных причин отсталости региона. Требовалось создать в Сибири этот образованный, культурный слой, являющийся носителем более высоких ценностей и призванный стать хребтом нации. Требовалось сформировать элиту, которая пробудит ее, эту нацию. По убеждению молодых сибиряков, заброшенных судьбой в Петербург, уже одного существования этой когорты апологетов разума было бы вполне достаточно, чтобы и другие обитатели региона обрели затем естественным путем самосознание и достигли процветания, неразрывно связанного с самосознанием. Ведь отказывая сибирякам в доступе к культуре и идеям, российский режим тем самым укреплял свою колониальную власть. По воспоминаниям Ядринцева, «впервые на этих собраниях раздался вопрос о значении в крае университета и необходимости его в Сибири <…>. Здесь же, в товарищеских разговорах, развивалась мысль о необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край, читать о нем сочинения, являлась мысль составить библиографию книг сибирских <…>. Говорили о будущем журнале, газете, словом, вопросы росли».197
Сибирский университет, собственная литература, научные исследования, средства популяризации сибирской идеи и знаний о регионе: таковы были первостепенные задачи областнического движения. На повестку дня вскоре встали и другие задачи – прекращение колониальной эксплуатации и отказ от статуса земли второго сорта, предназначенной для ссылки. На одной из своих лекций Ядринцев разъяснял: «Никакая реформа немыслима в стране, ежели не будет в ней образованных деятелей, способствующих ей. Наш край нисколько не исследован и не разработан. Все сокровища нашей земли не приносят нам пользы, потому что мы или не знаем их, или не умеем разработать. Нам нужны теперь и сельские хозяева для создания рационального хлебопашества, нам нужны и минералоги, и геологи для открытия минералогических богатств, нужны технологи для создания заводской и фабричной промышленности, нам нужны географы, статистики, зоологи и ботаники! Ни политическое, ни экономическое процветание не будет доступно стране, в особенности стране молодой, как Сибирь, без умственного развития. Без знания нет богатой страны, без знания нет свободной страны, без знания нет счастливой страны! Все это доказывает, что необходим университет, как можно скорее, сию минуту».198
Возможность вернуться в Сибирь и начать бороться на месте за свои идеи представилась молодым людям раньше, чем они предполагали. В декабре 1861 года Санкт-Петербургский университет – вслед за Казанским – был закрыт из-за студенческих волнений и беспорядков. Григорий Потанин вернулся в Сибирь летом 1862 года, Николай Ядринцев присоединился к нему осенью 1863 года. Умея зарабатывать на жизнь лишь своими лекциями и публицистикой, Потанин и Ядринцев решили попробовать себя в зарождавшейся тогда местной прессе, которая явилась, несомненно, самым быстрым и эффективным средством распространения их идей. Подобно Герцену, рассуждавшему о том же на страницах своего «Колокола», они были убеждены, что борьба с угнетением, за новое общество должна была вестись поначалу через разоблачение мелких безобразий и крупных злоупотреблений царского режима и его администрации. «Гласность прежде свободы», – сказал Герцен, выступавший скорее за непримиримую борьбу с цензурой, чем за предоставление абстрактных конституционных гарантий наподобие тех, что существовали в Америке. Эти просвещенные интеллектуалы полагали, что достаточно открыто обличить несправедливости, чтобы они оказались устранены. В этом смысле главным инструментом обновления стали журналистские расследования, как мы сказали бы сегодня.
Ядринцеву удалось устроиться сотрудником газеты «Томские губернские ведомости». Это издание являлось чем-то вроде регионального «информационного бюллетеня» и состояло из официальных административных сообщений и неофициальной части, принадлежавшей перу независимых авторов. В газете можно было найти отчеты о местных культурных мероприятиях, агрономические советы, скромные опыты сибирских литераторов. Николай Ядринцев очень скоро сделался неофициальным выразителем идей сибирских областников.
Уже в первой публикации на страницах первого номера «Томских губернских ведомостей» за 1865 год он четко обозначил свою позицию. Статья вышла под безобидным заголовком «Сибирь в 1-е января 1865 г.», чего не скажешь о ее содержании. Под видом новогодних пожеланий Ядринцев бросил взволнованный призыв к объединению всех сибиряков: это было воззвание разгневанного человека, обращенное к землякам, осознать свои местные особенности и право на собственное развитие. В статье выдвигалось требование создания университета и установления свобод, которые смогли бы вызволить экономические силы региона из-под имперской опеки, и в этом нельзя было не ощутить либеральный привкус Америки. Необычной была настойчивость автора, говорившего о необходимости пробуждения сибиряков, которых слишком долго обманывали и эксплуатировали. «Сибирь называли тундрой, не способной ни к какой культуре, на нее смотрели как на место для каторжников, у нее отнимали всякую надежду на самобытное развитие народных сил, ей пророчили лапландскую будущность и обрекали ее народ на коснение среди тундр, подобно эскимосам. Словом, у сибирского народа отнималось его будущее, оспаривалось общечеловеческое право на цивилизацию и убивалась самая святая надежда на разумно-человеческое существование!»199 В голосе автора отчетливо слышались обличительные интонации. «Сибирский народ»? – Это словосочетание, употребленное автором, звучало не так уж безобидно. Ядринцев призвал к сопротивлению: «Наступает время, когда Сибирь должна подумать о своих интересах и своем будущем. <…> Пусть сибирское общество соединится от Урала до Восточного океана, чтобы создать новую жизнь Сибири. Начнет жить умственной жизнью и заботиться о своем самобытном всестороннем развитии!»
Не испытывая притеснений со стороны цензуры, молодой областник продолжил свои публикации на страницах «Томских губернских ведомостей». Вышла вторая статья, за ней третья, потом четвертая, все выдержанные в духе «новогодних пожеланий» первой публикации. Периодические издания в других городах выступали в сходном ключе – публиковались материалы о природных и исторических богатствах края, появлялись местные авторы, начинались дискуссии о новых формах правления. В Петербурге не на шутку встревожились. Там опасались, что в какой-нибудь статье или на какой-нибудь лекции однажды раздастся клич «Сибирь сибирякам!». Легкость, с которой сибирское население, похоже, встречало новые идеи сибирской особенности – или сибирского патриотизма для самых воинственных, лишь усугубляла беспокойство. Власти получили указание реагировать на выражения «наша Сибирь» или «мы, сибиряки», которыми пестрели газеты. Впоследствии дошло до того, что губернатор взял в руки перо и вычеркнул из подготовленных к печати статей слова «Сибирь и Россия», заменив их на «Сибирь и Европейская Россия». Он также потребовал, чтобы выражение «сибиряки» было заменено на «уроженцы Сибири» и чтобы не было даже намека на «сепаратизм[94]»,200 а то чего доброго Сибирь начнут противопоставлять России.
Сибирское областническое – или «патриотическое», как оно само себя называло – движение насчитывало в своих рядах всего лишь несколько десятков интеллектуалов, репортеров и журналистов, зажатых в стенах своих аудиторий или редакций, и являлось скорее идейным течением, нежели политической организацией. Тем не менее почва для возникновения последней в Сибири была благоприятной. Терпению властей пришел конец. Случайное событие 21 мая 1865 года послужило толчком к развертыванию репрессий. В тот день кадет Омского училища Гавриил Усов, которому, вероятно, было лет 13–14, нашел в вещах своего старшего брата Фёдора текст под названием «Сибирским патриотам!». Это было воззвание к освобождению Сибири, свержению политического, экономического и административного угнетения царизмом, провозглашению автономии или даже независимости «родины». Зажигательный тон был явно навеян прокламациями, модными среди русских шестидесятников.
Разумеется, в этом тексте выдвигались традиционные требования областников: о необходимости осознания своей самобытности, о праве на собственное экономическое развитие, об университете, об отказе использовать регион как место ссылки, обслуживающее империю. Но там прозвучало и нечто совсем иное: «…Все это требует самостоятельности Сибири, и она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создав свое государство на началах народного самоуправления. Демократический состав общества особенно благоприятствует Сибири создать республику, состоящую из штатов, подобно Америке». А вот еще: «Спасение и обновление Сибири заключаются лишь в независимости, лишь при этих условиях возможно ее развитие со своим выборным правительством из сибирского народа, со своей собственной администрацией, финансами и армией». Для достижения этих целей авторы прокламации выдвинули программу: «Мы, сибиряки, братски подаем руку российским патриотам для совокупной борьбы с нашим общим врагом. По окончанию борьбы Сибирь должна будет создавать свое народное собрание, определить свое будущее отношение к России – это наше неотъемлемое право! <…> Но если Россия замедлит со своим освобождением, если она позарится на уступки того же подлого правительства, то мы не будем друзьями презренных рабов! Мы одни смело пойдем добывать свободу и силой вырвем нашу независимость от разбойного правительства и рабского народа!»201
Текст заканчивался торжественным призывом ко всем «любящим народ наш братски соединиться от Урала до Тихого океана в одну семью и идти искать свободы народной. Идемте же! Не страшитесь ни пыток, ни казней! На святое дело освобождения с криком: «Да здравствует независимость Сибири! Да здравствует свободный наш народ! Да здравствует наше славное будущее!»202
Ну и программа! Юный Гавриил поспешил захватить с собой скандальный текст и пустил его гулять под партами в классе. Воззвание, и притом тайное! Можно себе представить, с какой важностью Гавриил, одетый в кадетский мундир, показывал его своим товарищам. Но один из них стащил у него прокламацию и согласился вернуть ее лишь в обмен на папиросы. Во дворе военного училища дежурный офицер застиг врасплох злоумышленников и обнаружил листок. После этого все закрутилось. Через несколько часов в спальни училища нагрянула с обыском полиция, забравшая вещи двух старших братьев Гавриила, Григория и Фёдора Усовых, которых арестовали. Среди конфискованных вещей обоих братьев были обнаружены два текста Прудона и Герцена, «Размышления» Робеспьера и, естественно, обильная переписка с мыслителями и журналистами областнического направления, в том числе с Потаниным и Ядринцевым. В отсутствие губернатора Западной Сибири Дюгамеля, предпочитавшего жить у себя дома в Петербурге, генерал Панов распорядился по телеграфу арестовать главарей и членов тайной организации, где бы они ни находились. Потанина и Ядринцева полиция накрыла под Томском, в загородном домике одного их приятеля, где они вместе занимались своими любимыми естественными науками. Их немедленно схватили с несколькими друзьями и отправили в омский острог. В Омске, а также Томске, Красноярске, Иркутске, Уральске, Тобольске, Семипалатинске и даже в Казани, Москве и Петербурге полиция устроила обыски в кругах, где, как подозревали, засели «сепаратисты». Около десяти омских кадетов, из которых некоторым было всего 12 лет, оказались к своему ужасу за решеткой. За несколько дней в казематы были доставлены 44 обвиняемых.203 Потрясение оказалось столь сильным, что один из них, Николай Щукин, учитель иркутской гимназии, тронулся умом.
О происшедшем ни словом не обмолвилась сибирская, а уж тем более столичная печать. Лишь три месяца спустя в номере журнала «Колокол» за 15 сентября 1865 года, вышедшем в Лондоне, появилось сообщение о многочисленных арестах: «Из Сибири важные новости: в Томске и Иркутске были аресты, говорят, открыли тайное общество, всех схваченных повезли в Омск, в числе арестованных называют Потанина».204
В ходе обысков у одного из руководителей движения была изъята вторая прокламация «Сибирским патриотам!». Тон ее был еще более резким и воинственным, а требования еще более радикальными. Там, к примеру, говорилось, что в случае необходимости сибиряки могут «вступить в союз с Америкой <…> поднять восстание совместно с казаками, староверами и рабочими рудников, провозгласить Соединенные Штаты Сибири и обратиться за помощью к Америке».205
Григорий Потанин и Николай Ядринцев категорически отвергали всякую свою причастность к упомянутым прокламациям. Они протестовали, утверждая, что «местный патриотизм не может смешиваться с сепаратизмом» и что последний «есть только направление патриотизма при известных условиях».206 Однако срочно сформированной следственной комиссии не было дела до возражений подозреваемых, которых она допрашивала на протяжении долгих месяцев. Было собрано обвинительное досье, рассматривавшее как тексты прокламаций, так и содержание лекций либо статей, напечатанных в местной прессе. Кроме того, в распоряжении полиции имелось множество донесений, которые на протяжении ряда лет составлялись неким Поповым, предателем, посещавшим студенческие собрания в Петербурге. Оказалось, что за все эти годы ничто не укрылось от бдительного ока Третьего отделения. Некоторые современные историки даже не исключают, что радикальная прокламация, фигурировавшая в качестве главной улики на суде, была написана агентом Поповым с провокационной целью.207 На одном из допросов Потанину бросилось в глаза название лежащей перед ним папки: «Дело о злоумышленниках, имеющих целью отделить Сибирь от России и основать в ней республику, по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов».208 Он понял, что надеяться было не на что и взял на себя главную вину, признав свою личную ответственность за этот «сепаратистский заговор», чтобы облегчить участь своих более молодых товарищей. Состоялось слушание дела. Во время заседания при закрытых дверях, дата которого осталась неизвестной, Сенат рассмотрел материалы следствия и вынес суровый приговор: 15 лет каторжных работ Потанину и трем другим активным участникам областнического движения, в их числе несчастному Щукину, который к тому моменту успел полностью лишиться рассудка. Десять лет заключения в крепости получил Фёдор Усов с одним из своих приятелей. Его брата Григория приговорили к 12 годам каторги, Ядринцева – к 10 годам. Несколько месяцев спустя, когда миновало три года с обыска в кадетском училище, решением Государственного совета сроки были сокращены. Тем не менее осужденным пришлось пройти через долгие годы каторги и ссылки, причем пятилетний срок Ядринцева был самым мягким. Тюремные власти неожиданно столкнулись с неведомой прежде проблемой: как правило, каторга и ссылка отбывались в Сибири, но что было делать в случае, если осужденные уже находились там? В конце концов было решено сослать их на север Европейской России, поскольку чиновникам службы исполнения наказаний ее климат показался наиболее близким суровому сибирскому климату. Ядринцев был сослан в Шенкурск Архангельской губернии, Потанин – в крепость Свеаборг под Гельсингфорсом, а затем в Тотьму Вологодской губернии, где жил под надзором полиции. Глава областников, которому энергии было не занимать, значительную часть срока, проведенного им в заключении, посвятил обширному исследованию одной из своих любимых тем о тюремном мире и системе каторги в России. Кому же, как не ему, подобало заниматься данной проблематикой?
Повальные аресты 1865 года нанесли непоправимый удар по областническому движению. Идея сибирского сепаратизма или сибирской автономии сошла с общественной и интеллектуальной сцены вместе с ее носителями. В рядах оппозиции режиму почти полная идеологическая монополия оказалась у социалистов (главным образом марксистского толка) и народников. В объявленной царизму войне и борьбе за дело революции федерализму практически не осталось места. Ядринцев с горечью был вынужден признать свое полное идеологическое поражение. Поселившись в небольшой квартирке в Петербурге, он старался как мог поддерживать пламя, распахнув двери своего дома для неимущих сибирских студентов. Посетив Францию, Швейцарию и США, Ядринцев укрепился в своих федералистских идеях, но это лишь усугубило его скорбь оттого, что у него на родине они были преданы забвению. Весной 1894 года он возвратился в свою любимую Сибирь, чтобы подготовить экспедицию на Алтай. Однако письмо, посланное им тогда одному из своих друзей, не оставляет сомнения в его душевном состоянии и намерениях: «Жизнь так невыносима, а судьба так несправедлива, что жить не стоит. Да, что касается меня, больше не стоит… Остается лишь жить для других, облегчать страдания другого».209 Николаю Ядринцеву было тогда 52 года. 7 июня 1894 года его нашли распростертым на полу своего кабинета в Барнауле, на юге Сибири. Вызванный на место доктор констатировал передозировку опиума. Григорий Потанин после своего освобождения целиком отдался науке. В свое время наука привела его к областничеству, а теперь она же позволила ему достаточно безболезненно отойти от этого движения. Тем не менее Потанин остался убежденным защитником идеи автономии и с началом Гражданской войны, в конце 1917 года, даже стал председателем Временного Сибирского Областного совета. Однако в гигантской Сибири запоздалая революция не могла уже воплотить автономистских мечтаний, которые развеялись под напором нового, куда более эффективного средства, нежели все речи или идеологии – железной дороги. Железнодорожная линия, Транссибирская магистраль, соединившая Европейскую Россию с побережьем Тихого океана и пересекшая всю Сибирь, доставила туда сотни тысяч, а потом и миллионы переселенцев, которые окончательно привязали огромную провинцию к империи. История отвергла сибирское областничество, и его единственным зримым наследием остается университет, предмет страстных мечтаний и настойчивых требований сибирских шестидесятников. Он был наконец-то открыт в 1888 году в Томске, в том самом городе, где они вели свои самые жаркие споры.
Аляску надо продать!
В пятницу 16 декабря 1866 года на 13:00 было назначено «особое заседание». Царь Александр II, созвавший его в обстановке строгой секретности, оставил открытым вопрос о месте проведения: в его собственных покоях в Зимнем дворце или «у Горчакова в помещениях министерства, если последний не будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы покидать свою резиденцию».210 Жест любезности государя в отношении главы российской дипломатии, которому тогда было 68 лет, и он наверняка плохо переносил наступившие зимние холода. Впрочем, выбраться из дворца особого труда не составляло, ведь Министерство иностранных дел располагалось как раз напротив монаршей резиденции, в середине монументального архитектурного ансамбля ярко-желтого цвета в форме дуги длиной более 500 м, обнимающей Дворцовую площадь. Коляске царя потребовалось проехать всего несколько сотен метров до черного входа в министерство, откуда Александр попал в парадный кабинет, обычно предназначавшийся для официальных приемов.
В своем плотно расписанном графике царь отвел совсем немного времени на решение вопроса исторической важности. «В 1 [дня] у к[нязя] Горчакова совещ[ание] по дел[у] Америк[анской] комп[ании]. Реш[ено?] продать Соедин[енным] Штатам»,211 – гласит трудночитаемая из-за сокращений запись государя в его памятной книжке (блокноте). В два часа дня значилось уже другое мероприятие. На продажу Русской Америки был отведен один час. Вопреки клятве, данной его отцом («Там, где однажды поднялся российский флаг, он уже опуститься не может!»), Александр намеревался отказаться от территории, превосходившей по площади Францию, Германию, Англию и Испанию вместе взятые. Судя по всему, график нарушен не был: одного часа оказалось достаточно для решения участи Аляски и колониальных владений, с таким трудом завоеванных империей. Возражений не прозвучало. Чтобы распорядиться судьбой Русской Америки, царю потребовалось одобрение пяти особ: его младшего брата, Великого князя Константина, министра иностранных дел Горчакова, морского министра Краббе, министра финансов Рейтерна и бывшего российского посла в США, барона фон Стёкля, два месяца назад возвратившегося в Петербург. Каждый из них обязался соблюдать строжайшую конфиденциальность, и о заседании, вероятно, не было известно больше никому. Состав участников, запись, сделанная царем в своем блокноте, и сама краткость заседания – все указывает на то, что исход совещания был предрешен. Ибо из всех присутствующих некоторые колебания испытывал лишь сам царь. Прочие приглашенные были известными сторонниками передачи американских колоний. Наибольшим влиянием пользовался, вне всякого сомнения, Великий князь Константин, мнение которого по данному вопросу было уже давно известно. Это он побудил министра иностранных дел ускорить проведение упомянутого заседания, это он готовил за кулисами мероприятие, как явствует из записки морского министра Краббе, направленной его коллеге по правительству Горчакову. «Е. выс-во [Великий князь] полагает, что девятилетний период, истекший со времени отзыва, который он препроводил к Вашему сиятельству 7 декабря 1857 г., не только ни в чем не изменяет высказанных им в то время мыслей, но, напротив того, представил несколько новых и существенных в подтверждение их доказательств. В 1857 г. положение наших Северо-Американских колоний было далеко не так обстоятельно нам известно, как ныне, и это ближайшее знакомство, к сожалению, нам показало во всей очевидности, что в отношении этого края мы поставлены, если не навсегда, то, по крайней мере, на весьма продолжительный срок в неизбежную необходимость искусственными мерами и денежными со стороны казны пожертвованиями не только поддерживать существование частной компании, доказавшей свою несостоятельность в достижении предназначенных ей целей, но и оставить за ней часть прав, долженствующих принадлежать одним правительственным учреждениям. С другой стороны, значительное развитие, которое получил в эти девять лет При-Амурский край, ясно указывает, где именно на крайнем востоке предстоит России будущность. <…> нельзя не сказать, что уступка этих отдаленных колоний, не приносящих нам и не могущих принести пользы, не имеющих никакой существенной связи с Россией, и которых мы не можем в случае нужды защитить, удовлетворила бы требованиям предусмотрительности и благоразумия».212
Еще более красноречиво, чем выбор участников, о намерениях царя, давшего свое согласие на проведение этого секретного заседания, свидетельствует состав тех, кого туда не позвали. Действительно, на заседании не присутствовало ни одного представителя «Российско-Американской компании» (РАК) – собственника почти всех аляскинских владений и, несомненно, самой заинтересованной в этом вопросе стороны. Общеизвестным было категорическое неприятие ее руководителями всякой идеи отказа от колоний. Сам факт, что их преднамеренно оставили в неведении, служит лишним доказательством того, что в глазах государя вопрос считался решенным.
Обсуждение проводилось без официального протокола, и у историков закралось опасение, что его ключевые моменты реконструировать невозможно, поскольку, как выяснилось, страницы ценного личного дневника Великого князя, касающиеся этого периода, были вырваны. Однако постепенно суть дискуссии удалось восстановить по личным записям, переписке некоторых участников и подготовительным документам, лично завизированным царем. Заседанием руководил, естественно, Александр II, однако главные роли исполняли инициировавший его министр иностранных дел Горчаков и Великий князь Константин, который на 11 лет был младше своего монаршего брата – тот самый Константин, с кем мы уже имели возможность познакомиться как с главой лагеря либералов и реформаторов, политическим «крестным отцом» генерал-губернатора Муравьёва и высокопоставленным покровителем его экспансионистского курса на Дальнем Востоке.
Надо ли продавать русскую Аляску Соединенным Штатам? В ходе заседания каждый из участников имел возможность сформулировать свою позицию. До его начала царь получил из МИДа записку с резюме мнений участников, составленную на французском языке – языке дипломатии того времени. Его Императорское Высочество Великий князь Константин в нескольких строчках первым повторил свою точку зрения: «Е. и. выс-во считает, что положение наших колоний ухудшается со дня на день; что, столь удаленные от метрополии, они не имеют для России никакого значения, тогда как необходимость их защиты в будущем, как и в прошлом, будет столь же трудной, как и дорогостоящей. Е. и. выс-во придерживается мнения, что необходимо от них отказаться, продав их Соединенным Штатам, и сосредоточить все заботы правительства на наших владениях на Амуре, которые составляют неразрывную часть империи и которые во всех отношениях представляют больше ресурсов, чем северные берега наших американских владений».213
Итак, по мнению Великого князя, русская Аляска была слишком уязвима, что особенно наглядно проявилось в ходе Крымской войны, когда враждебные России иностранные флоты без труда обеспечили себе подавляющее превосходство на Тихом океане. Французы и британцы, союзники в этой войне, захватили Петропавловск-Камчатский, но они могли бы также, если бы только пожелали, овладеть административным центром Ново-Архангельском на юго-востоке Аляски и стереть с лица земли русские колониальные владения. В тот период для спасения своих факторий и своего слабого флота в Америке русские пошли на следующую уловку: в мае 1854 года они заключили с компанией «Ангус Макферсон» из Сан-Франциско фиктивное соглашение о продаже ей всего своего имущества, предприятий и привилегий в Северной Америке. Идея принадлежала самим американцам и была одобрена русским вице-консулом. Предполагалось, что соглашение о фиктивной продаже останется у русских и будет обнародовано лишь в случае необходимости. «Если бы по несчастию мы потеряли колонии, тогда посредством сего акта американцы объявили бы на оныя свои права, а чрез это был бы повод к вмешательству в это дело правительства Соединенных Штатов»,214 – говорилось в одном из писем вице-консула в начале военных действий. Не по этой ли причине англо-французские союзники по Крымской войне отказались от захвата русских колоний на Аляске? Не побоялись ли они спровоцировать тем самым американцев к выступлению на стороне русских? Или, что еще хуже, предоставить возможность бывшим мятежным колониям расширить свое территориальное влияние и аннексировать север континента? Как бы то ни было, русские заключили это соглашение. Им также удалось достигнуть компромисса о взаимном нейтралитете на период конфликта между «Российско-Американской компанией» и Компанией Гудзонова залива. Этого оказалось достаточно, чтобы Крымская война обошла стороной Русскую Америку. Тем не менее из этого эпизода петербургские власти вынесли убеждение, что удача не всегда будет сопутствовать им. В записке российского министерства иностранных дел говорилось: «В случае войны наши колонии будут зависеть от милости любой враждебной державы. Если во время Крымской войны Англия согласилась уважать нейтралитет нашей территории [Аляски], то это потому, что она опасалась, что мы продадим ее американцам, что дало бы англичанам к северу, как и к югу от их владений [современная Канада], неудобных и опасных соседей».215
* * *
К петербургскому заседанию минуло 12 лет после окончания Крымской войны. Для его участников теперь было очевидно, что угроза потери Аляски исходит больше не от коварного Альбиона, а прежде всего от американского друга. Нашествие, которого опасались русские губернаторы, происходило в более скрытом, мирном виде, но при этом казалось чем-то неотвратимым. Прошло примерно пять лет, как русские обнаружили золотые россыпи на Кенайском полуострове на Аляске. Поисковая партия, направленная на границу с британским Юконом, сообщила, что «число золотоискателей за пределами русских владений уже доходило до 400 человек».216 Данное обстоятельство побудило «Российско-Американскую компанию» признаться в «невозможности открытого и решительного сопротивления (которого предписано всеми мерами избегать) действиям золотоискателей». По мнению ее руководства, в таком случае более целесообразным представлялось «допустить добывание золота в наших владениях с известной платой в пользу компании».217 Подобные рассуждения вызывали явно скептическую реакцию у петербургских чиновников. Русская Америка насчитывала всего лишь тысячу русских поселенцев, ее военные и полицейские силы почти не существовали, и государственным мужам было очевидно, что «вслед за армией вооруженных лопатами золотоискателей могла прийти армия вооруженных ружьями солдат»,218 по выражению историка Семёна Окуня. Если дать событиям развиваться своим чередом, России рано или поздно – скорее рано, чем поздно, – придется столкнуться со своим естественным американским союзником: ситуация, которой реформаторы империи во главе с Великим князем Константином стремились избежать любой ценой.
Вторым на совещании выступил министров финансов Михаил Рейтерн. В своей аргументации он упирал на финансовую уязвимость Российско-Американской компании, чье управление колониями было, по его выражению, «несчастливым и неспособным». Компания находилась «в положении, близком к несостоятельности» и могла быть поддерживаема «только искусственно», так что имперскому правительству приходилось выбирать лишь между оказанием ей обременительной для государственных финансов помощи или взятием ее под непосредственное управление, что также представлялось не менее затратным. Он тоже полагал, что «передача колоний Соединенным Штатам кажется особенно желательной».219 В подтверждение своей точки зрения министр представил документы, затребованные им у дирекции Государственного банка и у руководства самой компании. Согласно этим ведомостям, сумма долгов РАК, подлежащих немедленной уплате, составляла 1 127 670 рублей, а перечень ее имущества достигал 2 027 000 рублей. Смета годовых доходов равнялась 720 000 рублей, а расходов – 676 550 рублей.220 Судя по приведенным цифрам, экономическое положение РАК выглядело не столь уж драматично, однако министр опасался в первую очередь за состояние государственных финансов, внушавшее гораздо большее беспокойство. Десять лет спустя после окончания Крымской войны Россия все еще не оправилась от ее последствий, и всего за три месяца до описываемого заседания глава ее финансового ведомства даже забил тревогу, потребовав незамедлительных, резких сокращений по всем статьям бюджетных расходов. Но и в таком случае, по его мнению, обращения к иностранным займам России было не избежать. Размер такого займа Рейтерн оценивал в 45 млн рублей на три года. В подобной ситуации не могло быть и речи об оказании даже небольшой помощи колониальной компании, испытывавшей затруднения. Напротив, ее продажа могла бы стать существенным подспорьем для государственной казны!
Вслед за Рейтерном слово взял Эдуард фон Стёкль. Барон был весьма колоритной персоной, по прихоти судьбы занесенной в кабинет, где оказался лицом к лицу с высшими сановниками империи. Он родился от отца-австрийца и матери-итальянки в Одессе – новом Вавилоне, основанном Россией на побережье Чёрного моря. По окончании учебы он поступил на дипломатическую службу, работал российским представителем в Гонолулу и Лондоне, затем стал поверенным российского посольства в Вашингтоне и, наконец, полномочным послом России в США. Женатый на американке, родившей ему сына, который стал крестником самого царя, Стёкль провел всю Гражданскую войну в американской столице, пытаясь при удобном случае даже играть роль посредника.221 В ходе Гражданской войны Россия была одной из немногих крупных держав, твердо вставшей на сторону Линкольна и северян-аболиционистов. Свою поддержку она подкрепила демонстративной отправкой военной эскадры в порты Нью-Йорка и Сан-Франциско, находившиеся под контролем федералов. В вашингтонских кругах Стёкль пользовался вследствие того совершенно особым доверием и симпатией. Выступая перед узким кругом лиц в присутствии царя, он прежде всего сообщил, что во время его пребывания у подножия вашингтонского Капитолия американцы уже закидывали удочки, давая понять, что могут приобрести Аляску подобно приобретению Луизианы, Флориды, Техаса и Калифорнии. При всей своей кажущейся необычности, возможность подобного сценария отнюдь не исключалась. Тем не менее следовало все устроить так, чтобы по крайней мере внешне «инициатива исходила от Соединенных Штатов» и чтобы еще прежде начала переговоров российское правительство не вело их с позиций слабого.
Затем последовало краткое обсуждение, в ходе которого свое согласие дали два последних участника – министр иностранных дел и морской министр. Мнение главы дипломатии еще более укрепило царя в его решимости. Из всех присутствовавших на заседании Горчаков был известен своей наиболее консервативной позицией. До этого он неоднократно предпочитал затягивать с решением вопроса или откладывать его на более позднее время. Однако на сей раз он согласился с приведенными доводами, о чем свидетельствует черновик доклада, обнаруженный впоследствии в его личном архиве. Россия была не в состоянии защитить свои заморские владения военным путем. Даже в мирный период факториям РАК угрожали «американские флибустьеры». Лучше было продать их, чем просто отдать, уступив силе. Наконец, в политическом отношении уступка колоний Соединенным Штатам благотворно сказалась бы на взаимоотношениях России с молодой республикой и помешала бы усилению Великобритании на Тихом океане. Россия являлась континентальной державой и должна была укреплять свои приобретения на азиатском берегу и на Дальнем Востоке. Следовало выбирать между Аляской и Амуром! Сомневаться не приходилось, в пользу чего выбор был сделан.
На том и порешили. Россия соглашалась на продажу. Стёкля попросили незамедлительно вернуться в Вашингтон, чтобы на месте заняться этим щекотливым вопросом. Ему было поручено прозондировать намерения и готовность американцев в период, когда страна едва вышла из Гражданской войны и еще не успела залечить свои раны. Великий князь снабдил дипломата картой Русской Америки, а царь добавил, что цена ни в коем случае не может быть ниже пяти миллионов долларов. Заседание закончилось. Несколько дней спустя Стёкль был уже во Франции, откуда отплыл в Нью-Йорк на борту корабля «Сен-Лоран». В его задачу входила продажа примерно десятой части Северной Америки клиенту, который даже не отдавал себе в том отчета.
Как мы видели, идея была не нова. Уже 12 лет руководящие круги России возвращались к сценарию отказа от американских владений. Одним из первых, кто осмелился выступить со столь радикальным предложением, вновь оказался генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв. В 1853 году, в один из многочисленных приездов в Петербург для отстаивания своих интересов перед центральными властями, он передал царю записку, где изложил свои основные соображения. По мнению неугомонного сибирского губернатора, Россия упустила свой исторический шанс в Америке еще в начале столетия, когда Резанов бросил якорь в Калифорнии и предложил водрузить там императорский флаг с двуглавым орлом. Возможно, тогда Россия смогла бы господствовать над всем Тихим океаном. Впрочем, как продолжал Муравьёв, сожалеть тут было не о чем, ибо по причине «неминуемого владычества Североамериканских Штатов» с этими территориями все равно пришлось бы распроститься. В записке царю он подчеркнул: «Нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши». И тут же добавил, что «весьма натурально и России <…> господствовать на всем Азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Aзии англичанам, но дело это еще может поправиться тесною связью нашею с Северо-Американскими Штатами [курсив и орфография Муравьёва».222
Это свое кредо губернатор изложил в 1853 году, еще до начала Крымской войны и утверждения России в Приамурье. Муравьёв без обиняков привел главный довод, который будет подхвачен сторонниками уступки североамериканских владений: у России нет средств, чтобы угнаться за двумя зайцами на Тихом океане. Твердо отстаивая свое главное дело – завоевание и колонизацию Приамурья и Дальнего Востока, он тут же начал неминуемую, как ему представлялось, борьбу за влияние в высших эшелонах власти. Четыре года спустя новый царь сменил на троне адресата записки Муравьёва. Теперь уже Великий князь Константин в письме государю из Ниццы высказался за отказ от Аляски, причем в выражениях, не вызывающих сомнения в том, что без Муравьёва дело не обошлось: «Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их».223 На высказанное предложение Александр II отреагировал короткой, осторожной пометкой: «Эту мысль стоит сообразить».224
Отныне в высших эшелонах власти не затихал спор о судьбе русской Аляски, причем широкой общественности об этом не было совершенно ничего неизвестно. Опираясь на идеи Муравьёва, после отставки поселившегося в Париже, и Великого князя Константина, возглавившего лагерь «продавцов», главные представители либеральных реформаторов, влияние которых возросло после поражения в войне с Англией, Францией и Османской империей, настойчиво добивались отказа России от своих аляскинских владений. Казна была пуста, а реформы требовали дорогостоящих инвестиций, поэтому они выступали за концентрацию денежных средств и избавление от всего, что препятствовало модернизации империи. «Неправильность» колоний по ту сторону Тихого океана (словечко принадлежало Великому князю) являлась одним из таких препятствий. «Россия должна всячески стараться укрепляться в центре своем, в тех сплошных коренных русских областях, которые составляют по народности и вере настоящую и главную силу ее, и должна развивать силы этого центра, дабы сохранить те из своих оконечностей, владение коими возможно и приносит ей истинную пользу».225 Противостоявшие им консерваторы были отнюдь не намерены складывать оружие, большинство же министров и советников правительства во главе с самим царем Александром II сомневались, стоит ли отказываться от огромных, еще не освоенных территорий, в отсутствие всякого реального принуждения.
В правительственных комитетах между экспертами развернулась подковерная борьба. В апреле 1857 года адмирал Врангель, тогдашний морской министр, представил примечательный доклад, в котором указал на заинтересованность России в сохранении американских портов, рыболовства и факторий, однако, не желая идти против Великого князя, назвал возможную стоимость колонии на случай ее продажи. Адмирал отметил, что при отсутствии внешнего давления и всякой опасности компенсация за утрату владений могла быть не ниже 20 млн рублей. Однако в сложившихся условиях, когда их уязвимость была чрезвычайной, «наше правительство … могло бы истребовать сумму 7 442 800 руб. серебром», из которой половина причиталась бы «Российско-Американской компании» в качестве компенсации, а другая должна была отойти в казну. Подобная точность объяснялась тем, что Врангель основывал свои расчеты на оценке стоимости акционерного капитала РАК. Итак, по крайней мере одна цифра была озвучена.
Но дело никак не трогалось с места. Монополия РАК вскоре истекала, и царь использовал это как предлог, чтобы немного потянуть время. Правда, под давлением своего младшего брата он дал согласие на некоторые неофициальные действия для выяснения реакции американских властей на подобное предложение. Кроме того, для более тщательной оценки собственности предполагалось отправить на место инспекционную комиссию, возглавляемую, разумеется, ставленником Великого князя. Задание прозондировать позицию американского истеблишмента по этому вопросу уже тогда было поручено Стёклю. Дипломат встретился с одним калифорнийским сенатором, который, как считалось, находился в тесных отношениях с тогдашним президентом Джеймсом Бьюкененом, и обрисовал ему перспективу новой Северной Америки, в которой британцы оказались бы окружены Соединенными Штатами. Ответ, переданный им в Петербург, звучал уклончиво: президент проявил заинтересованность в этом вопросе, однако официальных переговоров предпочел не начинать. При этом впервые прозвучала цена, которую США были бы согласны заплатить в случае заключения сделки: пять миллионов долларов, или шесть с половиной миллионов рублей. В конфиденциальном донесении царю Стёкль следующим образом прокомментировал данное известие: «Эта сумма дает около 300 тыс. руб. годового дохода. Я сомневаюсь, чтобы русские колонии в настоящее время или когда-либо в будущем принесли нам доход, равный этой сумме».226 На упомянутом документе рукой царя была сделана следующая пометка: «Об этом надо еще подумать».227
Увы, времени на обдумывание вскоре не осталось. Проволочки со стороны императорской власти тормозили прогресс неофициальных переговоров в Вашингтоне, а когда переговоры активизировались и приняли более конкретный характер, в США в ноябре 1860 году состоялись президентские выборы, принесшие победу Аврааму Линкольну, что раскололо страну на две части. Шесть месяцев спустя разразилась Гражданская война. Она продлилась четыре года, и Стёкль не мог больше двигаться в направлении, начертанном Великим князем. До поры до времени дело отложили; рассматривая пессимистический вариант развития событий, Стёкль даже не исключал, что с затеей придется окончательно расстаться в случае, если отколовшимся южанам удастся одержать верх над федералами.
Тем не менее «особенные» контакты русского посла и его предполагаемые беседы на самом высшем уровне породили всякого рода слухи. Поговаривали, что русские собираются продать свои американские колонии. Наиболее чуткой к этим кулуарным сплетням оказалась, естественно, британская пресса. Уже во время Крымской войны Times и Dublin University Magazine распространили слухи о возможной продаже, подхваченные затем некоторыми американскими газетами. Рассказывали даже, будто Россия обратилась с неким предложением к своему давнему недругу, британскому премьеру Палмерстону. Все это, несомненно, служило лишь отголоском действий Стёкля и выражало озабоченность британцев, прекрасно понимавших, что передача Аляски Соединенным Штатам серьезно нарушит геополитическое равновесие в Северной Америке и на всем Тихом океане. Нынешний запад Канады окажется зажат между владениями Соединенных Штатов, что будет даже представлять угрозу ее существованию. Небольшая колония Виктория неподалеку от Ванкувера была всего лишь охотничьими и промысловыми угодьями для Компании Гудзонова залива, поселенцев там было мало, и ее положение немногим отличалось от русских владений, расположенных немного севернее. Чтобы упредить надвигающуюся опасность, Англия как колониальная империя ответила контратакой на институционном уровне: колония Британская Колумбия, возникшая в 1858 году, стала доминионом в 1866 году и вскоре вступила в новую Канадскую федерацию, упрочившую британское владычество в этой части континента.
В самой России ничто не выдавало намерений царя. Имперская политика была уделом лишь немногих посвященных, и разрабатывалась она в стенах Зимнего дворца и ряда министерств. Тем не менее, благодаря робким шагам Александра II в сторону гласности, кое-какая информация о происходившей тогда борьбе все же стала просачиваться. Государь, горячий сторонник реформ, стремившийся преобразовать империю в более современное и более рационально устроенное государство, поощрял всякого рода общественные дискуссии вокруг основных направлений своей политики. В этом контексте впервые было употреблено слово «гласность», которое вновь возродится на исходе существования СССР. Никто вслух не рассуждал о продаже колоний, однако флотский журнал «Морской сборник», во главе которого стояли приближенные Великого князя Константина, подверг критике «Российско-Американскую компанию», обвинив ее в проведении в Америке политики вчерашнего дня. Из этого журнала петербуржцы узнавали, что РАК была всего лишь пережитком периода крепостничества и монополий. Она пренебрегала своей цивилизаторской миссией среди индейцев-тлинкитов и алеутов и смешивала собственные интересы с интересами России. Управление компанией и ее функционирование основывались на отживших принципах авторитаризма и патернализма, что противоречило либеральному настрою журнала и идеалам гуманизма, за которые он ратовал.
Из номера в номер «Морской сборник» нападал на компанию, некогда основанную иркутскими купцами. Главной его целью было помешать продлению срока действия утверждаемого императором устава РАК, служившего обоснованием монополии, привилегий и условий царской администрации. Действие предыдущего устава истекало в 1860-е годы, и либеральный лагерь стремился во чтобы то ни стало не допустить его продления, что стало бы существенной помехой для передачи Аляски. Либеральный журнал не жалел черной краски, описывая жизнь американских колоний и провальное управление ими со стороны РАК. Руководство Компании парировало эти выпады, опираясь на свои собственные печатные органы и неофициальные каналы, что давало возможность просвещенному читателю наблюдать за интересным, захватывающим спором по поводу будущего Аляски.
* * *
А как дело обстояло на месте? Ново-Архангельск, столица Русской Америки, уже мало чем напоминал форт, наспех построенный Барановым после нападения индейцев в начале столетия, или факторию, страдающую от голода и цинги, какой ее увидел Николай Резанов. Когда в Петербурге решалась ее судьба, колония переживала один из самых спокойных и благополучных периодов своей истории. Пушнина оставалась одной из основных статей ее дохода. Правда, после хищнического промысла на первом этапе, в результате которого почти полностью исчезли некоторые виды морских млекопитающих, в особенности каланы, «Российско-Американской компании» пришлось разработать действенную программу охраны промысловых животных, способствовавшую сохранению их популяции. Она вызвала восхищение первых прибывших туда американцев, после чего безжалостное истребление возобновилось, но уже под новым флагом: «Пушные животные тщательно охраняются, и охотиться разрешено лишь на самцов определенного возраста, но так, чтобы их число не превышало необходимого предложения на рынке»,228 – написал в своем докладе капитан Ховард, специальный агент Казначейства США, сошедший на берег с первого американского парохода, отправленного на Аляску в 1867 году. При этом колонии удалось уменьшить свою зависимость от «мягкого золота» за счет торговли древесиной, углем, рыбой и особенно льдом, который продавали блоками владельцам баров и ресторанов по всему тихоокеанскому побережью. Незадолго до описываемых событий открылась верфь, со стапелей которой в 1860 году сошел первый пароход.
Улицы вытянутого вдоль бухты Ново-Архангельска были застроены домами из крашеного дерева, чаще всего желто-оранжевого цвета, излюбленного «Российско-Американской компанией», с красными крышами. Деревянные тротуары вдоль главных улиц позволяли прохожим передвигаться, не утопая в грязи после частых дождей. Бары и клубы предлагали игру в бильярд и карты, что служило главным времяпровождением, не считая, конечно, посещения традиционной русской бани. В Ново-Архангельске имелось несколько школ, лечебница и аптека, библиотека, «располагающая несколькими тысячами книг на европейских языках», и даже музей естественной истории и этнографии. Как ни забавно, единственное, чего не было в колониальном центре, так это тюрьмы. В городке насчитывалось три церкви: Свято-Михайловский собор, лютеранская церковь для финляндских подданных царя и православная Воскресенская церковь, облюбованная индейцами-тлинкитами, многие из которых были крещены. Отношения с тлинкитами заметно улучшились: ежедневно работал индейский рынок, где тлинкиты обменивали товары, приобретенные ими у соседних племен и даже у индейцев, обитавших внутри континента. Их вождей приглашали на приемы и церемонии, устраиваемые русскими властями и директором компании; последнему случалось даже выступать посредником между соперничающими родами.
Самое внушительное здание, официальная резиденция директора компании, находилось на возвышающемся над морем холме на окраине городка. Его называли «Барановским за́мком». Супруга директора, первая дама колонии, ежегодно устраивала там бал.
Чтобы предупредить голод, традиционный бич здешних мест, ежегодно заготавливались запасы, которые зимой распределялись среди наименее обеспеченных жителей. В окрестных индейских селениях стали сажать растущие в этих широтах овощи – морковь, картофель, для продажи в Но-во-Архангельске. В 1862 году благодаря массовой вакцинации удалось даже успешно сдержать эпидемию оспы.
Таким образом, картина была далеко не столь мрачной, как ее описывали либеральные критики РАК. Когда в 1860 году новая инспекционная комиссия получила задание собрать материал для Великого князя, ее глава, капитан Головин, хотя и назначенный лично Константином, подготовил положительный доклад о своем пребывании на русской Аляске и о своих впечатлениях. Головин тщательно подбирал каждое слово, отдавая себе отчет в неприятностях, которыми его доклад был чреват для заказчика, но тем не менее в заключение он рекомендовал не ликвидировать «Российско-Американскую компанию». И если в официальном докладе Головин соблюдал осторожность, то в своей частной переписке он был более откровенен: «Говорят, стоимость акций компании упала после нашего отъезда [из Петербурга]; но желающие продать свои доли, по правде говоря, безумцы. Если бы у меня водились деньги, я б немедленно купил столько акций, сколько возможно, будучи уверен в солидной прибыли, которой можно ожидать в краткие сроки».229
Окрыленная докладом Головина и не подозревая о масштабах опасности, нависшей над ее американской колонией, а стало быть, над значительной частью ее деятельности, компания запросила продление своей монополии на 20 лет. В ответ на критику в свой адрес она заявила о готовности признать независимые от нее суды, ввести выборы по образцу учреждений, реформированных царем в метрополии, что позволило бы каждой местной общине избирать собственных руководителей, и даже разрешить доступ в свои колонии для переселенцев из России. Единственное, в чем она неколебимо стояла на своем, была монополия на торговлю пушниной. На обсуждение этого вопроса ушло немало времени, но в конце концов царь уступил. 2 апреля 1866 году, к огорчению либералов, компания выиграла дело и получила устав, действительный вплоть до весны 1886 года. Казалось бы, Россия закрепилась на американском континенте, а компания добилась подтверждения своих прав. Пройдет год, и обе они – Россия и компания – будут паковать чемоданы.
* * *
15 февраля 1867 года, через несколько недель после «особого» заседания в Петербурге, на котором было решено продать Аляску, барон Эдуард фон Стёкль прибыл в Нью-Йорк, стремясь поскорее исполнить возложенную на него историческую миссию.
Поначалу все складывалось скверно. На пароходе во время плавания через Атлантику Стёкль неудачно упал и растянул связки. На берегу он три недели был прикован к постели. А самое главное, политическая обстановка сильно изменилась после его отъезда из США пять месяцев назад. Парламентские выборы, проведенные в ноябре 1866 года, первые по окончании Гражданской войны, обеспечили подавляющее большинство радикальным республиканцам, располагавшим отныне две трети мест в Конгрессе и, стало быть, получившим возможность не считаться с президентским вето. Радикалы были прежде всего самыми решительными сторонниками отмены рабства и предоставления неграм гражданских прав. Они не признавали компромиссов с побежденными южанами, добивались поражения в правах бывших солдат армии конфедератов и требовали уплаты огромной контрибуции со своих прежних противников в Гражданской войне на период начавшегося восстановления. Еще более неприятным для Стёкля явилось следующее обстоятельство: радикалы, не раз резко критиковавшие Линкольна, который казался им чересчур мягкотелым, обрушили теперь свою ярость на вице-президента Эндрю Джонсона, который после убийства Линкольна стал президентом. Новый президент, не отличавшийся харизматичностью, был демократом, избранным от одного из южных штатов, и воспринимался радикалами как предатель их дела: он стал предметом травли со стороны Конгресса, заодно крепко невзлюбившего и его администрацию. Госсекретарь Уильям Генри Сьюард, умеренный республиканец, был одной из главных мишеней радикальных республиканцев. Между тем именно на него рассчитывал Стёкль, чтобы добиться своих целей.
Оба чиновника были давно знакомы. Когда Стёкль наконец-то прибыл в Вашингтон и попросил аудиенции, глава американской дипломатии незамедлительно принял его. Собеседники не стали лукавить друг перед другом. Свои первые переговоры Стёкль описал в секретном сообщении, отправленном в Петербург: «Я поднял вопрос о колониях со Сьюардом … и добавил, что в настоящее время императорское правительство расположено вступить в переговоры, если нам будет сделано такое предложение. Сьюард мне ответил, что этот вопрос следует обсудить и что он переговорил бы о нем с президентом. Наша беседа была строго конфиденциальной. Сьюард коснулся некоторых деталей, но не выразил своего окончательного мнения. Он сказал, что не может это сделать, пока не узнает мнения своих коллег по кабинету. «Эти переговоры, – сказал он мне, – должны вестись в строжайшей тайне. Давайте сначала посмотрим, сможем ли мы договориться. После этого настанет время проконсультироваться с конгрессом». В качестве цены он назвал 5 000 0000 долл., но, поняв, что это не произвело на меня никакого впечатления, добавил: «Мы могли бы дойти даже до 5 500 000 долл., но не более». Я ответил, что обсудим этот вопрос, когда несколько продвинемся вперед. Я буду стремиться получить 6 500 000 или по крайней мере 6 000 000».230 Слушая Стёкля, Сьюард осознал, что для успеха начинания необходимо провести переговоры в условиях полной конфиденциальности и как можно скорее. Новый состав Конгресса заседал всего лишь шесть дней. Когда его лидеры думали исключительно о предоставлении гражданских прав неграм и взыскании репараций с южных штатов, а казна была при этом истощена расходами на войну, убедить Конгресс купить на другом конце континента огромную не слишком изведанную территорию, представлялось задачей не из легких. Чтобы застать его врасплох и не позволить радикальному большинству организовать сопротивление, требовалось действовать очень быстро. Госсекретарю хотелось завершить дело до конца текущей сессии. При необходимости Сьюард и Стёкль были готовы прибегнуть к хитрым уловкам.
Если в Петербурге дело долго рассматривалось за закрытыми дверями, то теперь оно нежданно-негаданно стало стремительно развиваться. Первая встреча русского посла и госсекретаря состоялась 11 марта. Почти сразу о ней проинформировали президента Джонсона. Он заявил, что не очень расположен к сделке, но согласится, если его убедят в ее выгодности для США. 13 и 14 марта Стёкль и Сьюард встретились вновь. 15 марта на заседании правительства Сьюард представил своим коллегам первый проект договора и попросил их согласовать сумму в 7 млн долларов для обсуждения с русскими. Он хотел бы также сохранить за собой право на ведение переговоров. В понедельник 18 марта президент подписал соответствующий мандат. Утром 19 марта Сьюард и Стёкль составили вариант соглашения. Во второй половине того же дня Сьюард представил его текст кабинету министров. Он потребовал выделения дополнительных 200 тысяч долларов, чтобы соглашение было признано «изъятым от всяких ограничений, привилегий, льгот или владельческих прав», на которые русские могли бы впоследствии предъявить претензии. Как мы увидим далее, эта сумма была использована не вполне по назначению. 23 марта переговорщики приняли несколько поправок, и 25 марта Стёкль направил шифрованную телеграмму российскому министру иностранных дел Горчакову: «Переговоры завершены. Результат – следующий проект договора: Статья I. Уступка наших колоний. <…> Статья II. Государственная собственность уступается Соединенным Штатам; частная собственность остается в руках лиц, которым она принадлежит; православные храмы остаются в полной собственности лиц этого вероисповедания с полной свободой исповедовать свою религию. Статья III. Жители колонии могут вернуться в Россию или остаться и пользоваться всеми правами американских граждан. <…> Статья VI предусматривает возмещение в 7 млн. долларов. Статья VII и последняя. Ратификации будут обменены в Вашингтоне. <…> Если я получу ответ в течение шести дней, договор может быть подписан и через неделю утвержден Сенатом».231
За передачу этой исторической телеграммы американские телеграфные службы выставили счет на 9 886 долларов и 50 центов. Стёкль перенаправил его Сьюарду, но тот отказался платить. Русскому посланнику пришлось дожидаться внесения американцами семи миллионов по прошествии года, чтобы погасить эту сумму, которую он считал возмутительно высокой. Официальный ответ из Петербурга пришел к нему опять-таки по телеграфу 29 марта. За несколько часов Горчаков встретился со своими коллегами по кабинету министров, имевшими отношение к этому вопросу, в частности, с министром финансов Рейтерном, и, разумеется, с самим Александром II: «Император разрешает продажу за 7 млн долл. и подписание договора. <…> Постарайтесь также получить плату в более близкое время и, если возможно, в Лондоне Бэрингу. Заключайте без согласования. Получение подтвердите телеграфно».232 На оригинальном русском тексте император написал своей рукой: «Да будет так».
Так оно и стало. И по-прежнему все происходило столь же стремительно. Получив от царя «добро» вечером 29 марта, Стёкль немедленно отправился на площадь Лафайета (Лафайет-сквер), в частную резиденцию Сьюарда. Произошедшая там сцена была описана Фредериком Сьюардом, сыном госсекретаря: «Вечером в пятницу 29 марта У. Сьюард играл у себя дома в вист… когда объявили о приходе русского посланника. «Я получил донесение, мистер Сьюард, от моего правительства по телеграфу. Император дает свое согласие на уступку. Если Вы хотите, завтра я приду в департамент, и мы сможем заключить договор». С улыбкой удовлетворения Сьюард отодвинул стол для виста и сказал: «Зачем ждать до завтра, мистер Стёкль? Давайте заключим договор сегодня вечером». «Но Ваш департамент закрыт. У Вас нет клерков, и мои секретари разбросаны по городу». «Не беспокойтесь об этом, – ответил Сьюард. – Если Вы соберете членов Вашей миссии до полуночи, Вы найдете меня ожидающим Вас в департаменте, который будет открыт и готов к работе». Менее чем через 2 часа свет разливался из окон государственного департамента – работа шла там, как в середине дня. К 4 часам утра договор был переписан красивым почерком, подписан, скреплен печатями и готов к пересылке Сенату президентом».233
После прибытия Стёкля в Вашингтон прошло менее трех недель, а продажа Аляски была уже делом решенным. Окончательная цена составила 7 млн 200 тысяч долларов с учетом ряда еще действующих привилегий и соглашений, от которых русским пришлось отказаться. Но Конгресс еще предстояло убедить, а когда новость о покупке русских колоний была обнародована, это вызвало всеобщее изумление. Реакция нескольких влиятельных сенаторов, которых Сьюард счел за благо пригласить к себе после ночной церемонии подписания с целью проинформировать и подготовить их, оказалась резко отрицательной,234 и госсекретарю стало ясно, что большинство в две трети голосов, необходимое для одобрения договора, отнюдь не гарантировано. В последующие дни многие крупные американские газеты обрушились с язвительной критикой на этот неизвестно откуда взявшийся проект, который был совершенно не нужен стране, занятой восстановлением внутренней гармонии. «Безумие Сьюарда[95]», «Джонсоновский зоопарк белых медведей[96]», «Сьюардовский холодильник[97]»: таковы были заголовки и сравнения, которыми в течение нескольких недель пестрели газеты. Особенно сильную враждебность к проекту проявили Юг и нью-йоркская пресса, тогда как на Западе реакция была, очевидно, гораздо более благожелательной. «99 % Русской Америки совершенно непригодны для использования, – возмущалась New York Herald, – оставшийся 1 %, может, и представляет какую-то ценность, но никак не стоит семи миллионов для нации, и без того уже владеющей территорией, которой она не в состоянии толком управлять, и обремененной долгами».235 Газета New York Tribune, находившаяся в постоянной оппозиции к президенту, выступила против сделки, обрушившись с едкой иронией на доводы президентской администрации: «На бумаге нет места прекраснее Русской Америки. Климат великолепный и вполне теплый зимой; ледяные поля неисчерпаемы. <…> Пшеница, тюлени, ячмень, белые медведи, нерпа, айсберги, киты и золотые жилы – все вплоть до 60° северной широты. Край этот столь прекрасен, столь богат мехами, рыбой и лесом, что царь полагает, что он слишком хорош, чтобы его удерживать <…>».
Атмосфера накалялась. Многие сенаторы открыто выражали свое категорическое несогласие, в их числе Уильям Фессенден (штат Мэн), заявивший, что готов поддержать договор, «но с одним дополнительным условием: заставить государственного секретаря там жить, а русское правительство – его там содержать».236 Накануне голосования в Сенате Стёкль в донесении Горчакову выражал сильную обеспокоенность его исходом: «Я имею честь, князь, представить Вам две статьи из «Трибуны», главного нью-йоркского органа партии, которая господствует в Конгрессе. Ваше Превосходительство увидит, с какой яростью Сьюард, а косвенно договор подвергались нападению. В Сенате договор был едва ли встречен лучше. Несколько сенаторов говорили мне, что не имеют ничего против самого соглашения, что они его одобряют, но не могут утвердить акт, на котором стоит подпись г-на Сьюарда. Г-н Самнер, председатель комитета по иностранным делам, пришел просить меня снять с обсуждения договор, который, по его мнению, не имеет шансов на утверждение. Я наотрез отказался».237
Чтобы парировать яростные возражения своих противников, Сьюард задействовал все имеющиеся у него ресурсы. Он мобилизовал целый отряд журналистов, разослал доклады о выгодах приобретения Аляски всем лицам, которые могли повлиять на ход обсуждения этого вопроса. Всякий раз, усаживаясь за обед, он приглашал какого-нибудь именитого гостя, чтобы заручиться его поддержкой. В ход пошли собственный погреб французских вин госсекретаря и его знаменитые сигары. Обеденный стол Сьюарда, как утверждали острословы, был накрыт картой Русской Америки, на которой «регулярно появляется жареный договор, вареный договор, договор в бутылках, договор в графинах, договор, приправленный назначениями по службе, договор в цифрах, договор с военной точки зрения, договор с точки зрения грандиозности территориального приобретения, договор, укатанный в меха, украшенный моржовыми клыками, обрамленный лесом».238 Госсекретарь позвал также на выручку ученых, например, гляциолога Агассиса, а также натуралистов из Смитсоновского института. Но его главными союзниками стали участники проекта Великого телеграфа, вернувшиеся после его закрытия. Сьюард познакомился с их отчетами о проведенных изысканиях, и не приходится сомневаться, что чтение этих документов, составленных непосредственно в ходе полевых работ, в значительной степени повлияло на его внезапное превращение в сторонника приобретения Русской Америки. По его просьбе, главные деятели этого гигантского проекта Чарльз Балкли и Перри МакДонаф Коллинз принялись наперебой расхваливать богатства нетронутых пространств Крайнего Севера в печати, сопротивление которой Сьюарду удалось сломить. Балкли, начальник экспедиции:239 «Позвольте мне заявить, что я считаю приобретение данной территории делом величайшей важности, причем это невозможно оценить в долларах. Ее производство пушнины является, несомненно, самым значительным в мире. Один только остров Св. Павла, при правильном им управлении, обеспечит достаточно тюленьих шкур, чтобы выплатить всю сумму за несколько лет».240
Сенат приступил к рассмотрению этого вопроса на экстренном заседании 9 апреля. Первое голосование выявило расклад сил между различными группировками: 27 голосов – «за», 12 – «против», 6 – «воздержались». Необходимое большинство в две трети голосов достигнуто не было, и понадобилось повторное голосование. 37 голосов – «за» и 2 – «против»: Сенат наконец ратифицировал покупку новой территории. Стёкль испытал облегчение, Сьюард торжествовал. Однако прежде всего это было заслугой председателя комитета по иностранным делам, республиканца-радикала Чарльза Самнера, который ранее посоветовал Стёклю отозвать проект договора. Несколько предыдущих дней Самнер изрядно попотел, чтобы уяснить суть этого договора. Он изучал отчеты, консультировался у экспертов и исследователей, в том числе у тех, кого ему направлял его противник Сьюард. Когда сенатор от штата Массачусетс поднялся на трибуну, в кармане у него лежал лишь листок из блокнота с написанными там словами: «Преимущества для Тихоокеанского побережья. Прибавка к империи… Удаление с территории Северной Америки одной из монархических держав. Еще один шаг к оккупации Северной Америки».241 Опираясь на эти тезисы, ласкавшие слух сидевших напротив радикальных республиканцев, Чарльз Самнер произнес речь продолжительностью в три часа, которая потрясла слушателей и вошла в анналы Конгресса. В порыве ораторского вдохновения он предложил незамедлительно изменить название территории, окрестив ее Аляской, как называло «большую землю» туземное население. Русской Америки больше нет, да здравствует Аляска! Успех речи был таков, что Самнер, выступивший экспромтом, постарался затем воспроизвести ее в письменном виде по настоянию публики.
Итак, Сенат ратифицировал договор, однако парламентская баталия на этом не закончилась. Палата представителей должна была еще одобрить выделение 7 млн 200 тысяч долларов, и, как вскоре убедился Сьюард, борьба обещала стать еще более ожесточенной. Когда в июле президент направил договор и его финансовые статьи на утверждение Палаты представителей, конгрессмены перенесли свою работу на ноябрь. Госсекретарь был прав, полагая, что успех данной сделки зависел от скорости ее заключения и ратификации. В ноябре же противники покупки Аляски протащили новый закон «против дальнейших территориальных покупок». Этот документ касался в первую очередь датских владений островов Сент-Томас и Сент-Джон в составе архипелага Виргинских островов, переговоры о продаже которых велись с 1865 года. Острова были куплены США у Дании только в 1917 году. Но сомневаться не приходилось, что мишенью данного закона были также и сторонники договора об Аляске. Одновременно с тем противники договора вытащили на свет застарелый иск, поданный от имени одного американского торговца оружием и порохом, который не получил достаточной платы за свои услуги в России во время Крымской войны. Для закрытия этого дела противники Сьюарда потребовали изъять 800 000 долларов из окончательной суммы, уплачиваемой России.
Дело затянулось, и стало ясно, что сроки выплаты, прописанные в договоре, не могут быть соблюдены. К тому же внутриполитическая обстановка в США осложнилась. Контролируемый радикалами Конгресс не прекращал нападок на президента. Было отменено 15 вето, которые тот пытался наложить на решения конгрессменов. В феврале 1868 года против президента Эндрю Джонсона была начата процедура отрешения от должности (импичмента), продолжавшаяся до мая месяца.242 Стоит ли говорить, что в перечне проблем, волновавших Вашингтон, судьба Аляски стояла теперь далеко не на первом месте.
Воодушевленный эффективностью методов, примененных им в Сенате, Сьюард вновь вовсю запустил свою машину по обработке общественного мнения. Spin doctors [политтехнологи, пиарщики – англ.] госсекретаря появлялись везде, где можно было заручиться поддержкой того или иного депутата. В работу включился и русский посланник Стёкль. В записке Горчакову он пояснил: «Мы вместе воздействовали на членов конгресса через посредство влиятельных лиц и адвокатов».243 Воздействовали? И каким же образом?
Сразу заметим, что «воздействие» оказалось эффективным. Ибо когда Палата представителей наконец-то занялась договором на июльской сессии 1868 года, исход рассмотрения преподнес приятный сюрприз защитникам договора. 14 июля Палата представителей утвердила договор и связанные с ним последствия для бюджета: 114 голосов – «за», 43 – «против» и 44 – «воздержались». Зажигательных речей на этот раз прозвучало меньше, зато больше конгрессменов открыто продемонстрировало свою расположенность к этому делу, хотя обычно они предпочитали проявлять сдержанность. Несколько газет, в особенности Washington Chronicle и Philadelphia Press, развернули шумную кампанию в поддержку покупки бывшей русской колонии. Тем не менее нашлись недоброжелатели, выразившие свое удивление количеством голосов «за», что контрастировало с ранее принятыми решениями и напряженной атмосферой, царившей при обсуждении вопроса. Чем же была вызвана столь резкая перемена?
Ответ на этот вопрос был дан в 1912 году, когда один исследователь опубликовал памятную записку, обнаруженную в личных бумагах президента Джонсона: «6 сентября в воскресенье 1868 г. мистер Сьюард и я проехали верхом семь или восемь миль по дороге, ведущей в Марлборо (Мэриленд). Около места, называемого Старые поля, мы въехали в тенистый дубовый лесок. Принимая освежающие напитки во время разговора на разные темы, государственный секретарь спросил, приходило ли мне когда-либо в голову, как мало имеется в конгрессе членов, чьи действия выше и независимы от денежного влияния. <…> Затем он спросил, помню ли я, что выделение 7 млн в уплату русскому правительству за Аляску находилось в подвешенном состоянии или было заблокировано в Палате представителей. В то время когда выделение средств было отсрочено, русский посланник [Э. фон Стёкль] заявил мне, что Джон У. Форни сказал ему, что нуждается в 30 000 долл., так как потерял 40 000 из-за вероломного друга, и что ему необходимы 30 000 долл. золотом. Что нет шансов, чтобы Палата представителей выделила средства без определенного влияния в пользу такого ассигнования. 30 000 долл. были выплачены, отсюда содействие в «Кроникл» выделению средств. Он также заявил, что 20 000 долл. выплачены Р.Дж. Уокеру и Ф. Стэнтону за их услуги, Н.А. Бэнксу, председателю комитета по иностранным делам, – 8 000 долл. и что неподкупный Тадеуш Стивенс [лидер радикальных республиканцев] получил в качестве своей «взятки» скромную сумму в 10 000. Все суммы были выплачены русским посланником прямо или косвенно соответствующим участникам для обеспечения выделения правительственных средств, предусмотренных для уплаты России торжественным договором, уже ратифицированным обоими правительствами».244 Президент был не единственным человеком, кому Уильям Сьюард доверил свой секрет. Один из его близких друзей впоследствии рассказал о том, что лично от госсекретаря узнал, как накануне голосования по Аляске в Конгрессе Р.Дж. Уокер получил 20 000 долларов, Ф. Стэнтон – 10 000, десять конгрессменов получили по 10 000, Форни – 20 000 долларов. «Еще 10 000 долл. предназначались Тэду Стивенсу, но никто не хотел передать их ему, поэтому я сам взялся за это. Но несчастный умер, и они по-прежнему у меня».245
Согласно детальным исследованиям, проведенным впоследствии русскими и американскими историками, 134 000 долларов246 были, вероятно, заплачены в качестве взяток непосредственно Эдуардом Стёклем или, на что указал сам госсекретарь Сьюард, через посредников. Что касается российского посланника, он получил от своего правительства 21 000 долларов в качестве вознаграждения за проделанную работу. Все эти суммы с согласия и стараниями госсекретаря Сьюарда были вычтены из 200 000 долларов, ассигнованных правительством сверх 7 млн, о которых стороны договорились.
* * *
В России новость о продаже американских колоний стала полной неожиданностью. Когда 30 марта 1867 года пришло первое телеграфное сообщение из Вашингтона о том, что соответствующий договор был только что подписан в американской столице, изумление было таково, что никто, судя по всему, не воспринял эту информацию всерьез. В течение четырех дней газеты хранили полное молчание, пока наконец, 4 апреля, русское телеграфное агентство не опубликовало краткое сообщение: «Утверждают положительно, что Соединенные Штаты купили русские земли в Америке за 7 млн долларов».247 На следующий день агентство сообщило: «Вчерашнее сообщение о продаже русских владений в Северной Америке подтверждается». И это все, что прошло по официальным каналам.
Однако никто не хотел в это верить. По мнению некоторых газет, это была хитрая уловка с целью обрушить курс акций «Российско-Американской компании», другие не могли и помыслить себе отказ от американских владений, ведь РАК «завоевала территорию и устроила на ней колонии с огромным пожертвованием труда и капитала и даже крови русских людей, которой они запечатлели право России на обладание этим краем». Крупная ежедневная газета «Голос», орган реформаторов, склонялась к тому, что речь идет о манипуляции, беспочвенном слухе, цели которого оставались покрыты мраком: «Сегодня и вчера и третьего дня мы передаем и передавали полученные из Нью-Йорка и Лондона телеграммы о продаже Соединенным Штатам владений России в Северной Америке… Мы объяснялись уже по поводу этих слухов … и теперь, как и тогда, не можем отнестись к подобному невероятному слуху иначе, как к самой злой шутке над легковерием общества».248 И два дня спустя: «Лиха беда начало. Сегодня слухи продают Николаевскую железную дорогу, завтра – русские американские колонии; кто же поручится, что послезавтра не начнут те же самые слухи продавать Крым, Закавказье, Остзейские губернии?» 249
Тем не менее отсутствие официального опровержения, а затем робкие сообщения с подтверждением со стороны правительства произвели ошеломляющее впечатление. Большая часть газет стала громко возмущаться «ничтожной ценой», за которую американские владения были проданы, на что последовала официальная реакция: «Хотя цензура не возбраняет органам печати обсуждать решения, принятые правительством, никоим образом нельзя оправдать оскорбительных для установленных властей отзывов о мерах, хотя и еще не состоявшихся, но заведомо имеющихся в виду <…>». Недовольство произошедшим приняло отчетливый характер, затронув даже высшие круги: ряд членов правительства, в их числе министр внутренних дел Валуев, заявили протест, возмутившись тем, что при принятии столь важного решения их держали в неведении. Православная церковь также выразила несогласие, недоумение и обеспокоенность за судьбу своих чад, проживавших в Америке. Лишь 22 апреля, то есть две недели спустя после ратификации договора американским Сенатом, петербургские чиновники решились проинформировать директора компании, находившегося в Ново-Архангельске. Он тоже, надо полагать, вначале с трудом поверил телеграмме, и некоторые самые дальние русские поселения получили уведомление о своей участи лишь 15 месяцев спустя.
Эпилог был разыгран осенью 1867 года в административном центре русской колонии. Палата представителей еще не приступила к ратификации договора, а стороны уже договорились о как можно более быстрой передаче власти. Когда поступило сообщение о продаже Аляски, толпы авантюристов устремились в Калифорнию, намереваясь двинуться оттуда на поиски новой земли обетованной, скрытой за северными туманами. «В Ново-Архангельск нахлынули американцы», – сообщил специальный представитель царского правительства, которому было поручено курировать передачу территории. Жителей колонии охватило лихорадочное возбуждение: каждый из них стремился вступить в свои имущественные права. Согласно договору, за исключением собственности РАК, переходившей в руки американцев, частная собственность признавалась неприкосновенной. К несчастью, реестры были дефективными, и большинство жителей, основываясь на общем праве, не имело формальных документов с подтверждением их собственности. Толпы аляскинцев осаждали стойки клерков компании, уговаривая выдать им свидетельство на имущественные права, а в это время первые иммигранты, едва сойдя на берег, занимали любой самый крохотный свободный клочок земли и объявляли его своей собственностью. «Я сожалею, что [русскому] населению так досаждают мерзавцы, заявившиеся из Виктории [Ванкувера] и выдающие себя за американцев, – отметил один из офицеров американских войск. – Они стремятся захватить каждый земельный участок в городе, включая сады губернатора, церкви и их собственность».250 Три года спустя почти все русское население покинуло Аляску, перебравшись в Сибирь или Приамурье. Индейцы со своей стороны также были обеспокоены этими пришельцами, положившими глаз на их территории, которые прежде никто и никогда у них не оспаривал. «Правда, – заявил один из вождей тлинкитов командующему американскими войсками, – мы разрешили русским владеть островом, но мы не намерены давать его любому и каждому сопровождающему».251 Когда новые администраторы попросили своих русских коллег предоставить им реестры с указанием границ земель, находившихся в собственности без законных оснований, те ответили, что «ни правительство, ни компания доселе не оказывали ни малейшего влияния на порядок распределения земель, которые туземцы используют совершенно свободно, безо всяких ограничений или принуждения». Майор Халлек, командующий американскими вооруженными силами, позволил себе следующий комментарий: «Если наша система управления туземцами будет введена здесь, неизбежно последуют войны между индейцами». Несмотря на попытки новых хозяев этого края обратить индейцев в свою веру, индейская община сохранила верность православию, составляя большинство его здешних адептов. На протяжении многих лет после передачи Аляски приюты и школы находились в ведении Русской Православной Церкви. Богослужения для тинклитов и алеутов совершались на церковнославянском языке, и священники еще длительное время заставляли аборигенов приносить раз в год присягу царю.
18 октября, в 11 часов утра, в бухту Ново-Архангельска вошел прибывший из Сан-Франциско фрегат «Оссипи», на борту которого находился американский генерал Ловелл Харрисон Руссо и полномочные российские представители Алексей Пещуров и Фёдор Коскуль. Генерал Руссо был в прескверном расположении духа: после выхода в море его донимала морская болезнь, и для начала он отменил дальнейшее плавание вдоль побережья с целью вступить во владение русскими фортами, как было запланировано первоначально. Он также не собирался терять время в этой глухой дыре и потому распорядился, чтобы церемония передачи власти состоялась в тот же день, в 15:30, на орудийной площадке перед «Барановским замком», служившим резиденцией директора РАК. В назначенный час около сотни солдат Сибирского линейного батальона и прибывшего американского подразделения выстроились в шеренги друг против друга. Почетный караул торжественно внес звездно-полосатый флаг, доставленный прямо из Госдепартамента. На церемонии присутствовало около 60 русских гражданских лиц, стоявших по краям площадки. С кораблей, стоявших на рейде, за сценой также наблюдали американцы. Можно было даже заметить нескольких индейцев, которые со своих каяков созерцали происходящее. Ровно в 16 часов стоявшие на якоре русские и американские суда произвели орудийный салют. Директор «Российско-Американской компании» приказал спустить триколор с двуглавым орлом посередине. Флаг Его Императорского Величества стал медленно скользить вниз по флагштоку, как вдруг застрял, запутавшись в веревках. Какое-то время длилось ожидание, потом стали совещаться, что же делать. Наконец одному из русских матросов было приказано залезть на флагшток, чтобы освободить застрявшее полотнище. Когда дело было сделано, флаг выскользнул из рук матроса, угодив прямо на штыки стоявших внизу солдат, и разодрался. Генерал Руссо объявил, что Ново-Архангельск отныне будет именоваться Ситкой. Россия окончательно распростилась с Америкой.
Четвертая часть
Стальной пояс империи
Где пройдет Транссиб?
У истоков Сибирской железной дороги стоял скромный чиновник по особым поручениям по имени Евгений Васильевич Богданович. В возрасте 37 лет им овладела несколько безумная идея – запустить в Сибирь поезд. В то время Богданович работал в Санкт-Петербурге, в одном из многочисленных департаментов Министерства внутренних дел. На немногих дошедших до нас портретах мы видим сухощавого мужчину с горделивой осанкой, всегда в мундире, при множестве орденов, с пронизывающим взглядом из-под резко очерченных бровей, лысым черепом, подчеркивающим тонкие черты лица, мужественными усами и пышными бакенбардами, модными в то время в консервативных кругах. Его задачей в императорской администрации было предотвращение грозящих России опасностей невоенного характера и организация парадов. Видимо, в наши дни он бы назывался главой гражданской обороны или МЧС. Определенную известность Богданович приобрел, координируя действия по борьбе с пожарами в нескольких крупных городах России. Огонь, неумолимый бич, от века в век свирепствовавший на Руси с ее деревянными городами, оставался одной из самых значительных угроз повседневной жизни и в середине XIX века. Полковник Богданович, в сферу деятельности которого входила как организация на местах профессиональных пожарных бригад, так и зачаточные формы страхования, худо-бедно пытался усовершенствовать вверенный его заботам участок.
Защита населения империи от чрезвычайных ситуаций охватывает далеко не только противопожарную безопасность. Богдановичу приходится и противостоять стихийным бедствиям, и оценивать последствия голода, и даже – любимое его занятие – изобретать средства борьбы с наступлением революционной чумы, охватившей тогда Россию. Полковник сам по себе – некая служба по предотвращению всех на свете бед и угроз. Он не имеет никакого отношения к слежке и наказаниям – они находятся в ведении царской охранки, Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, тайной полиции государя. Его задача – изыскать средства воспрепятствовать эпидемии протеста 1860-х годов. И вот, он начинает интересоваться причинами недовольства, состоянием умов в провинции, самыми глубокими корнями бунтарства, очаги которого вспыхивают то там, то тут, между тем как власть зачастую так и не понимает, в чем причина их возникновения. И не случайно эта миссия поручена именно ему. Евгений Васильевич вырос в семье военных, дорого заплативших за свою верность царю. Его отец, тоже полковник, продвинулся по службе, сражаясь с наполеоновскими войсками. Его дядя, герой Кавказской войны, потерял в боях руку. Два его брата, Орест и Виктор, пали, защищая Севастополь, во время Крымской войны. Третий брат, Лев, также погиб в бою, подавляя мятеж сторонников имама Шамиля в Чечне.1 Наконец, сын полковника Николай, ставший высокопоставленным чиновником, будет убит революционером в начале ХХ века, когда по России прокатится волна террора. Семья Богдановичей прославилась верным служением Богу, царю и Отечеству, а сам Евгений Васильевич, поселившись в Санкт-Петербурге, строго придерживается монархических взглядов, что в дальнейшем приведет его в ряды ультраконсервативной Чёрной Сотни (националистическое монархическое движение крайне правого толка, зародившееся во время революции 1905 года.) Его петербургская квартира, расположенная по адресу Исаакиевская площадь, дом 9, станет тогда местом ежедневных встреч консервативно настроенных чиновников и судей, завсегдатаев завтраков Богдановича, куда можно будет приходить без предупреждения всякому, кто вхож в дом и жаждет пригвоздить к позорному столбу реформаторов, попивая горячий шоколад.
В январе 1866 года сам министр внутренних дел поручает полковнику безотлагательное следствие в Пермской и Вятской губерниях, северо-восточных регионах Европейской России. Дело в том, что уже четыре года не прекращается поток жалоб, свидетельствующих о полном запустении этого края. Особенно свирепым оказался голод 1864 года, унесший жизни тысяч крестьян, едва освободившихся от крепостной зависимости, а также мелкого городского люда. Фабричные управляющие не могут больше выплачивать жалованье рабочим, продовольственные запасы истощены, служащие голодают. Сам губернатор вынужден бить тревогу.2 Богдановичу велят разобраться в сложившемся положении и возвратиться с донесением. Расследование производится быстро, и два месяца спустя полковник телеграфирует министру, излагая первые выводы: «Устранив все трудности, связанные со снабжением продовольствием Пермской и Вятской губерний, и ознакомившись с местными условиями, нахожу, что единственным надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний [центральной России] в Екатеринбург и далее до Тюмени». Следующая формулировка сделала его в дальнейшем одним из отцов-основателей Транссиба: «Такая линия, будучи впоследствии продолженною через Сибирь к китайской границе, получила бы важное стратегическое и международное коммерческое значение. Донесение будет мною представлено сразу по возвращении в Петербург. Подпись: полковник Богданович».3
Поезд как средство предотвращения голода? До самой Сибири? Нетрудно себе представить, сколь изумлен и поражен был министр при чтении такой телеграммы. Разве что ему была известна еще одна страсть его подчиненного, отправляемого по особым поручениям. С самого детства Богдановича постоянно тянуло к технике – черта, возможно, унаследованная по линии матери, происходившей из семьи французских инженеров Альбран, обосновавшихся на присоединенных к России причерноморских землях. Технический и промышленный прогресс завораживает Евгения. Эпоха всячески тому способствует, причем именно благодаря развитию железных дорог, стремительное разрастание которых по всему миру привлекает внимание Евгения с ранней юности. Разумеется, поезд! Такова была первая мысль, пришедшая на ум чиновнику как решение выявленной в ходе поездки проблемы, и, может быть, это вовсе не столь удивительно, как кажется на первый взгляд.
Отчет чиновника по особым поручениям Богдановича был прост: земли инспектируемых губерний лежат слишком далеко к северу, чтобы можно было ожидать регулярных урожаев зерновых, способных прокормить местное население. Не имея возможности ввозить зерно, регион обречен часто испытывать недостаток продовольствия, что может обернуться трагедией, как в 1864 году. В то же время, недавно колонизированные земли Западной Сибири, расположенные по соседству с этими губерниями, за Уралом, производят излишки зерновых, вывезти которые в Европу не всегда возможно. Сибирский тракт, соединяющий Сибирь с Россией, с такими объемами перевозок не справляется. С весны до начала осени он представляет собой трясину длиной в тысячи километров, где повозки увязают по самые ступицы. Когда же груз достигает речных портов Волги и других крупных рек европейской части России, зачастую на дворе уже зима, флот обездвижен льдом и для возобновления перевозок приходится ждать следующего лета. Нередко случается, что тысячи тонн зерна гниют прямо на месте. Построив железную дорогу из Сибири до Волги или до Двины, несущей свои воды к Архангельску, можно было бы обеспечить сибирским товарам – зерну и знаменитому маслу, столь ценимому повсюду вплоть до Западной Европы, – выход на внешний рынок и одновременно организовать снабжение продовольствием находящихся по дороге голодных губерний. Идея, разумеется, представляется сумасбродной, поскольку предполагает строительство железнодорожных путей невиданной дотоле длины через тысячи километров лесов и болот, в районах, где зимой температура опускается до устрашающих отметок, и невозможно предсказать, как такой холод скажется на используемых при прокладке путей материалах. А еще предстоит перевалить через Урал, а главное – пересечь бороздящие страну большие и малые реки, ширина которых ставит перед строителями задачи беспрецедентной сложности. Как России одолеть такое предприятие, если до сих пор ей так и не удалось построить на этом участке дорогу, достойную называться таковой? И кто мог бы взять на себя столь неимоверные расходы? Чистое безумие! Одному высокопоставленному чиновнику Британской империи, который как раз в те годы возвращается из Китая по суше и пересекает Сибирь, даже помыслить трудно, что такое возможно: «Длина железнодорожных путей, призванных обеспечить сообщение столь отдаленных районов, была бы огромна, а зная, как подобные дела делаются в России, затраты, наверное, втрое превзошли бы стоимость подобных работ в любой другой стране, – полагает он. – У России нет капитала, необходимого для такого рода предприятия, а иностранному капиталу найдется применение получше, чем инвестиции в сибирскую железную дорогу».4
Однако, прежде чем отважиться на подобное предложение, страстный любитель железных дорог Евгений Богданович, видимо, заручился кое-какой поддержкой. Его телеграмма, присланная из главного уральского города, Екатеринбурга, заставляет предположить, что там, на месте, у его экстравагантного проекта нашлись серьезные сторонники. Урал в то время переживает расцвет горнодобывающего сектора, в котором сосредоточились интересы могущественных купеческих семей. Одна из самых деятельных и наиболее влиятельных – это семья Демидовых, владевшая рудниками, литейными заводами и фабриками как на Урале, так и в европейской части России, и ставшая к тому времени первой промышленной династией Сибири. Демидовы, как и их местные товарищи и конкуренты, тоже испытывают острую нужду в использовании отечественных путей сообщения. Железная дорога позволила бы им довезти до их новых рудников технологии бурения и добычи, используемые в Великобритании, Бельгии, Франции или Германии, а затем обеспечила бы транспортировку руды к их литейным и сталеплавильным заводам. Кроме того, прокладка путей через необъятные хвойные леса Севера и Сибири означала бы бесперебойное снабжение крепежным лесом, необходимым для строительства галерей в шахтах, а также топливом для паровых механизмов. Полковник Богданович не просто прислушивается к нуждам уральских горнодобытчиков, он становится идеальным посредником, готовым внутри императорской администрации отстаивать проект, отвечающий их интересам. Но даже обретя на Урале объективных союзников своего проекта, царский полковник полон решимости сделать этот мчащийся через весь континент поезд своим личным делом. Впрочем, в конце концов Богданович выйдет далеко за пределы мечтаний своих первых спонсоров.5 Ведь если производители зерна и промышленники радостно подхватили идею дороги, интегрирующей их в сеть российской и международной торговли, то куда более амбициозным замыслом прокладки рельс до самого Китая мы обязаны одному лишь усатому полковнику. «Великий Сибирский путь», как назовут проект русские, стал для Евгения Богдановича смыслом жизни, и остаток дней он посвятил этому гигантскому предприятию.
* * *
Сеть железных дорог в России еще находится в зачаточном состоянии. В 1862 году общая протяженность введенных в эксплуатацию путей составляет всего лишь 2 065 км, в то время как в Германии она насчитывает 11 тысяч, а в США – целых 48 тысяч. Первая железная дорога, однако, – и шестая в мире – была открыта в России в 1837 году: австрийский инженер Франц Гестнер соединил Санкт-Петербург и Царское Село. Этот первый маршрут как нельзя лучше иллюстрирует расстановку приоритетов: если британские строители первой в мире железной дороги Стоктон-Дарлингтон (1825) придумали это революционное средство передвижения для того, чтобы эффективнее эксплуатировать свои угольные шахты, то первая железнодорожная ветка, получившая одобрение царя, была призвана облегчить сообщение между столицей и летней резиденцией императорской семьи.
С тех пор на пути российских поездов возник целый ряд препятствий. Несмотря на все усилия профессоров-мечтателей и инженеров-энтузиастов (в их числе профессор Петербургского университета Николай Щеглов и инженер Павел Мельников, ставший впоследствии министром путей сообщения Российской Империи), долгое время определяющую роль в дебатах на эту тему играло стремление воспрепятствовать развитию нового технического изобретения, а главное – страх перед возможными последствиями для российского общества. Консерваторы опасаются, как бы этот невиданный доселе вид транспорта не поспособствовал «стиранию границ между социальными слоями» и не облегчил бы распространение демократических идей – иными словами, как бы он ни порушил политический и общественный порядок. «Слишком много возможностей для общения»6, – подводит итог дискуссии тогдашний министр финансов Георг Людвиг (Егор Францевич) Канкрин. И только благодаря деятельной заинтересованности царя было принято решение о строительстве первой междугородней железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, завершенной в ноябре 1851 года.
Новый виток вызвала Крымская война и уроки поражения. Русские генералы заметили, сколько времени занимают перевозки по России: подкрепление, вынужденное преодолевать тысячи километров заболоченных дорог, добиралось до линии фронта в Крыму медленнее, чем французские солдаты, доставляемые морем. Вторая железнодорожная линия в России стала результатом этого наблюдения военных: она потянулась в Варшаву, в польские земли, принадлежавшие тогда империи, и способствовала в начале 1860-х годов успешному подавлению польского восстания, так как войска удалось переправить менее чем за двое суток.
Варшава, Санкт-Петербург, Москва и последний участок до Нижнего Новгорода на Волге – вот и все железные дороги, построенные в России к тому моменту, когда Евгений Богданович предлагает свой грандиозный проект пустить поезда в Сибирь до самого Китая. Весьма немного для страны, где состояние дорог настолько катастрофично, что одно это могло бы побудить смело взяться за развитие нового вида транспорта, как в Соединенных Штатах. Истина настолько очевидная, что понемногу она начинает овладевать умами. Поезд – это символ всего нового, современного, и идея полковника Богдановича отвечает духу времени. До него мысль проложить рельсы через степь и добраться до Дальнего Востока уже высказывалась некоторыми дерзкими поборниками прогресса и авантюристами. Вспоминается Коллинз из Калифорнии и его проект соединить Байкал с Амуром, поддержанный губернатором Муравьёвым. Были еще три англичанина, Морриссон, Хорн и Слэй, – основатели компании, которая «должна была бы облегчить сообщение между Европой, Китаем, Индией и Америкой»,7 а в 1858 году торговый советник Софронов из Санкт-Петербурга предложил связать Нижнее Поволжье с рекой Амур. Но в силу отсутствия политической и экономической поддержки ни одна из этих утопий не имела продолжения. Когда же полковник отправляет свою телеграмму, русское правительство как раз пытается преодолеть отставание в сфере железнодорожного транспорта. Истощив все ресурсы в Крымской войне, оно ищет возможности привлечь частный капитал и заинтересовать иностранных инвесторов. Государство гарантирует рентабельность как минимум 5 % компаниям, занимающимся строительством и эксплуатацией новых железных дорог. На покупку сырья и оборудования выделяются солидные субсидии. Уверенные в прибыльности предприятия, мелкие европейские вкладчики кидаются на акции российских железнодорожных компаний. Не отстают и отечественные инвесторы, поговаривают даже, что сам царь становится одним из крупнейших акционеров отрасли. Железнодорожный транспорт переживает настоящий бум, и ежегодно протяженность рельсовых путей в европейской части России вырастает в среднем на 1 500 км.8 Однако финансовые результаты оказываются не на высоте: управление компаниями оставляет желать лучшего, тарифы не унифицированы, а самое главное – государственные гарантии побуждают многих производить чрезмерные капиталовложения, выписывать завышенные счета или же выплачивать астрономическое жалование своим управляющим. Государственная казна, вынужденная их выручать, чтобы выплачивать обещанные дивиденды, ежегодно сталкивается с бюджетным дефицитом. Непомерные долги и падение рубля в конце концов полностью дискредитируют эту волюнтаристскую политику.
Однако проект Богдановича еще держится на гребне волны. И, вернувшись из своей поездки, он настолько захвачен новым предприятием, что решает посвятить себя ему целиком, чему, скорее всего, немало способствует финансовая поддержка его богатых уральских единомышленников. Богданович становится странствующим «миссионером» Транссиба. Город за городом, ярмарка за ярмаркой – он колесит по всей стране, проповедуя о пользе железной пуповины, призванной, по его мнению, соединить европейскую и азиатскую части России. Его подбадривают сибирские купеческие гильдии, в поддержку проекта собираются первые фонды. В 1868 году выходит в свет надписанная полковником брошюра, где собраны все основные аргументы, а в апреле того же года ему удается получить официальный мандат на проведение изысканий от самого государя императора.
Наступает час ожесточенной борьбы. Ведь теперь в рельсовый путь через Сибирь верит не один Богданович. С тех пор как правительство сделало ставку на железнодорожный транспорт, и особенно с тех пор как царь проявил интерес к дороге, которая пойдет далеко на восток, переберется через Уральский хребет, протянется через сибирские степи, желающих этим заняться становилось все больше и больше. Ведь если строить дорогу через Сибирь, необходимо решить, где именно она пройдет. Расположенные по пути города быстро понимают, что он того, какое решение будет принято в Санкт-Петербурге, в значительной мере зависит их будущее. Окажись они на Великом Пути – процветание обеспечено. Останься они в стороне, забытые купцами и путешественниками, – упадок неминуем. Двух Транссибов не будет! Их судьба зависит от этого железнодорожного проекта.
* * *
Посмотрим на карту строительства Транссиба. От двух российских столиц, Санкт-Петербурга и Москвы, до главного на тот момент города Восточной Сибири, Иркутска, дорогу можно проложить по трем направлениям. Первый возможный маршрут мог бы начаться в Санкт-Петербурге, пройти через северные города Вологду, Ярославль, Кострому, Вятку, преодолеть естественную преграду Урала между Пермью и Ирбитом, достичь Тюмени, Тобольска, Томска, Енисейска и наконец привести к Иркутску и озеру Байкал. Второй путь мог бы идти от Москвы, включить в себя уже существующий отрезок до Нижнего Новгорода на Волге, далее практически по прямой проследовать через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Томск и достичь Иркутска. И наконец, третий маршрут, также начавшись в Москве, пошел бы сначала на юго-восток по имеющемуся отрезку до Рязани, пересек бы Волгу в Самаре, а потом по прямой прошел бы через Уфу, Челябинск, Омск, затем Томск и Красноярск и далее до Иркутска.
Традиционных торговых путей, ведущих в Сибирь через Урал, было немного. В зависимости от эпохи, времени года и состояния дорог ямщики избирали тот или иной маршрут. На длинных участках степи могли существовать несколько параллельных трактов, в каких-то местах одна колея пересекала другую и снова упиралась в канавы и рытвины, оставляя путешественника в полном замешательстве относительно выбора пути. Но в целом императорская администрация для своих нужд отдавала предпочтение двум маршрутам сибирского тракта, оснащенным вехами и почтовыми станциями, где можно было поменять лошадей, утолить голод и переночевать. Это пути, по которым перемещались почтовые курьеры, императорские гонцы, путешественники, переселенцы, направляющиеся к новым землям, а также эшелоны каторжан. Первый из них более или менее соответствует описанному выше центральному маршруту: перебираясь через Волгу в Нижнем Новгороде или Казани, он идет через Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск и Енисейск. Это великий торговый путь между Сибирью и европейской частью России, вдоль которого расположены большие города, известные своими ярмарками, такие как Ишим и в особенности Нижний Новгород. Второй из основных маршрутов – это дорога, ведущая из Самары в Омск и далее в Красноярск и Иркутск. Этот путь менее населен, зато пролегает по более плодородным землям, чем северный вариант. Часто этой дорогой пользовались переселенцы из самых бедных и густонаселенных районов Украины и центральной России.
Должна ли будущая железная дорога следовать по маршруту традиционных трактов? Евгений Богданович полагает, что да, и горячо отстаивает центральный вариант Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Очень быстро он начинает именоваться «проект Богдановича», и вокруг него объединяются солидные интересы московских, нижегородских, казанских, екатеринбургских и тюменских купцов. Сибирские региональные власти также поддерживают этот маршрут как более короткий и более привычный.
Альтернатива такому решению – проект, отстаиваемый пермским купцом по фамилии Любимов, который предлагает описанный выше северный маршрут: из столицы империи следует, по его мнению, проложить новые пути до волжских городов – Ярославля и Костромы – и далее до Вятки и Перми. Оттуда Любимов предполагает пустить поезд на Тюмень, которую избирает узловым пунктом и Богданович. Разумеется, Любимов может рассчитывать на поддержку своих земляков, а также на города Верхнего Поволжья. Серьезной опорой служат ему и сибирские производители зерна, которые всячески стремятся добраться до портов и выйти на внешний рынок. Санкт-Петербург мог бы стать первым окном в Европу, а в дальнейшем ответвление до Архангельска сделало бы картину еще радостнее. Их расчеты демонстрируют, что «портовый» вариант, идущий в обход Москвы, снизил бы транспортные расходы настолько, что сибирское зерно, без сомнения, стало бы конкурентоспособным на европейских рынках. Кроме того, такой вариант вывел бы из изоляции обездоленные северные районы, оставшиеся в стороне от первых железнодорожных строек – аргумент из области региональной политики. И наконец – обстоятельство вовсе не маловажное в глазах властей, озабоченных политическим климатом, царящим в 1860-е годы, – Любимов подчеркивает, что гарантированные вне зависимости от времени года поставки зерна в регионы, традиционно находящиеся под угрозой голода, и в столицу Санкт-Петербург существенно снизили бы риск возникновения мятежей и социальных беспорядков, поскольку покончили бы с сезонными перепадами цен, так больно ударяющими по беднейшим слоям населения.
Санкт-Петербург, север и зерно против Москвы, ярмарочных городов и сибирских властей. Железная рука противопоставила друг другу недюжинные политические и экономические силы. Только крупные горнодобытчики временно вышли из игры: их мало занимает транзит в Сибирь. Им нужна дорога, идущая вдоль отрогов Урала, чтобы доставлять руду из месторождений, расположенных в северной и центральной части хребта, к металлургическим заводам Екатеринбурга и Челябинска, находящимся южнее. Власти приходят к выводу, что примирить сообщение с Сибирью и развитие металлургии не представляется возможным. Принимается решение вывести интересы крупных владельцев рудников из проекта Транссиба и построить для них отдельную, более короткую ветку, соответствующую их ожиданиям.
* * *
Поединок между сторонниками «плана Богдановича» и их противниками, отстаивающими «северный вариант», продлится 25 лет. Больше, чем потребуется для строительства самого Транссиба. Слишком высоки ставки, и все это понимают. Между могущественными лобби ведется постоянная жесткая борьба, любые, или почти любые, приемы допустимы. Естественно, купцы из заинтересованных регионов ведут себя особенно агрессивно. Товарищества, гильдии и корпорации привлекают средства, чтобы финансировать отчеты, исследования, а также направленные против конкурентов статьи и памфлеты, которые в изобилии можно теперь найти в железнодорожных архивах. Более сотни брошюр будут выпущены в свет с целью превознести или очернить в глазах общественного мнения тот или иной из конкурирующих проектов.9 Множится число петиций. Так, например, в прошении царю, опубликованном в главной столичной газете, сибирские купцы пишут: «Всемилостивейший Государь, мы одни, твои сибирские чада, удалены от Тебя, не в сердце своем, но расстоянием. От этого испытываем мы величайшую нужду. Богатства нашей земли прозябают ненужные ни Твоему трону, ни нам. Дай нам железную дорогу, приблизь нас к Себе. Вели, чтобы Сибирь вошла составной частью в единое государство». Министерства завалены ходатайствами в пользу того или иного проекта. Жители Нижнего Новгорода, известного самыми большими ярмарками империи, встревожены и годами осаждают Министерство путей сообщения, глава которого, Константин Посьет, уполномочен представить победивший проект правительству. «Ваше Высокопревосходительство! Допустить, чтобы рельсы обошли нижегородскую ярмарку – значит ее уничтожить и изрядно навредить отечественной экономике и государству!»10 – восклицают они.
Защитники северного маршрута постоянно прикидываются бедными родственниками. Север, как заявляют они, населен гуще, чем Поволжье и Урал. А протяженность дорог там многократно меньше! Он отрезан от столиц. Его необъятные леса дадут необходимые для строительства шпалы. К тому же, решение в пользу севера даст возможность избежать переправы через Волгу и Каму, технических трудностей, связанных со строительством гигантских мостов, и неимоверных расходов.
Север? Сторонники Богдановича возражают, что север – это непроходимые болота, поросшие лесом. Дыра без будущего и без всяких шансов оживить экономику. «0 х 0 = 0»11, – злобно заключает втянутый в борьбу столичный хроникер. В своем усердии полковник и его сподвижники доходят до того, что пробуют заручиться поддержкой в рядах конкурентов и публикуют петиции, подписанные сотнями купцов из северных земель, выступающих за южный вариант. «Северяне» в ответ пытаются подорвать репутацию полковника, заявляя, что он подкуплен и действует по указке находящихся на его маршруте городов. Тот возмущается: «Ваше Сиятельство, – пишет он министру путей сообщения, – я никогда не претендовал ни на какую концессию, никогда не высказывался в этом смысле и не имею намерения делать это в будущем. Заклинаю Вас относиться ко мне не как к претенденту на концессию, а как к человеку, хорошо изучившему местные условия Урала и Сибири и знающему, в чем состоят их интересы».12 Внутренними российскими дебатами Богданович не ограничивается – он ищет поддержки за рубежом. Бывший полковник-пожарник теперь почетный гость на Международном конгрессе Парижского географического общества, где ему устраивают овацию. Там Богданович по-французски отстаивает историческую миссию своего проекта: «Цивилизация быстро движется с Запада на Восток, препятствия могут замедлить этот процесс, но не могут его остановить <…> Победа западного прогресса в России уже обеспечена».13 Там он заручается поддержкой француза Фердинанда де Лессепса, дипломата, возглавлявшего только что завершившееся строительство Суэцкого канала. В пору, когда Россия все больше и больше прибегает к использованию частного французского капитала, обретение такого союзника чрезвычайно важно: «Поддержка видного французского географа, чья речь вызвала бурные аплодисменты, не может не вызвать значительного резонанса во всем мире», – пишет Paris-journal.14 Богданович везде и повсюду: на банкете по случаю летней Нижегородской ярмарки 1875 года он выступает с пламенной речью в защиту своего проекта. На вечере в честь шведского мореплавателя Адольфа Эрика Норденшёльда он позирует рядом с героем дня, который, задумав впервые пройти Северо-Восточным морским путем, стал одной из самых влиятельных фигур российского общества.
Среди многих десятков документов, подпитывающих эту битву, самый, пожалуй, необычный – это письмо, написанное генерал-губернатором Западной Сибири генерал-адъютантом Хрущёвым 6 июля 1875 года на имя военного министра. После многолетних проволочек правительство уже готово положить конец распрям, но полемика в самом разгаре. И вот в момент наивысшего напряжения сибирский губернатор, больной и умирающий, решает за несколько дней до смерти написать еще одно, последнее, прошение в форме завещания: «Я снова болен и на сей раз чувствую, что силы мои крайне истощены. (…) Благодаря моему опыту и накопленным знаниям я глубоко убежден, что все будущее Сибири, ее экономическое и гражданское развитие, ее единство со всей остальной страной зависят от решения правительства относительно железнодорожного сообщения Сибири с Россией. (…) Я обращаюсь к вам [господин министр], и прошу вас стать деятельной поддержкой и опорой южному маршруту [вариант, который отстаивает Богданович]. Я умру спокойно, сознавая, что столь радостное и полезное сближение Сибири и Москвы осуществится вскоре во славу нашего обожаемого государя. Настоящее письмо – это мое завещание».15
В мае 1875 года министр путей сообщения адмирал Константин Посьет наконец предлагает правительству свой проект. Как и Богданович, он решительно выступает за великий путь, призванный соединить Сибирь с Россией. «Необходимо дать Сибири шанс встать на путь развития», – убеждает он своих коллег. Это первое официальное одобрение великого транссибирского начинания, и, учитывая все предстоящие материальные и технические препятствия, само собой разумеющимся его не назовешь. Зарубежная пресса, прежде всего британская, то и дело высмеивает обсуждаемые в России проекты новых поездов, называя их смехотворными «мечтаниями, достойными Жюля Верна».16 В России тоже преобладает скептическое отношение. Так вот, Министр говорит что, Транссиб нужен, но на этом совпадение взглядов с полковником заканчивается: к удивлению многих коллег, он высказывается в пользу северного варианта, конкурирующего с планом Богдановича. Предлагаемый маршрут короче на 189 км, обойдется он на миллион дешевле (из 62 млн ориентировочных затрат), будет способствовать столь необходимому Сибири экспорту и позволит развивать бедные северные районы.
Адмирал, занявший пост министра путей сообщения всего год назад, фигура интересная. Морской офицер, ветеран Тихоокеанского флота, он был одним из очевидцев дальневосточной эпопеи Муравьёва-Амурского. Это сделало его одновременно патриотом, дорожащим консервативными ценностями, и убежденным приверженцем сибирского пути развития России. Он подолгу жил в Северной Америке и Японии и вернулся оттуда покоренный техническими новшествами, главное из которых – железные дороги. Будущее, по его мнению, принадлежит инженерам. Что же касается того, кто сможет возглавить подобный проект, тут министр Посьет не видит альтернативы государству. В его перспективе, этот поезд – проект всероссийского масштаба, а потому необходимость его осуществления выходит за рамки узко экономических или финансовых интересов и не может руководствоваться одной лишь либеральной логикой. Иного мнения придерживается министр экономики Александр Абаза, влиятельный представитель клана реформаторов, помещик, ставший одним из первых промышленников империи. Абаза сам концессионер железнодорожной компании и отстаивает либеральную и волюнтаристскую политику, за которую ратуют правительство и царь. Поэтому он категорически не согласен с проектом пути, призванного «развивать» северные регионы. Поезд, как утверждает он, не может быть нацелен на социально-политическую перспективу. Он должен служить имеющимся экономическим интересам, а они касаются прежде всего Москвы и больших ярмарочных городов. Он должен быть рентабелен. А еще он не может отдаляться от векового маршрута, избранного для сибирского тракта. Это чистое безумие!
Между двумя политическими деятелями завязывается захватывающий словесный поединок, присутствующие в зале министры увлеченно следят за его ходом. Схватка затянется на несколько месяцев, везде только о поездах и говорят. Сибирь постоянно на повестке дня. Например, в те же месяцы правительство издает указ о создании первого за Уралом университета, в Томске, – запоздалый ответ на одно из самых настойчивых требований сибирских областников. Модна эта тема и за границей: Жюль Верн только что выпустил в свет роман «Михаил Строгов», которым будет зачитываться не одно поколение, и он стал одним из последних произведений, описывающих Сибирь без железных дорог. Но когда 16 декабря 1875 года на заседании правительства в присутствии царя Александра II принимается окончательное решение, оно падает на голову министра, словно нож гильотины: 20 голосов за проект Богдановича, в том числе голос председателя совета министров, и четыре – за северный вариант, который предложил и отстаивал Константин Посьет. Поражение Посьета окончательно и бесповоротно, вопрос, кажется, закрыт. Транссибирская магистраль начнется в Москве, включит в себя имеющийся отрезок до Нижнего Новгорода, потом перекинется через Урал в направлении Екатеринбурга и Тюмени: его высокопревосходительство министра заранее благодарят, за то, что впредь он благоволит работать в данном направлении. Евгений Богданович ликует, из городов, расположенных на избранном маршруте, ему шлют поздравительные телеграммы, газеты превозносят его до небес. Его производят в генералы. На волне своего триумфа он даже начинает мыслить еще масштабнее: от Транссиба можно сделать ответвление в сторону Ташкента, Средней Азии, а потом, через Гиндукуш – почему нет? – добраться до британской Индии!
* * *
Уже 15 лет не смолкают дискуссии, сравнения, дебаты, ругань. Проект, казавшийся фантастическим и незрелым, когда Евгений Богданович представил его на суд администрации, теперь становится притчей во языцех российской политики. Канадцы тем временем заявляют о строительстве железной дороги, которая, будучи, разумеется, вдвое короче, тоже должна в скором времени достичь Тихого океана. Так что тянуть не следует. Об этом все чаще и все тревожнее твердят сибирские губернаторы, наблюдая, как модернизируется и оснащается Китай под британским руководством. В Поднебесной появился телеграф, регулярное судоходство налажено на крупных китайских реках, вплоть до притоков Амура, все это грозит опасным давлением на русский Дальний Восток, лишенный каких бы то ни было средств быстрого сообщения с остальной частью страны. Наконец, открытие Суэцкого канала, сразу же перешедшего под контроль Великобритании, взрывает геополитику, ускоряя передвижения британского флота. Военные согласны: еще немного, и такой порт, как Владивосток, может быть осажден китайцами или англичанами.
Однако проходят месяцы, потом годы, а строительство все не начинается. Виноваты в этом, разумеется, постоянные интриги и соперничество между разными группировками внутри администрации. Министру путей сообщения не особо пришлось по душе отклонение его проекта. Министерство финансов подозревает, что он вынашивает новые планы, и исхитряется ставить ему палки в колеса. Но сильнее всего любое прогрессивное начинание тормозит экономический и финансовый кризис. В 1875 году, после нескольких лет неурожая, южные регионы России опустошены страшным голодом. Новая война с Турцией истощила государственную казну. В целом десятилетие развития железных дорог завершается крахом многих предприятий и повсеместным взяточничеством. Средства, вырученные от продажи Аляски, давно потрачены, и государство вынуждено ретироваться. Каждый год транссибирский проект откладывается до лучших времен, а города, с нетерпением ожидающие его прихода, просят смириться и потерпеть.
Царящая в этот период атмосфера неуверенности и неудовлетворенности располагает к сомнениям. А будет ли вообще этот поезд, построят ли когда-нибудь в самом деле эту магистраль, обещанную министром Посьетом? И правда ли, что маршрут определен окончательно? В то время как Богданович и его сторонники закусили удила и несколько утратили бдительность, в прессе появляется множество новых идей, некоторые из которых представляются как менее дорогостоящие возможности осуществления предстоящего проекта. Так, один губернатор предлагает отказаться от поезда и пустить через Сибирь трамвай на конной тяге, который «пойдет по непрерывной крытой галерее, имеющей предохранить его от снежных заносов».17 Более серьезное предложение – создать сеть речного сообщения, соединив естественные водные пути каналами, – поступает от нескольких крупных сибирских предпринимателей, уставших ждать. Развитие же сети железных дорог после нескольких лет бурного роста внезапно идет на спад. Впрочем, то в одном месте, то в другом сотню-другую километров рельсовых путей все же прокладывают. Так, между Пермью и Екатеринбургом строится наконец знаменитая «горнозаводская железная дорога», которой так требовали уральские промышленники – она вводится в эксплуатацию с 1878 года. В 1877 году начинает действовать новая линия, ведущая в Оренбург: ввязавшись в битву титанов за влияние в Средней Азии, Россия вынуждена предусмотреть пути переброски войск в направлении южных степей. В 1880 году на этом отрезке, продолжающем Рязанскую дорогу, появляется великолепный мост в Самаре. Требуется снова взглянуть на карту с тем, чтобы учесть последствия появления на русском железнодорожном древе этих молодых побегов. В то время как на участке, утвержденном в 1875 году для Транссиба, так ничего и не сдвинулось с места, Оренбургская железная дорога перекинулась через Волгу и обогнула Уральский хребет. Конечно, она пролегает значительно южнее предусмотренного пути, но не захочет ли кто-нибудь под этим предлогом использовать ее как плацдарм для нового проекта? Заволновался в частности Богданович, заподозрив, что министерство предоставляет концессии с целью создать альтернативу официальному проекту, хотя тот и одобрен государем.18 Неужели возможно, чтобы из ничего внезапно возник новый южный маршрут, а поддержавшие официальный проект волжские и уральские города, выигравшие пятнадцатилетнюю битву, остались ни с чем? Новоиспеченный генерал негодует на страницах газет, а крупные ярмарочные города вторят ему в один голос. Это предательство! Чего тогда стоит слово государя? Или решения правительства? Неужели интересы больших торговых городов будут сознательно принесены в жертву в угоду диким степным кочевникам?
В самом деле, маршрут, утвержденный правительством в 1875 году, связывает несколько крупных городов общим населением в 300 тысяч человек. Новый южный путь охватил бы народу вдвое меньше.19 К тому же по новому маршруту поезду предстояло бы преодолеть большее расстояние, чем по утвержденному. Однако с каждым месяцем линия Самара – Уфа – Челяба (ныне Челябинск) становится все более реальной. В 1880 году, в момент открытия моста через Волгу в Самаре, Богданович и его союзники, лоббирующие уральские города, забили тревогу: присутствовавшие на церемонии официальные лица заявили, что «здесь, по этому мосту, а не через Нижний или Казань, пройдет сибирская железная дорога».20 Еще более скандальным в их глазах был тот факт, что самарские власти имели наглость украсить новехонький мост флагом с эмблемой Сибири! На сей раз сторонники официально утвержденной уральской линии не сомневаются: в администрации железных дорог тайно зреет заговор, имеющий целью свести на нет все их чаяния. В 1884 году факты подтверждают, что они правы: Константин Посьет, все еще занимающий пост министра путей сообщения, несмотря на резкое неодобрение властей 10 лет назад, предлагает пересмотреть решение, принятое в 1875 году, и рассмотреть южный вариант. Кардинальный поворот событий! Негодующему Богдановичу придется все начинать сначала.
В новом проекте амбиций куда больше, чем во всех изначально обсуждавшихся вариантах. Для министра Посьета речь уже не о том, как лучше преодолеть Уральский хребет, – он берет на себя историческую миссию: связать Европу с Дальним Востоком, проложить рельсы дальше на Восток, до Иркутска и потом к Китаю и Владивостоку. «Вся эта огромная линия, от Варшавы [в то время в составе Российской империи] через Москву до Иркутска, составит тот железный или, вернее, стальной пояс, который, крепко связав обе половины Государства, даст великану, именующемуся «Рoссия», новую силу – промышленную, торговую и политическую»,21 – с пафосом произнесет Константин Посьет. Выбирая южный маршрут и огибая таким образом большую часть Уральской гряды, он хотел воспользоваться уже построенными путями и в частности мостом через Волгу, обошедшимся ему одному в 5 млн рублей. Может, этот путь и длиннее, но строить остается меньше. К тому же отпадает необходимость возводить четыре больших моста через широкие водные преграды – Вятку, Оку, Волгу и Каму, как это было предусмотрено предыдущим официальным проектом.
Как нетрудно догадаться, реакция не заставила себя ждать. Новый транссибирский проект встречает шквал возмущенных протестов, бьющий на все возможные эмоции. Снова бюрократы диктуют свои законы, «это корень зла, железнодорожная сеть у нас находится в исключительном ведении чиновников», – негодуют защитники Казани. «Как возможен такой переворот? Чего же тогда стоит слово государя?» – дивятся дума и биржа татарского города. «Единственное, что нам остается, это надеяться на силу царского слова (…) Россия всегда жила верой в царское слово, считая его бесповоротным и неизменным, и помня, что оно печется единственно о благе и счастии народном. А слово это было уже дважды дано с высоты Трона!».22
Самая ожесточенная битва завязалась вокруг экономической стороны вопроса. Уральские города кричат о миллионах, уже потраченных в ожидании дороги, и капиталах, которые будут брошены на ветер, если дело дойдет до реализации бредовых измышлений министерства путей сообщения. Ведь что оно в действительности предлагает? «Разве это линия? Магистраль? Да это же какая-то фикция?»23 – иронизируют в прессе друзья Богдановича. Что, за десять лет промышленность Уфимской губернии чудесным образом разовьется настолько, что сможет соперничать с уральскими городами? Что может дать Сибири несчастный Челябинск, торчащий посреди своих черноземов, «это же не Казань, чьи фабрики перерабатывают сибирское сырье, и чья великая Альма Матер тянет руку будущему Сибирскому университету, это не Нижний, чья ярмарка широко открыта сибирской продукции, это не Москва с ее промышленными районами, это не наш русский Манчестер!»24 – надменно возмущаются противники нового проекта. И добавляют: «нам говорят, что если выбрать маршрут через Самару и Челябинск, дорога пройдет по местам, в которые нужно искусственно вдохнуть жизнь, но для этого придется убить жизнь (sic) там, где она уже есть, где она развивалась на протяжении долгого времени25 (…), ведь каждому известно, что не железная дорога создает промышленность, а наоборот»26.
Пытаясь как-то объяснить крутой поворот, совершенный министерством, защитники ярмарочных городов Поволжья и Урала подозревают подспудное влияние могущественных сил и вроде бы даже знают, где их искать. У производителей зерна с южно-сибирских равнин руки не настолько длины, чтобы навязать свою точку зрения, а вот владельцы рудников, которым однажды уже удалось добиться строительства короткой линии, соединившей основные пункты к северу от Уральского хребта, вполне могли снова поднять голову, желая распространить успех и на юг. Башкирские промышленники с центром в Уфе также попали под подозрение. По проекту, железная дорога должна пройти через Златоуст, где расположен один из крупнейших пушечных заводов страны, находящийся в собственности государства, – наверное, не обошлось и без поддержки военных. Наконец, есть еще интересы волжских судоходных компаний, курсирующих между Нижним и Казанью, которые опасаются, что лишатся клиентов, если вдоль течения реки будет построена железная дорога. Они тоже вполне способны пренебречь интересами своего региона и сработать на руку сельскохозяйственному Югу, влияние которого в высших сферах иначе представляется необъяснимым. Бедные «полудевственные» регионы, интересами их молочного производства так долго пренебрегали, им дела нет до уральских активистов, но ответом на «жалобное мычание добрейшей молочной скотины, которую негде подоить»,27 непременно должно стать строительство трансконтинентальной железной дороги!
Сопротивляются не только Нижний, Казань и Екатеринбург. Сибирские регионалисты, областники, также пытаются воспрепятствовать проекту. Ядринцев, Потанин и вся их группа «сибирских патриотов» мечтают оградить культуру своего региона от всякого развращающего влияния старой России. Они борются с экономической эксплуатацией, главное проявление которой – это вывоз сырья и его переработка за пределами региональных границ. Они стараются, сколько возможно, держаться – чтоб не сказать, укрыться – подальше от императорской власти. Транссиб означает крах всех этих чаяний! Они решительно выступают против проекта, не делая различия между вариантами, ожесточенно обсуждаемыми среди политической элиты страны. «Если будет построена железная дорога, старая добрая Сибирь навсегда исчезнет, и произойдет это очень быстро, – пишут критики-регионалисты. – Образуется новая Сибирь, которая соберет воедино ослабленные и рассеянные элементы. Колонизаторы и ссыльные, любители легкой наживы, сомнительные личности, проходимцы – такого рода типы обретут новые виды деятельности, как только на вокзал прибудет первый поезд. (…) Они наложат руку на торговлю и промышленность. Самые здоровые черты сибирской жизни будут уничтожены рельсовой лихорадкой, овладевшей предпринимателями и прочими дельцами».28 Уже сильно ослабленное арестами и ссылками, сибирское областничество оказывается на краю гибели, приближающейся в виде локомотива – символа эксплуатации и одновременно «деморализации»29 идеализированной и любимой Сибири. Они не ошибаются, Транссиб вместе с последовавшей за ним когортой русских и украинских колонистов окончательно сломят сопротивление поборников независимости Сибири и без малейшего насилия добьются того, что полицейским репрессиям удавалось лишь отчасти.
Снова разражается война слов, проектов и петиций, которая свирепствует несколько месяцев. Скоро будет 20 лет с тех пор, как полковник Богданович давал свои рекомендации по строительству новой железной дороги, но ни одного отрезка еще не проложено. Только на сей раз группировка, чьи интересы представляет и отстаивает бывший чиновник, произведенный в генералы, не имеет шансов на успех. Евгений Богданович впадает в немилость у царя, ходят слухи, что он чересчур страстно и горячо ратует за стратегический альянс с Францией. Дружба с Лессепсом и другими французскими инженерами-железнодорожниками не всем при дворе по душе. Альянс с Францией между тем осуществится и станет официальной политикой Империи вплоть до Первой мировой войны и революции. А старому генералу Богдановичу, чьи взгляды становятся все более и более консервативными, придется много лет добиваться снятия опалы.
В январе 1885 года правительство прислушивается к аргументам министра Посьета и делает южный вариант новым приоритетным проектом. Но, поскольку ничего по-прежнему не предпринимается, царь на следующий год выносит на рассмотрение своего правительства ежегодный отчет одного сибирского губернатора, где тот в очередной раз жалуется на нерасторопность администрации и выражает сильнейшие опасения относительно последствий военной реформы, предпринятой Китаем. Сам отчет определяющей роли в дискуссии не играет. Но экземпляр, представленный на заседании в декабре 1886 года, содержит собственноручную приписку Александра III, которую председателю Совета приходится зачитать вслух: «Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора».30
* * *
Стоило императору шевельнуть пальцем – и великое предприятие завертелось. Маршрут утвержден окончательно – тот самый, что был предложен терпеливым и хитрым министром Посьетом: Транссибирская магистраль пойдет от Москвы, спустится к югу в направлении Рязани и Самары, где пересечет Волгу, потом обогнет Уральский хребет через Уфу и Челябинск и потянется в Омск, Томск, Красноярск и Иркутск. Оттуда пути пойдут за Байкал вдоль течения Амура, достигнут Хабаровска и наконец – Владивостока. Около 10 000 км, и три четверти из них предстоит прокладывать через неосвоенные земли! Министр разграничивает участки, где работы предполагается вести одновременно. Изыскательские экспедиции углубляются в леса и болота, чтобы наметить оптимальную трассу. Идет подготовка к величайшей стройке мира. Лондонская Times, которая, как и большая часть британских газет, всегда относилась к этому проекту как к безумной затее, публикует такую заметку: «Российское железнодорожное ведомство недавно приняло чрезвычайно важное решение относительно плана, долго считавшегося безрассудным и в настоящее время неосуществимым. Строительство длиннейшей железной дороги через Сибирь, до самого Тихого океана, должно наконец начаться (…)».31
До начала строительных работ потребуется еще пять лет. Пять лет постоянной закулисной войны министерства финансов против проекта, который оно считает неразумным, несоразмерным и обреченным остаться нерентабельным. В 1888 году министр путей сообщения Посьет, обессилев от затяжной битвы, сложил оружие и подал в отставку, уступив кресло неизвестному чиновнику из разорившейся одесской семьи, имеющему дальние нидерландские корни. Имя нового министра навсегда будет связано со строительством Транссибирской магистрали. Однако последний толчок великому предприятию снова предстоит дать царю Александру III. В марте 1891 года императорским указом он поручает сыну своему Николаю, наследнику престола и будущему Николаю II, путешествовавшему в то время по Дальнему Востоку, лично присутствовать при закладке железной дороги по возвращении в Сибирь. Желая подчеркнуть историческую важность события, царь присовокупил к указу торжественное письмо сыну, которое было тотчас опубликовано канцелярией: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной, через всю Сибирь, железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою по вступлении вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. (…) Призывая благословение Господне на долгое путешествие, предстоящее вам по России, остаюсь любящим Вас отцом. Подпись: Александр».32

А как же Богданович? Что сталось с упрямым первопроходцем? Вернув себе наконец высочайшую милость, шестидесятидвухлетний отставной генерал еще полон энергии и продолжает ездить повсюду с лекциями. Он интересуется французским проектом строительства дороги через Сахару, работает над усилением религиозной работы в армии и доживет до того, как через всю страну по Транссибирской магистрали потянутся первые составы. Только маршрут у поезда будет не тот, за который он так ожесточенно бился. Но в конце концов его любимая ветка станет одним из вариантов Великого Сибирского рельсового пути. Вскоре после Екатеринбурга нынешние путешественники проезжают небольшую станцию под названием Богданович, где транссибирский экспресс не останавливается. Это дань уральских городов доблестному ветерану. В благодарность за все сделанное для них и невзирая на поражение.
Сергей Витте: железная дорога для модернизации империи
17 октября 1888 года, вскоре после полудня, императорский поезд на полном ходу шел через небольшую станцию Борки в 38 км южнее Харькова, где предполагалось сделать остановку. Царский состав из 15 вагонов тянули два мощных локомотива, из тех, что обычно предназначались для товарных поездов. Александр III торопился. Три предшествующих месяца он провел в разъездах: предводительствовал на пышных охотничьих забавах в Польше, посетил область Войска Донского, а затем Украину, где присутствовал на крупномасштабных военных учениях, побывал на Кавказе, чтобы приветствовать своих солдат, вышедших победителями из занявшей несколько десятилетий войны с горцами, и, наконец, прибыл в Крым, где августейшая семья собралась в полном составе, наслаждаясь минутами отдыха. А теперь государь стремился поскорее вернуться в столицу, но поезд уже на полтора часа отстал от утвержденного расписания, и царские адъютанты распорядились прибавить скорость, чтобы наверстать упущенное время. Вместе с императрицей, несколькими детьми и примерно двадцатью придворными Александр разместился в вагоне-ресторане, чтобы приступить к «бранчу», своей первой дневной трапезе. Вдруг пассажиры ощутили сильный толчок, за ним – второй, «после которого мы все оказались на полу, и все вокруг нас зашаталось и стало падать и рушиться», – напишет в одном из своих писем императрица Мария Федоровна. «Все падало и трещало, как в Судный день. В последнюю секунду я видела еще Сашу [царя], который находился напротив меня за узким столом и который потом рухнул вниз. В этот момент я инстинктивно закрыла глаза. <…> Все грохотало и скрежетало, и потом вдруг воцарилась такая мертвая тишина, как будто в живых никого не осталось. <…> Это был самый ужасный момент в моей жизни, когда я поняла, что жива, но что около меня нет никого из моих близких».33
Один из локомотивов сошел с рельсов, потащив под откос весь состав. Цесаревич Николай, наследник престола, оказавшийся вместе со своими близкими в вагоне-ресторане, также поведал об охватившем его ужасе в одном из писем своему дяде, Великому князю Сергею Александровичу: «В жизнь свою не забуду я того ужасающего треска, раздавшегося от всех ломавшихся вещей, стекол, стульев, звона тарелок, стаканов и т. п. Я невольно закрыл глаза и, лежа, ожидал все время удара по голове, который сразу покончил бы со мной; до того был я уверен, что настал последний час, и что наверное многие из нас уже убиты если и не все. После третьего толчка все остановилось. Я лежал очень удобно на чем-то мягком и на правом боку. Когда я почувствовал сверху холодный воздух, то открыл глаза, и мне показалось, что лежу в темном и низком подземелье <…> Когда я еще вылезал, я с леденеющим ужасом подумал о дорогих Papa и Mama и никогда не забуду ту божественную радость, когда увидел их стоящими на крыше бывшей столовой в нескольких шагах от меня».34
Перед глазами первых свидетелей происшествия, прибежавших со станции, предстала жуткая картина. «Все основание с колесами выбросило, стенки сплюснулись и только крыша, свернувшись на одну сторону, прикрыла находившихся в вагоне. Невозможно было представить, чтобы кто-либо мог уцелеть при таком разрушении. Но Господь Бог сохранил Царя и Его Семью: из обломков вагона вышли невредимыми Их Величества и Их августейшие Дети»,35 – сообщил корреспондент одной из столичных газет.
У станции Борки царил неописуемый хаос. «Душераздирающе было слышать крики и стоны и не быть в состоянии помочь этим несчастным или просто укрыть их от холода, так как у нас самих ничего не осталось»,36 – вспоминала императрица. Из-под обломков поезда были извлечены тела 23 погибших и еще 37 человек обнаружены ранеными. Члены же императорской семьи отделались лишь царапинами, порезами на руках у царицы, синяками на ляжках Его Величества и несколькими вмятинами в области мышц. По преданию, царь Александр подпирал плечами и руками рухнувшую крышу вагона, что спасло жизнь пассажирам[98]. Случившееся было знаком судьбы, «чудом в Борках», как назвали его в официальном сообщении: благополучный исход железнодорожной катастрофы для царя и его семейства служил наглядным проявлением Божественного покровительства, что представляло важность в медийном и символическом плане для царствования Александра III, которое началось с убийства его отца.
Поначалу, конечно же, опасались, что случившееся – дело рук террористов. Действительно, отцу Александра III уже довелось стать объектом покушения на железной дороге – первого в истории теракта подобного рода – в ноябре 1879 года. Однако официальное расследование, проведенное по горячим следам, установило, что причины крушения были чисто техническими: поезд мчался со скоростью 72 км/ч на участке пути, допускавшем не более 40 км/ч, а железнодорожное полотно имело дефекты и опасно колебалось. Наконец, состав был сформирован в нарушение правил техники безопасности, поскольку легкий вагон министра путей сообщения поместили между двумя тяжелыми локомотивами. Слишком длинный, слишком тяжелый, слишком быстрый – таково было заключение экспертов, собравшихся на месте происшествия и выдвинувших обвинение в преступной небрежности. Подготовленный ими доклад положил конец карьере упомянутого министра путей сообщения, а им был не кто иной, как адмирал Посьет, «крестный отец» Транссиба, вынужденный подать в отставку через две недели после катастрофы.
В результате этого непредвиденного поворота событий на сцене появился человек, у которого, не случись катастрофы в Борках, не было бы ни малейшего шанса сделаться творцом крупнейшей стройки века. Звали его Сергей Витте: фамилия отдаленно указывает на голландские корни. Примерно столетием ранее один его предок, работавший лесничим, приехал попытать счастья в Прибалтике. На момент катастрофы в Борках Витте был лишь обычным управляющим Общества Юго-Западных железных дорог, частной железнодорожной компании, каких в России насчитывалось тогда несколько десятков. Компания эта владела сетью железных дорог, соединявших столицу с Варшавой, Киевом и черноморским побережьем. Свой пост Сергей Витте занял всего за несколько месяцев до происшествия, однако он уже имел случай познакомиться с самим царем при странных обстоятельствах.
Летом того же года, в самом начале своего длительного странствия, императорский поезд двинулся по железным дорогам, управляющим которыми был Витте. В этом качестве он лично сопровождал состав в течение целой ночи. Уже тогда Витте отметил, что передвижение государя совершается в нарушение элементарнейших правил безопасности. Поезд был тяжелее товарного состава, однако двигался он быстрее пассажирского экспресса. От ужаса управляющий не мог найти себе места. «Ехал я все время в лихорадке, ожидая, что в каждый момент может случиться несчастье»,37 – напишет он в своих «Воспоминаниях». Витте хорошо знал, о чем говорит, ведь ему пришлось дорого заплатить за понимание железнодорожных рисков: несколькими годами ранее, в бытность еще молодым служащим железнодорожной компании, он был признан одним из виновников страшной катастрофы, стоившей жизни многим десяткам солдат, и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения[99]. На следующий же день, сойдя с императорского поезда, он подал срочный рапорт, в котором потребовал снизить скорость перемещения государя, что и было сделано. Далее он рассказывает: «Когда я входил на станцию, то заметил, что все на меня косятся: министр путей сообщения косится и гр. Воронцов-Дашков, ехавший в этом поезде, который был так близок с моими родными и знал меня с детства, он также делает вид, что как будто бы меня совсем не знает. Наконец, подходит ко мне генерал-адъютант Черевин и говорит: «Государь Император приказал Вам передать, что Он очень недоволен ездою по Юго-Западным железной дороге». Не успел сказать мне это Черевин, как вышел сам Император, который слышал, как мне Черевин это передает. Тогда я старался объяснить Черевину то, что уже объяснял министру путей сообщения. В это время Государь обращается ко мне и говорит: «Да что Вы говорите. Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость, а на Вашей дороге нельзя ехать, просто потому что Ваша дорога жидовская».38 По признанию Витте, он не осмелился перечить. Однако, когда в беседу вступил министр путей сообщения, продолжая в том же духе и пеняя управляющему на плачевное состояние вверенных ему дорог, что не позволяло Его Величеству проезжать по своим землям на привычной скорости, Витте не выдержал: «Знаете, Ваше Высокопревосходительство, пускай делают другие, как хотят, а я Государю голову ломать не хочу, потому что кончится это тем, что Вы таким образом Государю голову сломаете».39
Катастрофа в Борках произошла два месяца спустя. Дерзость Витте, оставшаяся в памяти государя, привела к его неожиданному назначению. «А кто тот железнодорожный управляющий, кого моя безопасность заботила больше мнения придворных?» – спросил царь. Четыре месяца спустя Витте был назначен в Санкт-Петербург главой нового департамента железнодорожных дел, созданного в составе могущественного Министерства финансов. Пройдет три года, и он станет министром путей сообщения. На своем новом посту он приложит все усилия, чтобы грандиозная трансконтинентальная железнодорожная магистраль была проложена. Отныне человеком Транссиба будет он.
У Сергея Витте не было ничего от аристократа или сановника. Между тем столь быстрое восхождение к его новой, высокой должности было чем-то необычным в царствование Александра III. Он являл собой образец человека, обязанного исключительно самому себе, трудолюбивого, даже сверх меры, без всякого лоска и намека на светскость. Когда, будучи 42 лет отроду, он получил должность директора департамента железнодорожных дел в министерстве финансов, современники смотрели на него как на выскочку-провинциала. Если верить сохранившимся свидетельствам, он ходил в неизменном черном костюме с широкими лацканами; грузное тело на довольно коротких ногах придавало ему неуклюжий вид. «На первых порах поражала прежде всего внешность Витте: высокая статура, грузная поступь, развалистая посадка, неуклюжесть, сипловатый голос, неправильное произношение с южнорусскими особенностями, – рассказывал один из сослуживцев Витте. – Но мало-помалу к нему стали привыкать, многие даже восхищались обаятельностью его ума, другие eщe резче проявляли свою нетерпимость к этому “авантюристу”».40
Директор нового департамента, совершивший карьерный взлет в столице, был выходцем с юга России, о чем и вправду свидетельствовал его выговор. Семья его обосновалась в Тифлисе[100], столице Кавказа, покорением которого занимались тогда войска Российской империи. Дед и отец зарекомендовали себя в качестве верных слуг колониальной администрации. Детство Сергея прошло среди брусчатых улиц старого города, под деревянными балконами аристократических особняков и во дворах армянских купцов. Мужчины семейства служили военными. Дядя, Ростислав Фадеев, убежденный монархист и панславист, был одним из офицеров, лично участвовавших в пленении мятежного имама Шамиля. В своих «Воспоминаниях» Витте также отводит решающую роль в своем воспитании бабушке, Елене Фадеевой, принадлежавшей к одной из угасшей ветвей высшей российской аристократии: женщина незаурядного ума, свободно владевшая пятью языками, она страстно любила историю, археологию и в особенности естественные науки, для отражения достижений которых сама организовала частный музей.
Бабушка Елена держала салон, где велись беседы о литературе и истории. Сергей вместе со своими пятью братьями и сестрами, а также кузенами мог видеть собиравшуюся там интеллектуальную элиту региона и высших армейских чинов. Витте, озабоченный тем, что его фамилия звучит слишком иностранно, а предки его были протестантами, всю жизнь неизменно подчеркивал свое происхождение от чисто русской по духу семьи матери и свою приверженность православию, в которое перешел его отец.
Однако после смерти отца, скончавшегося, не достигнув 50 лет, его мать, обремененная долгами, была вынуждена покинуть Тифлис и перебраться в Одессу, новый порт, основанный Россией на Черном море, куда стекались искатели удачи со всей Европы. Сергею Витте пришлось вкусить там тяготы жизни обедневшей семьи, изо всех сил стремившейся вернуть свой прежний высокий социальный статус – черта характера, которая отныне неизменно будет отличать его. Он окончил второразрядную гимназию и поступил в Новороссийский университет, открытый в Одессе всего лишь за год до того. Хотя космополитичный город славился своим бунтарским духом (впоследствии Витте доведется слышать упреки в своем происхождении из «красной Одессы»), молодой человек, усвоивший политические взгляды своего семейства, держался особняком, не питая каких бы то ни было симпатий к революционным студенческим течениям, задававшим тон в университете. Как подчеркивается в «Воспоминаниях», в тот период он делил свое время между театральными кабаре («я знал всех более или менее выдающихся актрис, которые были в Одессе»,41 – пишет он) и математикой, которую избрал предметом изучения. Свою диссертацию он посвятил «науке чисел применительно к пространственной протяженности»: название весьма знаменательное, если учесть, что в дальнейшем одесский студент посвятит карьеру железным дорогам и освоению Сибири. Впрочем, диссертация так и осталась незаконченной. Влюбившись без памяти в молодую актрису Соколову, он «не желал больше писать диссертации»,42 – по его собственному признанию в автобиографии. Благодаря семейным связям Витте получил свое первое место в железнодорожной отрасли, полюбившееся ему тем, что он смог там полностью предаться своей страсти к математике. Ему был 21 год, и на два десятилетия железные дороги захватили его.
В рассматриваемую эпоху железные дороги покрыли всю европейскую территорию России. Это был настоящий бум. После первых робких шагов 1840–1850-х годов, когда государство долго взвешивало все плюсы и минусы этого неведомого вида транспорта, правительство попыталось, по своему обыкновению, стимулировать и поставить под контроль развитие новой отрасли. Однако после поражения в Крымской войне, оскудения казны и вступления на трон царя-реформатора Александра II в 1855 году возобладала либеральная тенденция, предполагавшая невмешательство государства в экономику, что открывало широкий простор для частной инициативы. Непаханное поле железнодорожной сферы представлялось идеальным местом для экспериментирования с предполагаемыми благами либерализма. В считанные годы в России возникли десятки синдикатов инвесторов, в дальнейшем преобразованные в акционерные общества. Их акционерами являлись зачастую промышленники, крупные купцы, инженеры, коммерческие банки, однако в игру включился также ряд высокородных аристократических семейств, и даже императорская семья не осталась в стороне. Государство находилось при этом в привилегированном положении, предоставляя концессии тем, кто делал наиболее выгодные предложения.
В принципе правила игры были рыночными. Компания, получавшая концессию на нужную ей часть территории, должна была гарантировать строительство железнодорожной сети по предварительно установленной цене. За это она получала право эксплуатировать соответствующие линии и сохранять прибыли от них в течение 25 лет, после чего государство могло воспользоваться своим правом на отчуждение. Чаще всего специальный пункт предусматривал право государства на досрочный выкуп собственности по истечении 20 лет, что Витте возвел в правило, сделавшись министром путей сообщения. Описанная система ничем принципиально не отличалась от практики, принятой в других странах Европы. Однако для преодоления недоверия потенциальных инвесторов и в особенности для привлечения иностранного капитала правительство предоставило акционерам гарантию стабильности дивидендов в размере от 4 до 5 %. Если акционерному обществу не удавалось достичь этого уровня рентабельности своими силами, государство вмешивалось, автоматически выделяя железнодорожной компании соответствующий кредит. Российские железные дороги были лотереей, участники которой могли остаться лишь в выигрыше. В свете этого не удивляет активный приток французских, бельгийских и особенно немецких капиталов, отмеченный в 1860-е годы.
Однако реальное положение дел было не столь радужным. Чтобы выиграть аукцион и получить концессию, общества инвесторов занижали предполагаемую стоимость строительства. По окончании работ железнодорожная компания была обременена долгами; эксплуатация новой линии, чаще всего убыточной, лишь усугубляла положение, что вынуждало казну выплачивать обещанные дивиденды десяткам недавно созданных железнодорожных обществ. В результате русские или иностранные акционеры ежегодно получали лакомые дивиденды, тогда как долг частных железных дорог возрастал ошеломляющими темпами. В 1880 году он достиг одного миллиарда шестисот рублей, причем государство обеспечивало 85 % от этой суммы. В названном году лишь пять из 37 российских железнодорожных компаний были рентабельными.
Выхода из подобного положения не предвиделось. Удобно устроившись с хроническим дефицитом, последствия которого брало на себя государство, железнодорожные компании Российской империи не особенно торопились покончить с ним. Каждая из них устанавливала свои собственные тарифы, которые нередко существенно разнились в зависимости от ветки, типа перевозимых грузов, дальности расстояний и качества управления транспортной компании. Содержание дорог оставляло желать лучшего, катастрофы участились, а оклады членов дирекций и адинистративных советов превосходили все мыслимые пределы. Дикий железнодорожный капитализм, от которого элита и правительство ожидали столь многого, обернулся фиаско, угрожавшим финансовому благополучию Российской империи.
Именно по этой причине царь и поручил министерству финансов образовать новый департамент железнодорожных дел, первым директором которого был назначен Сергей Витте. От него ожидали, что он вернет контроль над убыточным сектором, превратившимся в главную угрозу для финансов государства, курса рубля и экономики в целом. Оказавшись в подчинении у министра финансов Ивана Вышнеградского, в прошлом также железнодорожного деятеля, с которым он ранее сталкивался по работе, Витте должен был в первую очередь постараться реформировать и оздоровить железнодорожную отрасль, опираясь на свой многолетний опыт талантливого управленца и специалиста в данной области. Новый департамент был образован в составе министерства финансов, что явилось победой последнего. Как мы видели, в процессе рождения проекта Транссиба между министерством путей сообщения и министерством финансов завязалась ожесточенная борьба, продолжавшаяся многие годы. Если первое стремилось прокладывать железные дороги и расширять свою сферу, то второе только и делало, что тормозило, лишь бы предотвратить развал государственных финансов. Добившись создания нового подразделения и заполучив к себе на службу его директора, замеченного царем в связи с катастрофой в Борках, Вышнеградский, руководитель финансов, известный своей жесткой финасовой политикой и мерами строгой экономии, мог торжествовать победу над министром путей сообщения. Витте был его протеже, а значит, железные дороги наконец-то оказались у него в подчинении.
Своей известностью новый финансовый ответственный за железнодорожный транспорт был обязан не только позиции, занятой им до катастрофы в Борках. Витте был также признанным, авторитетным экспертом в железнодорожной отрасли, ведь несколькими годами ранее он разработал единую шкалу транспортных тарифов для всей России, добившись ее повсеместного внедрения. Прежде каждая компания произвольно устанавливала собственные тарифы при пользовании своей сетью, что делало любой транзит неоправданно дорогим. В зависимости от товаров, сезона или компаний стоимость перевозок могла увеличиваться в четырехкратном размере, что осложняло жизнь экспортеров зерна и приводило к скачкам цен на рынках в крупных городах, а это негативно сказывалось на положении наименее обеспеченных слоев населения. Благодаря тарифной шкале, рассчитанной Витте, математиком по образованию, Российская империя решила одну из проблем своей новой железнодорожной отрасли. Начальство Витте явно рассчитывало, что присущая ему пунктуальность позволит залатать дыры в государственных финансах, образовавшиеся вследствие просчетов в транспортной области. В частности, оно было убеждено в том, что безрассудный проект прокладки Транссибирской магистрали, подобно морской змее, протянувшейся через всю Евразию до самого Тихого океана и Китая, можно будет положить под сукно. Однако Сергей Витте очень скоро развеял эти иллюзии.
Пока Витте не попал в узкий круг лиц, определявших политику в транспортной области, железнодорожный транспорт рассматривался в качестве инструмента внешней политики и обороны. Вкратце русская железнодорожная доктрина сводилась к тому, чтобы в первую очередь гарантировать поставки зерна в крупные города и порты и обеспечить быстрое перемещение войск в случае беспорядков на границах либо внутри империи. Согласно этому сценарию, государство ограничивалось лишь тем, что поощряло строительство дорог частными компаниями и следило за их состоянием. Подход Сергея Витте был принципиально иным. Он жестоко высмеивал некомпетентность лиц, ответственных за эту отрасль. Посьет, министр путей сообщения, был «очень честный, прямой, прямолинейный человек, но очень ограниченный», – пишет он в своих «Воспоминаниях». И продолжает: «когда он [Посьет] приезжал, то на Юго-Зап. жел. дор. делалось распоряжение, чтобы были очищены и приведены в полный порядок особые места, которые существуют на станциях с надписью: «для мужчин» и «для женщин». Это было единственным приготовлением, которое делалось для его встречи, потому что у Посьета была следующая слабость: когда он приезжал на станцию, то прежде всего ходил осматривать эти места, в порядке ли они, чисты ли».43 По мнению Витте, значение железной дороги далеко не ограничивалось чисто транспортными функциями. Железнодорожный транспорт выступал инструментом модернизации Российской империи: он был призван не только обслуживать нарождавшуюся промышленность, но и способствовать индустриализации страны, открытию новых залежей полезных ископаемых, их разработке и переработке, а затем экспорту. Именно потому, что железнодорожный транспорт задавал вектор модернизации, только он мог сохранить статус России как великой державы. «Россия, – уточняет он в секретной докладной записке царю Николаю II, – с ее огромным разноплеменным населением, с ее сложными историческими задачами в международной политике, с ее разнообразными внутренними интересами, может быть более, чем какое-либо другое государство, нуждается в том, чтобы национальное политическое и культурное здание имело под собой надлежащую экономическую почву, чтобы империя Вашего Величества была великой не только политической и земледельческой, но и промышленной державой».44 Витте предостерегал, что, если этого не произойдет, Россия неизбежно будет низведена до уровня колонии других европейских держав.
В глазах Витте значение и необходимость развития железнодорожного транспорта были столь велики, что не могло быть и речи о том, чтобы отдать такую важную стратегическую задачу на откуп одним лишь частникам. Бывший управляющий железнодорожной компании очень быстро превратился в ярого, принципиального критика безудержного либерализма, который был тогда в большой моде. По его мнению, политика, основанная на законе джунглей, дорого обошлась стране. Она поставила Россию на край финансовой пропасти; присущие ей хаос и беспорядочность лишили государство подлинной индустриальной политики, в которой оно столь нуждалось. Железнодорожная отрасль являлась общенациональным проектом, требующим надлежащего подхода.
Заняв свой пост в Петербурге, Сергей Витте обратил внимание на германский опыт, который произвел на него сильное впечатление. Канцлер Бисмарк, проводивший Real politik (реальная политика – нем.), дистанцировался от либерализма, господствовавшего, к примеру, в Великобритании. Авторитарное германское государство, отмеченное немалой печатью бюрократизма, само направляло экономическое и индустриальное развитие страны. Германия от этого лишь выиграла, являя в глазах Витте более легкий и привлекательный пример для подражания. Политика Бисмарка представлялась Витте также практическим осуществлением экономической теории Фридриха Листа, автора знаменитого труда «Национальная система политэкономии» (1841), критика Адама Смита: будучи большим либералом, он тем не менее выступал убежденным сторонником протекционистской фазы, необходимой для строительства экономики. Лист, также настаивавший на необходимости развития железных дорог, выступал за «воспитательный протекционизм», который позволял нарождающейся экономике занять свое место среди более мощных держав, открывая перед ней особый путь развития с учетом национальной истории и культуры и оберегая ее от мнимо-космополитичного духа, который на поверку оборачивался чистым меркантилизмом, что он ставил в упрек Адаму Смиту. Витте проявлял живой интерес к сочинению Листа и спорам вокруг него. Он прочел «Капитал» Маркса, многие положения которого показались ему даже заманчивыми, по его собственному признанию. Однако как истый либерал и консерватор он отвергал идею всеобщего огосударствления, к чему, по его мнению, неизбежно приводило марксистское учение, сознавая, какими последствиями это было чревато для такого общества, как российское. Он также ни на йоту не верил в исчезновение частной собственности, что, по его убеждению, «противно человеческой природе», а, напротив, полагал, что именно распространение права собственности на большее число обитателей России способно принести стране спокойствие и процветание. «Когда собственность становится привилегией меньшинства, грабеж становится мечтой большинства45», – заметил он. Это служило лишним поводом задуматься о наделении миллионов бедных крестьян новыми землями на востоке! Социализм же, который выступал для него эманацией протестантизма, был ядом для России.
Фридрих Лист и Бисмарк как превосходный практик-прагматик представлялись Витте фигурами выдающимися. Православие, к которому он чувствовал такую привязанность в силу личных обстоятельств, виделось ему национальной основой, придающей своеобразие российской экономике и отличающей ее от международного либерального стандарта. Россия должна была открыться рыночным силам, предоставить свободу частной инициативе, однако государство – в любом случае на первых порах – обязано было защитить русскую экономику протекционистскими барьерами, действуя скоординированно и централизованно с целью обеспечить ее развитие. Речь шла о создании «социальной монархии», которая уважала бы культурные и политические традиции русского народа с опорой на православие, но при этом сохранила бы империю путем ее экономической и социальной модернизации. «Социальное православие» выступало главной стратегией, призванной подтолкнуть Россию к приближающемуся ХХ веку.
Политика Витте в железнодорожной сфере определялась его идеологическими убеждениями. Для начала он унифицировал и пересмотрел все тарифы на перевозку зерна. Было проведено более сотни заседаний, на которых схлестнулись разнородные интересы, однако в считанные месяцы Витте установил упрощенные, долговременные правила, позволившие снизить стоимость перевозок на 35 %.46 По его инициативе государство приступило к политике национализации железнодорожных сетей, переходивших в централизованное управление. В течение нескольких лет более 12 000 км путей стали государственной собственностью.47 Если в 1880 году доля государства составляла 25 % железных дорог, то в 1900 году она достигла 60 %.
Витте, отличавшийся поразительной работоспособностью, в скором времени сделался заметной фигурой на политической сцене. Повышение по службе не заставило себя долго ждать. В феврале 1892 года он был назначен министром путей сообщения. В силу традиционного антагонизма между двумя министерствами – финансов и путей сообщения – никто не мог и помыслить, чтобы соперничающую администрацию возглавил человек из области финансов. А уж тем более чистый технократ, неизвестный провинциал без роду и племени. Рассказывали, что принимая различных кандидатов, царь Александр III задавал всем им один и тот же вопрос: «А кого вы думаете избрать себе в заместители?». Услышав имя Витте из уст трех первых претендентов, государь якобы закрыл аудиенцию и назначил того министром, даже не удосужившись принять его лично. Когда Витте проводил заседание, в кабинет ворвался служащий, держа высоко в руке голубой конверт, надписанный большими буквами: «Его превосходительству управляющему Министерством путей сообщения Сергею Юльевичу Витте». Витте внезапно побледнел; держа письмо дрожащей рукой, он подошел к иконе в углу комнаты, прежде чем решиться вскрыть императорский конверт с объявлением о его назначении.48
С этого момента отеческая фигура царя приобрела громадное значение в жизни Сергея Витте. Александр III, которого большинство историков считает реакционным правителем, глубоко травмированным убийством своего отца народовольцами на берегу канала в Петербурге и упорно не желавшим проводить какие бы то ни было реформы, под пером Витте предстает добродушным, независимым в суждениях монархом, приверженцем «мирного либерализма», человеком обходительным и радеющим прежде всего о благе своего народа. Возможно, в силу того, что Александр совсем не готовился стать императором[101], как отмечает Витте, он был прежде всего «до крайности» «человеком простым», похожим на «русского мужика из центральных губерний», «совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования», но при этом его отличали «громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и, вместе с тем, твердость».49
Глубокая симпатия к царю доходила у него подчас до обожания. «Если бы судьба позволила Александру III продлить свое царствование на столько же лет, сколько он уже находился на престоле, его правление вошло бы в число величайших в истории Российской империи», – с горечью напишет министр после кончины своего покровителя. Современники, кстати, отмечали, что поразительное сходство внешнего облика обоих – следствие подражания Витте Александру III, и, когда он рисует в «Воспоминаниях» портрет государя, кажется, что он сам отражается в нем: «И, действительно, фигура Императора Александра III была очень импозантная; он не был красив, по манерам был скорее, более или менее, медвежатый; был очень большого роста и комплекции, причем при всей своей комплекции он не был особенно силен или мускулист, а скорее был несколько толст и жирен <…>».50
В лице Витте царь обрел одного из самых верных и преданных своих слуг. И также одного из самых старательных. Во время первой аудиенции во дворце царь озвучил Витте, новому министру путей сообщения, приоритетную задачу – наконец-то осуществить прокладку Транссиба: «Мысль эта глубоко засела у Императора Александра III, и еще до моего назначения министром он постоянно толковал о сооружении и этой дороги <…>. Император Александр III мне как бы жаловался на то, что вот, несмотря на все его усилия в течение 10 лет, он все время встречает со стороны министров, в Комитете министров и в Государственном Совете затруднения в быстром исполнении этой мысли. Он взял с меня как бы слово, что я эту его мысль приведу в исполнение».51
Сергей Витте сдержал свое слово. Транссиб стал главным делом его жизни. Магистраль олицетворяла основные приоритеты его профессиональной и политической карьеры, выступая, как он выразился, «чрезвычайно мощным орудием управления экономическим развитием страны».52 Она предоставляла государству средства регулирования сельскохозяйственных цен и контроля над стратегическим рынком зерна, от которого зависел, в частности, социальный климат. Наконец, магистраль должна была позволить сибирским экспортерам сельскохозяйственной продукции разбить транспортную преграду, мешавшую им продавать свои излишки. Транссиб выступал двигателем индустриализации, за которую ратовал Витте, поклонник Бисмарка. Он должен был вывести на рынок крупные месторождения – как на стадии прокладки десятков тысяч километров полотна, так и после его введения в эксплуатацию, когда месторождения оказались соединены с индустриальными государствами Европы. Проект отличался грандиозностью и поражал воображение. Это, несомненно, должно было облегчить приток иностранных инвестиций, в которых остро нуждалась Россия и которые являлись составной частью наступательной, волюнтаристской (с элементами рыночного анархизма) экономической политики, проводимой министром. По мнению Витте, этот проект был необходим монархической России для ее модернизации и ликвидации отставания от индустриализованной Европы, «событие, каким начинается новая эпоха в истории ее народов».53 Более того, Транссиб давал России преимущество, которым могла располагать лишь она одна: страна имела шанс превратиться в связующее звено в международной торговле между Азией и Европой, возвратив утраченные позиции в сфере транзита таких товаров, как чай, после того, как британский военный флот вынудил Китай открыть свои порты для иностранцев. Россия располагала «всеми преимуществами посредника».54 «Если Москва сегодня – это в большей степени русский, нежели мировой торговый город, – пишет Витте, – в будущем, благодаря Большому Сибирскому пути, она наверняка станет играть иную, более важную роль. Шелк, чай и пушнина для Европы, равно как и мануфактурные изделия, идущие на Дальний Восток, будут, вероятно, концентрироваться в Москве, которая превратится в транзитный узел мировой торговли».55 Благодаря этой магистрали Россия могла бы на равных конкурировать с морскими державами, подчинившими себе мир. Транссиб – это европейская культура, оплодотворяющая Россию; он упрочивал ее положение великой державы, предоставлял ей великолепную возможность экспансии на восток и одновременно с тем укреплял ее единство. «Нет другой нации, для которой железная дорога имела бы такое значение».56
Однажды тронувшийся локомотив Витте уже невозможно было остановить. В считанные месяцы проект Транссиба, многие годы лежавший под спудом, развернулся в полную силу. Сергей Витте разработал финансовую схему, позволившую построить самую протяженную железную дорогу в мире менее чем за 10 лет. Оценочная стоимость была столь низкой, что сотрудники финансового ведомства с трудом верили в нее. Многие участки дороги не были даже изучены; оставалось неясным, откуда брать рабочую силу: и как, спрашивается, в таких условиях произвести хотя бы приблизительные расчеты? Витте признается в своих «Воспоминаниях», что на этом этапе проекта скрупулезный математик отступил в нем перед экономическим стратегом: дело было не столько в цифрах, сколько в необходимости наконец-то осуществить проект. Как он пишет в одном из писем, значение подобного проекта не могло оцениваться «одним лишь узким критерием финансов <…>, бывают моменты, когда лучше потерять в деньгах, чем в престиже».58 Министр прекрасно понимал также роль символов и коммуникации: именно после его прихода в министерство путей сообщения российские железные дороги и Транссиб обзавелись знаменитыми металлическими подстаканниками, из которых пассажиры потягивали чай, сидя за самоваром в каждом вагоне.59 Этот предмет обихода призван был удовлетворять гигиенические потребности и одновременно с тем обеспечивать пассажирам гарантированный комфорт.
Представляя кабинету министров свой проект, снабженный его собственными рекомендациями, Витте без обиняков заявил, что «данные о перевозимых грузах не позволяют надеяться на скорый экономический успех; кстати говоря, с чисто финансовой точки зрения Транссиб долгое время не будет прибыльным». Выражаясь иначе: на быструю окупаемость рассчитывать не приходилось. Причины ввязываться в столь рискованную затею лежали в другой плоскости: «Это национальное предприятие, судить о котором надлежит, исходя из высших интересов. Будучи осуществлено, оно станет мощно содействовать прогрессу России как в экономической области, так и в плане цивилизации и политики».60
Чтобы дело продвигалось быстрее, Витте снарядил множество экспедиций для проведения экономического, геологического, ботанического обследования, геодезических съемок и гидрографических изысканий. Экспедиции эти были призваны наметить или уточнить трассу, речные переправы, обеспечение древесиной, определить оптимальное размещение площадок производства рельсов и железнодорожного оборудования. Также необходимо было заняться поисками месторождений железной руды, угля или золота в регионах, через которые предполагалось проложить дорогу. После извлечения из своих архивов разных вариантов проведения магистрали, о которых десятилетиями велись споры, министерство предложило осуществить строительство в три последовательных этапа. Вначале предполагалось соединить Челябинск (на Урале) с Иркутском (3 500 км), а параллельно с тем, на другом конце гигантской стройки, завершить участок между Владивостоком и рекой Уссури, чтобы в этот портовый город можно было добираться не только по океану. Второй этап предусматривал продолжение Уссурийской дороги до Хабаровска, стоящего на Амуре (400 км) и прокладку ветки между восточным берегом озера Байкал и одним из притоков в верхнем течении того же Амура (1 150 км). Наконец, завершить строительство планировалось прокладкой дороги, огибающей Байкал вдоль южного, гористого, берега озера, и соединением Сретенска с Хабаровском железнодорожным путем вдоль главного течения Амура (около 2 300 км). В целом получалось примерно 7 600 км путей, а если к этому добавить уже первые проложенные линии, то длина железнодорожного полотна от Москвы до Тихого океана превышала 9 200 км.
Наибольшие препятствия проекту Витте чинило министерство финансов. Его глава, Иван Вышнеградский, в прошлом покровитель Витте, решительно настаивал на проведении курса жесткой экономии государственных финансов. По его твердому убеждению, не могло быть и речи о том, чтобы ввязываться в подобную авантюру, пока вся железнодорожная отрасль не будет оздоровлена и не станет рентабельной, не говоря уже о финансировании проекта за счет общественных фондов. Это препятствие оказалось неожиданно устранено летом 1892 года, когда прямо посреди пленарного заседания правительства с министром финансов случился, судя по всему, микроинсульт. На следующий день Иван Вышнеградский, невзирая на мучившие его нарушения зрения и речи, все же решил отправиться с еженедельным докладом к царю в Гатчину, расположенную в нескольких десятках километров от столицы[102]. В поезде, доставившем его в царскую резиденцию, ему повстречался Сергей Витте, быстро сообразивший, что его бывший покровитель, ставший теперь противником его собственных проектов, находится в плачевном состоянии. Едва прибыв во дворец, Витте опередил своего коллегу, предупредив царя о прискорбном состоянии здоровья Вышнеградского. Министр финансов был отправлен в отпуск, а в скором времени его место занял… Сергей Витте, который в конце августа 1892 года, то есть всего лишь несколько месяцев спустя после назначения министром путей сообщения, получил один из важнейших в политическом отношении (если не самый важный после государя) постов в Российской империи. Скромный студент-математик мог наконец-то торжествовать, покончив с социальным неблагополучием, в которое впало его разорившееся семейство. Правда, этот эпизод и, мягко говоря, двусмысленная предупредительность Витте в отношении своего бывшего благодетеля закрепили за новым сильным человеком правительства репутацию оппортуниста, карьериста и интригана, от которой ему так никогда и не удалось отмыться. Лишенный элегантности и светской легкости, Витте не был царедворцем. В работе, равно как и в своей личной жизни, он отличался изворотливостью и беззастенчивым цинизмом. Уже в ранней молодости ему пришлось переехать в Киев из-за женитьбы на разведенной женщине. Второй брак, заключенный им после смерти его первой жены, наделал в столице еще больше шума: ходили слухи, что для узаконения связи с замужней дамой по имени Матильда Лисаневич Витте влез в долги в размере 20 или даже 30 тысяч рублей (целое состояние в ту эпоху!), желая «купить» для своей возлюбленной развод у мужа.61 Вторая супруга, также разведенная, быть может, проданная своим мужем, да к тому же еврейка: как тут не испортить себе репутацию? Витте сознавал, что этот эпизод надолго закроет ему доступ в светские круги. И вправду, на протяжении целых 10 лет Витте не приглашали на придворные церемонии. Однако он дорожил своей Матильдой и поселился вместе с ней в служебной квартире, расположенной в пышном здании Министерства финансов на Мойке, в двух шагах от Зимнего дворца. Уединившись в этом здании, коридоры которого растянулись более чем на 100 м, он дневал и ночевал там.
* * *
Проект Транссибирской магистрали стал национальным приоритетом. Если прежде железнодорожный транспорт был в подчинении у финансов, теперь Министерство финансов, включая и его руководителя, должно было обслуживать строительство гигантской железной дороги. На протяжении 12 лет Витте будет распоряжаться могущественным министерством и его кассами, и за этот период длина железнодорожной сети России увеличится почти на 30 000 км. Во главе министерства финансов Витте проявил такую же энергию, как и на своем предыдущем посту в Министерстве путей сообщения. С целью оздоровления госбюджета он ввел государственную монополию на алкоголь, освободил внутреннюю торговлю и воздвиг мощные протекционистские барьеры. Им был введен золотой стандарт, возвративший рублю давно утраченную твердость, что тут же вызвало всплеск интереса со стороны мелких иностранных вкладчиков. Русский заем – это он. Создатель крупного франко-русского альянса в экономической и политической сферах – он. Переговорщик по вопросу заключения нового соглашения с Германий – опять он! Приток иностранных инвестиций позволил ему – при помощи нескольких весьма оригинальных бухгалтерских трюков62 – составлять сбалансированные бюджеты на протяжении целого десятилетия, несмотря на гигантские расходы государства, связанные с прокладкой Транссиба.
Едва заняв свой пост, Витте добился от царя создания централизованного административного органа, целиком занятого грандиозным проектом: им стал Комитет Сибирской железной дороги (КСЖД). Туда вошли представители всех инстанций и кругов, непосредственно заинтересованных в строительстве, что позволило преодолеть многочисленные препятствия чиновников имперской администрации. Орган это был наделен исключительными полномочиями: созданный указом от 22 декабря 1892 года, КСЖД имел право выделять средства, принимать решения о необходимых расходах, отчуждать земельные участки, реквизировать древесину и здания, нужные для строительства, привлекать к работам армию и заключенных, определять трассу новой дороги, учреждать новые подразделения полиции, занятые исключительно на строительстве, самостоятельно устанавливать даты начала строительства и определять темп работ. Вдобавок ко всему, Комитет получил еще и экстренные законодательные полномочия, позволявшие ему в случае надобности обходить местные власти с согласия государя. По долгу службы в нем состояли главные министры, в том числе путей сообщения, государственных имуществ и внутренних дел, но первую скрипку играл Сергей Витте, выступавший в роли главного идеолога и организатора: он добился, чтобы в Комитет представителями от административных органов были назначены верные ему люди. Для достижения своих целей Витте опирался на поддержку прессы, которая горячо симпатизировала ему. Министр стал одним из первых русских политиков, кто осознал возможность опоры на, тогда еще весьма слабое, общественное мнение в процессе принятия решений. Он не жалел ни времени, ни средств на поддержку ряда влиятельных изданий, главные редакторы некоторых газет и журналов были вхожи к нему. Нередко случалось, что по ночам министр лично брался за перо, чтобы изложить суть вопросов, представлявших для него особый интерес.
И Витте добился желаемого результата: большинство членов всемогущего Комитета Сибирской железной дороги, назначенных Александром III, поддерживали его идеи. Что касается кандидатуры председателя, его выбор был подсказан все тем же министром финансов. На эту в высшей степени символическую должность царь назначил своего сына Николая, наследника престола, будущего Николая II. В истории династии это событие стало чем-то исключительным! Прежде наследники престола ограничивались военными либо чисто церемониальными функциями, присутствуя на парадах или возглавляя благотворительные комитеты. Но чтобы руководить столь важным строительством? Витте пришлось употребить всю силу своего красноречия, дабы убедить царя в том, что этот пост – подлинная школа управления для современного государя. Хоть и не без труда, царь внял его доводам, согласившись на уступку. В результате Витте заручился самой весомой гарантией, какую только можно было получить тогда в Российской империи, ведь даже царь вряд ли бы вздумал спорить с Комитетом, руководимым его собственным сыном. Будущее было гарантировано! Что еще требовалось, если вас поддерживает будущий государь всея Руси? Во время путешествия на Дальний Восток цесаревич лично заложил первый камень строящегося конечного участка Сибирской железной дороги, и вот теперь он встал во главе гигантской строительной фирмы под названием «Транссибирская магистраль». К строительству можно было приступать. Когда наступит час открытия дороги, Николай уже будет царем.
Стройка века
В апреле 1900 года Париж готовился отметить наступление нового века. Уже в пятый раз за свою историю французская столица принимала Всемирную выставку, однако по случаю начала ХХ столетия мероприятию предполагалось придать невиданный прежде размах. В Париже не скупились на средства: были открыты новые вокзалы и отреставрированы старые, построены дворцы[103], проложена первая линия метро. Выставка расположилась в самом сердце «города-светоча», протянувшись от площади Согласия до Дома инвалидов через Трокадеро и Марсово поле. На ней экспонировались технические новинки, знаменовавшие грядущее торжество индустриальной эры, как, например, «улица Будущего» с движущимися тротуарами или двигатель, изобретенный неким Рудольфом Дизелем. Публика валила валом: за семь месяцев 51 млн человек[104] побывал в самом сердце «Прекрасной эпохи» (Belle Époque), в то время как население Франции составляло лишь 41 млн человек.
Перед любопытными взорами посетителей предстало более миллиона новых предметов, инструментов или недавних открытий. При этом гвоздем программы, безусловно, явился павильон царской империи, выполненный в виде белокаменного Кремля с пятью характерными башнями: он был возведен русскими архитекторами в ознаменование политического, экономического и военного союза, заключенного между Россией и Францией шестью годами ранее. Россия была в моде.63 Появилось бесчисленное множество марок растительного масла, печенья, консервов и даже туалетной воды, связанных с царской империей. Атмосферу того времени хорошо передавали духи под названием «Царица», мыло «Двойственный союз», печенье «Маленький русский», рыбные консервы «Северное сияние» или, скажем, «Московский пунш». 14 апреля, в день, когда Всемирная выставка распахнула свои двери, Париж почтил союзницу Франции открытием нового моста через Сену, названного в честь императора Александра III: его первый камень был заложен в 1896 году сыном русского монарха, Николаем II.
Стремясь продемонстрировать свою современность, императорская Россия отвела три зала своего павильона Транссибирской магистрали, строительство которой продвигалось все далее на восток. Восхищенная публика могла увидеть там роскошный поезд новой дороги, заочными владельцами которой были – благодаря политике Сергея Витте – также и мелкие французские акционеры. Оплатив стоимость «билета первого класса», наиболее состоятельные посетители могли посидеть в вагоне-ресторане «Международного общества спальных вагонов» бельгийца Жоржа Нагельмакерса. Последний, партнер и ученик американского фабриканта спальных вагонов Джорджа Пульмана, а также организатор «Восточного экспресса», предлагал – начиная с 1898 года – совершить путешествие в сердце Сибири по первым проложенным участкам Транссиба. К услугам пассажиров первого класса предлагались ванная комната на каждых четырех человек, библиотека с выбором преимущественно русских книг, недавно переведенных на европейские языки, курительная комната в китайском стиле (явная отсылка к восточным курильщикам опиума), игральные столы и салон с роялем. В образце вагона, выставленном в Париже, подавалось изысканное угощение с икрой. После третьего звонка, подаваемого «начальником вокзала» в униформе, поезд имитировал отправление, а перед взором «пассажиров» представали сменяющие друг друга декорации с изображением сибирских пейзажей кисти художников Парижской оперы. Насытив почти за час взор и чрево, «путешественники» высаживались на платформе, декорированной под Пекин, где их приветствовали китайцы. В другой части павильона менее состоятельные посетители могли устроиться у окон, имитирующих окна поезда, откуда открывалась движущаяся панорама России от Волги до Тихого океана – монументальное полотно длиной 940 м, выполненное художником Павлом Пясецким специально для парижской Всемирной выставки. В глубине павильона по стенам были развешаны огромные карты Сибири и Азии, дававшие представление о неисчерпаемых богатствах, все еще пребывавших в ожидании иностранных инвесторов. Разные макеты демонстрировали чудеса технической мысли русских инженеров во имя возможности проехать через самые дикие районы Азии к владивостокскому порту. Кстати сказать, железный мост через Енисей, сооруженный в Красноярске на Транссибе, удостоился на парижской Всемирной выставке Золотой медали за достижения в области промышленности.
Российское Министерство путей сообщения отпечатало сто тысяч брошюр на французском, немецком и английском языках с целью популяризировать среди европейцев самую грандиозную в истории стройку (именуемую «Великой Сибирской железной дорогой») и одновременно пробудить в них симпатию к модернизирующейся России, воплощением которой должна была стать Транссибирская магистраль. Новый путь позволил намного превзойти рекорд героев романа Жюля Верна: путешествие вокруг света отныне можно было совершить за 41 день (а не за 80). Разработчики трансконтинентальной магистрали представили ее как самый надежный, практичный, быстрый и удобный способ соединения Гавра с Порт-Артуром или Владивостоком, Атлантики с Тихим океаном, Европы с Азией. Транссиб выступал – по крайней мере, на бумаге – серьезным конкурентом трансокеанских компаний, осуществлявших морские перевозки в Нагасаки, Иокогаму или Шанхай. В ходе Всемирной выставки в мировой прессе было опубликовано более тысячи статей о транспортной революции, произведенной новой магистралью. Французы, немцы и американцы, как правило, отзывались о ней с восторгом, тогда как британская печать проявляла гораздо бо́льшую сдержанность или выступала с критикой, что служило лишней иллюстрацией глухой борьбы, развернувшейся тогда в Азии между Россией и Великобританией.
* * *
В самой Сибири новая дорога, строительство которой приближалось к концу, также означала революцию. Она подвела черту под более чем трехсотлетней историей легендарного Сибирского пути, связывавшего «цивилизованную» метрополию с окраинами известного мира. Эта дорога, или «тракт», как ее именовали изначально, получила официальный статус после издания в ноябре 1689 года царского указа, объявившего ее «государевым трактом». С XVIII века на Сибирском тракте проводились работы по благоустройству, однако в действительности жизненно важная артерия, от которой зависело существование всех азиатских провинций Российской империи, никогда не содержалась в состоянии, способном обеспечить быстрое и удобное передвижение. Во все времена суровый климат, бесконечные расстояния и своенравная природа превращали проезд по ней во что-то сверхчеловеческое. Изначально тракт протянулся от Москвы до Кяхты, что на китайской границе, через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, Енисейск, Иркутск и Нерчинск. Постепенно, однако, появились и другие варианты, и в XIX веке путешественники столь же охотно пользовались дорогой, проходившей южнее, через Омск, Томск и Красноярск. Кстати, слово «дорога» звучит обманчиво, поскольку на деле маршруты зачастую отличались неопределенностью: через степь или березовые рощи проходили параллельные пути, известные одним лишь ямщикам. Эти пути то сходились, то расходились вновь; порой они терялись в заболоченной равнине или неожиданно заводили в трясину, куда лошади могли провалиться по самые удила. Черно-белые полосатые столбики, стоявшие на каждой версте, напоминали путешественнику, что он передвигается по официальному почтовому тракту. Вся русская литература изобилует свидетельствами о том, что поездка по дороге воспринималась исключительно как тяжкое испытание, на которое никто не отваживался ради удовольствия. В гениальном романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин в нескольких строчках рисует мучения, связанные с передвижением по русским дорогам, и шутливо заключает:
По всему тракту на расстоянии 20–30 км друг от друга располагались почтовые станции. Как правило, это были деревянные избы: на одной половине такой избы проживал станционный смотритель с семьей, а на другой размещались путешественники. В ожидании смены лошадей приезжий мог вдоволь напиться чаю из вечно кипящего самовара. Курить на станции было строго запрещено! Повсюду в России издревле боялись пожара, который мог легко перекинуться на соседний лес. Если удача сопутствовала проезжему, остановка на станции занимала несколько десятков минут и можно было двигаться дальше. Однако случалось, что ожидание растягивалось на часы, а то и дни, когда путники вынуждены были довольствоваться деревянными скамьями и матрасами, кишащими тараканами и вшами. Изо всех сил они старались улестить станционного смотрителя, которого в то же самое время обхаживали все прочие гости. При передвижении по тракту первостепенное значение имел проездной документ, «подорожная», которую пассажир обязан был предъявлять на каждой почтовой станции: от этой-то бумаги и зависела его судьба. Если подорожная была снабжена тремя официальными печатями, она приравнивалась к охранному свидетельству высшего разряда: обладатель такого документа – как правило, им был особый курьер императорской администрации – имел право требовать лучших лошадей, которых станционный смотритель обязан был запрячь в считанные минуты. Кстати говоря, на случай появления такого гостя смотритель всегда держал наготове тройку свободных лошадей. Обладатель подорожной с двумя печатями – обычно военный или чиновник – мог вклиниться в очередь, в обход любой повозки, даже прибывшей ранее его. Что же касается обычного путешественника, имевшего подорожную с одной лишь печатью, ему ничего не оставалось, как уповать на то, что на станции найдется достаточное количество лошадей, чтобы двигаться дальше. Он стремился, насколько хватало сил, ехать и днем, и ночью по бескрайним сибирским просторам. Один американский путешественник на пути из Петербурга в Иркутск в 1880-е годы провел в дороге 16 дней и 16 ночей, и за это время ему пришлось 212 раз менять лошадей и почти столько же раз – ямщиков.
Самым распространенным средством передвижения был тарантас – простая четырехколесная повозка без рессор, на которой помещался деревянный кузов, где устраивались пассажиры со своими пожитками. Сидений не было: каждый ехавший располагал свои вещи так, чтобы получилось защищенное от ветра место, служащее скамьей днем и подстилкой ночью. Извозчик, сидевший на козлах, был защищен кожаным верхом и фартуком. Повозку обычно тянула тройка лошадей со звенящими колокольчиками, крепившимися к дуге, что являлось необходимой мерой предосторожности на тракте, особенно с наступлением темноты. Стоит ли и говорить, что у путешественника, за несколько недель натерпевшегося от беспрерывной тряски, ночного холода, степного зноя и туч комаров, а тем более от бесконечного порой ожидания на почтовой станции или у парома, единственного способа перебраться на другой берег реки, оставались самые жуткие воспоминания от каждой такой поездки. Николай Ядринцев, певец сибирской самобытности и поборник политической автономии края, указывал, например, что «состояние дорог в Западной Сибири крайне неудовлетворительно. Местами дорога представляет вид пашни, изрезанной продольными бороздами; извозчик пускается в галоп, и приходится то подскакивать и биться теменем о верх тарантаса, то качаться из стороны в сторону. Чтобы добраться до станции, находящейся в 30 верстах (около 32 км), приходится ехать часов 7–8».65 Не найдется ни одного рассказа иностранного путешественника, в котором бы не подчеркивалась суровость выпавшего на его долю испытания. Описание, вышедшее из-под пера француза Эдмона Котто, в 1881 году направленного Министерством просвещения Франции «для изучения кратчайшего пути между Францией и Японией», еще одно из самых сдержанных: «Нас швыряет и бросает так, – пишет он, – что мне кажется невозможным продолжать путь в подобных условиях. Каждое мгновение я думаю о том, что наш экипаж вот-вот разобьется, и ожидаю последнего, заключительного удара, который положит конец моим мучениям. Полувозлежа на своих плохо перевязанных вещах, изо всех сил цепляясь за них и упираясь ногами в сидение извозчика, мы то скатываемся друг на друга, то взмываем вверх и, кажется, вот-вот расшибем себе голову о металлические части откидного верха, то снова падаем вниз с высоты в несколько футов, и тут же ударяемся об углы нашей жуткой повозки».66
Вследствие всего этого главная транспортная артерия страны, которая должна была снабжать метрополию богатствами Сибири, имела очень низкую пропускную способность, и к тому же движение по ней было нерегулярным. В хорошую погоду, когда дорога подсыхала, купцы снаряжали длинные караваны из повозок, груженых чаем, причем лошадей привязывали к повозкам, следующим впереди, чтобы сократить число извозчиков. Такие обозы могли растянуться более чем на километр, а правилами тракта обгон запрещался. Стоит ли говорить, что почтовые станции в такие периоды были переполнены народом, и то и дело вспыхивали драки. В дождливую же погоду дорога превращалась в грязное месиво, в котором лошади могли увязнуть по грудь. На такую поездку решались лишь самые опытные возницы.
Простой люд с Сибирского тракта никогда не верил в возможность проведения через континент железнодорожной магистрали. Дискуссии вокруг нее были столь долгими, проекты столь многочисленными, а слухи столь фантастичными, что вся затея представлялась чем-то несбыточным. Однако с появлением первых же паровозов тракт оказался заброшен. Отныне государство делало ставку на поезда и даже всерьез рассчитывало сэкономить: предполагалось закрыть 250 почтовых станций для смены лошадей и 107 этапных острогов для осужденных, следовавших долгим, изнурительным путем к местам каторжных работ в Сибири. Согласно официальной записке, реорганизация, сопровождавшая новый способ транспортировки заключенных по железной дороге, позволяла сократить численность конвоя на 80 офицеров и 964 солдата.67
* * *
Прошло более 20 лет после появления первых набросков проекта и предложений полковника Богдановича. Кстати, в том же, 1891 году, когда начались строительные работы, вновь разразился сильный голод, сопоставимый со вспышками голода, в свое время побудившими власти стимулировать изыскания Богдановича для поиска способов борьбы с этим страшным бедствием.
Разработка проекта Транссиба продвигалась крайне медленно, однако с его воплощением необходимо было поторапливаться. Причиной тому явились не столько социально-экономические проблемы азиатских провинций империи, сколько новые угрозы, возникшие на ее восточных рубежах. Проникновение англичан в Китай продолжалось в модернизированной форме под предлогом строительства железных дорог или развития речного транспорта, что усиливало колониальную зависимость этой страны. В своем донесении царю барон Корф, губернатор Восточной Сибири, выразил обеспокоенность тем, что одна из проектируемых англичанами железных дорог может дойти до самого Владивостока. На полях послания царь, по своему обыкновению, сделал пометку: «Незамедлительно приступить к строительству магистрали».68 Успехи британцев в Китае, более всего досаждавшие России, раздразнили аппетиты других западных держав, в особенности Германии, которая стала претендовать на часть добычи. Япония, завершившая свой первый этап модернизации, также не осталась в стороне, заглядываясь на Корею и Северный Китай. Наконец, нельзя было сбрасывать со счетов возможность пробуждения Китая, который, не имея сил противостоять европейским колониальным армиям, попытается вернуть Приамурье и Дальний Восток, 30 годами ранее уступленные Муравьёву-Амурскому по Айгунскому договору. В Петербурге идею Транссиба горячо поддержали военные. Убедившись в решающих стратегических преимуществах железнодорожного транспорта (например, во время Крымской войны), генералы всячески выступали за его развитие. Ситуация не терпела проволочек и болтовни: национальные интересы требовали быстрой прокладки железнодорожного полотна к дальневосточным портам, чрезвычайно уязвимым из-за своего изолированного положения. Была объявлена боевая тревога!
23 мая 1891 года Его Императорское Высочество цесаревич Николай высадился с крейсера «Память Азова» во владивостокском порту. Молодой наследник престола, которому тогда было всего 23 года, еще не оправился от потрясения, вызванного попыткой покушения на него во время официального визита в Японию. Однако по воле своего отца он должен был служить олицетворением русского могущества на Тихом океане: и вот, восемь дней спустя, перед взорами нескольких тысяч жителей города, среди которых было немало китайских и корейских чернорабочих (кули), будущий царь Николай II заложил первый камень крупнейшей стройки XIX века в самой удаленной от столицы точке империи. Специально к этому мероприятию было проложено несколько сот метров полотна: под приветственные залпы кораблей, стоявших на рейде, и артиллерийских орудий, находившихся в городе, цесаревич со свитой занял место в вагоне, который потянулся за локомотивом, украшенным флагами и лаврами. Состав медленно проследовал по только что открытой ветке в сопровождении толпы, бежавшей быстрее, чем парадный поезд.69
Одновременно с тем инженеры из европейской России трудились над сооружением первых отрезков магистрали в Западной Сибири: отряды изыскателей – топографов, геологов и инженеров-строителей – двинулись вглубь еще очень плохо изведанной Восточной Сибири. Для начала они должны были удостовериться, что спроектированная трасса сможет выдержать проход железнодорожных составов, а затем производили поимки залежей полезных ископаемых, а также леса и камня, необходимых для строительства. Помимо того, они проводили инвентаризацию пахотных земель в полосе шириной 200 км, прилегающей к будущей магистрали. Только за 1894–1896 годы более сотни таких партий отправились в Сибирь.70
Эта неожиданная поспешность, в сочетании с постоянной заботой о бюджете, наложила неизгладимый отпечаток на концепцию нового восточного пути. Ответственные за строительство получили простые, четкие указания: продвигаться как можно быстрее, расходы же свести к минимуму. Прямая линия стала правилом, а отклонения от нее – исключением. Расстояние по прямой между Уралом и рекой Обью составляет 1 534 км. Ни одного поворота, ни одного лишнего отклонения в сторону! Проектировщики не были озабочены соображениями безопасности и еще менее – экономическими вопросами, такими как транспортное обслуживание городских агломераций или обеспечение выхода на рынки для прилегающих районов. Как следствие подобной политики, вокзалы зачастую возводились на значительном удалении от городов: таким путем власти стремились избежать более высоких расходов при строительстве в населенной зоне, лишних проблем с многочисленными реками и необходимости выплачивать компенсацию собственникам. В эпоху, когда большая часть сибирских городов представляла собой лишь нарождающиеся поселения, инженеры, озабоченные экономией времени и денег любой ценой, намеренно игнорировали их, ведь это не были города в собственном смысле слова! Пассажиры? Служба по работе с клиентами? – Подобные вопросы не были приоритетными на железных дорогах Российской империи, заинтересованных в первую очередь в том, чтобы строить быстро и недорого. В Омске и Чите вокзалы были сооружены в чистом поле на расстоянии четырех километров от города, в Иркутске – на пустынном берегу реки Ангары против города, причем длительное время моста не было, в Томске иностранные путешественники были свято уверены в том, что поезд по ошибке объехал стороной агломерацию, высадив их далеко от города.71 В Колывани остановка, официально предназначенная для транспортного обслуживания города, расположилась на расстоянии 45 км от него.
Эта политика прямой линии была характерна не для одного лишь Транссиба, а, напротив, отражала устойчивую практику, сложившуюся еще на заре железных дорог в России. Когда в 1843 году возникла идея строительства первой крупной железнодорожной ветки, призванной соединить Санкт-Петербург с Москвой, тогдашний министр путей сообщения Павел Мельников, инициатор и горячий сторонник развития этого революционного вида транспорта в России, обозначил строителям маршрут в виде почти прямой линии между обоими городами. Согласно устойчивой легенде, царь будто бы просто приложил линейку к карте и провел карандашную черту между обеими своими столицами. Одна из версий предания даже гласит, что единственный изгиб трассы был вызван невнимательностью государя, карандаш которого задел палец, что привело к искривлению линии. В действительности же политика прямой линии, которой придерживались русские инженеры, определялась совершенно иной, чем на Западе, концепцией железнодорожного сообщения, так как государственные интересы стояли в ней на первом месте. Железнодорожная сеть предназначалась не для обслуживания или экономического стимулирования того или иного региона, а для налаживания быстрого сообщения с удобным морским портом. По утверждению историка железных дорог Фритьофа Шенка, для русских проектировщиков XIX века «существовали начальная и конечная точки, а пространство между ними во внимание не принималось». Это был подход чиновников и военных. Коль скоро первостепенное значение придавалось времени и длине пути между двумя конечными пунктами, Петербургом и Москвой, славный старинный город Новгород, в прошлом входивший в Ганзу и соперничавший с Москвой, со своими 15 тысячами жителей оказался, к примеру, принесен в жертву инженерному удобству. На бурные протесты властей города министр путей сообщения Мельников в 1843 году отреагировал так: «Значение Новгорода представляет ныне интерес лишь для любителей истории».72
И в дальнейшем на крупных железнодорожных стройках будет наблюдаться то же самое. При проведении железной дороги в Среднюю Азию, спешно построенной в 1880-х годах. С целью закрепить недавние колониальные завоевания России и отразить британскую угрозу на границе с Афганистаном, соображения военного порядка стояли на первом плане. Железнодорожное движение должно было осуществляться по прямой линии и очень быстро. «Нет примера, когда железнодорожная линия была бы скорректирована на километр, чтобы сделать ее более удобной с учетом потребностей торговли или населения», – отметил в 1899 году британский эксперт Алексис Сидни Краус, внимательнейшим образом следивший за российской экспансией в этом регионе. «Многие вокзалы размещены на большом удалении от городов, которые они обслуживают; первостепенная задача железнодорожной линии состоит в том, чтобы удовлетворять запросы армии».73
Когда наступил черед Транссибирской магистрали, данное золотое правило было применено снова, что не осталось без последствий для многих сибирских городов.
Более всего пострадал Томск, в те времена самый населенный город Сибири: со своими 53 тысячами жителей он значительно обгонял Иркутск. Основанный охотниками за «мягким золотом» одним из первых в регионе, Томск своим процветанием был обязан расположению на традиционном тракте, занимая ключевую позицию на волоке между бассейнами Оби и Енисея. Он был непременным этапом пути на Восток. Всего за несколько лет до начала прокладки Транссиба в 1878 году в Томске открылся университет – первый за Уральским хребтом, что явилось одной из немногих уступок, сделанных властями сторонникам сибирской автономии. Уже распахнул свои двери медицинский факультет, на очереди был юридический, начала работать гимназия, что означало неожиданную прививку молодости традиционно купеческому городу. На стадии подготовки к строительству Транссиба казалось, что перед торговой метрополией, являвшейся также важным административным центром, где на каждых девятерых жителей приходился один студент, открываются самые лучезарные перспективы. И действительно, городу отводилось важное место во всех генеральных планах, разработанных министерством путей сообщения на момент начала стройки века.
Однако несколько лет спустя жителей Томска постигло разочарование. Первый город Сибири оказался примерно на 100 км севернее железнодорожной магистрали, отныне соединившей Москву с озером Байкал. Что же произошло?
С самого открытия Транссиба бытует расхожая легенда, что Томск, слишком уверенный в своих преимуществах, горделиво отверг притязания организаторов строительства, добивавшихся от города взятки в обмен на доступ к новой магистрали. В числе главных вымогателей порою называют самого Сергея Витте. Анекдот этот старый и живучий: редко кто из путешественников в первые годы существования дороги не приводил бы его,74 да и сегодня он фигурирует в большей части путеводителей по легендарной магистрали. Другая версия увязывает отказ властей прокладывать ветку со скандальной репутацией студенческого города, в котором революционные и автономистские идеи упали на благоприятную почву. Нелюбимый царизмом Томск сознательно-де был отодвинут подальше от исторической магистрали.
Однако в действительности все было прозаичнее и обусловливалось пресловутой политикой прямой линии. В техническом докладе, утвержденном министром путей сообщения Витте в апреле 1892 года, констатировалось, что линия через Томск должна была пересечь несколько сот километров «болотистой тундры». Кроме того, строительство было сопряжено со значительными земляными работами, крутыми поворотами и необходимостью прокладывать линию по равнине, изрезанной многочисленными оврагами. Потери могли составить 86 км и 2 млн рублей, отмечается в официальном докладе. Слишком медленно, слишком дорого! Витте рекомендовал придерживаться строго прямой линии, проложив дорогу на 100 км южнее. Купеческие гильдии и городская дума Томска были потрясены, подчеркивая, что Транссиб перетянет на себя все грузовые потоки, а их город постигнет разорение.75 Губернатор отправлял делегатов в столицу и посылал одну ноту протеста за другой: «Его Императорское Высочество, сам наследник престола Николай, проезжая через Томск в 1891 году, обещал позаботиться об интересах города!» Однако все оказалось напрасным. При прокладке Транссиба Томск остался в стороне, и лишь позднее он получил «по сниженной цене» ветку, соединившую его с железнодорожной сетью Российской империи. Тем хуже для обитателей первого города Сибири, которым с тех пор приходилось дожидаться пересадки на скромной станции главной магистрали. «А столь уж важен Томск?» – задавался вопросом министр путей сообщения в докладе, призванном обосновать его выбор. «Город Томск сам по себе не имеет торгового значения. Это всего лишь административный центр с населением сорок тысяч жителей. Свою роль перевалочного пункта он приобрел по чистой случайности. Это всего лишь место перегрузки товаров на Сибирском тракте».76 <…> Данный документ за подписью министра Витте был равнозначен свидетельству об экономической смерти.
Одни города были стерты с железнодорожной карты, другие появились на ней. Томск стал клониться к упадку, но родился Новосибирск. Сами того не сознавая, инженеры Транссиба моделировали Сибирь будущего. Так, для пересечения Оби они выбрали место, которое им представлялось наименее затратным в техническом отношении. Не имея времени на глубокие изыскания, они решились положиться на интуицию и выбор местных крестьян. Во время весеннего перегона скота последние выбирали для пересечения Оби поселок Гусевка с населением 104 человека. Река была там зажата между двумя лесистыми крутыми берегами, что ограничивало ежегодные весенние паводки, во время которых вода могла разливаться на 15 км. Ширина Оби не превышала здесь 600 м. В этом месте можно было построить причал. Во время ледохода толщина льда не превышала метра. Конечно, выбранный пункт находился на удалении от всех городских центров, но данное обстоятельство никого не смущало. Именно здесь возвели мост через Обь, размеры которого были беспрецедентными для того времени: 800 м в длину, семь пролетов.
Некоторые петербургские чиновники, напуганные мостом через Волгу, который был сооружен 20 годами ранее (и обошелся в три раза дороже предусмотренного сметой), предложили отказаться от столь амбициозного замысла: почему бы не удовольствоваться паромом в летнюю пору и прокладкой рельсов по льду зимой? Но тут вмешались военные: для укрепления российского присутствия на Тихом океане им требовалась прямая железнодорожная линия. На расстоянии 1 500 км от Урала, там, где магистраль пересекает огромную реку Обь, развернулись масштабные работы. В скором времени Гусевку наводнили толпы искателей работы. Правительство выделило им земельные участки и построило деревянную церковь Cв. Даниила. Возник маленький городок. В 1900 году там проживало 15 тысяч семей и насчитывалось 113 лавок, семь булочных, четыре пивных, кондитерская, гостиница и базар, «очень людный по воскресным дням». Правда, больницы еще не было.77 Город назвали Ново-Николаевском, а в 1925 году переименовали в Новосибирск. Это и есть нынешняя «столица» Сибири, население которой в три раза превышает население ее прежнего центра, каким некогда был Томск.
По мере продвижения на восток масштабы строительства стали пугать даже самих организаторов. Как следствие, были пересмотрены все строительные нормы для железнодорожных линий, действовавшие тогда на территории европейской части России. «Будет возводиться лишь то, что действительно необходимо», – говорится в начале составленного государством перечня требований для инженеров.78 Следовало ограничиться одной колеей и вокзалами через каждые 55 км, причем, как уточняется в распоряжении Министерства путей сообщения, «исключительно в случае, если ожидается значительный поток пассажиров и понадобятся буфеты»79. Подрельсовое основание было уменьшено, толщина балластного слоя, образованного чаще из песка и рыхлого грунта, чем из щебня, снижена с 47 до 20 см; рекомендовалось укладывать рельсы вполовину легче[105] тех, что использовались на европейской территории империи. Для пересечения крупных рек рекомендовалось пользоваться паромом летом и укладывать рельсы на лед зимой80, в других случаях предлагалось сооружать мосты из сосны – материала, легко подверженного гниению.
Новые нормы разрешали наклон пути, немыслимый в других местах: наименьший радиус кривых и виражей был снижен с 533 до 320 м.81 В силе осталась лишь норма ширины колеи (пять футов), принятая в России и превышавшая ту, что действовала в остальной Европе[106]. Подобные решения объяснялись целью, поставленной Комитетом Сибирской железной дороги – как можно скорее достичь конечного пункта назначения.
«Чрезвычайно важно, чтобы строительство Транссибирской дороги было завершено в кратчайшие сроки», – говорилось в официальном техническом задании и добавлялось, что «подобная настоятельность связана с удовлетворением безотлагательных стратегических интересов».82 Согласно упомянутому техническому заданию, Транссиб должен был обеспечивать ежедневный проезд трех поездов в каждом направлении, а в случае войны – семи. Предусматривалось, что скорость будет составлять 35 км/ч, а поездка по всей магистрали займет 10 дней и 10 ночей. Это и было главным. После введения в эксплуатацию первой линии выявленные недостатки предполагалось исправить в течение 12–15 лет.
Однако природа не стала дожидаться столь долго. После прохождения первых же поездов реальность настигла архитекторов проекта с их идеями low cost [низкой стоимости – англ.]. Рельсы прогибались под тяжестью составов, балластный слой начал рассыпаться, насыпи обрушились, мосты оказались снесены первыми паводками. Оказалось, что при подъеме в гору паровозы в состоянии тянуть не более 16 вагонов вместо 35-ти предусмотренных. Пришлось пустить дополнительные составы, что дезорганизовало движение по всей магистрали. Первые месяцы поезда ходили со средней скоростью не более 20 км/ч, которая была почти в четыре раза ниже скорости лучших европейских поездов того времени и далеко отставала от намеченной первоначально. В одном анекдоте на вопрос иностранца, удивленного этими обстоятельствами, русский пассажир отвечал: «А зачем ехать так быстро? Если кто-то уж так спешит, ему надо лишь сесть на предыдущий поезд».83 Едва Транссиб открылся, как на нем начались непрерывные ремонтные работы. По словам американского историка Таппера, «русские проделали первоклассную работу, построив третьесортную дорогу».84 В первые годы эксплуатации происходило в среднем три несчастных случая в день, количество жертв среди железнодорожников и пассажиров достигло 93-х85. Нередко случалось, что поезд простаивал на вокзале или в чистом поле, пока рабочие приводили в порядок путь, чтобы можно было ехать дальше.86
«Можно предположить, – говорилось в правительственном документе 1892 года с перечнем требований для проведения первого участка пути до озера Байкал, – что дорога будет завершена в три с половиной года, а точнее, за четыре лета и три зимы».87 Однако темп работ сразу же преподнес инженерам ряд неприятных сюрпризов. Обширная Барабинская степь, которую по генеральному плану пересекала идеально прямая линия длиной в несколько сотен километров, оказалась сущим адом. Местность была болотистой, поэтому главному инженеру Михайловскому пришлось вскоре принять решение о рытье дренажных канав. 1 208 км дренажных канав были прорыты с использованием лопат, кирок и тачек. Шпалы пилились на месте вручную рабочими, трудившимися по двое. Не хватало древесины: в рощах, произраставших вблизи дороги, не было достаточно твердых пород деревьев, и древесину нужно было доставлять с Урала либо сплавлять по крупным рекам. Не хватало камня или кирпича, которые приходилось привозить за несколько сотен километров от стройки. Не хватало даже питьевой воды для рабочих и воды для заправки паровозных котлов! Степная вода оказалась горьковато-соленой на вкус. После Томска перед строителями встали непроходимые леса, простиравшиеся на многие десятки километров. Почва там была рыхлой, и рабочим было велено сначала сооружать длинные бревенчатые настилы, а потом снова рыть дренажные канавы. При прокладке колеи через лес необходимо было также выкорчевывать деревья на расстоянии 150 м по обеим сторонам пути из страха перед большими пожарами, которые могли вспыхнуть от искр паровозов.
Однако более всего инженеры страдали от нехватки рабочих рук. Население Сибири оставалось еще столь незначительным, что нечего было и думать найти необходимые ресурсы на месте. В Западную и Центральную Сибирь рабочих завозили из европейской части России. Для работы на Дальнем Востоке было завербовано 15 тысяч китайских чернорабочих (кули), носивших грузы на плечах на концах длинных шестов. На самых сложных участках задействовали две тысячи квалифицированных работников, в том числе 500 итальянских каменщиков. И на всем протяжении будущей магистрали дирекция стройки прибегала к труду каторжников и ссыльных: служба исполнения наказаний выделила 10 тысяч заключенных для масштабных строительных работ. На сооружении магистрали трудилась настоящая армия: в самый разгар строительства 70 тысяч человек прокладывали путь через континент.
Через два года после начала работ инженеры рапортовали, что проложили более 800 км путей. Это было настоящим подвигом, однако результат несколько не дотягивал до плановых показателей. Далее к востоку условия стали еще более суровыми: вечная мерзлота была твердой, как скала, и чтобы преодолеть ее, приходилось прибегать к динамиту, а поскольку взрывчатки не хватало, огонь разводили на десятки километров, чтобы грунт оттаял. Иногда какая-нибудь река выходила из берегов, затапливая стройку. В 1897 году в Забайкалье грандиозное наводнение разрушило 15 мостов и сотни метров насыпей, что вынудило руководство строительством укрепить более 100 км пути. Переход Яблонового хребта грозил такими трудностями, что рассматривались 14 вариантов его преодоления. Участок вдоль Байкала казался столь устрашающим, что Комитет Сибирской железной дороги на время отложил его строительство. Когда в 1904–1905 годах дело дошло-таки до него, потребовалось пробить 39 туннелей и соорудить 400 мостов.
* * *
Опубликованные официальные данные впечатляют: 107 млн м² земляных работ, 10 550 м металлических мостов, переброшенных через крупнейшие реки, 37 км деревянных мостов, 10 млн шпал, 16 млн тонн перевезенных материалов.88 Строительство носило грандиозный характер. Оно явилось памятником камню и стали, разрезав Сибирь надвое. Ритм работ ускорялся: начиная с третьего этапа, ежегодно сдавали 650–740 км пути. Эта скорость была даже выше, чем при сооружении незадолго до того законченной Трансканадской магистрали, которая по длине уступала Транссибу на треть.
В соответствии с планами, утвержденными в 1891 году, огромная стройка была изначально разделена на четыре участка. Два первых (от Челябинска до реки Обь и от Оби до западного берега Байкала) прокладывались практически синхронно с третьим (от Владивостока до Хабаровска на Амуре) и четвертым (от восточного берега Байкала до Шилки, притока Амура). Четыре первых участка открыли для движения поездов летом 1900 года, в самый разгар Всемирной Парижской выставки. Пари, заключенное царем, было выиграно: самая длинная в мире железная дорога построена всего за десять лет. Правда, чтобы достичь Тихого океана из Петербурга или Москвы, еще требовалось сделать несколько пересадок: в ожидании завершения линии, огибающей Байкал, пассажиры садились на один из двух паромов, специально задуманных, чтобы пересекать озеро. Оказавшись на восточном берегу, поезд вновь отправлялся в путь, преодолевая расстояние в 1 100 км и достигая места впадения реки Шилки в Амур. Там следовало пересесть на пароходы, ходившие по Амуру до Хабаровска, где пассажиры делали последнюю пересадку на поезд, довозивший их до Владивостока.
Графики работ соблюдались, чего нельзя сказать о бюджете. По первоначальным подсчетам Министерства путей сообщения, стоимость прокладки железной дороги до Тихого океана составляла примерно 300 млн рублей; в 1892 году Комитет Сибирской железной дороги утвердил бюджет в 357 млн рублей. Для того времени это была внушительная сумма, однако уже на начальном этапе ее оказалось совершенно недостаточно. Несмотря на всю умеренность и подчас анекдотичные меры экономии, расходы резко взлетели, что было обусловлено такими факторами, как трудный рельеф и суровый климат, необходимость полной перестройки некоторых участков, громадные затраты на переправу через Байкал и организацию пароходного сообщения по Амуру, а также благоустройство территорий, прилегающих к магистрали. В правительстве предпочитали не распространяться об общей сумме, потраченной на прокладку великой Транссибирской дороги. Однако в 1904 году, еще до завершения строительства последующих веток через Маньчжурию и вдоль Амура, управляющий делами КСЖД А. Куломзин обнародовал первые цифры. В начале ХХ века Транссиб уже обошелся государству в 940 млн рублей. Чтобы осознать колоссальность этой суммы, достаточно напомнить, что в то время годовой бюджет всей Российской империи составлял около двух млрд рублей. К моменту же окончания строительства общая стоимость проекта, по подсчетам Валентина Борзунова, крупного советского специалиста по истории транспорта, достигла 1 млрд 46 млн рублей.89 В переводе на современные деньги строительство Транссиба обошлось бы немногим более 15 млрд евро.
Как с гордостью сообщалось в рекламном проспекте, поездка от Москвы до Владивостока занимала 10 дней, а от Парижа до Шанхая – всего 16. Императорские железные дороги особо подчеркивали, что это было вполовину меньше времени, затрачиваемого на то же направление при пользовании пароходом.
В действительности все выглядело не столь уж безоблачно, особенно в первые три года эксплуатации. Движение поездов замедлялось плохим качеством пути и нескончаемыми ремонтными работами, начавшимися сразу же после открытия линии. Случалось, что составы часами простаивали в чистом поле, причем, казалось, пассажиров это не особенно заботило. В одном русском анекдоте рассказывалось, что юные пассажиры Транссиба садятся на поезд за половинную стоимость, а выходят уже по взрослому тарифу – столь долгой могла оказаться поездка. И лишь иностранные пассажиры выражали свое неудовольствие. В начале ХХ века нашлось немало иностранцев, отправившихся в захватывающее путешествие на поезде по Сибири через степи и тайгу. Некоторые из них представляли крупные фирмы или торговые палаты, не желавшие упустить возможную коммерческую выгоду. Другие были христианскими миссионерами, направлявшимися в Китай. Находились и такие, кого просто манили приключения и экзотика. В эти годы было издано множество путевых заметок на французском, немецком и английском языках, раскрывавших перед заинтригованными европейскими читателями подробности необычайной поездки по Транссибу. Американский миссионер Френсис Кларк одним из первых воспользовался новым способом передвижения между Европой и Азией, и также одним из первых изумился неожиданно малой скорости движения по трансконтинентальной железной дороге: «Двести миль в день, то есть восемь миль в час. Расстояние, едва превышающее то, что могли бы преодолеть почтовые лошади, – замечает он полугрустно-полуиронически. – Причиной тому является бесконечная, совершенно немыслимая продолжительность стоянок на разных станциях. Наш поезд останавливается перед грудами бревен или деревянными домишками. Крестьяне, едущие тем же поездом, высыпают наружу, разводят огонь, варят похлебку или разогревают чай, а поезд все стоит. Как правило, нет никакой погрузки или разгрузки багажа, никаких новых пассажиров, ни одного встречного поезда. Вот паровоз пополнил запас воды, но мы снова ждем – полчаса, три четверти часа, целый час, пока, без всякой видимой причины, начальник станции звонит в большой колокол. Через пять минут он звонит снова. Немного погодя кондуктор свистит в свисток, машинист отвечает ему гудком паровоза, кондуктор свистит снова, машинист отвечает еще раз, и после этого обмена любезностями поезд спокойно трогается, чтобы через два часа все в точности повторилось на следующей станции».90 Знаменитый британский репортер Джордж Линч прибавляет к этому, что в любом случае, если пассажир опаздывал на поезд, он не мог сослаться на то, что его не предупредили. На всем протяжении пути, как пишет он, «я ни разу не видел опаздывающего русского, бегущего за поездом».91
Новый способ передвижения был не лишен определенной экзотики. Например, туннели, которых в империи степей и больших рек было немного, производили на русских пассажиров весьма сильное впечатление: «На минуту поезд погружается в темноту. Раздаются душераздирающие крики женщин и плач детей, но, когда снова становится светло, видно, что мужчины напуганы не меньше»,92 – с юмором замечает Джон Фостер Фрейзер.
Тем не менее, большинство первых иностранных пассажиров признают, что условия поездки приятно удивили их. Тот же Линч, которому было с чем сравнивать, поскольку он исколесил на поезде Соединенные Штаты, Канаду, Европу и даже Австралию, заключает, что «поездка по Транссибу столь же удобна, как и по всякой другой из лучших железных дорог мира».93 Даже если не все безупречно, как замечает Френсис Кларк, совершивший путешествие по магистрали незадолго до Линча, «достаточно проехать по равнинам, лежащим немного южнее Камчатки [sic], чтобы пресечь всякую критику со стороны самого отъявленного зануды».94 Что же касается английского коммерсанта Сэмюэла Тернера, целью которого было выяснить, не позволит ли этот новый вид транспорта перевозить в Европу тонны знаменитого сливочного масла, производимого сибирскими крестьянами, то он торжественно заявил своим читателям, что «три тысячи километров путешествия по Транссибу изматывают меньше, чем поездка из Лондона в Манчестер и обратно»95.
Подобное впечатление могло сложиться еще и потому, что иностранцы находились не в самых худших условиях, предпринимая столь долгое странствие по железной дороге. Составы, трижды в неделю отправлявшиеся к берегам Тихого океана с вокзала в Москве, были сформированы из вагонов, выкрашенных в разные цвета: темно-синий – первого класса, желтый – второго и зеленый – третьего. Вагоны первого класса были рассчитаны на 18 пассажиров, вагоны второго класса – на 24, вагоны третьего – на 36 человек, довольствовавшихся жесткими деревянными полками. Как правило, иностранцы бронировали места в первом классе.
Из окна поезда открывался сибирский пейзаж, зачастую на сотни километров отличавшийся однообразием. Перед взором путешественников проплывали бескрайние равнины, березовые рощи, сосновые леса, то и дело мелькали желтые деревянные домики, принадлежавшие железнодорожному ведомству. На каждый километр администрация поставила путевого обходчика, в обязанности которого входило несколько раз в день – как минимум за час до прохода каждого поезда – проверять состояние вверенного ему участка. За это смотрители Транссиба получали красивую форму и право пасти скот, сеять и косить траву в полосе отчуждения. При прохождении поезда, будь то днем или ночью, путевой обходчик либо кто-то вместо него (обычно это была жена, босоногая крестьянка) стоял навытяжку перед своей будкой, держа в руке зеленый флажок или фонарь дежурного в знак того, что все в порядке.96 Через каждые 20 км имелась водокачка для заправки водой паровоза. Через каждые 80 км располагался вокзал, иногда построенный в совершенно безлюдном месте, с залом ожидания и буфетом, быстро ставшим одним из самых излюбленных мест русского общества. Наконец, заметно реже, на пути следования поезда возникал вокзал «первой категории» с отдельными залами ожидания для трех классов пассажиров, ресторанами, дамской комнатой, телеграфом и специальными помещениями для членов императорской семьи.97
В вагонах ярко-синего цвета работал ресторан, где пассажиры могли есть столько раз, сколько вздумается, «то есть часто»,98 – замечает Джон Фрейзер. Особо взыскательным пассажирам выбор блюд мог показаться там несколько однообразным, однако Сэмюэл Тернер, британский коммерсант, полагал, что меню из супа, двух вторых блюд, десерта и чая в неограниченном количестве было «на уровне хорошей английской гостиницы для деловых людей»,99 – формулировка, допускающая различные толкования. Подкрепившись в ресторане, гости разваливались в кожаных креслах смежного с ним салона, где под звуки рояля, предоставленного железной дорогой, начиналась партия в карты или домино. Если пассажиров не смущало, что новости были не слишком свежими, они могли захватить с собой иностранные газеты на вокзале в Москве. Статьи, посвященные российской политике, были в них тщательно замараны черными чернилами, которые самые изобретательные или праздные путешественники тем не менее умудрялись размыть. Сервис в первом классе дополнялся умывальником с большим баком для горячей и холодной воды, туалетом и душем, который иностранный гость «обнаружит с благодарностью и облегчением, если предыдущую ночь он провел за столом в компании общительных, радушных русских офицеров»,100 – пишет Линч.
Однако все это меркло в сравнении с вагонами «Международного общества спальных вагонов», модель которых была сначала показана на Парижской Всемирной выставке: их прицепляли к некоторым русским составам. Увы, таких вагонов, предлагавших невиданные удобства, было не очень много, и путешественнику приходилось подчас целый месяц дожидаться места. Сев на поезд, он попадал в обволакивающую атмосферу роскоши и неги. В вагоне-ресторане вся посуда была фарфоровой; вышколенные официанты знали несколько языков и наперебой расхваливали подаваемые блюда на немецком, французском, английском, русском, а то и китайском языках. В купе, стены которых были обшиты кленовыми досками, имелась фарфоровая ванна, форма которой была специально и «хитроумно задумана, чтобы не допустить выплескивания воды через края».101 Летней порой между потолком купе и крышей вагона помещали куски льда, чтобы сохранять прохладу. Самые состоятельные пассажиры могли воспользоваться также услугами парикмахера, принимавшего в кабинете, обшитом белым кленом (явором). Железнодорожной компанией был даже предусмотрен специальный вагон-церковь, где служил священник: этот «передвижной храм» Транссиба, как он именовался в рекламном проспекте, был украшен иконами и увенчан небольшой колокольней. Правда, редко кто из гостей заглядывал туда, и в скором времени вагон с Покровской церковью был приписан к одному из барачных городков, где проживали рабочие гигантской стройки.
На подступах к вокзалам, в залах ожидания, на перроне и даже в вагонах поезда, через которые с любопытством проходили разные пассажиры, сталкивались чуждые друг другу социальные и этнические миры. Прежде было невозможно, чтобы в одном месте встретились высокопоставленный чиновник, отправившийся за новым назначением, богатый купец из Иркутска или путешествующий аристократ и, с другой стороны, семья безземельного крестьянина. Железная дорога, олицетворявшая собой модернизацию русского общества, превратилась в зону социальных контактов. Причем к Транссибу это относилось в большей степени, чем к любой иной дороге, поскольку по нему в направлении неосвоенных земель Сибири и Дальнего Востока в поисках счастья ехали сотни тысяч беднейших крестьян. «Многие из моих попутчиков были мужиками, – рассказывает английский писатель Джон Фостер Фрейзер, посетивший также и вагоны для низших классов, – угрюмые мужчины в бараньих шапках, придающих им свирепый вид, они обряжены в одежду из грубой ткани, с ногами, обернутыми тесно связанными мешками вместо сапог. Женщины толстые и невыразительные, хотя их наряды зачастую поражают яркостью своей расцветки».102 Большинство подобных пассажиров дальнего следования приобретало билет третьего класса. «Они набились в эти вагоны, как сардины в банку, – рассказывает коммивояжер М. Шумейкер. – Вы рискуете своим здоровьем, пытаясь пройти через них». Так обстояло с третьим классом. Однако беднейшая публика довольствовалась так называемым «пятым классом», представлявшим собой товарные вагоны с нарами или вагоны для скота, на дверях которых красовалась надпись «12 лошадей или 24 человека».103 «Пятый класс?» – удивленно спросил у проводника иностранный журналист, и якобы получил такой ответ: «Если бы это был четвертый, в вагонах имелись бы окна».104 Вагон этой категории был всего-навсего хлевом на колесах. Обычно в нем ехала семья из трех поколений: «Старики-родители, муж с женой в расцвете сил, их дети и обитатели скотного двора, оставленного где-то далеко в России. Три коровы и полдюжины овец жуют сено или траву, лежа на соломе и навозной жиже, поднимающейся до самых колен. Сваленные тюки сена, достигающие крыши вагона, служат обиталищем для кур, индюшек и уток. В углу спят две здоровенные собаки».105
Эти крестьяне и были настоящими пользователями новой трансконтинентальной магистрали. По утверждению некоторых авторов проекта, Транссиб появился на свет также для них, – и даже прежде всего именно для них. Ведь главное предназначение этой дороги заключалось в том, чтобы наконец-то стала возможной колонизация неосвоенных земель Сибири.
* * *
Миграция в Сибирь крестьян из европейской России, Польши, Белоруссии или Украины имела к тому времени уже давнюю историю. Как только возникли остроги, основанные первопроходцами и охотниками за пушниной, государство постаралось привлечь земледельцев на эти новые территории, чтобы было чем кормить и чем удержать поселенцев. Миграционный поток возрос с открытием первых рудных месторождений: острая нехватка рабочей силы не могла быть удовлетворена за счет немногочисленных искателей приключений, отправившихся попытать счастья на Востоке. Уже императрица Екатерина II во второй половине XVIII века нашла новый способ решения проблемы нехватки населения в Сибири: она распорядилась ссылать туда захваченных участников крестьянских восстаний, сотрясавших ее царствование, а когда возникла необходимость пополнить ряды работников – также и обычных крестьян, которых отправляли без всякой вины. Не желая понапрасну растрачивать ресурсы, которые могли пригодиться на новых землях, Екатерина отменила смертную казнь, заменив ее сибирской каторгой. Про нужду закон не писан, да к тому же новую меру приветствовали Дидро и его друзья-энциклопедисты, давно уже призывавшие царицу действовать в этом направлении, чтобы цивилизовать Россию. Это были первые массовые ссылки в Сибирь для принудительного труда. И не последние.
Иммиграция продолжалась на протяжении десятилетий, а потом и столетий. Чаще всего она носила разрозненный и почти тайный характер. Вглубь Сибири направлялись крестьяне, стремившиеся уклониться от долгов, либо беглые крепостные. Сибирь манила их своими огромными просторами, где можно было затеряться и начать жизнь заново, в их глазах она была единственным пространством свободы во всей Российской империи. В 1830 году в ответ на предложение некоторых своих приближенных установить крепостнические порядки в новых владениях за Уралом Николай I начертал резолюцию, поставившую крест на всяких разговорах такого рода: «Крепостное право в Сибири ни в каком виде быть не должно».106 С тех пор огромная провинция, словно магнит, привлекала беглецов, бунтарей и крестьян, искавших простора и воли. Сибирское крестьянство, хотя и находившееся в зачаточном состоянии, уже отличалось особыми свойствами. «Российский крепостной крестьянин, воспитанный кнутом и страхом, оказавшись в Сибири, перерождался, становился другим. В отличие от своего собрата в России, он не ломал шапку перед барином, не страшился начальственного гнева, мог постоять за справедливость, а облеченного властью самодура послать куда подальше. На Бога надеялся, но больше сам не плошал»,107 – пишет Владимир Ламин, специалист по истории Сибири. В поисках отдаленного пристанища беглый крестьянин мог идти порой месяцами, пока не достигал заветной цели. Он двигался тайными путями, параллельными тракту, подальше от почтовых станций и военных застав. К середине XIX века насчитывалось несколько тысяч, а пожалуй, и около десятка тысяч крестьян, пытавшихся подпольно проникнуть в недавно завоеванные и колонизованные области. Им приходилось обустраиваться не только без всякой помощи со стороны государства, но и без ведома последнего, стремясь по возможности не быть занесенным в официальный реестр. Если же беглец попадался, его ссылали в том же самом направлении, но уже закованным в кандалы.
Все изменилось в 1861 году с отменой крепостного права царем Александром II. Освобожденные крестьяне зачастую оставались без земли либо с наделами, которые были слишком малы для пропитания их семей. В последнем десятилетии XIX века 8 млн крестьян имели наделы менее чем в полтора гектара, что обрекало их с домочадцами на беспросветную нужду. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что в Российской империи наблюдался тогда значительный демографический рост, в результате чего ее население ежегодно увеличивалось на 1,5 млн новых «душ». Социальная напряженность резко возросла, что выливалось в сельские бунты. Некоторые крестьяне из польских губерний стремились эмигрировать в США или Бразилию, а крестьяне из русского Черноземья потянулись к кубанским равнинам на юге России, надеясь обустроиться там. Именно тогда царское правительство стало понимать, что спасительной отдушиной могут стать сибирские земли, открытые для колонизации. Прежде Сибирь не могла претендовать на привлекательность для большого числа добровольных переселенцев: поездка по Сибирскому тракту была чрезвычайно долгой и утомительной, либо требовалось плыть на корабле из черноморских портов до Дальнего Востока, что занимало более четырех месяцев, а расходы на такое путешествие превышали возможности людей с более чем скромным достатком. Как правило, русские переселенцы в Сибири сразу же оседали там, где находили пригодные для себя земли: две трети из них пустили корни в Западной Сибири – в Тобольской и Томской губерниях, ближе всего прилегающих к Уралу, а ехать в Забайкалье, Приамурье и на Дальний Восток не желали. С точки зрения государства и его интересов в Сибири, подобное развитие было непродуктивным. Империя нуждалась в переселенцах. «Эмиграция способствовала бы установлению и развитию русской цивилизации, она быстро и прочно связала бы русские владения в Азии с европейской Россией», – написал А.Н. Куломзин в своем отчете о возможной переселенческой политике в Сибири.108 В свою очередь в докладе Императорского Русского географического общества, представленном государю в 1882 году, число переселенцев, которых Сибирь смогла бы быстро принять и накормить, оценивалось в 15 млн. Переселенческая политика могла упрочить русское присутствие в районах, где туземного населения насчитывалось столько же, а то и больше, чем русских. Наконец, военные выступали за быструю колонизацию территорий, прилегающих к Китаю. Как подчеркивалось в «Журнале Комитета Сибирской железной дороги»: «С единственной целью укрепления российского форпоста перед бескрайними пространствами, занятыми желтой расой, должны быть предприняты все меры, чтобы облегчить предоставление земли крестьянам, которые могут там обосноваться».109 Доклад экспертов, подготовленный для Комитета, был предельно ясен в этом вопросе: «Опасность мирного захвата наших владений китайскими правителями слишком велика, чтобы не видеть, что колонизационная политика в этом районе [Дальний Восток] преследует прежде всего политические цели».110
И вновь не обошлось без резкого противодействия. Помещики, и так уже изрядно пострадавшие вследствие отмены крепостного права, встречали в штыки любой проект поощрения миграции. В своих «Воспоминаниях» Сергей Витте рассказывает о сопротивлении со стороны дворянства, опасавшегося сразу нескольких вещей: массового исхода крестьян, исчезновения дешевой рабочей силы, необходимой помещикам, и беспорядков, к которым неизбежно приводило всякое изменение векового уклада.111 Однако в 1889 году, по настоянию, Витте Александр III распорядился иначе. Был издан закон, отныне призванный разрешать и поощрять добровольное переселение в Сибирь. При условии, что кандидат в переселенцы был свободен в своих действиях и не обременен долгами, он мог направляться на Восток, воспользовавшись уже проложенными участками Транссиба. Для него предусматривался специальный тариф в вагонах третьего класса.
Новая магистраль стала главным орудием этой новой политики колонизации азиатской России, опять-таки вдохновленной американским примером. В начале доклада экспертов, подготовленного для Комитета Сибирской железной дороги в 1892 году, говорилось следующее: «Самый поразительный и убедительный пример благотворного влияния железной дороги на пересекаемые ею районы предоставлен нам Северной Америкой. Действительно, под ее воздействием некоторые штаты за короткое время преобразились до неузнаваемости».112 Подобно линиям, проложенным в американских прериях, железнодорожные пути, которые Россия собиралась провести через сибирские степь и тайгу, должны были позволить тысячам переселенцев пересечь континент и вступить во владение землями, что были им обещаны вдоль всей магистрали и на расстоянии 200 км по обе стороны от нее. Это был решающий поворот: впервые в истории России железная дорога стала инструментом демографической политики. Также впервые предпочтение было отдано перевозке пассажиров, а не грузов. Подобная картина мало походила на ту, что некогда, в самом начале развития железнодорожного транспорта в России, виделась полковнику Богдановичу, мечтавшему о перевозках зерна.
Поначалу эта новая политика осуществлялась со скрипом. Многие крестьяне, изъявлявшие желание отправиться в дальние края, наталкивались на противодействие местных властей, отказывающихся выдавать им документы. Кто-то уже продал все свое имущество и поехал, не дожидаясь официальных бумаг, что ставило его фактически в положение нелегального мигранта. В 1893-м, а затем в 1895 году Комитет Сибирской железной дороги, в котором Сергей Витте курировал отныне внутрироссийскую миграционную политику, издал постановления, еще больше стимулировавшие переезд. Были выпущены «Временные правила для образования переселенческих и запасных участков в районе Сибирской железной дороги». В соответствии с ними запрещалось насильственно возвращать домой беспаспортных кандидатов на переселение. Особенно важное значение имело то, что вновь прибывшие получали право на 15 гектаров пашни (целая усадьба с лесами и пастбищами) на душу трудоспособного мужского населения. Кроме того, им предоставлялась трехлетняя отсрочка от военной службы, а также освобождение от всех налогов на тот же срок с пониженным налогообложением в течение трех последующих лет. Нуждающиеся в денежных средствах могли получить беспроцентную ссуду. Что касается рабочих-железнодорожников, ремесленников и служащих, которых государство также стремилось привлечь, им выделялись участки земли рядом с магистралью размером до гектара, что было достаточно для огорода.
В 1862–1885 годах в среднем 12 тысяч человек ежегодно переселялись в азиатскую Россию. Статистика была не совсем точной, в зависимости от того, регистрировались ли переселенцы в полицейских участках первых же городов либо делали они это в более удаленных местах, расположенных вдоль магистрали. Однако после сдачи в эксплуатацию первых же участков Транссиба ежегодное число переселенцев, проехавших по нему, достигло 40-а, а затем и 50-ти тысяч. В 1900 году по Транссибу проследовало на восток 225 тысяч переселенцев. За несколько десятилетий население Сибири удвоилось. Накануне Первой мировой войны Транссиб перевез из Европы в Азию более 5 млн крестьян. За тот же самый период (1896–1914) население России возросло на 30 млн.113 Вне всякого сомнения, Транссибирская магистраль способствовала снижению демографического и социального напряжения, на что власти и рассчитывали.
Чтобы ускорить этот процесс, правительство поощряло крестьянскую инициативу на местах, а именно отправку «в разведку» представителей семей или даже целых деревень. Последние – их называли «ходоками» – посещали обещанные земли, чтобы удостовериться в их качестве и прикинуть возможное распределение участков между новопоселенцами. С целью облегчения таких поездок ходокам предоставлялись специальные льготы. Цена билета для них составляла одну четверть от стоимости третьего класса. В конце XIX – начале XX века именно таким образом тысячи крестьян совершили свою первую поездку в Азию. На местах около ста семейных наделов, площадь которых определялась «Правилами Комитета Сибирской железной дороги», группировались вместе, чтобы образовать будущую сибирскую деревню. Между вновь прибывшими распределялись также непахотные земли, леса и пастбища с предоставлением права рубки до 200 деревьев для строительства усадьбы и 20 – для строительства бани,114 являвшейся непременным атрибутом семейной жизни. Правда, государство оставило за собой право собственности на любой вид полезных ископаемых, в том числе драгоценных камней, которые в дальнейшем могли быть обнаружены под землей.
Несмотря на эти выгодные условия, обустройство новопоселенцев протекало тяжело. «Очень мало таких, кто в состоянии удовлетворить свои потребности в течение первого года, засеяв полгектара пшеницы. Лишь через три-пять лет самые бедные поселенцы кое-как выбиваются из нужды и могут думать об устройстве своих дел с прицелом на более длительный срок»,115 – говорилось в докладе экспертов, подготовленном для Комитета Сибирской железной дороги. Это сухое статистическое заключение не в состоянии передать трагическое разочарование многих переселенцев, потерпевших неудачу в том, что, как правило, было их последней надеждой. Плохой первый урожай, особо суровая зима, незнание местных условий могли быстро сломить волю приезжих. Некоторые из них, доведенные до отчаяния голодом, были вынуждены возвращаться в свои родные деревни, где у них не осталось ни кола ни двора. Англичанин Джон Фрейзер видел таких крестьян на иркутском вокзале, где они пытались сесть на поезда, отправлявшиеся в европейскую часть России. Кто-то ему сказал про них: «Никудышные это люди, возвращаются к своей убогой жизни на юге России. Они приехали сюда по бесплатным билетам два, три или более лет назад и получили земли от правительства. Но они говорят, что не могут здесь жить».116 Официальный доклад проникнут бо́льшим сочувствием к несчастным: «Оборванная, впавшая в нужду, измученная долгим путем и потерявшая до половины своих детей, семья поселенца, возвращающаяся в Россию, лишена будущего, и ей остается лишь побираться по дороге Христа ради. Перед ними никаких перспектив: прежний их надел был передан общине, дом и скот проданы, и они возвращаются назад, повинуясь слепому рефлексу, из ощущения, что им нужно уехать, покинуть эти злосчастные края».117 Согласно докладу, доля поселенцев, потерпевших неудачу в попытке обосноваться на новом месте, составляла 17 % от общего их числа. После 1900 года количество тех, кому придется распроститься со своей сибирской мечтой, будет доходить иногда до 100 тысяч в год.
Тем не менее приток переселенцев продолжался. Его интенсивность несколько уменьшилась в 1905–1906 годах, когда слухи об аграрной реформе или революции достигли деревни: у многих крестьян зародилась надежда получить больше земли, не обрекая себя на ссылку в азиатскую часть России. Однако начиная с 1907 года миграционный поток возобновился с большей силой. В эти годы в Сибирь со своим нехитрым скарбом переселились 550–750 тысяч крестьян. Комитет Сибирской железной дороги работал над совершенствованием своей колонизационной стратегии. Была предпринята попытка сделать программу переселения более привлекательной в глазах крестьян-середняков, которые, как правило, были лучше образованы и более подготовлены к новой жизни. В особенности же Комитет стремился привлечь поселенцев в отдаленные районы, расположенные на тихоокеанском побережье и вдоль китайско-маньчжурской границы, где новопоселенцев было мало, а власти спешили усилить русское присутствие. Чтобы убедить крестьян предпринять это еще более долгое и утомительное путешествие, государство увеличило предоставляемые льготы: вдоль магистрали были открыты бесплатные медпункты и буфеты для будущих поселенцев. Всем желающим обосноваться на Дальнем Востоке было обещано денежное пособие, размер которого на 50 % превышал обычное. Кроме того, правительство обещало российское подданство любому американцу славянского происхождения, готовому пересечь Тихий океан, с одним лишь условием, а именно: чтобы он «не был заражен социалистическими теориями».118 Чтобы подать пример кандидатам на переселение и обнадежить их, государство перевело несколько сот донских казаков вместе с семьями, оружием и имуществом в Приамурье и бассейн реки Уссури. Именно там, на краю света, в самой восточной части российских владений, развернулись последующие события сибирской эпопеи.
Желтороссия
Царствование последнего из Романовых началось официально в Москве 14 мая 1896 года. Минуло уже 18 месяцев после смерти Александра III, царя, инициировавшего строительство Транссиба. Он скончался от осложнений, вызванных почечной недостаточностью, в своем Ливадийском дворце в Крыму. Однако, по традиции, его сын, наследник-цесаревич Николай, должен был венчаться на царство в Успенском соборе Московского Кремля, чтобы носить свое новое имя Николай II.
Для придания событию подобающих размаха и торжественности были объявлены три праздничные недели. В Москву были направлены 82 батальона и 36 эскадронов, образовавшие внушительный кортеж. Чтобы подчеркнуть историческую важность торжеств, кремлевские стены и колокольня Ивана Великого, возвышающаяся над древней твердыней из красного кирпича, украсились электрическими гирляндами, которые внезапно вспыхивали, высвечивая имя новой молодой императрицы Александры Фёдоровны, урожденной Алисы Гессен-Дармштадтской. Весь двор перебрался в Москву из столичного Санкт-Петербурга; все иностранные державы были также представлены высокими гостями, чьи временные резиденции соединялись с Кремлем телеграфными линиями. Среди этих делегаций особо выделялась китайская, руководимая Великим канцлером Ли Хунчжаном, самым высокопоставленным чиновником в китайской иерархии: поговаривали, что именно он является подлинным обладателем власти в самом сердце Запретного города. Ли Хунчжан был главным инициатором и разработчиком военных реформ, начатых Китаем более десятилетия назад: для модернизации подготовки солдат он пригласил европейских инструкторов, организовал первые в Китае арсеналы, заложил основы военной промышленности, а на севере страны, представлявшем особый интерес для соседней России, создал и вооружил новый флот, призванный, как полагали, помочь Китаю отразить вторжение колониальных экспедиций иностранных государств, которые на протяжении полувека то и дело вторгались в страну, навязывая ей унизительные договоры. Для базирования нового северного флота Ли Хунчжан распорядился укрепить побережье Ляодунского полуострова, который в скором времени вошел в историю благодаря незамерзающему порту Люйшунь, более известному под европейским названием Порт-Артур[107]. Великий канцлер, пользовавшийся доверием всесильной вдовствующей императрицы Цыси, считался среди европейцев самой влиятельной фигурой этого слабого режима, сторонником модернизации и возможным переговорщиком. В Москве все наперебой стремились получить у него аудиенцию, ведь Ли Хунчжан впервые в своей жизни покинул пределы Китая.
Отправив на коронацию столь именитого, могущественного сановника, Срединная империя желала подчеркнуть ценность и значимость отношений, отныне поддерживаемых ею с Россией. Более того, в последние годы XIX века Империя Романовых выступала в глазах пекинского двора единственным по-настоящему заслуживающим доверия партнером, тогда как другие западные державы грызлись друг с другом в стремлении отхватить что-нибудь у слабеющего Китая. К англичанам и французам, которые на протяжении нескольких десятилетий занимались «дипломатией канонерок», пытаясь установить контроль над главными торговыми городами Китая, теперь присоединились немцы, все усиливающиеся и полные решимости урвать свой кусок колониального пирога. Наконец, активизировались и японцы, которые только что бесповоротно покончили со столетиями изоляции и тоже претендовали на участие в перераспределении сил и богатств, происходившем тогда на Дальнем Востоке. В 1894 году Япония внезапно начала войну против Китая, застав его совершенно врасплох. Военные действия продолжались недолго: к изумлению европейцев, не подозревавших о наличии у нее столь мощной ударной силы, островная Япония без труда расправилась со своим континентальным соседом, утвердившись в статусе новой восходящей азиатской державы, и захватила Ляодунский полуостров вместе с Порт-Артуром, новым китайским военно-морским плацдармом. Некоторое время европейцы опасались, что японцы собираются прочно обосноваться на этом полуострове, выгодно расположенном у ворот Северного Китая. Следовало ли при колониальном разделе Китая теперь считаться с этим новым азиатским игроком? По крайней мере в этом вопросе между европейцами, считавшими такую перспективу неприемлемой, царило единодушие. Россия, Германия и Франция выступили единым фронтом, добиваясь от японцев вывода своих войск из Китая.
Микадо предпочел не провоцировать три сплотившиеся европейские державы, однако в обмен на вывод своих войск он потребовал дополнительную контрибуцию с Пекина. Для и без того уже обескровленного Китая эти денежные выплаты были непосильным грузом. В европейских канцеляриях поговаривали, что Япония направит эти колоссальные суммы на строительство нового флота, соответствовавшего ее возросшим амбициям. Россия помогла Китаю собрать требуемые средства, выступив посредником в переговорах последнего с крупными французскими банками, своими главными партнерами. В числе банков, согласившихся профинансировать Китай в обмен на русские гарантии, были Парижско-Нидерландский банк и банк «Лионский кредит». В знак признательности за эти усилия Ли Хунчжан и прибыл в Москву с надеждой, что новый царь Николай продолжит политику добрососедства.
Столь оглушительный выход Японии на военную сцену всполошил русских стратегов, заставив их полностью пересмотреть основы своей дальневосточной политики. С середины XIX века в императорской России существовал устойчивый страх перед повторением на ее азиатском фланге сценария Крымской войны, когда союзный англо-французский флот оказался способен захватить или угрожать всем русским владениям на Тихом океане – от Аляски до устья Амура. С того времени Великобритания неуклонно наращивала свою мощь, утвердившись в роли бесспорного лидера на морских просторах. Открытие Суэцкого канала в 1869 году еще более усилило ее натиск, позволив британскому флоту, который де-факто контролировал новую водную артерию, прорытую в песках, быстро достигать Тихого океана. Гонконг, уже оказавшийся в руках англичан, стал столь же оживленным портом, как и Лондон. Открытие Трансканадской железной дороги позволило еще более сократить время возможной переброски войск из Европы на азиатский театр военных действий. Если при использовании Суэцкого канала на это требовались 52 дня, то при транзите через Северную Америку – всего 37. Указанное время не превышало необходимого России срока для переброски возможного подкрепления во Владивосток, поскольку в середине 1890-х годов Транссибирская магистраль не достигла еще даже Байкала. Опять-таки англичане (кто же еще?) предложили китайцам провести новые железнодорожные линии на север страны и в Маньчжурию: по некоторым донесениям, поступившим в Петербург, британцы якобы подстрекали Запретный город силой вернуть территории по Амуру и на Дальнем Востоке, уступленные России.119 В сознании русских руководителей Англия возглавляла список потенциальных противников. Вплоть до молниеносного вторжения» Японии в Китай русские стратеги были озабочены одной Европой: Европа стояла в центре их мира, поэтому конфликт в Азии воспринимался ими лишь как расширение войны между европейцами.
На исходе века к английской угрозе добавилось новое беспокойство: давление Китая, этого ослабевшего колосса, ставшего непредсказуемым с тех пор, как правящая династия оказалась зажата в тисках между европейскими агрессорами и внутренними восстаниями. Пока проекты Транссиба лежали под сукном в петербургских кабинетах, губернаторы, сменявшие друг друга в Сибири, нагнетали страх перед Китаем в надежде разбудить правительство.120 С 1880-х годов. Все увеличивающийся наплыв китайских крестьян в Маньчжурию для возделывания ее богатых земель вызывал обеспокоенность сибирских властей. В 1890 году провинция Маньчжурия, одна из наименее населенных в Китае, насчитывала более 10 млн жителей, тогда как русские поселения на Амуре – менее 100 тысяч. В отношении снабжения зерном русский Дальний Восток почти полностью зависел от китайцев Маньчжурии, что усиливало страхи перед превращением этого демографического и экономического превосходства в политическую или военную реальность.
* * *
В одном из своих первых обращений после кончины своего отца новый царь сразу же выразил твердую решимость продолжить строительство Транссиба: «Эту миссию я получил от своего возлюбленного отца. Надеюсь успешно завершить сибирскую железную дорогу, начатую им…».121 С этого момента необходимость отражения возможных нападений со стороны англичан и китайцев наконец-то обеспечила Транссибу поддержку многих других кругов, близких к власти. В первую очередь это были, разумеется, военные. Однако и деловые круги, долгое время выражавшие озабоченность финансовыми последствиями этого мало интересного, с их точки зрения, авантюрного проекта через всю Азию, постепенно встали на его сторону. Как полагали тогда, перед лицом коварного Альбиона и объятого смутой Китая магистраль, соединяющая европейскую часть России с Дальним Востоком, становилась насущной необходимостью.
Японское вторжение изменило все. Россия внезапно оказалась не перед гипотетическими сценариями, а перед лицом неожиданного конкурента, продемонстрировавшего своей войной против Китая, что у него имеются виды на территории, непосредственно прилегающие к России – Маньчжурию и независимое Корейское королевство. Откуда было знать, где остановятся японские амбиции? Владивосток, отрезанный от далекой Москвы, вдруг предстал во всей своей уязвимости. Кроме того, Маньчжурию и Корею в консервативных властных кругах считали входящими в сферу российского влияния, поэтому не было и речи о том, чтобы Япония действовала в этой части мира, как ей заблагорассудится.
Что же следовало предпринять? Главный морской штаб, возглавляемый Великим князем Александром, племянником царя, потребовал выделения экстренных средств на вооружение и снабжение русского Тихоокеанского флота, находившегося еще в зачаточном состоянии. Однако государственные финансы были и без того уже сильно обременены, большинство же в правительстве крайне скептически относились к сдерживающей способности флота, изолированного на Тихом океане, перед лицом угрозы со стороны японского флота, тыловые базы которого находились в непосредственной близости[108]. А вот Транссибирская магистраль, строительство которой было тогда в самом разгаре, представлялась главным инструментом отпора. С выходом железной дороги на побережье Тихого океана русская армия должна была получить жизненно необходимую линию снабжения и подвоза. Подкрепление смогло бы достаточно оперативно прибыть во Владивосток для отражения наступления японцев. Железная дорога сулила выгоды не только военного характера – она содействовала экономическому и демографическому развитию региона. Более того, магистраль превращалась в новый путь для транзитной торговли между Азией и Европой, причем и Япония могла бы извлечь из нее пользу для себя.
Адвокатом Транссиба опять выступил Сергей Витте. В новом геополитическом раскладе министр финансов увидел великолепный повод для продолжения и ускорения реализации столь дорогого его сердцу проекта трансконтинентального пути. В резком изменении геополитического положения на Дальнем Востоке бывший железнодорожный служащий, ставший главной фигурой в правительстве царя Николая, усматривал даже новый шанс для России: возможность заключить с Китаем оборонительный союз, снискать расположение старой вдовствующей императрицы Цыси ввиду агрессивных поползновений Японии и европейских держав. Это означало стратегический разворот, ведь династия Романовых впервые решилась подставить плечо династии Цин, выступая в качестве ее покровительницы. Творцом этой политики был Витте. В одном из своих выступлений он заявил: «В колониальной политике Россия не нуждается, ее внешние задачи не только мирного характера, но даже наиболее культурного в истинном смысле этого слова, ибо миссия России на Востоке в противовес стремлению западно-европейских держав к экономическому и нередко политическому порабощению народов Востока должна быть миссией охранительной и просветительной. На долю России естественно выпадает защита сопредельных ей восточных стран, находящихся в сфере ее просветительного влияния, от чрезмерных притязаний, политических и колониальных, со стороны других держав».122
Не все в Петербурге разделяли данную точку зрения. Многие адмиралы, а также консервативный клан, включая Великого князя Александра, высоко ценимого новым государем, были склонны видеть в слабости Китая удобную возможность еще более расширить русские владения в Азии. Некоторые генералы даже не скрывали своего стремления аннексировать всю Маньчжурию, которую они рассматривали в качестве «естественной собственности» Российской империи, по выражению командующего русскими войсками в Забайкалье.123 Высшие флотские чины особенно заглядывались на Ляодунский полуостров, который японцы оставили незадолго перед тем. Коммерческий порт Далянь и уникальная гавань Порт-Артура могли бы, по их мнению, стать незамерзающими глубоководными портами – более удобными, нежели Владивосток, расположенный севернее, на побережье Японского моря. Трения между сторонниками сотрудничества с Китаем и теми, кто ратовал за его завоевание, приобретали особую остроту в связи с тем, что Николай, еще не помазанный на царство, не располагал пока никаким естественным авторитетом в своем окружении. В своих «Воспоминаниях» Витте рассказывает о нескольких таких обсуждениях за закрытыми дверями с участием министров и высших армейских чинов, где разгорались жаркие споры по поводу будущего Китая. На одном из них, состоявшемся подальше от посторонних глаз, в квартире товарища министра иностранных дел, Витте отстаивал идею стратегической, долгосрочной поддержки Китая, заявив, что «весь интерес России на многие и многие годы заключается в том, чтобы Китай оставался тем, чем он есть». И заключил: «Для этого необходимо всеми силами поддерживать принцип цельности и неприкосновенности Китайской империи».124
Железная дорога – его железная дорога – была для Витте соединительным звеном этого неравного союза между двумя династиями под занавес их существования, в некотором роде орудием имперской антиимпериалистической политики, отголоски чего звучат даже в составленном в те годы путеводителе по Транссибу: «До настоящего времени жизнь азиатского мира протекала в стороне от всего. Азия находилась в контакте с европейской культурой и цивилизацией лишь внешне, будучи объектом жестокой эксплуатации. В отличие от этого, политика России на Востоке неизменно преследует иные цели, стремясь к поддержанию мира на всех огромных пространствах, лежащих у ее границ, к взаимному благу народов. …Увеличение русского населения на Востоке окажет также значительное влияние и на политическое положение в Азии: оно даст возможность развернуть национальные силы и создать действительную гражданственность, что становится тем необходимее, что азиатские государства, как Япония и Китай, начинают выходить из положения прежнего застоя».125
При помощи этой политики протянутой руки униженному Китаю Витте предполагал решить также и другую трудную проблему, связанную с завершением строительства Транссиба. На момент появления Японии для окончания магистрали не хватало двух важнейших участков. Для пересечения Байкала по-прежнему была необходима переправа на одном из двух паромов, специально закупленных императорскими железными дорогами в Великобритании. Но и это было возможно лишь в свободный от льда период. Когда же лед устанавливался, то есть с декабря по май, пассажирам требовалось пересаживаться на сани и проделывать путь примерно в 100 км, чтобы достичь другого берега и вернуться в уютный вагон. Этот разрыв линии мог парализовать движение на несколько дней и даже недель, что было неприемлемо с военной точки зрения. Миновав Байкал, строящаяся дорога продолжалась на восток и останавливалась в верховьях Амура, где нужно было снова пересаживаться на пароход и плыть более 1 000 км по реке с переменчивым, своенравным течением. Официальный проект предусматривал прокладку железнодорожного пути вдоль Амура, сквозь тайгу и сопки, где преобладала вечная мерзлота. Витте был известно, что эта часть магистрали обойдется очень дорого для казны, ведь геологические экспедиции, вернувшиеся с Амура в 1893 и 1894 годах, представили неутешительные отчеты. Кроме того, в Хабаровске требовалось возвести мост через Амур длиной 2,5 км. Наконец, все указывало на то, что столь протяженный участок пути окажется нерентабельным, поскольку пересекаемый им район был практически безлюдным и мало пригодным для жизни поселенцев.
Тогда министр финансов принялся искать другие решения. В этом он мог рассчитывать на своего преемника в кресле министра путей сообщения, Михаила Хилкова, человека незаурядной судьбы. Наследник знатной помещичьей семьи, Хилков в молодости раздал бо́льшую часть своих земельных владений крепостным крестьянам, после чего подался в Америку, где стал обучаться по специальности, связанной с новой железнодорожной отраслью. Он работал машинистом и кочегаром, затем три года пробыл министром в Болгарии и, наконец, вернулся в Россию.126 Аристократ-«расстрига», питавший жадный интерес к новой промышленности, и к тому же железнодорожник: нетрудно представить, как все это импонировало Сергею Витте. Совместными усилиями они разработали необычный маршрут Транссиба: вместо того чтобы тянуть дорогостоящую ветку вдоль Амура, предложили провести ее прямо через Маньчжурию до самого Владивостока. От начальной станции в Забайкалье до конечного пункта на Тихом океане насчитывалось 2 000 км пути, что на 550 км было меньше, чем дорога вдоль Амура, предусмотренная официальным проектом! Правда, почти три четверти новой дороги должны были пройти по китайской территории. Но местность там была более благоприятной для строительства, ведь всю северную Маньчжурию занимали обширные сухие степи. Витте и Хилкову это было хорошо известно: с 1895 года оба министра направляли секретные экспедиции для изучения возможного направления трассы, и заключения подпольных инженеров обнадеживали [109]. Не говоря уже об экономических выгодах!
Маньчжурия представляла собой перспективный рынок торговли. В отличие от Северного Приамурья, это была населенная, процветающая провинция. Там выращивались зерновые, овощи, фрукты, женьшень, тутовые деревья для разведения шелкопряда, табак и мак.
* * *
Проведение Транссиба через Китай: об этом-то сверхсекретном проекте Витте и желал побеседовать с эмиссаром китайского императора во время коронации Николая II в Москве. Сам царь в конце концов согласился со столь смелым вариантом. В целях ускорения строительства он собственноручно подписал распоряжение об увеличении бюджета на 500 млн рублей.127 Чтобы завоевать расположение Ли Хунчжана, всесильного представителя Срединной империи, в ход было пущено все. Вначале, чтобы китайского эмиссара по дороге не перехватили другие европейские руководители, в Порт-Саид на Суэцком канале направился русский военный корабль, встретивший его и сопроводивший до Одессы. Там сановника чествовали военным парадом, что обычно предусматривалось этикетом только для монархов. Наконец, специальным поездом он проехал через всю Европейскую Россию в Санкт-Петербург, где его встречал Сергей Витте. Последний пишет: «Мне, в моей государственной деятельности, приходилось видеть массу государственных деятелей, имена некоторых из них вечно останутся в истории, и в числе их Ли-Хун-Чана[110] я ставлю на высокий пьедестал: это был, действительно, выдающийся государственный деятель, но, конечно, это был китаец с отсутствием всякого европейского образования, но с громадным китайским образованием, а главное, с выдающимся здравым умом и здравым смыслом. Недаром поэтому он имел такое громадное значение в истории Китая и в управлении Китаем; в сущности Ли-Хун-Чан и управлял Китайской Империей».128 Министр финансов, не скупившийся в своих «Воспоминаниях» на похвалы самому себе, с гордостью сообщает, что он знал, как принимать человека с Востока: «С первого же раза мне сказали, что при ведении переговоров с китайскими сановниками прежде всего никогда не надо спешить, так как это считается у них дурным тоном, надо все делать крайне медленно и обставлять все различными китайскими церемониями. И вот, когда вошел ко мне Ли-Хун-Чан в гостиную, я вышел к нему навстречу в вицмундире; мы с ним очень поздравствовались, очень низко друг другу поклонились; потом я его провел во вторую гостиную и приказал дать чай. Я и Ли-Хун-Чан сидели, а все лица его свиты, так же, как и мои чиновники, стояли. Затем я предложил Ли-Хун-Чану: не желает ли он закурить? В это время Ли-Хун-Чан начал издавать звук, подобный ржанию жеребца; немедленно из соседней комнаты прибежали два китайца, из которых один принес кальян, а другой табак; потом началась церемония курения, которая заключалась в том, что Ли-Хун-Чан сидел совершенно спокойно, только втягивая и выпуская из своего рта дым, а зажигание кальяна, держание трубки, вынимание этой трубки изо рта и затем вставления ее в рот – все это делалось окружающими китайцами с большим благоговением. Подобного рода церемониями Ли-Хун-Чан явно желал произвести на меня сильное впечатление. Я к этому относился, конечно, очень спокойно и делал вид, как будто я на все это не обращаю никакого внимания. Конечно, во время первого визита я ни слова не говорил о деле».129
Принесло ли желанные плоды искусство восточной дипломатии в исполнении Сергея Витте? Факт, что в ходе многочисленных встреч русский и китайский министры постепенно продвигались маршрутом, намеченным крестным отцом Транссиба. Китайцы были готовы предоставить концессию на строительство железной дороги через свою территорию в обмен на секретный договор о взаимной обороне – «Договор о целости Китая», как назвали его собеседники. Главный аргумент Витте сводился к следующему: Россия согласна прийти на помощь Китаю в случае нападения на него, однако для осуществления этой цели ей нужны способы быстрой доставки своих войск. «Для того, чтобы мы могли поддерживать целость Китая, нам прежде всего необходима железная дорога, и железная дорога, проходящая по кратчайшему направлению во Владивосток; для этого она должна пройти через северную часть Монголии и Манджурии[111]»,130 – писал он.
С переездом двора в Москву по случаю коронации туда же переместились и переговоры. Для своего высокопоставленного партнера Витте добился частной аудиенции у будущего Николая II. Некоторые европейские дипломаты встревожились: какие еще интриги затевает Сергей Витте? Последний, следя за мельчайшими деталями в стремлении ублажить китайского гостя, был сильно обеспокоен губительными последствиями для имиджа царя и всей России катастрофы в самый разгар коронационных торжеств. На Ходынском поле в предместье Москвы, где по традиции во время праздника новый царь угощал своих подданных, из-за давки и неразберихи произошла трагедия: тысячи бедняков и нищих были растоптаны толпой. Количество погибших и раненых исчислялось сотнями[112]. В глазах русского народа это служило дурным предзнаменованием для правления Николая II. Не желая нарушать протокол, царь отправился тем же вечером на бал, устроенный послом Франции. Что скажет на это Ли Хунчжан? Реакция китайского сановника озадачила русского министра. Узнав, что царю доложили о количестве жертв, китаец покачал головой: «Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот, когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас все благополучно, и когда меня спрашивали: нет ли у вас каких-нибудь болезней? Я отвечал: никаких болезней нет, что все население здорово. Кончив эту фразу, Ли-Хун-Чан как бы поставил точку, а затем обратился ко мне с вопросом: – Ну, скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди? Если бы я был сановником Вашего Государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать?». На что Витте не без назидательности замечает в своих «Воспоминаниях»: «Ну, все-таки мы ушли далее Китая».131
Когда Ли Хунчжан возвратился на родину в мае 1896 года, договор был практически заключен. Формально его подписали в Берлине в августе того же года. Раздел о взаимных гарантиях на случай агрессии носил секретный характер, однако предоставление концессии на проведение железной дороги через всю Маньчжурию, разумеется, было невозможно длительное время скрывать от широкой публики. Согласно договору, Китай обязался выделить полосу земли длиной почти 1 550 км, которая позволяла Транссибу достичь Владивостока через маньчжурские степи. Китай отказывался от взимания всяких пошлин с транзитных грузов и пассажиров, а также от налогообложения железнодорожной компании и снизил свои импортно-экспортные пошлины для товаров из России. Железнодорожная компания имела право на сооружение всей инфраструктуры, вокзалов, депо, дорог и жилья вдоль пути вплоть до формирования новых городов. По всей длине дороги компании вверялись безопасность, управление и полицейские функции. Последняя должна была также наладить и обслуживать телеграфную связь, проведенную параллельно железнодорожному пути132.
Участники соглашения спешили. Дорогу следовало сдать в эксплуатацию через шесть лет. Самое позднее ее открытие должно было состояться в 1902 году. Концессия предоставлялась на 80 лет, после чего ее строения предполагалось безвозмездно передать китайцам. Последние могли поднять вопрос о выкупе по истечении 36 лет, однако русские переговорщики, в их числе Витте, признавались, что в таком случае цена оказалась бы баснословно высокой и явно не по карману Китаю. Формально концессия не была предоставлена ни России, ни Обществу российских железных дорог: желая сохранить лицо, китайцы остались непреклонны в этом пункте. Обладателем концессии и ответственным за финансирование проекта стал коммерческий Русско-Китайский банк, созданный все тем же Витте для обеспечения Китаю возможности справиться со своими финансовыми обязательствами. В сделке участвовало несколько французских банков – проверенных партнеров Сергея Витте. На деле же банк этот служил всего лишь промежуточным звеном и вскоре передал концессию новому, специально созданному Обществу Китайско-Восточной железной дороги (ОКВЖД), большая часть акций которого контролировалось русским государственным капиталом. Для приличия его президентом был назначен китаец, однако в договоре уточнялось, что «следует запрашивать мнение [русского] министра финансов всякий раз, когда Общество пожелает назначить главного инженера, управляющего директора либо инженеров-начальников служб».133
Договор носил кабальный характер. В европейских канцеляриях утверждали, что речь идет о фактической аннексии Маньчжурии. Вскоре зародились подозрения, что Сергей Витте угощал своего гостя не одним только чаем или табаком. Современный немецкий историк Дитмар Дальман упоминает взятку в размере 3 млн рублей.134 Витте категорически отвергал всякую идею злоупотребления с его стороны. Как мы увидим, через несколько месяцев все изменится. Однако Китай проявлял наибольшую заинтересованность в секретном разделе договора, представлявшем собой соглашение о взаимной обороне против любой японской агрессии.
Не теряя времени, инженеры Транссиба с двух сторон пересекли русско-китайскую границу и энергично взялись за работу. Никто не мог точно предсказать реакцию Японии на первый пуск русских локомотивов в Маньчжурии, поэтому текст договора не позволял строителям расслабляться. Русские и китайцы договорились о том, что закладка путей начнется не позднее 16 августа 1897 года. Так оно и произошло: стройка была открыта в последний день назначенного срока. Задача, стоявшая перед инженерами, была колоссальной и на поверку оказалась труднее, чем предполагалось по результатам первых изысканий. В отчете одного русского инженера за август 1897 года говорится: «Мы не продвигаемся ни на шаг вперед: то непроходимые болота, из которых каждую телегу надо вытаскивать руками; то реки без моста, которые надо переходить вброд на глубине двух аршинов [примерно 1,5 м], так что всякий раз поклажа угрожает перевернуться; то камни, хаотично валяющиеся на дороге, которая становится опасной не только для колес (заменяемых во время пути более чем наполовину), но и для людей. Все было бы еще ничего, если бы не наводнения, которые парализуют нас на целые дни, превращая самый незначительный пруд в реку, а болота – в непреодолимое препятствие. Что же до мостов, о них в Маньчжурии лучше и не говорить: на одной реке мы обнаружили переправу, образованную двумя скрепленными вместе суденышками. Левые колеса телеги застревают в одном из них, правые – в другом. Переправа заняла у нас сутки».135
Чтобы дело двигалось быстрее, строительство началось одновременно на обоих концах линии на китайской территории, а также на новом русском участке, соединявшемся с уже действующей дорогой в Сибири. Требовалось пересечь около 20 крупных и малых рек, главнейшие из которых нуждались в возведении мостов длиной 950, 750 и 650 м. Необходимо было пробить восемь туннелей, один из которых длиной 3 км 300 м прошел под пустынным горным хребтом Хинган, открытым свирепым ледяным ветрам, дувшим из степей. Станции, дороги, деревни и города строились на совершенно пустом месте. Необходимую рабочую силу нанимали на месте: на стройке было занято до 200 тысяч китайских кули, вооруженных простыми лопатами и кирками; они не понимали по-русски и выполняли земляные работы, нося землю в корзинах, прикрепленных к концам их коромысел. Американец Хармон Таппер, хроникер этого выдающегося проекта, писал: «В других частях света строители сталкивались с пустыней или горными хребтами, с ледяным холодом или разрушительными наводнениями, с болезнями, бандитами или саботажниками либо, наконец, с препятствиями со стороны бесчисленных чиновников. А вот главный инженер Югович и его помощники стали, вероятно, первыми, кому довелось иметь дело со всем этим почти в одно и то же время».136
К природным препятствиям добавились и другие, неожиданные испытания. В строительных городках на русской стороне границы вспыхнули эпидемии сибирской язвы, обычные для Восточной Сибири. Но худшее ожидало в Китае, где болезнь эта внезапно разразилась летом 1899 года, а затем повторилась в 1902 году, на этот раз вместе с холерой. Количество умерших исчислялось сотнями, а потом и тысячами, и всякий раз руководству строительством с большим скрипом удавалось добиваться соблюдения предписанных санитарных норм. Китайские или маньчжурские крестьяне отказывались хоронить своих покойников на специальных кладбищах и противились проведению дезинфекции зараженных бараков. Еще бо́льшим ударом для инженеров стало массовое дезертирство рабочих, что усугубило положение и приостановило строительство.
Однако ничто не могло обуздать поспешность петербургского начальства, которое и слышать не хотело о практических трудностях, испытываемых строителями. Дорогу следовало завершить как можно скорее! Особенно торопили царя военные, которые потребовали также, чтобы пропускная способность магистрали составила семь пар поездов в день вместо трех, предусмотренных проектом.137 Всего лишь несколько месяцев спустя после начала работ инженеры получили распоряжение закончить строительство на год раньше намеченного срока. Все должно было быть готово в 1901 году. Электрическое освещение, налаженное даже в степи, позволяло работать и днем, и ночью. Комитет Сибирской железной дороги выделил новые бюджетные ассигнования, несмотря на возражения Витте, который пользовался своим положением главного государственного казначея, стараясь в свою очередь ограничить расходы. На деле же предмет озабоченности министра финансов лежал, скорее, в дипломатической, нежели бюджетной плоскости. Он опасался неминуемого воздействия подобной спешки на японцев, потенциальных соперников русских в этом районе. Однако Николай II все более склонялся на сторону «ястребов» – клики, состоявшей из военных чинов и придворных, в числе которых находились Великий князь Александр, двоюродный брат царя, генерал Алексей Куропаткин, контр-адмиралы Евгений Алексеев и Александр Абаза и, наконец, Александр Безобразов, авантюрист, вошедший в милость при дворе. Последний очень скоро стал заклятым врагом Сергея Витте[113] и в конце концов добился его смещения.
Хрупкое равновесие между сторонниками жесткой линии, не скрывавшими своего намерения рано или поздно аннексировать Маньчжурию, и прагматиками, выступавшими за партнерство по расчету с Китаем и оттягивание времени перед лицом воинственно настроенной Японии, было резко нарушено в конце 1897 года, когда строительство Маньчжурской магистрали уже началось. В ноябре месяце под предлогом возмездия за убийство двух миссионеров германский экспедиционный корпус занял всю китайскую область Шаньдун на северо-востоке страны, одну из немногих, еще не затронутых притязаниями европейцев. И вновь власти Срединной империи расписались в собственном бессилии, не сумев защитить территориальную целостность страны и дать отпор агрессору. Это новое унижение вызвало бурю негодования и возмущения среди китайцев, увидевших государственную измену в неспособности маньчжурской династии заставить иностранцев уважать национальный суверенитет и достоинство. По всей стране вспыхнули восстания, предводительствуемые группами революционеров, вскоре получивших известность под именем боксеров: восставшие выступали как против западных держав, так и против маньчжурского правительства, укрывшегося в своей пекинской цитадели. Стали множиться акты вандализма и терроризма, затрагивавшие также и русских. Строители Маньчжурской дороги неоднократно подвергались нападениям бандитов, причем не всегда было ясно, кем они были – националистически настроенными повстанцами или маньчжурскими разбойниками, знаменитыми хунхузами[114], шайки которых грабили станции и нарождавшуюся администрацию и обирали до нитки китайских рабочих в дни выплаты жалованья.
Руководство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), разумеется, приняло меры для усиления безопасности стройки, что допускалось русско-китайским договором. В целях поддержания порядка вдоль всей строящейся дороги были выставлены казачьи сотни. Путешественник Джон Фрейзер обратил на них внимание сразу же по пересечении маньчжурской границы: «Чуть в стороне от дороги воздвигнута сторожевая вышка, напоминающая строительные леса. На самом верху ее несет службу дозорный казак, высматривающий хунхузов, банды маньчжурских мародеров, которые одинаково грабят местные деревни и русские учреждения. Эти казаки являются полудикарями с черными глазами и устрашающим лицом, они лучшие наездники в мире, совершенно не считаются с угрозой как для вашей, так и для их собственной жизни, не ведая притом ни малейшего страха, подобно сорвиголовам и дерзким смельчакам».138
* * *
Введение казаков было разумной мерой. За несколько месяцев численность личного состава сил безопасности железной дороги выросла до 4 700 чело-век.139 Однако в петербургских верхах появилось искушение извлечь из обстоятельств более существенную выгоду. В лагере «ястребов» полагали, что настало время еще более усилить русское влияние в Маньчжурии и прибрать к рукам Ляодунский полуостров вместе с военно-морской базой в Порт-Артуре: «Ввиду того, что немцы заняли Цинтау[115], явился благоприятный для нас момент занять один из китайских портов, причем предлагалось занять Порт-Артур или рядом находящийся Да-лянь-ван[116]».140 Через несколько дней после нападения немецкой эскадры на главный порт провинции Шаньдун в российской столице состоялось экстренное совещание под председательством самого царя Николая. Кроме государя, в нем приняли участие министры обороны, военно-морского флота, иностранных дел и финансов (Витте). Участникам раздали текст меморандума, составленного дипломатами, в котором предлагалось ответить на германские действия захватом в пользу России Ляодунского полуострова с его двумя портами, Порт-Артуром и Далянем.
Атмосфера совещания была накаленной до предела, участники быстро перешли на повышенный тон. В своих «Воспоминаниях», написанных, напомним, несколькими годами позже, Витте рассказывает о своем категорическом несогласии. По его мнению, подобный шаг означал бы нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, который Россия только что обязалась защищать от Японии. Россия добилась от Японии эвакуации своих войск с этого самого полуострова. Захват же его Россией «явился бы мерою возмутительною и в высокой степени коварною… как по отношению Японии, так и по отношению Китая».141 Более того, военный захват Порт-Артура и Даляня был мерой опасной: «Мы только что начали постройку Восточно-Китайской дороги через Монголию и Китай, отношения у нас там превосходные, но занятие Порт-Артура или Далянь-вана, несомненно, возбудит Китай и из страны крайне к нам расположенной и дружественной сделает страну нас ненавидящую, вследствие нашего коварства»142. Наконец, Витте заявил, что «Порт-Артур и Далянь-ван, очевидно придется тогда соединить с Восточно-Китайской дорогой для того, чтобы хоть таким образом как-нибудь обеспечить прочность владения этими пунктами; кроме того это вынудит нас построить еще ветвь железной дороги и провести эту ветвь по Манджурии (местности, весьма густо насеянной китайцами) через Мукден, – родину китайского императорского дома. Все это вовлечет нас в такие осложнения, которые могут кончиться самыми плачевными результатами».143
Как опытный делец и в особенности знаток всего, что было связано с Транссибом, Витте пренебрег ораторской осторожностью, выступив в жесткой, а местами безапелляционной манере. Некогда бедный студент, поднявшийся по всем ступеням иерархической лестницы исключительно благодаря, как ему казалось, собственным талантам, он плохо скрывал презрение и антипатию к своим оппонентам и, по его же признанию, это явно не понравилось царю. Через несколько дней после этого бурного совещания Николай II, которого Витте полагал внявшим его доводам, сказал ему с видом легкого смущения: «А знаете ли, Сергей Юльевич, я решил взять Порт-Артур и Далянь-ван и направил уже туда нашу флотилию с военной силой».144 Сергей Витте лишился дара речи. Затем, собравшись с мыслями, он, согласно «Воспоминаниям», якобы ответил следующим образом: «Вот, Ваше Императорское Высочество, припомните сегодняшний день, – вы увидите, какие этот роковой шаг будет иметь ужасные для России последствия».145 Немного погодя он подал прошение об отставке, которое царь не принял. Россия встала на путь войны. Рвение, проявленное Витте, обернулось против него самого.
Отношения между царем и его министром финансов носили сложный характер. Николаю II не было тогда еще и 30 лет, и он только осваивался со своими новыми обязанностями. В его глазах Сергей Витте был наставником, назначенным отцом, свидетелем его юношеской наивности, и он позволял себе слишком много вольностей в отношении своего государя, невзирая на свой ранг. Витте признавал, что ему, как и некоторым другим его коллегам, служившим при покойном Александре III, было нелегко свыкнуться с мыслью, что «тот молодой царевич, которого они знали еще мальчиком или юношей – волею Всевышнего сделался неограниченным Монархом величайшей Империи». Вследствие того, продолжает Витте, очевидно, имея в виду и самого себя, названные министры «часто говорили с молодым Императором не так, как они должны были бы говорить с самодержавным Государем великой Империи».146 К тому же в своих «Воспоминаниях» министр плохо скрывает пренебрежение к молодому государю, говоря: «Император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства».147 За год или полтора до своей смерти Александр III якобы завещал ему «безмерно любить его августейшего сына», но при этом ясно сознавал, что тот «еще мальчик и никакими государственными делами не занимается или, по крайней мере, самостоятельно никакие государственные дела вести не может».148 В глазах Витте Николай II был человеком слабым и подверженным чужому влиянию; его поведение ставило под угрозу монархию, в которую Витте, тем не менее, твердо верил и которой посвятил всю свою жизнь. Зная о столь нелестном мнении о себе министра финансов, известного во всей Европе, Николай II, кстати сказать, сделал через несколько лет все возможное, чтобы завладеть «Воспоминаниями» своего бывшего слуги или по крайней мере помешать их выходу в свет.
Приняв сторону «ястребов», Николай, тем не менее, постарался сохранить расположение умеренной партии, в их числе Витте и многих дипломатов, и использовать их особые отношения с Китаем, чтобы смягчить негативную реакцию последнего. Царь рассчитывал даже на большее: он поручил Витте убедить его китайского коллегу Ли Хунчжана (а с ним и вдовствующую императрицу) в том, что Россия сохраняет добрую волю и продолжает оказывать Китаю свое покровительство. Захват Порт-Артура следовало расценивать как временный шаг, призванный удержать Германию от любой новой агрессии. Кроме того, министру было поручено добиться от Пекина расширения железнодорожной концессии, полученной годом ранее, на строительство новой линии Харбин – Порт-Артур. Что касается спроектированной Маньчжурской магистрали, ее строительство предполагалось остановить примерно на середине с тем, чтобы двигаться к югу, до самой оконечности Ляодунского полуострова, предмета вожделений России, на котором располагался Порт-Артур.
Преданный престолу, но, несомненно, также и очень чувствительный к царским милостям, которых он рисковал лишиться, Витте облачился в свой дипломатический мундир и возобновил дискуссии с китайским канцлером, недовольным новыми притязаниями России. В своих «Воспоминаниях» русский министр гораздо менее распространяется об этой второй фазе переговоров, чем о первой, состоявшейся во время коронации, поскольку во второй раз все выглядело менее благообразно. Всего несколько строк, в которых он признает, что «подмазал» канцлера Ли Хунчжана и еще одного китайского сановника, чтобы получить их согласие. Первому он посулил 500 тысяч рублей, а второму – 250 тысяч: «Это был единственный раз, когда в моих переговорах с китайцами я прибег к заинтересованию их посредством взяток».149 Как бы то ни было, после этого дело пошло быстро: 15 марта 1898 года оба подкупленных Витте чиновника подписали новый договор, предоставившей России право аренды Ляодунского полуострова сроком на 25 лет вместе с портами Далянь и Порт-Артур, а также право для Общества Китайско-Восточной железной дороги на продление своей магистрали с помощью новой ветки, получившей название Южно-Маньчжурской железной дороги и призванной соединить побережье Жёлтого моря с Маньчжурией, Сибирью и в конечном счете с Европейской Россией. В противоположность первому отрезку Маньчжурской магистрали, проходившему по почти безлюдным северным степям, южная линия протяженностью 1 080 км пересекала возделанные равнины, где проживали миллионы китайцев, делала остановку в Мукдене, колыбели Маньчжурской династии, и затем шла до Даляня (переименованного в Дальний на русский манер), который должен был стать ее конечной точкой. Благодаря этой концессии Россия фактически прибрала к рукам дополнительно 2 500 км² маньчжурской территории, а самое главное, получила выход к более спокойным для плавания морям, омывающим север Китая, Корею и Японию. Русские не делали из этого тайны: по их замыслу, коммерческий порт Далянь и военный Порт-Артур, расположенные на расстоянии примерно 40 км друг от друга, были призваны потеснить Владивосток, гораздо менее благоприятно расположенный. И даже если город, «владеющий Востоком» (то есть Владивосток), оставался по-прежнему связанным со строящейся магистралью, Далянь и Порт-Артур отныне превращались в конечные станции Транссиба. Финансовые документы и туристические проспекты[117] были срочно подкорректированы с учетом этого обстоятельства, новые карты увидели свет. «Пассажир» Транссиба на Всемирной выставке в Париже завершал свою воображаемую поездку в типично китайском антураже.
Дело было провернуто столь ловко, а договор оказался столь выгодным для России, что даже царь был изумлен: «Это настолько хорошо, что я с трудом в это верю», – написал он в пометке на телеграмме из Пекина, присланной Витте. Однако сам главный переговорщик не разделял эйфории двора. Напротив, странное чувство горечи охватило его. «За несколько лет до захвата Квантунской области мы заставили уйти оттуда японцев и под лозунгом того, что мы не можем допустить нарушения целости Китая, заключили с Китаем секретный оборонительный союз против Японии, приобретши через это весьма существенные выгоды на Дальнем Востоке и затем, в самом непродолжительном времени, сами же захватили часть той области, из которой вынудили Японию, после победоносной войны, уйти под лозунгом, что мы не можем допустить нарушения целости Китайской Империи», – написал Витте и заключил: «Этот захват… представляет собою акт небывалого коварства».150
Для русских партия при всем этом не была выиграна. Повсюду в Китае новый удар по национальному достоинству неожиданно разжег огонь восстания, направленного против императорской семьи и царящей коррупции. 18 месяцев спустя боксеры перешли во всеобщее наступление: нападали на европейские миссии и торговые представительства, поджигали иностранные концессии, причем на этот раз всю силу своего гнева они обрушили на строящуюся русскую железную дорогу. Народное возмущение было столь мощным, что целые подразделения императорской армии присоединились к повстанцам. В Пекине западные дипломатические миссии оказались в осаде. В Маньчжурии толпы бунтовщиков разворотили 900 из 1 300 км уже уложенных путей вместе с телеграфными линиями.151 Были пущены под откос несколько поездов, разграблены, а затем сожжены станции. Русские служащие и рабочие были эвакуированы вместе с семьями. В Благовещенске, небольшом городке, основанном 50 годами ранее на Амуре графом Муравьёвым-Амурским, местное население при содействии военных устроило избиение нескольких тысяч проживавших там китайцев, которых сбрасывали прямо в реку.
* * *
Страна была залита кровью и полыхала в огне, Маньчжурия погрузилась в войну. Русское общественное мнение обнаружило, что армия России вовлечена в конфликт на краю света. Еженедельник «Неделя» писал: «Китайцы огромного роста, чуть не в четыре аршина; ходят они в шелку да в золоте; оттого, что живут они на восходе солнца, лица у них желтые».152 В Петербурге эта кровавая вакханалия и новая конвульсия Китая были восприняты «ястребами» как еще одна возможность извлечь для себя выгоду. «Я очень счастлив, – иронично заявил генерал Куропаткин Сергею Витте, – нам только что дали повод для взятия Маньчжурии».153 Было мобилизовано 200 тысяч русских солдат.154 Летом 1900 года Россия направила свои войска в качестве подкрепления экспедиционного корпуса, образованного из англичан, французов, американцев и японцев для снятия осады со своих дипломатических миссий и наказания Китая. В августе 1900 года, когда Парижская Всемирная выставка была в самом разгаре, китайская столица была взята и вновь подверглись грабежу роскошные Летний императорский дворец и парк[118]. Сверх того, Китай должен был выплатить дополнительные «военные компенсации» размером в 450 млн долларов и обязался «запретить своим гражданам каким-либо способом причинять ущерб интересам иностранных держав или их представителям».
Русский флаг взметнулся над Порт-Артуром. Невзирая на войну, эпидемии, нехватку рабочей силы, бесчисленные препятствия природного или технического характера, Общество Китайско-Восточной железной дороги уложилось в намеченные сроки и даже с опережением графика в несколько месяцев. 3-го ноября 1901 года было открыто движение из Порт-Артура или Владивостока до Харбина и Восточной Сибири. В этой связи Витте направил телеграмму Николаю II, напомнив ему о событии десятилетней давности, когда тот был еще цесаревичем и наследником трона: «19 мая 1891 г. Ваше Величество с лопатой в руках положили начало строительству Великого Сибирского пути. Сегодня, в годовщину Вашего восшествия на престол, железная дорога от азиатского Востока завершена. От всего сердца осмелюсь выразить Вашему Величеству свое верноподданное поздравление с сим историческим событием. С прокладкой двух тысяч четырехсот верст рельсов [2 640 км] от Забайкалья до Владивостока или Порт-Артура наше предприятие в Маньчжурии практически закончено, пусть еще и не вполне».155
Последнее утверждение соответствовало действительности. На страницах официального путеводителя по Транссибу (1900), посвященных маньчжурскому отрезку дороги, авторы обращаются к кандидатам в дальнее странствие с пугающей откровенностью: «По свидетельству путешественников, посетивших Маньчжурию, между администрацией и местным населением нет ни малейших признаков общения, и зачастую их взаимоотношения окрашены ненавистью. Шпионство, доносительство распространены повсеместно <…>, кражи и разбой хунхузов остаются безнаказанными. Рабочие, служащие дороги и русские инженеры, занятые на строительстве, открыто подвергаются вооруженным нападениям банд хунхузов, во всех сферах административного управления царит коррупция».156
Условия, малоблагоприятные для туризма, что и говорить. Бедекеровский путеводитель начала века информирует о них в чисто британской манере, советуя отправляющимся в Маньчжурию запастись револьвером.157
* * *
В 1902 году специальный состав с почетными зарубежными гостями отправился из Петербурга в Порт-Артур.158 В списке пассажиров значилось имя наследника японского престола, которого русские постарались залучить в надежде убедить империю Восходящего солнца, что эта дорога никоим образом ей не угрожает. Осенью того же года Витте самолично проехал с инспекцией по всему маршруту. Стремительность экономического развития Маньчжурии поразила его. Особенно динамично рос Харбин[119], детище Транссиба и Маньчжурской магистрали, не уступая самым быстро развивающимся городам американского Запада. Однако крестный отец Транссиба убедился также и во все еще низком уровне обслуживания. Поезд, которого он ждал, был назначен на 9 часов утра, но в назначенное время он не пришел, и его прибытие было перенесено на 11 часов, а затем на полдень. Витте принялся распекать сопровождавшего его директора компании: «Я и раньше не верил вашим докладам, и теперь не верю! Поезд придет не тогда, когда вы говорите, а когда сам придет».159 Когда состав наконец-то прибыл на вокзал, было уже 17 часов!
Однако от дальневосточной поездки в памяти у Витте сохранилось и кое-что другое, нежели отклонения от расписания. В поданном царю конфиденциальном докладе, резюмировавшем его впечатления, он указал на напряженность, ощущавшуюся в этом регионе, и чем это было чревато для России: «По-моему мнению, вооруженная борьба с Японией в ближайшие годы была бы для нас большим бедствием. Я не сомневаюсь, что из этой борьбы Россия вышла бы победительницей, но победа при настоящем положении досталась бы ей ценою больших жертв и тяжело отразилась бы на ее экономическом положении».160
* * *
Регулярное движение открылось для публики в феврале 1903 года. Строительство маньчжурского участка, осуществлявшееся в чрезвычайно сложных условиях, обошлось в 432 млн тогдашних рублей, из которых 70 млн составили «потери, вызванные мятежом 1900 года», как говорилось в бухгалтерском отчете, 46 млн – «расходы на содержание вооруженной охраны», 19 млн – строительство города Дальнего и 11,5 млн – затраты на Тихоокеанский флот.161 В переводе на современные деньги это примерно 4 млрд 600 млн евро (по курсу на 2015 год). Благодаря всем этим затратам, путешественник мог теперь сесть на экспресс, отправлявшийся вечером в 23 часа из Москвы, и через 13 дней прибыть в конечный пункт на маньчжурской территории – город Дальний. Билет первого класса стоил 260 рублей (2 800 евро на современные деньги), а билет второго – 166 рублей. Никто из западных пассажиров не упоминает о стоимости проезда третьим классом.
Новый город Дальний, выраставший перед пассажирами на самом конце железнодорожной линии, служил олицетворением русских амбиций. «Его улицы напоминают респектабельный пригород Лондона или Глаз-го»,162 – отметил Джордж Линч в 1902 году. Его соотечественник Шумейкер констатировал тогда же, что «жителей еще нет, но уже имеются широкие проспекты и множество просторных площадей. Оставлено место для парков, школ, церквей. Освещение и электрические трамваи уже работают».163 Но, разумеется, европейских путешественников, добиравшихся до этих мест, более всего манил и интриговал Порт-Артур. Как заметил Джордж Линч, очевидно, впечатленный всем увиденным, Порт-Артур, «который природа одарила одной из самых мощных гаваней в мире, представляет собой уникальный шанс для русских, которые воспользовались им с такой же выгодой, как и мы в Гибралтаре».165 Действительно, Большой рейд Порт-Артура был уникальным: 12 км в длину и 2 км в ширину; с океаном его соединял узкий проход шириной 200–250 м. Все это находилось под защитой мощных фортов, которые были возведены на сопках, господствующих над бухтой. Шумейкер замечает: «На вершине каждого холма располагается форт, а вся местность представляет собой цепь холмов».166 Линч, явно обладавший зорким глазом, насчитал 142 артиллерийских орудия разного калибра и заметил также «мощные прожекторы у входа в порт и на господствующих над ним высотах».167 Население самого города составляло 20 тысяч жителей, причем «все, кто не является китайцем, похоже, носят военную форму». В городе имелся «элегантный ресторан, заполненный русскими офицерами и прекраснейшими девушками, пьющими шампанское», а в это самое время военный оркестр играл «в павильоне посреди парка для публики, состоящей из нескольких слуг и детей». В этом порту на краю света царило странное возбуждение, которое посетители, побывавшие там в первые годы ХХ века, воспринимали как некую прелюдию. История, казалось, замерла в ожидании. «Жизнь Порт-Артура сильно напоминает мне Сингапур или Порт-Саид. В воздухе разлито пьянящее упоение – то же самое, что ощущается в новых точках мира, связанных с великими перемещениями народов, где все расы встречаются в надежде выиграть»,168 – отметил Майкл Шумейкер в своем рассказе. Преподобный Френсис Кларк также ощутил дыхание истории, написав в 1901 году: «Это побережье, вне всякого сомнения, станет декорацией морской битвы в будущем, когда титаны будут готовы померяться силами в споре за Корею или Китай».169 Несмотря на двадцатипятилетний срок аренды, русские, казалось, пришли в Маньчжурию, чтобы остаться там навсегда. Журналист Шумейкер пишет: «Мало кому верится, что они отдадут свое последнее приобретение. Ни одна нация, действительно, не в состоянии их принудить к этому. Да никто, кстати говоря, и не желает этого ради блага человечества и цивилизации».170
Так ли уж никто? Быть может, хроникер хотел сказать: «никто из европейцев». Ибо 8 февраля 1904 года, незадолго до полуночи, мир перевернулся, и произошло это в Порт-Артуре. Накануне туда приехал цирк, и многие защитники крепости взяли увольнительную, чтобы посмотреть представление. Город был ярко освещен, как на праздник, огни порта и прилегающих высот виднелись издали. В Морском клубе контр-адмирал Оскар Старк, командующий эскадрой Тихого океана, устроил прием по случаю дня рождения своей супруги Марии Ивановны. Адмирал Алексеев, шесть месяцев назад назначенный наместником и главнокомандующим русскими войсками на Дальнем Востоке, почтил вечер своим присутствием: он был одним из наиболее видных представителей партии войны[120]. Офицеры в белых парадных мундирах толпились в залах клуба, распахнувшего свои двери в 21 час. Они надеялись услышать из уст своего начальника комментарии к высадке японцев в Корее, о чем стало известно за несколько часов перед тем. В тот вечер стоял колючий холод, в некоторых местах порта даже образовался лед, поэтому самые крупные суда русского флота остались стоять на внешнем рейде, недалеко от узкого прохода в океан.
Без четверти полночь раздался взрыв, задрожали стекла. В Морском клубе некоторые было подумали, что это салют-сюрприз в честь виновницы торжества и принялись аплодировать. Но вскоре послышался сигнал тревоги. Офицеры бросились к своим боевым постам. Мощные прожекторы, рассекавшие темноту, обнаружили у самого входа в порт японские миноносцы, обстреливавшие флагманы русского флота на Тихом океане. За считаные минуты три из 11 главных боевых кораблей русских затонули в порту, перегородив выход из него. На следующее утро, около 11 часов, приблизилась японская флотилия под командованием адмирала Того. 16 отлично управляемых судов открыли ураганный огонь по русской эскадре, зажатой в гавани Порт-Артура. Еще три броненосца и крейсера были выведены из строя. За эти две бомбардировки, по полчаса каждая, Россия лишилась своего военно-морского превосходства на Дальнем Востоке. Своим внезапным нападением Япония объявила войну России Николая II. Началась осада Порт-Артура, продлившаяся 329 дней и в действительности ставшая прелюдией к Первой мировой войне. Использование радиосвязи, окопы, мины и противомины, отчаянные атаки, адский артиллерийский огонь – все это были уже признаки вступления в новый, ХХ век.
И вновь Транссиб оказался в центре интриги. Ибо дата нападения японцев была тщательно просчитана и увязана с движением по магистрали. До полного завершения Транссиба не хватало еще нескольких десятков километров, чтобы поезда могли бесперебойно доставлять подкрепление и боевую технику из Европы в Азию. Участок дороги в обход Байкала не был завершен, и пассажирам приходилось пересаживаться на паром, чтобы попасть на другой берег. Однако в начале февраля 1904 года лед стал слишком толстым, и навигация прекратилась на несколько месяцев. Даже ледоколы не могли с ним справиться. В глазах японских стратегов момент казался идеальным для внезапного нападения, чтобы опередить русских.
Как только было официально объявлено о вступлении России в войну, министр путей сообщения Хилков отправился в Сибирь. Строительство Кругобайкальской железной дороги пошло ускоренными темпами. Холодной сибирской зимой рабочие трудились и днем, и ночью в несколько смен: в результате было пробито 39 туннелей (один из которых имел 8 км в длину), возведено 19 крытых галерей, 248 мостов и путепроводов.171 Одновременно с тем железнодорожные рабочие проложили рельсы прямо по льду озера. Локомотивы, слишком тяжелые для проезда по нему, заменили лошадьми. По обеим сторонам пути, освещаемого электричеством, расчистили полосы для проезда саней и прохода тысяч пеших людей. Через каждые 6,5 км располагались пункты, где солдаты могли обогреться, а посреди озера разбит палаточный лагерь. Эта резервная линия на льду озера позволила перевозить ежедневно до 16 тысяч человек, пять составов и 8 150 тонн грузов.172 Во время русско-японской войны 1 млн 300 тысяч солдат столь своеобразным путем открыли самую протяженную дорогу в мире.173
И все же для того, чтобы выиграть войну, этого было явно недостаточно. Хотя Кругобайкальская дорога вошла в эксплуатацию в сентябре 1904 года, магистраль оказалась перегруженной. Театр боевых действий располагался слишком далеко, линии снабжения закупоривались. В 1905 году, потеряв остатки своего флота в Цусимской трагедии, Россия была окончательно разбита в Маньчжурии. Порт-Артур пал после осады, продолжавшейся почти год. Затем последовало поражение под Мукденом. Наконец, линия фронта придвинулась к Харбину. Императорская Россия была вынуждена сложить оружие. В американский Портсмут, где собрались победители-японцы и побежденные русские для обсуждения условий заключения мира, царь Николай направил Сергея Витте. В 1903 году он назначил его на сугубо декоративную должность председателя Комитета министров, но вызвал из этой завуалированной отставки, чтобы поручить спасательную операцию, ставшую одной из последних вех славной карьеры. Глава российской делегации использовал весь свой талант и все свои умения, чтобы обуздать аппетиты японцев, отныне ставших хозяевами положения. Витте обратился к влиятельным кругам, завоевал расположение и интерес прессы и привлек симпатии западного общественного мнения на сторону России в ситуации, где у нее не было никаких козырей. По окончании переговоров уступки, на которые пошли русские, оказались гораздо меньшими, чем опасался царь. Тем не менее, Витте пришлось отдать японцам южную часть острова Сахалин и, само собой, Порт-Артур и Ляодунский полуостров, из-за которого и разгорелся конфликт. Он уступил также южную ветку Маньчжурской магистрали, но сумел-таки сохранить – по крайней мере на несколько лет – железнодорожное сообщение с Владивостоком через Харбин и степи Северной Маньчжурии. Китайско-Восточная железная дорога, путь к Тихому океану и концессия, над получением которой он так упорно работал, остались в руках русских.
Маньчжурская магистраль, или КВЖД, станет окончательно китайской лишь после Второй мировой войны[121]. В то же самое время Россия, отрезвленная маньчжурской авантюрой, постаралась продублировать самую восточную часть Транссиба, чтобы он проходил уже целиком по русской территории. Болезненное поражение 1905 году, в сущности, лишь подтвердило опасения предыдущих десятилетий: русские владения на Дальнем Востоке беззащитны перед наступлением противника на Тихом океане. Один щелчок, и японцы могут захватить Владивосток, когда им вздумается. По окончании войны русские военные решительно потребовали проведения Амурской магистрали, от которой правительство отказалось десятью годами ранее в пользу проекта Трансманьчжурской магистрали и Желтороссии. Планы и чертежи были извлечены из-под сукна, и вновь разгорелись споры. Слишком дорого, неоправданно дорого для проекта, смысл существования которого был в первую очередь военным! Да еще в момент, когда страна, и так уже поставленная на колени, переживала небывалую в своей истории социальную революцию. Как оправдать подобные траты, на которых настаивали опозорившиеся, ненавистные народу генералы, притом, что сама линия не сулила никаких экономических выгод? В Государственном совете Сергей Витте принадлежал к лагерю решительных противников этого проекта. И снова потерпел поражение. В 1908 году в гористой дальневосточной тайге началось строительство Амурской магистрали. Работы, сильно затрудненные вечной мерзлотой, растянулись до 1916 года.
В действительности же зимы были столь суровы, что рабочие могли трудиться лишь четыре месяца в году, возвращаясь на время в Россию. Поскольку этот последний участок Транссиба появился на свет вследствие понесенного военного поражения, весь проект оказался отмечен травмой маньчжурской катастрофы. Магистраль носила оборонительный характер. Ее маршрут, избегавший даже берегов Амура, был проложен таким образом, чтобы путь оставался вне пределов досягаемости пушек, установленных на китайской стороне. Также было решено полностью отказаться от использования китайской рабочей силы и нанимать только русских. В 1916 году была уложена последняя шпала Транссиба. Заключительным техническим подвигом стало сооружение моста длиной 4 км через Амур в Хабаровске[122]. Его назвали в честь юного цесаревича Алексея, сына Николая II. До финала Российской империи оставались считаные месяцы. Великий Сибирский путь стал ей самым большим памятником.
Пятая часть
Самая большая в мире тюрьма
«Во глубине сибирских руд…»
Зимой в Санкт-Петербурге темнеет рано. В понедельник 14 декабря 1825 года к вечеру столицу охватила не только тьма, но и гнетущая тишина. День был холодным, влажным и ветреным, легкий снег падал на город, готовившийся праздновать вступление на престол нового императора – Николая I. По установленному ритуалу, войска, расквартированные в Санкт-Петербурге, были собраны на Сенатской площади для принесения присяги новому государю. Место весьма символично: на прямоугольной площади между Исаакиевским собором и Невой, где стоит статуя основателя города – Петра Великого верхом на вздыбленном коне.
Но в тот день все пошло не по плану. Некоторые из собравшихся на площади полков, повинуясь своему командованию, отказались присягать Николаю: они поддерживали его старшего брата Константина, считавшегося либералом, который незадолго до этого отрекся от престола. Кроме того, они требовали конституционной монархии по образцу других европейских держав. Построенные на площади войска пришли в смятение, раздались выстрелы, военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга был смертельно ранен. Наконец новоиспеченный монарх приказал стянутым к месту мятежа верные ему гвардейские полки, открыть огонь и подавить бунт всеми возможными средствами. Мятежников обстреляли картечью из пушек. Неудачная попытка переворота унесла жизни 80 человек. Печальное предзнаменование: царствование Николая I началось с крови. Николая не готовили по-настоящему к трону государя: он был почти на 20 лет младше своих старших братьев – только что почившего Александра I и Константина, упорно не желавшего занимать престол в соответствии с принятым порядком наследования. Николаю было всего 29 лет, и всю свою жизнь он стремился к военной карьере, которая, как считалось, более приличествовала его рангу. Говорили, что услышав о повторном отказе Константина соблюсти порядок престолонаследия, он разрыдался.
И вот Николай оказался на престоле. Вечером этого ужасного дня он сидел в своем кабинете в Зимнем дворце, составляя письмо о произошедших событиях брату Константину, жившему в Варшаве в качестве наместника Царства Польского.
Окна дворца были ярко освещены, по примыкающей к нему площади бесконечно курсировали солдаты и офицеры, сопровождающие арестованных заговорщиков на допросы. Известие о заговоре дошло до Николая за несколько часов до коронации, и он успел вызвать гвардейские полки, подавившие мятеж. Его брат и предшественник на престоле, Александр I, недавно скончавшийся в Таганроге, тоже неоднократно получал от Особой канцелярии уведомления о появившихся в офицерских кругах разных областей Российской империи тайных обществах, стремящихся к смене режима, а возможно, и к убийству царя.
По этой причине молодого императора Николая I удивило не столько существование заговора, сколько участие в нем представителей знатнейших военных и аристократических родов. Достаточно привести лишь несколько имен: такие люди, как Трубецкой, Муравьёв[123], Анненков или Волконский, – выдающиеся деятели императорской России, сделавшие карьеру 10–20 лет назад во время войн с Наполеоном и снискавшие славу благодаря собственному мужеству и полученным ранам. Салоны этих мятежных семей собирали аристократическую, интеллектуальную и артистическую элиту столицы, туда были вхожи и члены императорской семьи, и иностранные дипломаты. Теперь их имена неразрывно связаны с этим декабрьским днем: участников самого заметного мятежа в истории императорской России назовут декабристами.
Как это получилось? Как удалось привлечь на сторону измены самых доблестных офицеров России? Почему на такой риск пошли дворяне, которым были гарантированы слава, богатство и обеспеченное будущее? Царь хотел понять причину, и в этот вечер он прервал переписку с братом только для того, чтобы самому выслушать заговорщиков, которых привели к нему на допрос. Его письмо – своего рода репортаж в прямом эфире из дворца: «В настоящее время в нашем распоряжении находятся трое из главных вожаков», – пишет он в начале письма. Потом, через несколько строчек, добавляет после явного перерыва: «В настоящую минуту ко мне привели еще четырех из этих господ»1.
Один за другим главные заговорщики поднимались по ступеням Зимнего дворца и представали перед царем, непрерывным потоком шли доносы, признания и аресты. Этот необыкновенный разговор лицом к лицу продолжался днем и ночью. До нас он дошел в пересказе самих участников событий. Одним из первых к царю привели 23-летнего лейтенанта Ивана Александровича Анненкова, отпрыска одной из самых уважаемых московских семей. В тот роковой день он был на Сенатской площади, но в той части войск, которая сохранила верность императору и противостояла его мятежным товарищам[124]. Тем не менее, быстро стало известно о его принадлежности к одному из тайных обществ, стоявших у истоков восстания. Так он оказался в одном из залов императорского дворца, где, по его собственному свидетельству, «я нашел двух своих товарищей по полку: Александра Муравьёва и Арцыбашева. <…> Кроме нас троих, в зале была толпа генералов и придворных. <…> Через несколько времени одна из дверей залы растворилась и в ней показался Николай Павлович, со словами: «Подите сюда». Я снова был поражен странною бледностью его лица». Разумеется, фамилия Анненкова была знакома государю. К тому же он знал и самого стоявшего перед ним молодого офицера и сразу напомнил ему о милости покойного Александра I, которой тот был удостоен несколько лет назад, после того как убил противника на дуэли. По свидетельству Анненкова, допрос продолжался следующим образом: «– Были вы 12 декабря у Оболенского? Говорите правду, правительству все известно. – Был. <…> – Если вы знали, что есть такое общество, отчего вы не донесли? – Как было доносить, тем более, что многого я не знал, во многом не принимал участия, все лето был в отсутствии, ездил за ремонтом. Наконец тяжело, нечестно доносить на своих товарищей». На эти слова государь страшно вспылил: – «Вы не имеете понятия о чести!» – крикнул он так грозно, что Анненков, как пишет, невольно вздрогнул. – «Знаете ли вы, что заслуживаете? – Смерть, государь. – Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны, нет – я вас в крепости сгною!» Солдаты увели Анненкова, и в комнату втолкнули его товарища Александра Муравьёва. Он был очень молод, застенчив и немного заикался. Государь задал ему те же вопросы. Муравьёв, вероятно, сконфузившись, начал отвечать по-французски. Но едва он произнес: Sire, как государь вышел из себя и резко ответил: «Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь говорить на другом языке».2
В первые дни своего царствования Николай I главным образом занимался личным расследованием заговора. Он хотел все узнать, все понять, встретиться со всеми конспираторами. Через допросы с его участием прошли десятки людей. Приемная государя стала штаб-квартирой расследования: здесь высокопоставленные армейские и полицейские чины сводили воедино всю информацию, полученную на допросах в застенках Петропавловской крепости. Шли недели, но царь все так же удивлялся, встречая знакомые лица. Некоторым из них (как, например, князю Сергею Григорьевичу Волконскому, одному из главных организаторов мятежа, за судьбой которого мы будем следить несколько пристальнее) он обещал милость в обмен на полноценное участие в следствии. «От искренности ваших показаний зависит ваша участь», – сказал он князю Волконскому, протягивая ему список вопросов.3 Некоторые отвечали только общими фразами или отказывались называть имена. Другие, в частности князь Трубецкой, падали в ноги царю, умоляя сохранить им жизнь. Декабристы планировали, что Сергей Трубецкой будет руководить восстанием в статусе «диктатора» на римский лад, а позже управлять государственными делами до введения Конституции, которую они предполагали учредить. Но в решительный момент он не явился на площадь. Охваченный сомнениями, он сначала выжидал в Генштабе, потом в Строгановском дворце, а потом, услышав шум, доносившийся с улицы, пошел в австрийское посольство просить убежища. Однако он прекрасно понимал, что само участие в заговоре будет стоить ему жизни. Позже Николай I писал брату, что князь пал к его ногам самым недостойным образом.4 Тем не менее, ему сохранили жизнь.
Ответ Николая I на восстание декабристов в итоге сводится к одному слову: «Сибирь». 30 июня 1826 года на заседании Верховного уголовного суда был вынесен приговор 122 обвиняемым в их отсутствие. В состав суда входили 72 высокопоставленных сановника, средний возраст которых составлял 55 лет5, то есть они были вдвое старше подсудимых. По сути, одно поколение выносило приговор другому. Обвиняемых разделили на 11 разрядов в зависимости от степени их виновности, установленной в ходе следствия. Пять предполагаемых руководителей заговора были поставлены «вне разрядов». Суд, заседание которого в данном случае больше было похоже на ассамблею, начал вынесение приговоров с них. В записке, куда следовало вписать предлагаемый приговор, старый князь Лопухин, председатель суда, служивший при пяти царях и страдавший глухотой, указал: «Четвертовать». Другие члены коллегии согласились с ним. Некоторые из них ограничились более мягкой и расплывчатой формулировкой «позорная смерть». Только адмирал Мордвинов выступил за сохранение жизни молодым офицерам: он предложил разжаловать их, лишить дворянского звания, положить головы на плаху, а потом отправить на каторжные ра-боты.6 К обеду пять главных заговорщиков были приговорены к четвертованию – самому жестокому виду смертной казни, которое можно найти в российской юридической практике. В глубине души члены судейской коллегии знали, что царь захочет проявить милосердие и сам смягчит приговор. Действительно, позднее он заменил четвертование этих пятерых осужденных казнью через повешение.
В конце списка находились обвиняемые, чье участие в заговоре было сочтено минимальным; они были разжалованы и сосланы на Кавказ. Подавляющее же большинство, свыше ста осужденных, распределили по разрядам, наказание для которых находилось в диапазоне от смертной казни до ссылки на каторжные работы и поселение на долгие годы. Все они были лишены чинов и дворянства и разжалованы в солдаты[125]. Всех ждала Сибирь.
Жены главных обвиняемых узнали о суровом приговоре еще до его публикации через своих информаторов. По воспоминаниям Полины Анненковой, вечером, накануне оглашения приговора, две из них, переодевшись в простое платье, пробрались на стену Петропавловской крепости, по которой раз в год совершался крестный ход. Внезапно в темноте часовые услышали женский крик на французском языке: «Приговор будет ужасен, но наказание будет смягчено». За толстыми стенами казематов послышался гул и ответный крик, тоже по-французски: Merci!7.
Приговоренные к смерти: Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский – были казнены во дворе крепости, в самом сердце Санкт-Петербурга. Белая ночь позволяла увидеть, как их подвели к виселице, построили спиной к спине, так что они смогли в последний раз пожать друг другу руки, а потом выстроили в ряд на эшафоте с петлей на шее. Когда палач привел в действие механизм, три веревки из пяти оборвались, но троих полузадушенных осужденных, упавших к подножию виселицы, было решено повесить заново. Никакой пощады: их повесили вторично, и все же один успел что-то крикнуть своим палачам. Остальных осужденных собрали на гласисе крепости напротив виселиц, чтобы ознакомить с вынесенными приговорами и приговорами, смягченными государем. Смертная казнь для князя Трубецкого была заменена на пожизненные каторжные работы, Анненков и Волконский получили по 20 лет каторги с пожизненным поселением в Сибири. Эта сцена описана в воспоминаниях Марии Волконской: «Сергей, как только пришел, снял с себя военный сюртук и бросил его в костер: он не хотел, чтобы его сорвали с него. Было разложено и зажжено несколько костров для уничтожения мундиров и орденов приговоренных; затем им всем приказали стать на колени, причем жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования; делалось это неловко: нескольким из них поранили голову. По возвращении в тюрьму они стали получать не обыденную пищу свою, а положение каторжников; также получили и их одежду – куртку и штаны грубого серого сукна».8
В конце июля всех осужденных вывезли из крепости в легких повозках небольшими группами. Из соображений безопасности их везли не по обычным дорогам, держа маршруты в тайне, но место назначения было всем известно: сибирские рудники. Как можно дальше от глаз императора. Туда, где жизнь максимально суровая и тяжелая.
* * *
Ссылка в Сибирь была не в новинку в истории российской пенитенциарной системы. Из летописей известно, что еще в 1591 году туда сослали набатный колокол, сброшенный с колокольни в маленьком городе Углич в Центральной России. Он был осужден за то, что известил жителей города об убийстве малолетнего царевича Дмитрия, законного наследника престола, неведомыми людьми (обвиняют Бориса Годунова). Колокол был приговорен к тому же наказанию, что и сторонники царевича: ему вырвали язык и отправили за Урал, в город Тобольск, который тогда только начинал строиться на вновь завоеванных землях. Колокол подлежал забвению, и впредь ему запретили звонить.
В течение долгих веков «Сибирь» как место ссылки представляла собой смутное и размытое понятие. В представлении выносящих приговоры царей Сибирь начиналась там, где заканчивалась Россия. Это был дальний край изведанных земель. В XVI веке при Борисе Годунове таким концом России был Тобольск. В XVIII веке – Берёзово, расположенное дальше на север, на одном из притоков Оби. Позже, в XIX веке, – рудники Нерчинска, Кары и Акатуя у китайской границы, а в конце XIX века – берега Тихого океана и остров Сахалин. Таким образом, «Сибирь» как синоним каторги все время смещалась на восток. В XX веке, при сталинском режиме, в ее состав вошли Крайний Север и Северо-Восток. Путь, который должны проделать заключенные, чтобы добраться до места, становился все длиннее. Проще говоря, это был самый далекий путь, который можно себе представить.
Сибирь стала сливным отверстием, через которое Европейская Россия избавлялась от своих социальных отбросов. Официальный статус места ссылки она приобрела с Соборным уложением 1649 года, в котором царь Алексей Михайлович закрепил заинтересованность государства в освоении незаселенных территорий и ввел ссылку в арсенал уголовного судопроизводства. С этого времени она была закономерным итогом всех крупных бунтов, периодически сотрясавших Россию, таких как восстание казацкого атамана Степана Разина в 1670 году или Емельяна Пугачёва столетие спустя. После казни зачинщиков бунта его участников карали ссылкой «к черту на рога», то есть очень далеко на восток. Депортация в Сибирь была предначертана и староверам-раскольникам, которые с середины XVII века отказывались подчиняться каноническим и литургическим реформам царя и православной церкви. После долгой борьбы с элементами религиозной гражданской войны, в которой участвовали главным образом мятежные монастыри и деревни Русского Севера, многочисленные крестьяне и купцы, крещенные в старой вере, были изгнаны или бежали из Европейской России и расползлись по отдаленным уголкам страны. Иногда они даже переходили границы обитаемых земель, чтобы укрыться в долинах и лесах terra incognita[126]. Одному из их лидеров, протопопу Аввакуму, который провел в восточно-сибирской ссылке девять лет с 1655 по 1664 годы вместе с женой и детьми, принадлежит первое описание Сибири как места изгнания. Спустя несколько десятилетий открытие в Сибири залежей железа и серебра вызвало новый всплеск интереса верховной власти, и Петр Великий решил расширить список уголовных наказаний, добавив к ссылке каторгу, что позволяло бесплатно решить проблему нехватки рабочей силы. Петр уже прибегал к этому средству, когда строил свою новую столицу на балтийских болотах, так почему было не распространить этот опыт далеко на восток, на все рудники, нуждавшиеся в разработке? Использование труда заключенных на самых тяжелых работах, колонизация завоеванных земель силами преступников и нарушителей общественного спокойствия – не новые методы, к ним в то время широко прибегали другие европейские страны, например Франция в Гвиане или Англия в Австралии. Однако именно в Сибири эта технология со временем приобрела несопоставимый размах как по масштабам, так и по продолжительности.
На смену царской каторге пришли лагеря советского ГУЛАГа, работа которого с самого начала была основана на том же принципе: заселение и освоение самых суровых регионов силами поселенцев-рабов и использование подневольного труда на самых больших стройках. При Сталине бесчеловечное предприятие достигло неслыханного промышленного масштаба. Речь шла уже не о том, чтобы «просто» использовать труд заключенных, направляя их в самые отдаленные районы и на самые тяжелые работы: в конечном итоге их начали арестовывать и осуждать в количествах, необходимых для обеспечения потребности в рабском труде. Проще говоря, отныне принцип «ты раб государства, потому что ты был арестован государством» заменили на другой принцип: «ты арестован государством, потому что ему нужны рабы».
С XVIII века власти Российской империи начали осознавать, какую выгоду могло принести более интенсивное заселение Сибири. В 1753–1754 годах Елизавета Петровна отменила смертную казнь, заменив ее на ссылку в Сибирь. Таким образом государство получало чистую прибыль в виде дополнительной рабочей силы. Физическая смерть осужденного заменялась на политическую, или гражданскую, которая сопровождалась символическим унизительным наказанием кнутом, заковыванием в кандалы, в некоторые периоды уродованием лица – чаще всего это было вырывание ноздрей, ставшее синонимом пожизненной каторги. Осужденным за самые тяжкие преступления на щеку или лоб ставили клеймо в виде буквы «К» (каторга) – сначала раскаленным железом, позже несмываемыми чернилами[127]. Для дворян символическая казнь заключалась в преломлении шпаги над головой или над плечами, что постигло декабристов.
Впрочем, на самом деле отмена смертной казни носила лишь показной характер. Наказание осужденного кнутом, а позже треххвостой плетью, которая стала официальным инструментом казни, позволяло палачу при наличии приказа добиться того же эффекта. Каждый год в Сибири забивали плетью насмерть множество строптивых каторжников.
Уголовная реформа Елизаветы привела к резкому увеличению потока осужденных в Сибирь: современные историки оценивают его примерно в 10 тысяч человек в год.9 Главным образом масштабы высылки объясняются императорским разрешением сельским общинам самостоятельно приговаривать нежелательных лиц к изгнанию, если они были осуждены уголовным судом. Так что даже небольшого правонарушения оказывалось достаточно, чтобы изгнать навсегда надоевшего соседа, мелкого преступника или упрямого бунтовщика. Срубленное дерево, кража из курятника или несвоевременный выход на сенокос могли стоить вечной ссылки. Кроме того, отныне депортации подлежали и женщины. Позже право на изгнание непослушных крепостных получили дворяне. Высылка крепостного крестьянина на принудительное поселение в Сибирь избавляла от необходимости отдавать его в солдаты. Приток мигрантов, изгнанных из родных деревень, ускорил колонизацию Сибири. К концу XVIII века ссыльные и каторжные составляли десятую часть населения зауральских провинций.
Согласно законодательству Российской империи, высылаемые лица делились на три большие категории. Первая – ссыльные на срок от нескольких лет до пожизненного. Некоторых просто приговаривали к поселению в определенном месте в зависимости от решения администрации или суда. Условия ссылки могли различаться: от принудительного поселения и сельскохозяйственных работ до проживания под надзором с определенными ограничениями (запрет на отдельные виды деятельности, просмотр переписки и т. д.). Вторая группа – заключенные, которым предстояло «очищение от грехов» в больших сибирских тюрьмах. И, наконец, третья – каторжники, приговоренные к принудительным работам, отправлялись в остроги Нерчинска, Кары, Акатуя, а к концу XIX века основным местом их назначения стал остров Сахалин. В их числе были закоренелые преступники, приговоренные к самым суровым наказаниям, которые они отбывали в рудниках или на государственных заводах и литейных производствах. Например, обычный приговор за убийство составлял десять лет каторжных работ. Как правило, убийц заковывали в кандалы, и во время переезда в Сибирь или с одной каторги на другую они должны были носить прикованное к ноге ядро весом в несколько килограммов. В руднике их приковывали цепью к тележке, которую они толкали, или помещали в кандалы, которые описал заключенный Фёдор Достоевский, тоже приговоренный к их ношению: «Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку».10
Из арестантов, двигавшихся по длинному пути на восток, треть составляли ссыльнопоселенцы, осужденные на уединенную, но свободную жизнь. Они не были закованы в кандалы. В их число входили приговоренные к «административной ссылке», зачастую изгнанные из своих деревень всего лишь за мелкую кражу. Если им предстояло пожизненное изгнание, в конце обоза обычно ехали их жены, дети и другие родственники, у которых не оставалось другого выбора, чтобы выжить. Вторая категория арестантов, которым предстояло заключение в сибирских крепостях и тюрьмах, составляла около половины от их общего количества. Приговоренные к каторжным работам, судя по имеющимся статистическим данным, составляли в среднем седьмую часть заключенных. В 1830–1840-х годах на рудники на краю света прибыло не менее 23 тысяч каторжан.11
В то время как ссыльные, которых можно было узнать по букве «С», нашитой на одежду, и по наполовину обритой голове, и каторжники, закованные в кандалы и узнаваемые по страшной букве «К», шли бесконечным путем на восток, в противоположном направлении двигался поток бродяг. Тысячи, а иногда и десятки тысяч, этих беглецов и головорезов бродили по лесам и степям, уходя насколько далеко, насколько им позволяли силы и возможности. По данным переписи, наскоро проведенной в 1886 году в местах ссылки, из Восточной Сибири сбегали 42 % ссыльных, из Западной Сибири с мест принудительного поселения исчезали 33 % осужденных.12 Это трудно вычисляемое множество заключенных в бегах было кошмаром для населения Сибири, жизнь в которой оставалась небезопасной до конца XIX века.
Сбежав с места ссылки, скрывшись от надзирателей своего поселения или от конвоя на каторге, они бродили по тракту и грабили беззащитных путешественников. Их единственной целью было выжить на свободе как можно дольше, и они мечтали, сами себе не веря, постепенно преодолеть расстояние, отделяющее их от родной России. Они скитались поодиночке в океане тайги, избегая деревень и поселений коренных народов, готовых всегда сдать их властям за копейки, или сбивались в группы с другими бандитами с большой дороги. В теплое время года, когда природные условия благоприятствовали, их количество заметно увеличивалось. Была легенда, что они бежали, заслышав непреодолимый зов кукушки, за что их прозвали «кукушками». С приближением зимы многие из беглецов, предпочитая неволю голоду, сами сдавались полиции или приходили в деревни. За исключением случаев отбывания незначительного наказания, они обычно отказывались называть себя или представлялись именем случайного сокамерника, чья участь казалась им легче. Отсутствие государственного реестра, базы отпечатков пальцев или портретов сильно осложняло для властей идентификацию преступников: приходилось иметь дело с толпой безымянных нищих, и было неясно, как с ними следует обходиться. Иногда к бродягам применяли самое страшное наказание: их отправляли на каторгу, помечая буквой «Б», которая была знаком пожизненного исключения из общества. В других случаях ограничивались кнутом или шпицрутенами, что могло показаться более легким наказанием только на первый взгляд; это был главный инструмент управления в каторжном мире. Кнут был властителем сибирской ссылки, каждый знал, что рискует однажды подвергнуться этому наказанию. «Я сейчас с публики», – говорили заключенные, только что перенесшие порку, как будто сходили со сцены.13 Этим они добивались уважения своих товарищей по каторге. Каторжник Достоевский, на некоторое время попавший в больницу, был потрясен видом жертв порки, оказавшихся рядом с ним. «Я был взволнован, смущен и испуган, – писал он. – Я сказал уже, что перед наказанием редко кто бывает хладнокровен, не исключая даже тех, которые уже предварительно были много и неоднократно биты. Тут вообще находит на осужденного какой-то острый, но чисто физический страх, невольный и неотразимый, подавляющий все нравственное существо человека. <…> Мне иногда хотелось определительно узнать, как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить? <…> Но у кого я ни спрашивал, я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. Жжет, как огнем палит, – вот все, что я мог узнать, и это был единственный у всех ответ. Жжет, да и только. В это же первое время, сойдясь поближе с М – м, я расспрашивал и его. «Больно, – отвечал он, – очень, а ощущение – жжет, как огнем; как будто жарится спина на сильном огне».14
* * *
В этой армии ссыльных политические преступники составляли лишь небольшую часть. В XVIII веке это были главным образом попавшие в немилость вельможи, которых государь хотел как можно дальше удалить от двора, чтобы ограничить их влияние. Переход от роскоши столичных салонов к нарам в сибирской деревушке мог быть стремительным и резким. В 1827 году «светлейший князь Александр Меншиков, генералиссимус морских и сухопутных войск, генерал-губернатор Санкт-Петербургской губернии», обладатель множества других титулов и наград, оказался в избушке с земляным полом в селе Берёзове в нижнем течении Оби. Вечный гуляка, известный невероятными ночными оргиями в собственном дворце на берегах Невы, один из ближайших и самых верных сподвижников покойного Петра Великого, в одночасье был обречен на созерцание течения великой сибирской реки. Меншиков, пытавшийся подчинить себе молодого царя Петра II и женить его на своей дочери, пал жертвой интриг враждебного клана князей Долгоруких. Он умер в изгнании, как и его жена, и одна из их дочерей. Но история за него отомстила. В 1730 году усилиями нового интригана Остермана настала очередь Долгоруких познать суровую жизнь в Берёзове. В свою очередь, в 1742 году за ними по воле новой императрицы проследовал и сам Остерман.15
Так ссыльные политики, впавшие в немилость придворные и неудачливые соперники – «политические» вливались в общий поток арестантов, идущих в Сибирь. По данным тюремной статистики, в начале XIX века в Сибирь отправляли в среднем 2 тысячи осужденных в год. К началу XX века их число достигло примерно 19 тысяч. За весь XIX век в Сибирь было перемещено около миллиона переселенцев и заключенных, к которым, по-видимому, следует добавить 200–300 тысяч сопровождавших их родственников и домашних.16 В этой огромной массе людей сектанты, оппозиционеры, узники совести были скорее исключением. Их количество определялось правящим режимом и возрастало вслед за восстаниями, нарушавшими ход жизни империи: несколько десятков человек во второй половине XVIII века, несколько сотен в начале XIX века, к концу которого их счет шел уже на тысячи. Первой группой населения, массово пострадавшей от гнева властей, стали староверы. Позже к ним присоединились представители народов Кавказа: чеченцы, авары, лезгины, ингуши, которых в те времена часто путали, ошибочно обозначая общим названием «татары», или «черкесы», – мусульманские повстанцы, в течение десятилетий сопротивлявшиеся русской армии в горах между Чёрным и Каспийским морями. Потом добавились волны поляков, особенно многочисленные после утопленных в крови восстаний 1830–1831-го и 1863 годов. Наконец, после 1860–1870-х годов многочисленную группу ссыльных и каторжных составили народники, руководители движения «Земля и воля», социалисты и другие революционеры. Фёдор Достоевский оставил довольно язвительные портреты товарищей по каторге: «Это был сильно развитой народ, хитрые мужики, чрезвычайные начетчики и буквоеды и по-своему сильные диалектики», – пишет он о староверах, отмечая также, что это «народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени».17 Кавказские горцы, присланные на каторгу «большею частию за грабежи и на разные сроки»,18 вызывали у него особое любопытство. Наконец, поляки составляли «совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами». «Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы»,19 – резко заключает писатель.
Хотя политические преступники оставались в меньшинстве, они были в центре общественного внимания. Судьба каторжного простонародья почти не вызывала сочувствия ни в России, ни за рубежом. Так, Фердинанд де Лануа, популярный французский писатель 1860-х годов, издавший книгу в серии «Библиотека юных девиц» для удовлетворения все возрастающего любопытства публики к Сибири, писал, что «эти рецидивисты, которых можно увидеть на золотых приисках Урала и Алтая или в городских тюрьмах, так мало отличаются от своих европейских собратьев, что их существование нельзя списать на первобытную грубость нравов, невежество, лень и пьянство, которые в них сочетаются с рабским терпением и апатией. Кнут – единственный язык, который они понимают».20 Но когда несколькими страницами ниже автор описывает «политических каторжан», «мучеников патриотизма и свободы», его тон меняется: «Если в будущем Сибири уготована страница в истории, – восклицает он, – вероятно, она будет этим обязана именно этим людям, и никому другому».21 В общественном сознании России, Европы, а вскоре и США, Сибирь все чаще ассоциировалась с каторгой, а каторга – со ссылкой политических преступников. Этот ассоциативный ряд оставался неизменным многие десятилетия.
Начало внезапному всплеску интереса к политическим ссыльным положила расправа с декабристами. Неудавшийся переворот 1825 года и драматическая судьба молодых доблестных офицеров, идеалистов из высшего общества, сразу привлекли внимание широкой публики. Даже для России количество и социальный состав осужденных были сенсационными: добрая часть элиты перешла из раздела светской хроники в раздел судебных новостей. А за рубежом сочувствовали прежде всего самопожертвованию этих молодых храбрецов во имя европейских ценностей. Декабристов мнили наследниками Просвещения, «праведниками», преждевременно уничтоженными тиранией. В самом деле, в ходе наполеоновских войн русские офицеры за несколько лет прошли всю Европу и вернулись оттуда под глубоким впечатлением от германского, австрийского, английского и французского общества, в которое они попали. Экономическое процветание, развитие торговли, свобода слова в салонах Вены и Парижа, более того, стремления к конституции и уважение основных прав человека – все это поразило их умы и потрясло воображение. Какой отсталой вдруг показалась Россия, пусть и победившая в войне, этим молодым завоевателям новой Европы! В Париже была провозглашена реставрация монархии. Казаки проходили строем по Елисейским полям, а генерал-майор Сергей Волконский был вхож во все важные салоны: к госпоже де Сталь, где познакомился с Шатобрианом и восхищался ораторским вдохновением Бенжамена Констана, или к герцогине де Сент-Лё, где велись совершенно другие речи. «Надо сказать при этом, что вообще все, что мы хоть мельком видели в 13-м и 14-м годах в Европе, – писал Волконский в своих воспоминаниях, – породило во всей молодежи чувство, что Россия в общественном, внутреннем и политическом быте весьма отстала, и во многих вселило мысль поближе познакомиться с Европой».22
Волконский сделал свой выбор. Вернувшись с войны, вместе с несколькими боевыми товарищами он вступил в «Союз благоденствия», а затем в Южное общество – тайные союзы, участие в которых привело его к декабрьской попытке государственного переворота. Он был среди идеологов движения, участвовал в создании программного документа, известного под названием «Русская правда», вел тайные переговоры с другими группами заговорщиков в армии, а также с польскими националистами и патриотами. Как и его товарищи, он торжественно поклялся убить царя, если это преступление позволит уничтожить самодержавие и установить конституционную монархию или республику. Эта клятва требовалась от каждого заговорщика: она была лучшей гарантией сохранения тайны заговора, поскольку цареубийство каралось смертной казнью. Принять это положение означало поклясться собственной кровью.
Волконский руководил элитным кавалерийским полком. После Фридландской битвы ему вручили золотую шпагу с гравированной надписью «За отвагу», он был награжден после сражений при Березине и Лейпциге. Ему было 38 лет, и он только что женился на юной девушке, одной из самых заметных в среде российской аристократии: Марии Раевской было меньше 20 лет. Она была дочерью еще одного национального героя этого военного времени – генерала Николая Раевского. Молодая жена родила ему первенца. Сергея Волконского арестовали в дороге, когда он мчался во весь опор после свидания с нею обратно в полк. И вот в серой холщовой рубахе и в кандалах его повели в Сибирь на рудники. Страшное зрелище! Пережить такое падение было тяжело. Подобно ему, около сотни человек было осуждено, изгнано из общества и лишено будущего. Героизм, величие, роскошные декорации и самопожертвование ради высших ценностей: чью душу не мог бы тронуть такой сценарий?
Мария Волконская была идеальной героиней, чтобы привнести в эту драму сентиментально-романтическую нотку. Черты лица подростка, тонкая и гибкая талия, величественные аристократические манеры. За темные волосы и горящие темные глаза ее называли «девой Ганга». Но у правнучки ученого Ломоносова было прекрасное образование и широкий кругозор: наделенная большой любознательностью, она говорила на нескольких языках и, по свидетельству князя Долгорукого, являлась «дамой весьма вежливой, приятной беседы и самого превосходного воспитания»,23 а также обладала сильным характером. Весть об аресте мужа стала большим потрясением для молодой супруги, едва оправившейся после тяжелых родов. Заговор? Против царя? И человек, ставший ее мужем, в два раза старше ее самой, – его организатор? Вся семья была в полном смятении. Ведь не только Волконский оказался под арестом. Подозрение коснулось и брата Марии. Ее дядя Давыдов также был в числе главных обвиняемых. Несколько их близких друзей оказались в Петропавловской крепости. Что касается отца молодой Марии Волконской, генерала Раевского, прославленного полководца, про которого поэт Жуковский писал, что «он был в Смоленске щит, в Париже меч России»,24 то он был сражен горем. По приказу царя годом ранее его отправили в отставку из-за подозрений в симпатии к либеральным идеям, опасным для режима. После волны арестов в семье в обществе на него смотрели подозрительно, как на главу семьи мятежников.
Едва придя в себя, Мария вернулась в столицу, взялась за перо и написала прямо государю. Ей было всего 19 лет, когда она была помолвлена и обвенчана с известным человеком, про которого она, в сущности, ничего не знала. После свадьбы она прожила с ним всего три месяца. Он был полностью разжалован, лишен всех титулов и наград, отныне он стал изгоем, навсегда отвергнутым обществом. Однако она умоляла Николая I, которого пытался свергнуть ее муж, позволить ей последовать за супругом на каторгу. Она знала, что ей придется оставить новорожденного сына, который не перенес бы этого путешествия. Императорская канцелярия в любом случае запретила бы ей, как и всем женам декабристов, взять с собой ребенка. Но Мария была полна решимости ехать и продала большую часть своих драгоценностей, чтобы оплатить поездку. «Мой отец, этот герой 1812 года [войны с Наполеоном], – вспоминала она в записках, написанных исключительно для детей и внуков, – не владея собою, поднял кулаки над моей головой и вскричал: “Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься”».
21 декабря 1826 года, почти год спустя после неудавшегося переворота, царь ответил ей: «Я получил, княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас принимаю [sic, в оригинале по-французски]; но во имя этого участия к вам и я считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные относительно того, что вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. (Подпись) Благорасположенный к вам Николай».25
* * *
Иркутск. Иркутск – как граница двух миров. По ту сторону Иркутска начиналась совсем другая Россия. Переход за Байкал был, конечно, путешествием в дикие и неизведанные земли, граничащие с Китайской империей. Но это была и совсем особая территория в административном отношении. С тех пор, как в конце XVII века первопроходцы поднялись по притокам реки Амур, например, по Аргуни, там были обнаружены залежи железной руды, а главное – серебра, свинца и золота. Местные народы, кстати, обладали большим мастерством в области обработки благородных металлов. Первый серебряный рудник был открыт в 1704 году. Нет необходимости пояснять его значение: Российской империи мучительно не хватало драгоценных металлов для чеканки монет. В последующие десятилетия Петр I и его наследники всеми силами способствовали освоению малонаселенных территорий в треугольнике между Байкалом, китайской границей и слиянием Шилки и Аргуни. Согласно императорскому указу, недра и все рудники в этом регионе были собственностью короны. Таким образом, огромное пространство фактически непосредственно относилось к личной казне императорской семьи. Проживавшие там казаки и крестьяне подчинялись правлению Нерчинского горного округа, руководители которого полновластно управляли этой внутренней провинцией, находившейся в частной собственности. Даже в 1913 году, согласно переписи имущества, в состав Нерчинского горного округа входило 250 тыс. кв. км, то есть немногим больше современной территории Великобритании, в том числе 100 тыс. кв. км районов непосредственной добычи и их окрестностей, были в исключительной собственности короны.26
Нерчинский округ был государством в государстве. Как правило, при каждом руднике имелся завод, где обрабатывали руду, и тюрьма, где жили каторжники. Все население рудника, тюрьмы и завода составляли заключенные. Эта бесплатная рабочая сила была двигателем государственной машины Российской империи, необходимым ей для добычи золота и серебра, пополнявших личную казну царя. Нерчинская каторга, как ее обычно называли, в сущности, состояла из ряда острогов, разбросанных по этому отдаленному уголку Забайкалья, и объединяла в своем составе 14 каторжных тюрем. В этой вселенной, отрезанной от остальной России, жизнь заключенных подчинялась особому режиму: приговоренные к срокам менее 20 лет носили колодки на ногах, им выбривали половину головы, а на спину рубахи пришивали буквы, обозначавшие их категорию. Осужденные на 20 лет или на пожизненное заключение носили также кандалы на руках, голову им выбривали полностью, и только они работали в подземных шахтах.27 Волконский, Трубецкой и другие заключенные декабристы относились к этой группе.
Чтобы супруга «государственного преступника Волконского» смогла попасть в эту огромную каторжную зону, ей были поставлены нечеловеческие условия. Она должна была не только оставить новорожденного сына Николая, но и «потерять прежнее звание, то есть быть признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного». Для полной ясности в бумагах, которые она должна была подписать, уточнялось, что «даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущего равную с ним участь, себе подобною». Дети, которые могли родиться в Сибири, «поступят в казенные заводские крестьяне», то есть будут рабами государства. «Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено», кроме того, «отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших».28 Вся переписка с семьей или друзьями должна была проходить через местную цензуру.
Чиновнику, заклинавшему ее еще подумать, Мария Волконская ответила кратко: «Мне все равно, уложимся скорее и поедем». Как она пишет, с собой взяли немного белья, три платья да ватошный капор, чтобы защититься от холода. Деньги зашили в одежду. Новорожденного Николеньку она поручила семье, предчувствуя, что больше его не увидит[128].
«К несчастью для себя, – писала она заключенному мужу, – я вижу хорошо, что буду всегда разлучена с одним из вас двоих».29 Итак, она отправилась в путь. В санях, как можно быстрее, не оглядываясь назад. Кучеру приказали мчаться днем и ночью, и «только после того как мы три раза опрокинулись, – писала она княгине Вяземской, – я излечилась от своего нетерпения».30 Прощание с цивилизованным миром состоялось в Москве, где она ночевала у своей кузины, княгини Зинаиды. Последняя, зная любовь Марии к музыке, по случаю этой трагической разлуки собрала у себя певцов, клавесиниста и скрипачей. Все сливки московского общества пришли, чтобы увидеть героиню, которая решилась навсегда оставить свет. Не удалось избежать мелодрамы: посреди дуэта, в котором молодая женщина умоляла отца о прощении, певица зарыдала. Мария просила, чтобы каждый спел ей что-то, сделав легче ее тяжкое путешествие в Сибирь. Осмотревшись, она отметила: «тут был и Пушкин, наш великий поэт». Она познакомилась с ним несколько лет назад, когда ее отец приютил ссыльного молодого писателя, и весело вспоминала попытки поэта соблазнить ее, тогда совсем юную девушку: «В качестве поэта он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал».31 Но в тот вечер у Пушкина к ней была особая просьба. Он просил ее взять с собой «Послание к узникам», которое только что закончил:
Однако Мария должна была ехать той же ночью и не могла ждать. Поэтому послание поэта современникам, олицетворяющим дух эпохи в сибирской ссылке, привезла другая вестница (Александра Муравьёва), выехавшая на несколько дней позже княгини. Доставленные в Сибирь стихи Пушкина вошли в антологию каторжно-лагерной литературы.
Мария Волконская добралась до Нерчинска в феврале 1827 года. Ее муж Сергей находился там уже четыре месяца вместе с семью другими высокопоставленными участниками заговора. Согласно инструкции из Санкт-Петербурга, они были отправлены на рудник вдали от больших дорог и китайской границы. Местная администрация выбрала для них Благодатский рудник, в нескольких километрах от местопребывания начальника рудников – Нерчинского Завода. Около ста лет назад там было открыто месторождение серебра, и с тех пор его добыча велась в горизонтальной шахте, разрабатываемой в склоне холма.32 Волконский и его товарищи, закованные в кандалы, работали в шахте с пяти до одиннадцати часов утра и должны были извлекать по 50 кг серебряной руды в месяц. Как и на других серебряных и свинцовых рудниках, работа в плохо проветриваемой шахте была изнурительной и вредной для легких. Продолжительность жизни каторжников, прикованных цепью к скале или к тележке, была крайне низкой. Комендант каторги сообщал, что никто из этих людей не знал ничего, кроме русского языка и других наук, входящих в дворянское образование, а некоторые владели иностранными языками.33 Уже через два месяца после прибытия некоторые из декабристов харкали кровью.
Сама тюрьма находилась у подножия высокой горы. «Это была бывшая казарма, тесная, грязная, отвратительная», – пишет Мария Волконская, преодолевшая путь в 6 600 км через всю Россию. В тюрьме имелось два помещения, одно из которых заняли декабристы. Княгиня отправилась туда сразу же в день прибытия: «Вдоль стен комнаты находились сделанные из досок некоторого рода конуры или клетки, назначенные для заключенных <…>. Отделение Сергея имело только три аршина в длину и два в ширину; оно было так низко, что в нем нельзя было стоять; он занимал его вместе с Трубецким и Оболенским. <…> Бурнашев [начальник рудников] предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом – его самого. Бурна-шев, стоявший на пороге, не имея возможности войти по недостатку места, был поражен изъявлением моего уважения и восторга к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обходился, как с каторжником».34
* * *
Пожизненная ссылка декабристов в Сибирь вызвала сочувствие в обществе, отъезд же вслед за ними их жен вошел в историю. Не только Мария Волконская решилась перенести тяготы долгих недель дороги на Сибирском тракте. На несколько недель раньше нее выехала Екатерина Трубецкая, жена самого высокопоставленного из заговорщиков. Сразу за ней последовала Александра Муравьёва. 11 женщин пожертвовали всем, включая своих уже рожденных детей, чтобы разделить каторжную судьбу своих мужей. 11 молодых женщин, девяти из которых не было и 30 лет[129], а самой молодой было всего 18. Им пришлось порвать все связи с Россией и с Европой, а некоторым из них – и с собственной семьей. Их отъезд не предполагал возвращения, они знали, что царь не простит офицеров, поклявшихся убить его в случае необходимости. Императорское помилование было не столько надеждой, сколько иллюзией. Мария Волконская писала: «Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет, затем я себе говорила, что будет через 10, потом через 15 лет, но после 25 лет я перестала ждать».35
Пассивное сопротивление, выразившееся в верности этих женщин мужьям, произвело большое впечатление на умы. Прежде всего в России, где немалая часть интеллигенции и мещанства и так сочувствовала идеям декабристов. Решение женщин следовать за ними стало еще одним подтверждением их честности, оно как бы доказывало, что эти люди и их ценности стоят такой огромной жертвы их молодых жен. Вопреки всем усилиям цензуры, декабристы и их подруги стали героями многочисленных стихов и романов, самые известные из которых принадлежат Пушкину. В следующем поколении им посвятил свое произведение поэт Николай Некрасов,36 а позже – Лев Толстой. Собрав внушительную библиографию по этой теме, Толстой написал несколько глав романа, который планировал назвать «Декабристы». Правда, когда он понял, что корни декабристского движения 1825 года уходят в историю наполеоновских войн и связаны с европейским опытом молодых офицеров императорской армии, он предпочел изобразить эту историческую эпоху в своем главном романе «Война и мир». Тем не менее еще в 1870-е годы он собирался сделать роман «Декабристы» продолжением «Войны и мира», но этот план так и остался нереализованным.
В Европе, в частности во Франции, общественное мнение тоже взволнованно следило за трагической историей сосланных на каторгу русских офицеров и их жен. В конце концов, ведь они были наказаны за то, что отстаивали европейские идеалы Просвещения и Революции. Накал страстей только усиливался из-за того, что среди добровольных сибирских изгнанниц было две француженки. В отличие от своих русских сестер по несчастью, принадлежавших к лучшим семьям, обе они были скромного происхождения. Камилла Ле Дантю, в замужестве Ивашева, самая молодая из жен декабристов, была дочерью французской гувернантки семейства Ивашевых. Полина Гебль, получившая при крещении имя Прасковья, была дочерью офицера наполеоновской армии родом из Лотарингии, убитого в Испании. Вынужденная самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, она устроилась в модную лавку в Санкт-Петербурге, где и встретила Ивана Анненкова, ставшего отцом ее ребенка. Этот молодой дворянин, наследник одного из самых знатных московских домов, был арестован раньше, чем успел сдержать свое обещание и жениться на ней. Теперь его было не узнать: худой, обросший бородой, в заштопанной шинели, подвязанной простой веревкой, он подметал тюремный двор.
Полина безумно любила своего аристократа и была полна решимости выйти за него замуж любой ценой. Когда ее возлюбленный только ждал приговора в застенках Петропавловской крепости, она ухитрилась тайно передать ему записку со словами: «Я пойду за тобой в Сибирь». Поскольку она не была его женой, отъезд был ей запрещен, и модистка потратила несколько месяцев, добиваясь личной встречи с императором, чтобы он разрешил ей провести остаток дней в Сибири, в месте, которое министр Нессельроде называл «дно мешка, конец света». В конце концов ей удалось увидеться с царем во время одной из его поездок в провинцию, куда ей пришлось поехать специально. В своих воспоминаниях Полина пишет: «Николай Павлович взглянул на меня тем ужасным, грозным взглядом, который заставлял трепетать всех. И, действительно, в его глазах было что-то необыкновенное, что невозможно передать словами. Вообще, во всей фигуре императора было что-то особенно внушающее. Он отрывисто спросил: «Что вам угодно?». Тогда, поклонившись, я сказала: «Государь, я не говорю по-русски, я хочу получить милостивое разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым». – «Это не ваша родина, сударыня. Может быть, вы будете очень несчастны». – «Я знаю, государь, но я готова на все».37
Когда она приехала на каторгу, Мария Волконская встретила ее там и ввела в общество изгнанниц. «Она кипела жизнью и веселием и умела удивительно выискивать смешные стороны в других», – пишет Волконская. «Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление его величества относительно ее свадьбы. С Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но, по возвращении, их опять на него надели. Дамы проводили м-ль Поль [на самом деле Полину] в церковь; она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами».38
Жертва этих молодых женщин, полных страсти, и мученичество их мужей-идеалистов вызывало во Франции пылкое сочувствие. Уже в 1827 году Стендаль упомянул их в своем первом романе «Арманс».39 В 1843 году, вскоре после волны репрессий Российской империи в Польше при подавлении восстания 1830–31 годов, вызвавших в Европе всеобщее возмущение, Адольф де Кюстин опубликовал свои путевые записки «Россия в 1839 году» – бестселлер того времени, в котором нарисован малопривлекательный образ империи Романовых. Де Кюстин возмущался судьбой жен ссыльных офицеров, в частности княгини Трубецкой. Он писал, что все мужья, сыновья, женщины и вообще все смертные должны были бы поставить памятник этой идеальной жене и петь ей хвалу. Ее следовало бы воспевать перед святыми, но никто не смел назвать ее имя в присутствии царя!40 Позже Альфред де Виньи посвятил трагедии декабристов поэму «Ванда». Но самым знаменитым и популярным защитником сибирских каторжников стал Александр Дюма, который в своем «Учителе фехтования» (1840)41 описал удивительные приключения модистки Полины Гебль и представил ее героиней романа, в котором он словно предъявлял обвинение российскому режиму. Книга была запрещена в России, а Дюма потерял право въезда в страну, получив его обратно лишь от преемника Николая I.
В Сибири жены декабристов селились в избах неподалеку от ограды острога. Администрация рудников разрешала им 2–3 свидания с узниками в неделю. Когда заключенных перевозили с места на место, каждый раз за сотни километров, жены безропотно следовали за ними, собирая свои скудные пожитки и каждый раз обустраивая жизнь заново. У них не было ни слуг, ни денег, и условия жизни были суровыми: их повседневное меню составляли крупяной суп, черный хлеб, квас и пшеничная каша. Прибытие молодой француженки, которая умела готовить лучше, чем эти светские дамы, и привыкла к жизни в нищете, скрасило их существование. Днем они прогуливались за оградой острога, ожидая прохода каторжников на рудник. По вечерам штопали, читали или писали бесчисленные прошения: разумеется, начальникам рудников и каторги, но также министрам, чиновникам высшего ранга, влиятельным посредникам, придворным, друзьям и родственникам придворных с целью добиться смягчения режима для своих мужей. Все прошения проходили цензуру, вычеркивавшую из текста все, что считалось ненужным. Потом этим Пенелопам оставалось лишь ждать возможного ответа.
Настойчивость изгнанниц, присутствие среди них иностранок, вмешательство высокопоставленных персон при дворе в итоге оказали нужное действие. После 11 месяцев мучений с осужденных было снято требование работы в шахтах рудников. Через три года им разрешили снять кандалы. Момент, когда кузнец снял их, отпраздновали с особым волнением: это был не только конец адских физических мук, но и символический момент окончания статуса каторжников, которые теперь стали просто ссыльными заключенными. Это была не царская милость, а исключительная привилегия для участников заговора декабристов. В их пользу свидетельствовал статус аристократов и офицеров, а также исключительно дисциплинированное поведение. Только Михаил Лунин, холостяк со стальным характером, отказывался от самой идеи просьбы о смягчении режима и продолжал критиковать государя и власть, демонстративно насмехаясь над цензурой. Он был повторно приговорен к каторжным работам, на этот раз ему достался самый страшный Акатуйский рудник. Как писал французский хроникер Лануа, это было последнее пристанище самых закоренелых преступников и мятежных каторжников. Само это название в Сибири произносили с невыразимым ужасом.42 Лунин скончался (или был убит?) в Акатуе 3 декабря 1845 года, 20 лет спустя после восстания декабристов.
Тем временем режим содержания его товарищей постепенно смягчался. Им разрешили проводить ночь с женами за пределами острога. Когда несколько месяцев спустя некоторые из женщин забеременели, комендант узнал об этом из их переписки и возмутился. «Позвольте вам сказать, сударыни, – заявил он раздраженным тоном, обращаясь к будущим матерям, в том числе к француженке Полине Анненковой, которая сообщает об этом в своих воспоминаниях, – что вы не имеете права быть беременными!» Поскольку они были оскорблены и протестовали, он добавил: «Когда у вас начнутся роды, ну, тогда другое дело».43 Дети родились. Началась борьба за то, чтобы им позволили сохранить фамилии и отчества: царь хотел лишить детей отступников их имени. Но со временем запретов и лишений становилось меньше. Полина Гебль-Анненкова даже писала: «Надо сознаться, что много было поэзии в нашей жизни».44 Теперь большинство «государственных преступников» стали ссыльнопоселенцами и стремились извлекать пользу из своего вынужденного пребывания в Сибири, способствуя расцвету интеллектуальной жизни в этих краях. Эти удивительные жители Сибири не планировали уезжать, в отличие от многих чиновников. Одни увлеклись опытами в области сельского хозяйства, другие занялись преподаванием, многие стали основателями краеведческих, исторических и ботанических обществ, которые расцвели по всей Сибири. Их активность стала еще заметнее с приездом нового губернатора Муравьёва, который не боялся поощрять их деятельность, встречался с ними и даже пригласил некоторых из них работать в своей администрации. Когда в свою очередь в сибирской тюрьме оказался заключенный Достоевский, декабристы уже считались аристократами каторги: «… эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных».45
Весть о помиловании пришла только в августе 1856 года после смерти Николая I – с вступлением на престол его наследника Александра II. С той пышностью, которую цари любили придавать своим щедрым жестам, новый государь вызвал в Кремль молодого офицера по имени Михаил Волконский – сына Сергея и Марии, по-прежнему находившихся в ссылке, и вручил ему императорский манифест, провозглашавший амнистию для всех декабристов с дозволением вернуться в европейскую часть России и проживать где угодно, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Семейная хроника Волконских сообщает, что молодой Михаил немедленно вскочил в седло и мчался без отдыха до самого Иркутска, куда он добрался в рекордное для той поры время – за 15 дней и несколько часов. В последние часы поездки он уже не мог ни сидеть, ни лежать.46
Отец вестника, Сергей Волконский, вернулся в Россию в следующем месяце. Мария уже несколько месяцев ждала его там. Иван и Полина Анненковы тоже вернулись – 30 лет спустя. Но из 122 осужденных в 1826 году до помилования дожили немногим более 30 человек. Из знаменитых жен декабристов только восемь вновь оказались в европейской части России и прожили там остаток своих дней[130].
В 1858 году Александр Дюма наконец осуществил свой давний замысел – большой репортаж о России, который ему пришлось отложить из-за романа «Учитель фехтования». Он хотел все увидеть, все охватить и каждую неделю сообщал читателям «Графа Монте-Кристо» о новом невероятном эпизоде своего путешествия. Осенью он высадился на берег Волги в Нижнем Новгороде, чтобы посетить большую ярмарку, которая проходила в этом городе ежегодно. Именитого гостя тут же пригласили на вечер к военному губернатору А.Н. Муравьёву, намекнув, что там его ждет сюрприз. О последовавших событиях романист рассказывал так:
«Ровно в десять часов мы были во дворце губернатора Муравьёва. Не успел я занять место, думая о сюрпризе, который, судя по приему, оказанному мне Муравьёвым, не мог быть неприятным, как дверь отворилась и лакей доложил: «Граф и графиня Анненковы». Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание. Я встал. Генерал взял меня под руку и повел к новоприбывшим. «Александр Дюма», – обратился он к ним. Затем, обращаясь ко мне, сказал: «Граф и графиня Анненковы – герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов…» Разумеется, герой и героиня романа завладели автором (или он ими) на весь остаток вечера. Анненков рассказал Дюма о своей судьбе. Графиня показала ему браслет, закрепленный на ее запястье так, что она не смогла бы его снять до самой смерти. Этот браслет и подвешенный на нем крест были выкованы из кандалов ее мужа. Он провел в Сибири 29 лет и уже был готов там умереть, когда к ним пришла весть о помиловании. Они признались Дюма, что встретили эту новость без особой радости: они успели привыкнуть к Сибири, которая стала им второй родиной. Они уже были сибиряками.47
Репортаж с каторги
Джордж Кеннан задержался в Сибири. Как мы помним, летом 1867 года Вестерн Юнион бросил молодого инженера-телеграфиста на сибирских берегах Тихого океана в окружении огромного количества ставших ненужными столбов. Молодой авантюрист, забытый работодателем, не спешил вернуться в Соединенные Штаты. Ему было 22 года, но на родине он не видел для себя больших перспектив. Как было не воспользоваться случаем – не отправиться во многомесячное путешествие по бескрайней Сибири и получше изучить русский язык до возвращения в родной штат Огайо?
Какая судьба ждала там молодого безработного? Ведь весь его жизненный опыт состоял лишь в том, что он на протяжении двух лет, презирая морозы, прокладывал посреди затерянного пространства никому не нужную телеграфную линию. И все же Россия стала для Джорджа Кеннана источником заработка. В ожидании хорошего предложения он зарабатывал небольшие гонорары, рассказывая жителям Среднего Запада о своих сибирских приключениях. Сначала это было непросто. Его первую лекцию о Сибири слушали 50 фермеров небольшой сельской общины в Огайо, заботы которых были, несомненно, крайне далеки от сюжетов, которые им предлагались в тот вечер. Иногда его приходило послушать всего пятеро или шестеро любопытствовавших бездельников.
Лекция Кеннана называлась «Наша жизнь в Сибири» и начиналась всегда со сравнения, которое должно было поразить слушателей: «Возьмем Соединенные Штаты Америки и переместим их в центр Сибири. Границы соседних государств при этом останутся далеко. Если затем на оставшемся свободном месте расположить Аляску и все страны Европы, кроме России, то будет еще достаточно пространства – целых 450 000 кв. км Сибири, – чтобы отправить туда еще и Техас с Трансильванией».48 Кеннан часто появлялся перед прихожанами в меховой шапке, закутавшись в тяжелую сибирскую шубу, желая этим хоть отчасти передать атмосферу Сибири.
Кеннан рассказывал о своих приключениях, о неожиданной встрече с медведем, об отчаянии, которое он пережил в снегах Восточной Сибири. Он любил выступать в роли адвоката России, объяснял, что эта страна не-понята, что она оболгана прессой, особенно британской, которая не удосужилась вникнуть в суть тамошней жизни. В качестве одного из примеров такого пристрастного отношения выступало описание, обычно очень страшное, сибирских тюрем и каторг. Кеннан провел два года в тех местах и, как и другие путешественники, встречал на дорогах многочисленные этапы, которые брели в сторону рудников на краю света. Заключенные не были в кандалах. Казалось, с ними нормально обращались, и они не испытывали физических страданий. Кеннан утверждал, что, вопреки частым недоброжелательным свидетельствам, заключенных, приговоренных к каторжным работам, было не так уж много. Большинство, добравшись до места, где за ними был надзор, получали относительную свободу.49 Молодой рассказчик полагал, что многие критики не задумывались о том, что существуют тяжкие преступления, и к тому же сильно преувеличивали количество политических заключенных. Если бы ему пришлось выбирать, как объяснял Кеннан своим слушателям, то он предпочел бы ссылку на российский лад пребыванию в государственной тюрьме Огайо.50 Сибирская каторга – не единственный пример предвзятости журналистов, как утверждал Кеннан. Он полагал также, что пресса сильно раздувала еврейский вопрос и преувеличивала дискриминацию еврейских общин в западных провинциях империи. Политический климат в Америке вполне способствовал таким взглядам. Европейцы еще находились под впечатлением жестокого подавления польского восстания 1863–1864 годов. Американцы, только-только вышедшие из гражданской войны, обращали внимание на другое: Россия и Америка с разницей в несколько лет отменили крепостное право и рабство. Обе страны также пережили период сопротивления враждебной политике британской сверхдержавы, пытавшейся их приструнить. Соединенные Штаты отвоевали независимость от бывшей метрополии, затем справились с гражданской войной. А Россия, ввязавшись в «Большую игру», холодную войну XIX века, столкнулась с Великобританией в Центральной Азии. Российская материальная и военная поддержка христиан на Балканах, порабощенных турками-османами, вызывала симпатию у набожных пионеров Новой Англии. Сибирь и Америку роднила судьба первооткрывателей, завоевателей, столкнувшихся с дикой природой и непокорными народами. Передача Аляски была еще свежа в памяти людей – осязаемое доказательство дружеских отношений между странами. В спорах вокруг Гавайского архипелага Россия, отказавшаяся от предложения гавайского монарха принять острова под свою руку за полвека до этого, в противостоянии Соединенных Штатов и Японии с Великобританией поддерживала Америку. Между двумя государствами царило полное понимание, упроченное общей неприязнью к Великобритании, и эта атмосфера взаимной симпатии влияла на общественное мнение.
Постепенно Кеннан научился держаться перед публикой. Новое путешествие, теперь уже на Кавказ, позволило ему расширить круг интересов и знаний. Вернувшись, он продолжал расхваливать российскую политику, теперь уже на Кавказе, который удалось наконец подчинить русским штыкам после десятилетий кровавых сражений с непокорными горцами. Талант рассказчика позволил Кеннану получить работу в Вашингтоне в «Ассошиэйтед пресс». Он стал корреспондентом при Верховном суде. Его статьи публиковались в самых престижных изданиях Соединенных Штатов, и его авторитет в том, что касалось России, был всеми признан. Он по-прежнему читал лекции, порой еженедельно, на которые собиралось все больше и больше слушателей – людей эрудированных и влиятельных. В столице бывший телеграфист выступал уже не столько в подсобных помещениях церквей или благотворительных фондов, сколько в залах перед политиками, дипломатами – людьми заметными, составлявшими цвет светской и культурной жизни. Некоторые советники Белого Дома и даже писатель Марк Твен, которого очень интересовала Россия, считались его друзьями. Новые пространства, в частности Арктика, с секретами которой мир только-только стал знакомиться, крайне увлекали путешественника, который стал одним из основателей Национального географического общества.
В январе 1885 года во время лекции в Вашингтоне произошел инцидент. В зале присутствовал некий Уильям Джексон Армстронг, служивший в составе американского дипломатического корпуса в России. Опыт жизни в России привел его к кардинально иным выводам, чем те, которые излагал Кеннан. Армстронг утверждал, что в России сложился авторитарно-репрессивный режим, с которым нужно бороться. Когда Кеннан перешел к ответам на вопросы, между ним и Армстронгом вспыхнул спор. Затем этот спор выплеснулся на страницы газет и продолжался неделю за неделей. Смутил ли этот эпизод Кеннана? Или же знаменитый лектор решил просто воспользоваться подвернувшейся возможностью, чтобы доказать обоснованность своих убеждений? Как бы там ни было, Кеннан решил посвятить несколько месяцев углубленному изучению российского тюремного мира и политике высылки преступников в Сибирь. Планы Кеннана представляли собой мешанину: политика, эмоции, сломанные судьбы, бесконечные неизученные просторы. Кеннан готовился к большому журналистскому расследованию, начало которому он положил, еще будучи скромным телеграфистом, когда собирал документы, статистические данные и литературу по этой теме. К тому же прокатившаяся в те годы по России волна терроризма подогрела интерес западной публики: кто же были те молодые интеллектуалы, внезапно ставшие бомбометателями и убийцами? Кто те благовоспитанные девушки, сеявшие террор не только в России, но и на европейских курортах, где российская аристократическая элита привыкла пить воды? Политика революционного насилия 1870–1880-х годов, которую исповедовали народовольцы, удивляла американцев, привыкших к парламентской демократии, и вызывала их негодование. Но в сибирские шахты отправляли в первую очередь именно рядовых этой террористической армии. Кеннану они не были симпатичны. «Я отправился в Сибирь с мыслью, что эти политические ссыльные – фанатики и убийцы, безумные бомбометатели»,51 – писал он. Но ему хотелось все-таки – для очистки совести – встретиться с ними.
2 мая 1885 года Джордж Кеннан покинул Соединенные Штаты. Его большой сибирский вояж должен был продлиться пятнадцать месяцев. Судя по переписке с журналом Centure,52 по заданию которого Кеннан и предпринял это путешествие, он уехал с твердым намерением показать читателям ту лестную для России картину, которую он сам взлелеял. С ним ехал художник Джордж Фрост, тоже участник телеграфной экспедиции. Кеннан полностью доверял ему, но впоследствии художник попортил ему немало крови. Фрост был человеком тревожным, чуть ли не параноиком, и плохо переносил нервные перегрузки. Это, конечно, не совсем то, чего ждешь от партнера, с которым предстоит погрузиться в ужасы каторги, а также вести журналистское расследование под надзором царской полиции. Зато журналист вез собой то, о чем мог мечтать любой следователь: более 30 рекомендательных писем, подписанных самыми именитыми гражданами Российской империи. Наиболее известные российские дипломаты и эмигранты, находившиеся в Соединенных Штатах, ручались за честность и доброжелательность этого необычного путешественника. В Санкт-Петербурге Кеннан заручится еще более ценной поддержкой, ведь все видели в нем искреннего друга России. Настоящая связка ключей, позволявшая отпереть двери тюрем по всей стране, от Санкт-Петербурга до сибирской каторги, в том числе и самых тайных – Кары и Акатуя.
И своим беспрецедентно привилегированным положением Джордж Кеннан вовсю пользовался. За несколько месяцев путешествия знаменитый репортер посетил более трех десятков сибирских тюрем разных типов, по большей части для «политических». На самом деле заключенные, осужденные по политическим статьям, составляли меньшинство среди каторжных и ссыльных. В 1885 году, когда американец совершал свое путешествие, в Сибирь было отправлено 15 766 человек, в том числе 1 551 приговоренных к каторжным работам, 2 659 – ссыльные по уголовным делам, 6 020 – по административным делам, 5 536 – «добровольные сопровождающие», главным образом жены и дети, следовавшие в Сибирь за мужьями или отцами. Среди них Кеннан начитал примерно 150 политических, приговоренных к каторге, тюремному заключению или поселению. Все прочие отправленные на каторгу были приговорены уголовным судом, часто – за тяжкие преступления. Кроме того, среди них были и жертвы решений по административным делам, которые принимались судьей, региональными или деревенскими властями или же Министерством внутренних дел. Эти решения позволяли изолировать воров, мелких уголовников, социальных изгоев и других неблагонадежных людей. В толпе ссыльных встречались также бродяги, бездомные и беглые, уже поскитавшиеся по тюрьмам. Произвол, разрушивший их жизни, часто был ничуть не меньшим, чем в случае с политическими, а условия содержания – гораздо хуже. Кеннан описывал их, однако немного отстраненно: статус, социальное происхождение, привычки – у путешественника не было ничего общего с тюремными низами. Они были рабами из другого мира. А вот политические занимают воображение журналиста. Ему интересны их мотивация, их идеи и их жертвенность.
Кеннана повсюду приветливо встречали власти и начальники тюрем. В одном из самых отдаленных углов Забайкалья путешественники стали личными гостями полицмейстера, который даже поселил их у себя. В ответ на робкий вопрос журналиста, не будет ли лучше, если они поселятся в гостинице, майор Потулов расхохотался и объяснил, что в тех местах нет ни гостиницы, ни пансиона, кроме разве что того, который государство устроило для разбойников, мошенников и убийц.53 К большому изумлению гостя, от него ничего не скрывали. Ему ничего не запрещали. Напротив, казалось, начальство в местах заключения радовалось этому необычному визиту иностранца – образованного, любопытного, готового слушать их жалобы. Для Кеннана все двери были открыты. Журналиста повсюду водили и обращали его внимание на то, что самим хозяевам казалось особенно ужасным и позорным. Художник Фрост рисовал сцены жизни каторжников, на что никто не обращал внимания. Порой Кеннан задавался вопросом, осознавали ли его гостеприимные хозяева тюрем, насколько ужасное впечатление увиденное производило на гостей. Вспоминая, как на Иркутском этапе капитан Маковский, сопровождавший его повсюду, охотно показывал места заключения и давал пояснения, журналист записал: «Чрезвычайно и удивительно было видеть, до какой степени Маковский простодушно не сознавал даже, чтобы в его тюрьме можно было найти что-то особенно скверное. Очевидно, он так привык к такому положению вещей, что считал его почти нормальным».54
Первое погружение в тюремный мир произошло в Тюмени – большом зауральском городе, лежавшем на Сибирском тракте. Тюрьма служила пересыльным пунктом для этапов на их многомесячном пути на восток. Американцев, которые еще не осознали все могущество рекомендательных писем, полицмейстер, как впоследствии вспоминал Кеннан, принял с неожиданной, но приятной сердечностью. Он тут же согласился на просьбу журналиста позволить ему побывать в тюрьме и даже обещал сопровождать гостей. Тюменская тюрьма по архитектуре была типичным российским исправительным учреждением: кирпичное прямоугольное трехэтажное здание, покрытое белой штукатуркой, стояло посреди двора, обнесенного стеной высотой в 4–5 м. Перед входом, как и перед входами других пересыльных тюрем, стояли группки женщин, надеявшихся передать черный хлеб, вареные яйца или молоко тому несчастному, за которым они следовали в Сибирь. Тюрьма, как объяснил ее начальник, рассчитанная на 550 заключенных, могла вместить и до 850. Когда ее посетили американцы, в ней находилось 1 741 человек. Пройдя через тяжелые ворота, Кеннан и его спутник увидели во дворе человек 50 заключенных, одетых в свободные серое платье и халатах такого же цвета с черными или желтыми ромбами на спине. Многие были в кандалах, и журналист описал тот характерный звук, который выдавал каторжников, особое звяканье, словно кто-то постоянно тряс связками ключей.55 Это первое слуховое впечатление было сразу же дополнено другим, тоже постоянно упоминавшимся в свидетельствах того времени – тюремный запах, тяжелый, смрадный, сладковатый, тошнотворный. Никакой системы вентиляции не существовало, и воздух был настолько испорчен и зловонен, что Кеннан, по его признанию, едва мог заставить себя вдыхать его. «Представьте себе погребной воздух, каждый атом которого полдюжины раз прошел через человеческие легкие и весь насытился угольной кислотой; прибавьте сюда запах отвратительных, острых, аммониакальных испарений от давно не мытых человеческих тел, запах сырого гниющего дерева и запах человеческих испражнений».56 В коридоре стояли вонючие баки, полные экскрементов. Кеннан вспоминал, что старался вдыхать как можно реже. Каждый глоток воздуха, казалось, отравлял все внутренности, и у журналиста закружилась голова от подступавшей тошноты и отсутствия кислорода. Он пытался дышать, словно находясь в сливной канаве больницы. Гость так побелел, что тюремщик заволновался и предложил ему закурить, чтобы прийти в себя. По окончании обхода их ждала порция водки. Кеннан ничего не говорит о том, как воспринял все это Фрост – его вечно тревожившийся по любому пустяку спутник.
Когда дверь в первую камеру со скрипом открылась, заключенные, звеня цепями, вскочили со своих мест. Тюремщик поздоровался с ними, и те ответили хором: «Доброго здоровья, Ваше Высокоблагородие! Камера имела 11 м в длину и 8 м в ширину. Половину ее занимали деревянные кровати примерно 10 м в длину и 4 м в ширину, традиционные нары, на которых заключенные спали вповалку. Во всех тюрьмах, как пересыльных, так и каторжных, не было ничего, что хоть отдаленно напоминало бы подушки или простыни, и даже самых тонюсеньких одеял. Заключенные спали прямо в халатах, разумеется, если они у них были. Никакой другой мебели – разве что еще ведро для экскрементов в углу. «Тюрьма ужасно переполнена», – сообщил полицмейстер пораженному Кеннану. И, словно в подтверждение слов, крикнул, обращаясь к заключенным: «Сколько человек здесь ночевало?» – «Сто шестьдесят, Ваше Высокоблагородие!» – гаркнули хором обитатели камеры.57 Кеннан и Фрост продолжили визит. Все камеры походили друг на друга, все были набиты заключенными, и во всех воняло тюрьмой. В одной из камер на нарах лежало человек десять, которых им представили как особ благородных. На этот раз, здороваясь, шапку снял полицмейстер. Отметив, с каким достоинством держались эти заключенные, журналист предположил, что это были политические. Дверь захлопнулась, и американцы отправились на кухню, где Кеннан попробовал суп – «питательный и вкусный», как он заметил со свойственной ему профессиональной скрупулезностью. Однако в лазарете он словно снова попал в ад: пять или шесть комнат с матрасами, хоть и лучше освещенных, но также не проветриваемых и вонючих. «Вряд ли здоровый человек мог бы пробыть там неделю, – писал Кеннан, – и не заболеть». И уж конечно, не могло быть речи о том, чтобы больные выздоравливали в такой обстановке!58 К каждому спальному месту крепилась маленькая табличка, на которой мелом была написана болезнь пациента. Цинга, тиф, брюшной тиф, острый бронхит, ревматизм, сифилис встречались чаще других. И опять с обескураживавшей искренностью хозяева во главе с доктором раскрывают все секреты: среднее число заключенных, среднее число больных, среднее число умерших. Кеннан записал и подсчитал: смертность 23 %. Никогда еще ему не приходилось видеть такие изможденные и страшные лица, как у тех людей, которые лежали на серых больничных матрасах. Пациенты – женщины и мужчины – выглядели не просто безнадежно больными. Они выглядели как люди, утратившие какие бы то ни было надежды. Видеть их было мучительно.59
Тюмень стала первым испытанием в этом путешествии по каторге. За ней последовали Томск, Минусинск, Ачинск, Иркутск, Селенгинск, Чита. И, конечно же, Нерчинск, Акатуй и Кара – одних этих названий было достаточно, чтобы заставить дрогнуть самых закоренелых преступников. Путешественники из Америки добрались туда только в конце осени, когда из-за льдов уже нельзя было плыть по рекам и северный ветер превращал путешествие в тяжелое испытание. Каторга Кара находилась на одном из путей на Дальний Восток, между озером Байкал и Амуром, на левобережье Шилки в небольшой долине реки Кары. Там среди унылого пейзажа не было ничего, кроме трех тюрем – двух мужских и одной женской, удаленных на 30 км друг от друга. Американцев там встретили, кроме ссыльных, еще 1 800 каторжников. Они работали на золотых приисках, принадлежавших Кабинету Его Императорского Величества, и ежегодно добывали 200 килограммов золота. Кеннан и Фрост приехали туда в ноябре. «День нашего посещения прииска был холодным и угрюмым, и едва ли можно представить себе более мрачную картину, чем та, которую представлял прииск. 30 или 40 каторжников, окруженные кордоном казаков, работали в глубоком колодце, дно которого было руслом реки. Одни отламывали ломами большие комья гравия и глины, другие накладывали их в ручные носилки, третьи уносили их и разгружали ярдах в 150–200 от места работ. <…> Каторжники, большинство которых были в кандалах, работали медленно и устало».60 И снова тюрьма произвела на Кеннана ужасное впечатление своим особым запахом – подступила тошнота, и голова пошла кругом: «Воздух был еще ужаснее, чем в коридоре. <…> Стены были некогда, по-видимому, покрыты известкою, но это было очень давно, и теперь они сделались черны и грязны, с сотнями красноватых пятен: тут арестанты предавали казни клопов и блох. Пол, несмотря на принятые меры, был грязен до невозможности. Вдоль трех стен были расположены «нары», на которых арестанты спали покатом, тесно друг около друга. Не было здесь ни подушек, ни одеял, и люди спали, не раздеваясь, на голых досках, покрываясь своими халатами».61
Затем Кеннан посетил женскую тюрьму, где камеры были «теплее, светлее и выше». Там он увидел 48 молодых девушек и женщин, у шести или семи были на руках дети, имевшие крайне болезненный вид.62 Американец и сопровождавший его офицер покинули территорию тюрьмы в молчании. «Он не пытался ничего ни объяснять, ни защищать, ни извинять; ни тогда, ни после он не спрашивал меня, какое впечатление произвели на меня Усть-Карийские тюрьмы; он хорошо понимал, какое впечатление они должны были произвести».63
Кеннан был потрясен. То, что он увидел в тюрьмах, пробудило в нем угрызения совести. Он был растерян, о чем говорит одно из первых писем, отправленных издателю из Сибири: «Ссылка проходит гораздо хуже, чем я думал, и хуже, чем я писал. Естественно, не очень приятно признавать, что я писал о предмете, не вникнув в суть вопроса; и все же было бы ужасно продолжать защищать позицию, в корне неверную, просто ради того, чтобы оставаться последовательным».64
Долгое сибирское путешествие стало для Кеннана путем к медленному, но неуклонному пересмотру убеждений. Предчувствовал ли он грядущий излом мировоззрения? И не рассчитывал ли, как станут затем утверждать его враги, снискать еще большую известность, неожиданно отказавшись от того, что еще недавно он защищал с таким пылом? Как бы там ни было, на каждый этап странствований по сибирским исправительным учреждениям Кеннан прибывал уже немного другим. Его спутник Джордж Фрост, наблюдавший эти изменения, все больше тревожился, предвидя возможные последствия их путешествия по аду. А что, если власти осознают, каких впечатлений набрались наблюдатели, которым было оказано такое доверие? Чудовищные условия содержания каторжников вызвали подспудный протест гостей, а ведь сначала речь шла об уголовниках, убийцах, жуликах, бандитах с большой дороги, которым Кеннан если и сочувствовал, то весьма сдержанно. Его возмущение переросло в нечто большее после встречи с «политическими», с революционерами «пост-шестидесятниками», которых логика борьбы привела к вооруженному конфликту с режимом.
Подпольные борцы, издатели запрещенной литературы, секретные руководители революционных групп, бомбометатели – в 70-е годы XIX века их отправляли за Урал все больше и больше. Некоторых просто высылали в самые отдаленные населенные пункты России под наблюдение местной полиции. Другие получали более суровые приговоры и оказывались в тюрьмах и на каторге. Эти мужчины и женщины, часто очень юные, несли наказание за свои убеждения, за свои принципы. Кеннан ничуть не разделял их социалистические или революционные идеалы, но защита молодых ссыльных, мучеников-бунтовщиков, казалась ему достойным поприщем. Он был готов к нему.
Первое близкое знакомство Кеннана с «политическими» произошло в Томске. Под тополями, росшими вдоль реки, были раскинуты киргизские юрты, в которых горстка ссыльных проводила лето, как на своего рода «даче». Среди них двое или трое молодых женщин лет 17 или 18, которые, как он записал впоследствии, собирались продолжить учебу. «Как они могли попасть в ссылку?» – изумился журналист.65 Джордж Кеннан подошел к ним и поздоровался за руку, отчего на их лицах появился стыдливый румянец. По признанию Кеннана, разговаривая с ними, он «в первый раз почувствовал нечто вроде презрения к русскому правительству». В письме к семье он гораздо менее сдержан: «Невозможно поверить, что такая девушка может представляет опасность для могучего российского правительства! Что же она сделала, чтобы заслужить ссылку?».66
Постоянно кашлявшая девушка из Томска стала лишь первой из сотни политических заключенных, с которыми познакомился американский журналист. Именно сосланные на задворки Сибири бунтовщики станут героями его репортажа. Некоторые из них были лишь мелкими исполнителями в деле социального, интеллектуального и морального протеста против царской автократии. Другие – народниками, которые со временем станут членами социал-демократических партий, меньшевиками и большевиками, а также социал-революционерами, близкими к крестьянству. Среди всех этих людей наибольшее влияние на Кеннана оказала Екатерина Брешко-Брешковская, впоследствии ставшая известной на западе как Катрин Брешковски. Екатерине был 41 год, но Кеннан, встретив ее случайно во время краткого пребывания в Селенгинске в нескольких десятках километров от китайской границы, дал ей меньше. Репортер и его спутник сделали большой крюк на юг, чтобы увидеть большой бурятский дацан на Гусином Озере – резиденцию Хамбо-ламы – и приграничный город Кяхту. Там богатые сибирские купцы встречали караваны с чаем и шелком, выходившие из пустынных степей Монголии. На обратном пути американцы воспользовались возможностью остановиться в бурятской деревне, которая тянулась вдоль реки Селенга. Она служила местом ссылки для политических еще со времен декабристов. Екатерина Брешковская жила там под наблюдением полиции уже много месяцев, и ей предстояло пробыть там еще семь лет. Вот что Кеннан рассказал о встрече, которая сильно повлияла на судьбу как журналиста, так и ссыльной: «В комнату вошла г-жа Брешковская, которой меня тотчас представил мой собеседник. Это была женщина лет 35-ти, с некрасивым, но интеллигентным и сильным лицом». Кеннан отметил простоту ее манер и доброжелательность, показавшуюся ему несколько вымученной. На ее лице «невольно привлекали внимание следы тяжелых страданий; ее черные волнистые волосы, коротко остриженные на Каре, там и сям уже поседели. Но ни страдания, ни ссылка, ни каторга не сломили ее смелого закаленного духа, не подорвали ее понятий чести и долга. Как я скоро узнал из разговора, она была очень знающая и образованная: пройдя гимназический курс у себя на родине, она получила окончательное образование в Цюрихе. Она говорила по-французски, по-немецки и по-английски, была прекрасной музыкантшей и вообще показалась мне чрезвычайно интересной и привлекательной женщиной. Ей пришлось два раза быть на Каре, <…> ей ничего иного не оставалось ждать от будущего, как многих лет страданий и лишений и, наконец, вечного успокоения на маленьком кладбище над Селенгой».67
Каждая строка этого портрета выдает восхищение, которое испытывал американский журналист. Этому немало способствовал и пейзаж: Селенгинск представлял собой в то время небольшое поселение. Деревянные дома тянулись вдоль дороги, которая вела в Кяхту. В излучине реки стояла белая церковь с золотыми куполами, напоминавшая путешественникам, ехавшим из Китая, что земли, на которых проживали в основном буряты, были русскими. Деревня раскинулась среди голой степи, стелившейся по холмам долины Селенги. Прямо над деревней нависала скала – единственное место прогулок для изнывавших от тоски ссыльных. Екатерина прошла через ужасы каторги, однако именно годы, проведенные в Селенгинске, оказались для нее самыми тяжелыми. «Восемь пустых лет селенгинской жизни так и остались на всю мою жизнь серою пустотой, съедавшей горячие чувства моей горячей груди», это было «восемь самых грустных лет моей жизни»,68 – писала она в своих записках.69 Годы настолько мучительные, что она предпочитала не вспоминать о них. «Томилась я восемь лет, словно дикий сокол в тесной клетке. Одинокая, вечно рвущаяся, выходила я в степь и громким голосом изливала в пространство тоскующее по свободе сердце бурное».70
Мы не знаем, о чем говорили американский журналист и ссыльная. Однако этот разговор совершенно изменил Кеннана. Екатерина передала ему письма для товарищей, находившихся в тюрьмах, которые американский журналист собирался посетить. Это своеобразное рекомендательное письмо станет залогом доверия. Всюду, куда бы он ни приезжал, неформальный пропуск от Брешковской дополнял то официальное поручительство, которое открывало для него ворота любых тюрем. Рекомендация Екатерины Брешковской отмыкала уста и сердца ссыльных революционеров. На Карской и Акатуйской каторгах, в тюрьмах Читы и Томска политические встречали американца как друга, если не как потенциального спасителя. Впоследствии один из них вспоминал, что политические привыкли разговаривать или с товарищами, или с врагами. Им не приходилось беседовать с непредвзятым наблюдателем, и вот появился Джордж Кеннан, готовый стать их посланником и вынести их дело на суд мирового общественного мнения.71
Ссыльная из Селенгинска, случайно познакомившаяся с Кеннаном и рекомендовавшая удивительного гостя своим товарищам по каторге, была человеком неординарным. Она происходила из провинциальной аристократической семьи. Ее родители, люди очень набожные, не оставались равнодушными к социальной несправедливости. Екатерина очень рано начала бунтовать против установленного порядка. Брак с молодым польским аристократом, не принесший ей счастья, потом рождение ребенка, к которому она не испытывали любви, подтолкнули ее присоединиться к социальной и политической борьбе, которая уже вовсю разгорелась в России 1890-х годов. Как и многие другие воодушевленные этой борьбой молодые люди, она отправилась «в народ» – в деревню, чтобы подготовить крестьянскую революцию, казавшуюся уже близкой. Столкновения с крупными землевладельцами, преподавание в деревенских школах, создание крестьянских ссудных касс составляли ее будни на протяжении лет десяти. Постепенно она начала разочаровываться в народе, который оставался пассивным. Режим стал ужесточаться, и она ушла в подполье. И вот уже молодая женщина бороздит дороги России и Украины, пропагандируя среди крестьян идеи революции, раздавая запрещенные политические газеты, пытаясь убедить самых бедных своих слушателей, жадно впитывавших ее пламенные речи, направленные против крупных землевладельцев, что «царь-батюшка» и есть основа этой несправедливой системы и что от него нужно избавиться. Брешковская стала известна в кругах политической оппозиции как одна из самых талантливых пропагандистов из народников. Екатерине было 30, когда ее арестовала полиция. Началась ее новая карьера – карьера политической заключенной, долгая и мучительная, поскольку в совокупности она провела в крепостях, тюрьмах, на каторге и в ссылке 32 года. Когда Кеннан познакомился с этой цветущей женщиной, у нее за плечами был уже один из самых громких политических процессов того времени, так называемый «процесс 193-х»[131]. Она провела четыре года в одиночке, закованная в кандалы, в Петропавловской крепости в Петербурге, после чего приговорена к пяти годам каторги в Каре, а за попытку бегства – к 400 ударам плетьми с кожаными ремнями – наказанию, наводившему ужас на каторжан. Впервые в истории России к этому страшному испытанию была приговорена женщина, что сразу сделало ее знаменитой. Врач, осматривавший Брешковскую до исполнения наказания, твердо вознамерился объявить, что здоровье не позволяло ей вынести подобную пытку, однако она настаивала на том, что к ней следовало отнестись, как и к ее товарищам. Впоследствии она объясняла, что, объявив ее слишком слабой для этого наказания, власти хотели создать прецедент и напугать других женщин. И Брешковская ответила, что чувствует себя достаточно сильной и что суд не имеет права выносить приговоры, которые не желает затем исполнять.72 Несмотря на это, боясь общественного мнения, власти так и не решились привести приговор в исполнение.
Жившая в глубокой изоляции ссыльная, с которой познакомился и побеседовал восхищенный американский журналист, стала впоследствии одним из организаторов партии социалистов-революционеров (эсеров), политических защитников порабощенного крестьянства. Влияние этой партии росло. Со временем – в недолгий демократический период начала XX века – она стала самой мощной партией России. Екатерина Брешковская была членом ее тайного штаба, ее Центрального комитета (ЦК). Ее привлекал марксизм, ставший для большинства оппозиционеров безусловным инструментом осмысления мира, но при этом она оставалась глубоко привержена интересам крестьян, среди которых жила с самого детства и с которыми много общалась и в унылых сибирских деревнях. Она рассказывала Кеннану о своей борьбе, об ужасных условиях жизни ее товарищей по каторге. Она защищала свободу. Американец был заворожен. Брешковская вдохнула новую жизнь в его репортаж. Кеннан больше не был просто наблюдателем и рассказчиком, которым мыслил себя, покидая Соединенные Штаты. Он стал свидетелем. Теперь Кеннан намеревался поведать миру о российской исправительной системе и об обращении с политическими заключенными. Издатель, с которым переписывался журналист и которому он в деталях рассказывал о своих встречах с политическими ссыльными, оценил новый подход своего «специального» корреспондента на сибирской каторге: «Эти нехитрые рассказы вызовут возмущение всего цивилизованного мира. Они произведут такое же впечатление, какое в свое время произвела в нашей стране «Хижина дяди Тома». Скажите этим людям, чтобы они не отчаивались, что день освобождения приближается».73
О том, как расставались эти двое случайно встретившихся героев нашего рассказа, поведал один из близких друзей Екатерины, Егор Лазарев, тоже входивший в эсеровское руководство. По всей вероятности, он основывался на воспоминаниях ссыльной[132]: «Прощаясь с нами, Кеннан со слезами на глазах поклялся, что отныне он посвятит всю свою жизнь, дабы загладить свой невольный грех – то зло, которое он причинил русской демократии, защищая преступное русское правительство и набрасывая тень на благородство русских «патриотов», как он их называл».74 Со своей стороны Кеннан восхищался величием собеседницы, с которой распрощался. «Она с мужеством смотрела на свое ужасное будущее и с несокрушимой верою – трогательной и геройской – ждала неизбежного торжества свободы на своей родине. “М-р Кеннан, – таковы были ее последние слова, обращенные ко мне, – мы можем умереть в ссылке; за нами могут умереть в ней наши дети и дети наших детей, но что-нибудь выйдет из этого!”»75
Екатерину Брешковскую ждали новые испытания. После восьми лет одиночества в «мертвом городе Селенгинске»76 она получила разрешение передвигаться по Сибири. Затем последовали годы эмиграции в Швейцарии и Париже, откуда она руководила подпольной печатью своей партии и воспитывала кадры для нелегальной работы, которые затем отправлялись в Россию готовить революцию. В конце концов она вернулась на родину.
Наступил 1907 год. Россия только вышла из ужасных событий 1905 года, и власти решили раз и навсегда разделаться с профессиональной пропагандисткой, которой уже шел седьмой десяток. Приговор был не только приговором. Это была страшная кара – пожизненная ссылка на реку Лену, в самую холодную часть Сибири. Она провела там семь лет – до освобождения Временным правительством после февральской революции. Несгибаемая революционерка возвращалась в ореоле славы. Она с триумфом доехала по Транссибирской дороге до Санкт-Петербурга. На всех станциях собирались толпы солдат и крестьян, чтобы взглянуть на нее. «Сегодня, 20 апреля 1917 года мой вагон везет меня на Москву и дальше. Когда остановится мое движение по великой стране – я не знаю. Очень может быть, что пророчество старого друга – Каракозовца оправдается: “суждено тебе умереть в походах твоих”».76 В Петербурге ее встречала огромная толпа с красными флагами. Люди пели «Марсельезу». Они заполонили все прилежащие улицы и Невский проспект – до Николаевского вокзала. Новый премьер-министр социал-демократ Керенский обнял ее. В помещении вокзала, ранее предназначавшегося для царской семьи, ее ждал потрясающий прием. «Не думаю, что была хоть одна невеста, которая получила бы столько цветов», – взволнованно крикнула она толпе.77 Пришел ее звездный час. Современники окрестили ее «бабушкой русской революции». Но очень скоро пожалели о своем энтузиазме. Бабушка оказалась железной. С октября 1917 года, когда большевики силой пришли к власти, несгибаемая старуха вернулась к активной деятельности. Она осудила государственный переворот и крестьянскую политику большевиков. Несколько месяцев легальной политической деятельности остались позади. И вот опять она в оппозиции, теперь уже новой власти. Подполье, бегство и в конце концов эмиграция. «Бабушка русской революции» умерла в 1934 году в Чехословакии в возрасте 90 лет. Она так и не сложила оружия. «Что-нибудь выйдет из этого!» – так вроде бы сказала она Кеннану, прощаясь с ним на пороге своей сибирской обители. Ее упорная борьба длиной почти в век, 30 лет каторги и ссылок могут показаться бессмысленными. Большевики уничтожат ее партию, подвергавшуюся преследованиям со стороны царской полиции. Крестьянство, которому она посвятила свою жизнь, попадет в жернова коллективизации, оказавшейся не лучше крепостного права. Екатерина Брешко-Брешковская, урожденная Вериго, всегда оказывалась по ту сторону Истории, где оставались проигравшие и мученики.
Молодая провинциалка, кипевшая праведным гневом, все же оказала влияние на судьбу России, но ни ее революционный опыт, ни жертвенность тут не при чем. Это произошло благодаря нескольким часам беседы в сибирской избе с Джорджем Кеннаном. Брешковская и не подозревала, какое впечатление произвела на американского журналиста. Именно он и втащит ее в Историю. Ибо после выхода в Соединенных Штатах книги Джорджа Кеннана «Сибирь и система ссылки» (в русском переводе «Сибирь и ссылка») Екатерина Брешковская стала непререкаемым авторитетом в глазах американской общественности. Прославился и сам Кеннан. В 1910 году Брешковская писала американскому другу из очередной ссылки, что помнит их встречу, «словно это было вчера». Она рассказала ему, что очень смеялась, когда, читая книгу, дошла до того места, где он предрекал ей смерть в Селенгинске. По ее признанию, она много раз перечитывала эти строки, всякий раз испытывая сильное желание снова повидаться со ставшим знаменитостью автором «замечательной», по ее мнению, книги. Даже молодежь, как отмечала Брешковская, так часто склонная забывать или вообще игнорировать историю, знала эту книгу и имя ее автора. «Несмотря на все ужасы, через которые прошла Россия, – продолжала она, – переведенная на русский язык книга читалась, а те, кто лично знал автора, вспоминали о нем с чувством глубокой благодарности». Бершковская выражала надежду, что Кеннан бодр и полон сил, как и прежде.78
Журналистское расследование Кеннана оказалось долгим. По окончании путешествия по Сибири он провел еще много месяцев в Санкт-Петербурге и в Лондоне, где собирал дополнительную информацию и встречался с известными политиками, например, с анархистом князем Кропоткиным и с Сергеем Кравчинским, революционером, более известным как Степняк-Кравчинский. И только в августе 1886 года, через 15 месяцев после отъезда, Кеннан вернулся в Соединенные Штаты. Его репортаж вылился в 29 статей, над которыми автор работал довольно долго. Первая из них появилась в мае 1888 года в газете Century, которая, собственно, и заказала ему этот репортаж. Публикация статей продолжалась из месяца в месяц с некоторыми перерывами вплоть до октября 1891 года. Успех не замедлил себя ждать, и он был огромным. Журнал, известный защитой традиционных американских ценностей, даже был вынужден увеличить тираж[133], чтобы не обмануть ожиданий читателей. В декабре 1891 года все очерки репортера были собраны в книгу «Сибирь и ссылка», которая стала авторитетнейшим источником для изучения российской пенитенциарной системы. Книга Кеннана быстро перестала читаться как обычный репортаж. В этом ее судьба напоминает судьбу другого произведения, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, которое появится почти веком позже.79 Несмотря на всю непохожесть этих произведений, между ними есть сходство – обе они воспринимались как обобщенный портрет России.
Можно сказать, что в англо-саксонском мире существовало два образа России – до и после выхода книги Кеннана. Впоследствии ни один рассказ о путешествии в Сибирь не обходился без ссылки на книгу Кеннана – хвалебной или злобной. Больше того, отныне на любое упоминание Российской империи или же Сибири ложилась тень каторги.
Книга Джоржа Кеннана, став классикой, изменила образ царской России, который был в американском обществе до ее появления очень лестным. Не меньшее, если не большее, впечатление производила и страстная убежденность Кеннана, благодаря которой репортаж получал особое звучание. Книга, вышедшая после публикации серии отдельных очерков, была продана почти миллионным тиражом.80 Лекции Кеннана, с которыми он исколесил Америку, также собрали добрый миллион слушателей. Более 800 лекций, от Нью-Йорка до Калифорнии, включая Бостон, Средний Запад и Колорадо, собиравших по 1 200 или по 1 500 человек! Как далеко осталось начало его ораторской карьеры, когда послушать вернувшегося из Сибири путешественника приходила лишь горстка фермеров! Впрочем, Кеннан сохранил некоторые старые приемы: он появлялся перед слушателями в арестантской одежде, звякая кандалами, как раньше – в мехах, которые символизировали ледяную пустыню, где он скитался. И неважно, что кандалы полагались каторжникам, а лекции, которые он читал с большим вдохновением, были посвящены политическим заключенным, как правило, жившим на поселении под надзором полиции. Нужны были эмоции. Мы, к сожалению, не можем посмотреть записи этих спектаклей, которые он давал в выматывавшем темпе, порой ежедневно. Остается лишь обратиться к отзывам американской прессы или к свидетельствам того времени. Они единодушны. «Можно изучить сотни пересказов сути лекций, – пишет Фредерик Тревис, биограф Кеннана, – и почти не встретить даже намека на критику стилистики Кеннана. Как оратор он очаровывал всех».81
Как и во время экспедиции, главной темой Кеннана постепенно стало положение оппозиционеров и политических заключенных. Постепенно судьбы огромного числа мелких правонарушителей, ссыльных, ставших жертвами судебного произвола, бродяг, вынужденных скитаться и попрошайничать, скрываться и грабить, а также и закоренелых преступников, уходит на второй план, если не исчезают совсем. К сожалению, это произошло не только с Кеннаном, первым западным хроникером жизни исправительных учреждений, но и с другими, которые появятся уже в XX веке. Огромное население тюрем и каторги, страдавших в изгнании, оказалось фигурой умолчания. Судьба этих людей словно смешалась с судьбой жертв политических репрессий и растворилась в ней. Симпатии, которые Кеннан испытывал к попавшим под каток репрессий бунтарям и революционерам, которых он встречал на разных этапах их крестного пути, превратили его свидетельства сначала в защитную речь в пользу тех, кого угнетал режим, а затем и в обвинение против российских властей. Об этом говорит свидетельство Марка Твена, побывавшего на лекции Кеннана в Вашингтонском литературном обществе: «Если в этих условиях динамит – единственное действенное средство, – возмущенно воскликнул писатель, вскочив со стула, когда речь зашла о терроре в России, – тогда вознесем хвалу Господу за него!»82
Кеннан выстраивал драматургию своей речи и тщательно продумывал эффекты. Он, конечно, был внимательным наблюдателем, не желавшим упустить ни малейшей детали, но не чуждался и чисто журналистских приемов. Так, чтобы подогревать внимание читателей и держать их в напряжении из месяца в месяц, он всячески дает понять, что полиция все пристальнее наблюдала за ним. Что он сильно рисковал, перевозя запрещенные бумаги. Что тюремное начальство всеми силами старалось отвлечь его внимание от ужасных условий, в которых содержались заключенные. Он находил и разные другие способы подчеркнуть трагичность сюжета и собственное мужество.83 Однако изучение других свидетельств, в том числе дневника и переписки Кеннана, показывает, что, напротив, все без исключения официальные собеседники помогали ему и часто сами бесхитростно критиковали ужасные условия заключения во вверенных им учреждениях, поскольку заблуждались относительно намерений журналиста.
* * *
Для американского читателя «Сибирь и система ссылки» стала прорывом в неизвестный им мир страдания, ужаса и несправедливости. До той поры общественное мнение в основном интересовалось сходством между Соединенными Штатами и Россией или же пересечениями их судеб. Но молодая Америка постепенно обретала уверенность, и ей понравилось быть не такой, как другие. Рассказ об империи, которая тиранит своих оппозиционеров, укрепил убеждение американцев в том, что лишь свобода и демократия могут защитить государство от этой угрозы, и только свободное общество может испытывать искреннее негодование и сочувствие к ее жертвам. Разумеется, одной книги было бы недостаточно для такого революционного изменения умов и сознания, но, по-видимому, публикация книги Кеннана совпала с поворотным моментом в отношениях между этими странами, с которого начался длительный период перемен. 1890е годы – это время «развода» Соединенных Штатов и Российской империи. После погромов на Украине и в Белоруссии десятки тысяч евреев бежали в Америку. Их постоянно растущая диаспора, влияние которой становилось все больше, резко выступала против союза с российскими властями. Банки, принадлежащие евреям, в числе первых финансировали японцев в Русско-японской войне.84 На новых нефтяных рынках интересы крупных американских компаний, таких как «Стандард Ойл» Рокфеллеров, также прямо противоречили интересам их русских или европейских конкурентов из Каспийского бассейна.85 Наконец, в более широком смысле, объективно существовавшая коалиция двух держав, в частности их союз против господства Британии, быстро ослабевала по мере роста влияния Америки. В частности, в Китае администрация Белого дома с раздражением наблюдала за интересом русских конкурентов к перспективному рынку. Постепенно складывались новые коалиции: с одной стороны, континентальные державы – Россия, Франция и Германия – пристально следили за новыми территориями, которые они могли бы охватить своей железнодорожной сетью; с другой стороны, страны, обладавшие мощным морским флотом, – США, вновь объединившиеся с некогда враждебной Британией, а также Япония – отныне требовали свободного доступа для своих судов и торговых компаний. Книга Кеннана дала американскому общественному мнению новый аргумент в этом споре и тем самым стала одним из главных катализаторов происходящих перемен. Взаимная симпатия Америки и России постепенно сходила на нет. Военные, ранее совершавшие взаимные визиты вежливости, теперь предпочитали не замечать друг друга. Правительства отдалились друг от друга, а позже заняли враждебные позиции. Движущей силой этого исторического поворота стала информация о сибирской каторге. Кеннан взял на себя инициативу: возглавив движение против ратификации договора об экстрадиции между США и Россией, он поддерживал русские воинские союзы в эмиграции[134], защищал беженцев, пользовался своей популярностью, чтобы выступить в Белом доме с речью против сотрудничества с Россией, а в 1904 году продолжил свою карьеру военного репортера на стороне вооруженных сил Японии, когда они начали наступление на русскую армию в Порт-Артуре и Манчжурии.
Враг царя, Джордж Кеннан сохранил столь же враждебное отношение и к большевикам. Его имя стало первым в череде американских интеллектуалов, выступавших против сменявших друг друга российских режимов. Полвека спустя после выхода «Сибири и системы ссылки» эстафету подхватил другой Джордж Кеннан – блестящий американский дипломат, эрудит, знаток истории и переводчик русской литературы, более известный как один из авторов стратегии сдерживания в годы холодной войны, вставшей на пути коммунизма. То же имя – та же страсть. Второй Джордж Кеннан стал послом США в Москве в последние годы правления Сталина и вошел в историю как один из крупнейших специалистов по Советскому Союзу[135].
Как уповал издатель, книга Кеннана стала, если можно так выразиться, «Хижиной дяди Тома» применительно к России того времени. Некоторые патетические пассажи из книги поражают воображение. «Я никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня эта песня в первый раз. Мы сидели на почтовой станции в ожидании лошадей. Внезапно мое ухо поразили какие-то жалобные, дрожащие звуки, доносившиеся издалека, звуки, производимые, очевидно, человеческими голосами, но не похожие ни на что, что мне приходилось слышать. Это не было ни пением, ни стоном, ни похоронным плачем, это было смесью всего этого, вырванной из человеческой груди пыткою, но пыткою, не дошедшею еще до той степени мучительности, которая вызывает неудержимый вопль. Мы вышли на улицу и увидели в начале деревни партию из 100–150 человек, закованных, с открытыми полуобритыми головами, двигавшихся медленным шагом и окруженных цепью солдат. Партия пела. Певцы не заботились, казалось, о гармоничности звуков; каждый из них, независимо один от другого, произносил слова; нельзя было уловить ни пауз, ни ритма, но эффект получался поразительный – чего-то вроде дикой фуги или похоронного пения, чего-то неопределенного, но надрывающего душу. <…> Представьте себе сотню человек, поющих эту жалобу однообразным низким тоном, медленным темпом под аккомпанемент звякания цепей, и вы будете иметь некоторое, очень слабое, понятие о «милосердной».86
Эта душераздирающая картина партии заключенных, поющих «милосердную» при входе в деревню, – один из самых трогательных эпизодов книги Джорджа Кеннана. На самом деле, почти не вызывает сомнений, что этот отрывок его книги, наряду с некоторыми другими, был полностью заимствован у русских авторов, на которых американский журналист не только не сослался, но даже не упомянул[136]. В частности, это описание входа каторжников в забайкальскую деревню, где они надеялись пробудить традиционную щедрость жителей, чтобы утолить свою страшную жажду, собрать несколько краюшек хлеба, а возможно и мелкие деньги, принадлежит писателю Сергею Максимову и было опубликовано в Санкт-Петербурге за 20 лет до выхода книги американца.
* * *
Действительно, в середине XIX века ряд русских писателей обратились к тюремной тематике, стремясь пролить свет на мрачные подвалы империи, к которым относились целые регионы. Самый знаменитый из них – Фёдор Достоевский, чьи «Записки из Мертвого дома» публиковались впервые в 1860–1862 годах. Сам писатель, осужденный по обвинению в заговоре, провел четыре года на сибирской каторге, и его рассказ всколыхнул умы городской России, бесконечно далекой, в прямом и переносном смысле, от этой жестокой реальности. В начале 1860-х годов тему развил Сергей Максимов, дополнивший описание этого сумрачного мира более документированным повествованием. Этому способствовал сам дух эпохи «шестидесятничества», поры освобождения, надежд и иллюзий. Максимов был любопытнейшим человеком! Он родился в обедневшей провинциальной дворянской семье и стал врачом, не имея возможности посвятить себя писательству и журналистике. Таким же врачом-писателем в душе несколько десятилетий спустя стал Антон Чехов. Как и Чехова, Максимова неудержимо привлекала хроника жалкой и беспросветной каторжной жизни. Проведя год на Севере, где он добился первого заметного успеха на литературном поприще, он совершил длинную поездку по Сибири, посетив те же тюрьмы и каторжные остроги, по которым впоследствии проехал и Кеннан. Когда он вернулся в Санкт-Петербург, труд «Ссыльные и тюрьмы», ставший результатом его второй исследовательской экспедиции, был представлен на рассмотрение Сибирскому комитету, который признал его высокую ценность, но предпочел не обнародовать для широкой публики, так что было напечатано всего 500 экземпляров, предназначенных для распространения среди чинов высшей администрации. Максимов продолжил свое исследование тюремного мира Сибири, и только через восемь лет ему было разрешено опубликовать свои труды под заголовком «Сибирь и каторга»: именно из него было почти дословно заимствовано описание страшного крестного пути заключенных, «всего» за несколько сотен километров от места назначения, от «дома»,87 по выражению Максимова, то есть от ужасных забайкальских острогов.
Вскоре после Максимова признание получил еще один малоизвестный на Западе писатель, посвятивший свое творчество тюремной теме. Как и Достоевский, он тоже лично прошел через заключение в крепости и ссылку. Мы с ним уже встречались – это Николай Ядринцев, основоположник сибирского областничества. Уже в Томске, стремясь в своих статьях поделиться с читателями мечтой об освобождении и региональном «патриотизме», он обратился к теме социального феномена ссылки преступников, которую он рассматривал прежде всего как доказательство колониальной политики Европейской России, отправлявшей весь сброд и отбросы общества в Сибирь, как Англия в Австралию или Франция в Гвиану. На одном литературном вечере он познакомился с Максимовым, отправлявшимся на исследование сибирской каторги, и, по собственному признанию, был поражен обаянием и простотой этого человека.88 Но подлинным специалистом по тюремной жизни и обществу Ядринцев стал, хоть и поневоле, только после ареста и приговора за участие в заговоре к десяти годам заключения (впоследствии его срок был уменьшен до пяти лет). Он провел два года в камере Омского острога, а потом еще два года в ссылке на Русском Севере. Этого хватило, чтобы дать пищу живому и любопытному уму молодого сибирского эрудита и позволить ему, вслед за Максимовым, но по-своему, дать фантастическое описание тайного мира русской тюрьмы. Действительно, одно дело – провести тщательное исследование, собрать статистику и устные свидетельства, и совсем другое – самому примерить серую тюремную рубаху и войти в мрачные и сырые тюремные подвалы. Книга Николая Ядринцева начинается с описания потрясения от прощания с привычным миром: «Помню, началась весна. <…> в такое-то время меня подвезли к большому каменному зданию острога. Предо мной стоял известный всем, вечно потрясающий фасад «мертвого дома», «дома плача и скорби», со своими темными, как впадины черепа, окнами, с гладко-форменным видом, с холодными и неприветливыми каменными стенами, с декорумом запоров, штыков, решеток и бледно-зеленых лиц. Болезненно завизжала калитка желтых форменных ворот, в которую вошли мы; стукнул засов, быстро задвинутый за нами часовым. Исчез уличный шум, и нас окружило мертвое молчание тюрьмы. У меня как будто что-то оторвалось от сердца. Я чувствовал, что за этой калиткой остались вольный мир, моя свобода, жизнь».89
Книга Ядринцева называлась «Русская община в тюрьме и ссылке», потому что главная задача автора состояла не в том, чтобы описать ужасы тюремной жизни или разжалобить читателя, а в том, чтобы открыть ему абсолютно новый мир, невообразимый для просвещенного городского читателя, которому предназначались эти строки. Но это был мир по-своему рациональный, со своими традициями, обычаями и правилами, зачастую более важными, чем законы или указы Российской империи. Мир камер и карцеров, описанный Ядринцевым, не сводился к пыткам и страданиям. Как он подчеркивает в названии своей книги, это была «община», сообщество, жившее сообразно собственной логике, зачастую неведомой властям, вопреки поверхностным и обманчивым официальным тюремным распорядкам. Правила существования этой общины обладали такой силой, что выстояли и со временем одержали верх над всеми уголовно-исправительными режимами, которые пыталась навязать администрация. «Поэтому, – отмечает автор, – совершенно одинакова жизнь всех русских тюрем, начиная от многолюдных пересыльных замков Перми и Тобольска до мелких гауптвахт, полицейских чижовок и кутузок, от громадных столичных тюрем до отдаленнейших Кары и Акатуя».90 Входя в камеру, заключенный попадал в теневое общество, со своей иерархией, правами и обязанностями, а также – что особенно поразило Ядринцева, не ожидавшего от своих сокамерников ничего подобного, – со своей системой ценностей. Тюрьма не была ни местом применения правил и законов, ни царством произвола, где правила бы только сила. Это было антиобщество со своими законами и своей шкалой ценностей. Ядринцев заметил, например, что даже у самых падших преступников в глубине души сохранялись некоторые твердые убеждения, в частности, что донос и предательство – «худшее из преступлений», «самый черный из всех человеческих пороков»: «сами преступники отвернулись от него с отвращением, – пишет он, приходя к выводу: – Вечная правда и любовь, значит, слишком живучи в сердце человека!»91 Николай Ядринцев относился к человеческой доле с оптимизмом, пусть даже за этот оптимизм ему пришлось заплатить своей свободой.
В замкнутом мире тюрьмы заключенные становились гражданами тайного государства. У этого государства был свой парламент, как бы «вече» – этот термин отсылал к древней истории вольного города Новгорода, – которое собиралось по мере необходимости и по возможности, если нужно было принять решение по важным делам общины. У него были свои органы управления, выборные должности: староста и писарь, который должен был фиксировать на бумаге все принятые решения. Староста был официальным переговорщиком от администрации исправительного учреждения в тех случаях, когда она не могла решить ту или иную проблему самостоятельно. Он был арбитром в спорах между заключенными и играл роль свидетеля при обменных операциях или при установлении личности заключенных – достаточно распространенной процедуре, позволявшей самым ловким или обеспеченным переложить свое наказание или взыскание на сокамерника. На сходке также назначались ответственные за контроль кухни и качества питания, за справедливую раздачу хлеба, за распределение заключенных по работам в соответствии с внутренним распорядком и теневой структурой арестантского сообщества.
У заключенных было собственное «министерство финансов», состоявшее из сборщика податей, которыми облагались все арестанты, и казначея, должность которого часто совмещалась с должностью старосты. Казначей должен был вести учет приходов и расходов артельного бюджета.92 Действительно, традиционная тюремная община, описанная Ядринцевым, располагала своей кассой взаимопомощи, без которой выжить в тюрьме и на каторге было бы невозможно. В «общак» стекались все трофеи тюремной общины. «Каждый, входящий в острог, обязан денежной податью, – сообщает Ядринцев. – Бродяги платят в артель 30 коп., поселенцы 75 коп., крестьяне и мещане 1 руб. 50 коп., с купцов и дворян берут 2 и 3 руб».93 На что же шли эти деньги? На все необходимые для выживания заключенных нужды, а их перечень в больших тюрьмах мог быть очень обширным. Например, на оплату услуг заключенных поваров, портных или сапожников. На организацию «майдана», тюремного черного рынка, доходы от которого в свою очередь пополняли общую казну. На оплату услуг судейских чиновников и юрисконсультов в сложных случаях, затрагивающих общие интересы. Арестанты, подавляющее большинство которых, естественно, не умело ни читать, ни писать, были ходячими правоведами, в памяти которых уголовное законодательство империи хранилось надежнее, чем в анналах любого суда. Бесконечная пересылка заключенных и рассказы о личном опыте, которыми они с удовольствием делились на этапах, позволяли обмениваться опытом и сравнивать нормы применения наказаний. Община также обучала новичков правилам поведения на суде. Но самой крупной статьей расходов оставалась «коррупция»: община объединялась и платила, например, взятки конвойным, чтобы они разрешали больным ехать на телеге, или чтобы с изможденного арестанта сняли кандалы. При возможности подкупали и судей, а особенно судейских чиновников: записывая приговор, они легко могли смягчить меру пресечения или ошибиться номером статьи. Кроме того, повсюду в тюрьмах империи общак шел на выплату вознаграждения палачу. По сообщению Ядринцева, в народе палача презирали и ненавидели: «всякий считает позором протянуть руку палачу», «в России про палачей ходят страшные рассказы».94 Но в тюрьме все иначе: Ядринцев с удивлением обнаружил, что «в русском остроге арестанты жили с палачом в добром согласии, сохраняли к нему дружественные отношения, величали его всегда по имени и отчеству и окружали его всегда почтением и особенным уважением, нисколько не лицемеря»; арестанты называли своего палача и «крестным», и «батюшкой».95 Палача осыпали милостями, в том числе и сексуального характера, его одевали, обували и кормили за счет общака, ему платили теневое второе жалование, которое часто превышало первое. Прибегали и к более действенному средству: ему покупали столько водки, сколько он хотел. Ведь именно этот человек держал в руке кнут, отсчитывал удары, и от приложенной им силы зависела глубина ран на спине приговоренного к пытке, его шансы на выживание или выздоровление. И каждый заключенный понимал, как пишет Ядринцев, «что судьба его рано или поздно будет в руках палача». Поэтому палача обязательно требовалось подкупить, и, по свидетельству автора этого грандиозного исследования тюремного мира, это происходило почти во всех русских тюрьмах. Перед каждой поркой палачу презентовали небольшую сумму наличных денег за то, чтобы он умерил силу своего удара. Между ним и общиной существовало негласное, но безусловное соглашение. В самом деле, истязатель не должен был забывать о своих обязательствах и привилегиях. В противном случае его неизбежно настигала месть общины, скрыться от которой предателю было невозможно во всей России, куда бы он ни бежал.
Порой община заключенных превращалась в трибунал, и трибунал беспощадный. Если становилось известно о доносе (что у арестантов называлось «музыкой»), если кто-то из заключенных воровал деньги из общака или нарушал решение старосты, его участь была решена. В лучшем случае, групповое избиение по всем правилам, в ходе которого на «виновного» набрасывалась толпа взбешенных товарищей по заключению, осыпая его ударами, после чего, избитый и окровавленный, он несколько дней лежал под нарами. Более тяжелые проступки, например донос о готовящемся побеге, были чреваты убийством. Орудием могла быть оловянная заточка, которую втыкали ему меж ребер на прогулке. Ему могли нанести удар кирпичом по голове в удобный момент или сделать «темную» – накинуть на него первую попавшуюся тряпку и свести с ним счеты где-нибудь в углу. Последняя кара применялась и к предателям из числа палачей или охранников, которые не хотели играть роль, предписанную им тюремными правилами игры.
Картина примитивной демократии, царившей в тюрьмах, может показаться несколько надуманной или идиллической. Впрочем, Ядринцев не скрывал главенствующей роли грубой силы в этом теневом обществе, лежавшего на нем тяжелого отпечатка повседневного насилия. Но прежде всего он хотел вернуть своим бывшим сокамерникам достоинство и человечность, о которых добропорядочное русское общество даже не подозревало. Он подробно описывает любовь заключенных, которая часто отнимала у них все свободное время, их детские интриги, направленные на признание официальным «женихом» той или иной арестантки в женском бараке на дальнем конце двора. С этажа на этаж выкрикивались любовные призывы, хоть и не всегда в поэтической форме, женщины в ответ пели хором, чтобы было слышно дальше. Арестанты плели интриги, чтобы передать возлюбленной кусок сахара или папиросы, угрожали ей, заподозрив неверность, пусть даже мнимую, находили возможность встреч в самых неблагоприятных обстоятельствах. Впрочем, иные могли поставить свою «любезную» на кон, играя в карты, которые изготовлялись из любых мало-мальски пригодных бумажек. «У некоторых арестантов, – пишет Ядринцев, чтобы дополнительным аргументом подкрепить свое воззвание в защиту безвестных жертв каторги и ссылки, – любовь чуть ли не главное занятие».96
Сергей Максимов, Фёдор Достоевский и Николай Ядринцев составили первые документальные описания жизни сибирских каторжных низов. На Западе их трудами вдохновлялся Кеннан. В России были свои громкие имена – знаменитые, как Антон Чехов, или менее известные, как великий журналист Влас Дорошевич, – которые вернули каторжникам, уголовным и политическим, их человеческий статус. Чехов, уже тяжело больной туберкулезом, в 1890 году совершил путешествие через всю Сибирь до острова Сахалин на Дальнем Востоке. Чтобы вернуть каждому заключенному право на существование, он решил провести перепись всех арестантов этого большого острова. Этот труд, неожиданно вышедший из-под пера одного из самых талантливых драматургов, стал в каком-то смысле его литературным мемориалом. Спустя десятилетия, когда на смену царской каторге пришел сталинский ГУЛАГ, другие авторы приняли эту эстафету с той же целью, ради того же великого дела.
* * *
Многократно повторенные открытия сделали свое дело. К концу XIX века Сибирь стала синонимом тюрьмы. И в России, и в других странах мира эта репутация оказалась весьма устойчивой. В 1893 году представители сибирской интеллигенции – предприниматели, художники, ученые, приходившие в отчаяние от страшной славы своего региона, решили воспользоваться Всемирной выставкой в Чикаго, чтобы исправить это искаженное и вредное впечатление. На берега озера Мичиган отстаивать их дело и честь всей Сибири отправился пионер сибирского патриотизма – сам Николай Ядринцев. Кто мог защитить образ Сибири лучше, чем этот бунтарь-интеллектуал, ссылкой поплатившийся за свои дерзкие инициативы и составивший одно из первых описаний каторги?
Николай Ядринцев, уже пожилой к тому времени человек, пришел в восторг от такой удачи. Восхищаясь чудесами американских мануфактур, он вновь мечтал о таком же развитии его родной Сибири. Он пытался рассказывать о богатом потенциале своего региона, приводя в пример сибирскую кожу, качество отделки которой признавали даже в Соединенных Штатах, объясняя западным промышленникам, заполнявшим первые ряды аудиторий, что в Сибири есть все предпосылки для развития городов и промышленности.97 Но каждый раз, когда он произносил название «Сибирь», он видел перед собой суровые лица. Как будто над ними нависала тень каторги. Читал ли Николай Ядринцев книгу Кеннана, только что вышедшую из печати? Обнаружил ли он ее источники и заимствования из его собственной работы? В своих письмах из Чикаго он не пишет об этом ни слова, но он пытался сгладить или опровергнуть впечатление, произведенное книгой, которая во многом была обязана ему своим появлением. Еще одна попытка плыть против течения, еще один проигранный бой. «Образованных американцев, с которыми я встречался, я пытался убедить, что Сибирь не страна только ссылки», – сообщает он, с горечью отмечая, что «Сибирь занимала американцев, как я убедился, только с точки зрения ссылки. Это были последствия книги Кеннана».98
Трансполярная «мертвая дорога»
Лагерь смотрелся как белое пятно. Бросавшиеся в глаза светлые стены бараков выглядели нелепо среди безбрежной тайги с естественными переливами зеленого цвета. Они были построены из очищенных от коры и обтесанных бревен, за которыми приходилось ходить далеко: вокруг расстилалась лишь приполярная лесотундра – желтые и зеленые мхи, лишайники, березы, чахлые сосны, густые заросли бесконечных кустарников. Бараки были обшиты деревянными досками, выкрашенными белой известью, что делало лагерь похожим на «традиционную украинскую деревню»,99 как вспоминает один из заключенных.
Но этим сходство и ограничивалось. Прямоугольник лагерного пункта (лагпункта) обнесен колючей проволокой, по углам – по вышке, бараки расположены по единому плану: с одной стороны те, в которых заключенные спали, а с другой – административные здания. Единственный вход был обращен к железной дороге: высокие деревянные ворота с небольшим козырьком, охранный пункт и прожектора. Рядом небольшое помещение для охраны. В конце узкого коридора дверь, за которой – лагерь. Заключенные входили вереницей и останавливались у окошечка. Дальше их ждал обязательный обыск. Ближайший барак – административный, иногда вместе с фельдшерским пунктом. Кухня и клуб, где проходили политбеседы на идеологические темы и общие собрания. В банном бараке, построенном по модели традиционной русской бани, мылись, он же служил лагерной прачечной. В одном из углов укрепленной внутренней территории изолятор с камерами (карцер): тюрьма в тюрьме под сенью вышки, огороженная дополнительно колючей проволокой. В более крупных лагерях был еще особый барак, в котором хранились личные вещи заключенных или, как их называли, зеков от сокращения ЗК. Иногда жизнь в лагере скрашивал приезд небольших магазинчиков, где зеки могли купить на свои жалкие сбережения табак, сухари или концентрированное молоко. Консервы не привозили никогда – пустые банки могли использоваться, чтобы рыть подкопы для побега.
Граница охраняемой зоны была вспахана. Дорожки по ней иногда выкладывали бревнами или досками, чтобы не тонуть в глубоких рытвинах, весной заполненных водой. Вокруг бараков прямо под открытым небом прокладывали дренажные канавы, которые служили туалетом. По ночам покидать бараки было запрещено, поэтому заключенные, чтобы не вызвать подозрений охраны, выходили по нужде в кальсонах, шапках и валенках. Мочились, не отходя далеко от бараков. Как вспоминает Александр Снов-ский, который провел в лагерях десять лет, зимой все бараки обрастали желтыми льдинами.100
Одинаковые жилые бараки были по 20 м в длину, 10 м в ширину и состояли из двух секций, в каждую вел свой тамбур из центральной секции. Внутри вдоль стен тянулись двухъярусные нары для зеков. В бараке в среднем 140 человек, так что на каждого заключенного приходилось пространство шириной в 75 см. Согласно статистическим данным, собранным администрацией ГУЛАГа, в 1951 году один заключенный ютился на 1,6 м² жилой площади.101 Матрасы прибиты к доскам. У каждого спального места небольшая табличка с указанием имени, фамилии, дня рождения, приговором, датами начала и окончания срока. Кирпичная печь и длинный стол – вот и вся обстановка. Иногда вместо печки металлическая бочка, в которой тлели угли. Зеки вешали для просушки валенки, штаны, рубашки и телогрейки на деревянные круги, подвешенные к потолку. Но места не хватало, поэтому они складывали мокрую от пота и снега одежду под матрас. Вонь, исходившая от влажной и плесневелой одежды и от немытых тел десятков заключенных, часто заходившихся в кашле и плевавших на пол, пропитывала все, даже деревянные стены. Грязь и влага сочились с потолка, проникая повсюду. Ночи не хватало, чтобы все просушить, и утром заключенные уходили в мокрой одежде. Умывались, растерев лицо снегом. В более обустроенных лагерях пользовались жирными железными тазами, в которые набирали воду, тоненькой струйкой текшую из крана при входе. Мыло – кубик величиной со спичечный коробок, который выдавали раз в неделю в банный день, экономили, растягивая на неделю. Многие вообще не мылись. Воды было мало. Дежурные отправлялись за ней на реку, наполняли бочки, грузили их на телеги и тащили в лагерь.102
Этот лагерь был приписан к стройке ГУЛАГа № 501/503. За этим административным кодом скрывался один из самых крупных проектов сталинского времени: прокладка железнодорожных путей длиной в 1 459 км через Урал и лесотундру. Железная дорога посреди холодной пустыни. В тех местах бывали лишь ненцы, кочевавшие вместе со стадами оленей. Вокруг главным образом непроходимые болота. Зимой столбик термометра опускался до –50 °C. Но летом было еще тяжелее, поскольку налетали миллионы комаров, слепней и гнуса – особенно агрессивной полярной мошки, от которой воздух наполнялся гудением. Эти насекомые пробирались сквозь одежду, а если не было сетки, то забивались в уши, ноздри и глаза. Дорога начиналась от станции Чум[137] за Полярным кругом, южнее воркутинских лагерей, у подножья европейской части Урала. Она должна была, следуя маршруту, которым ходили когда-то промышленники, отправлявшиеся в Сибирь, перейти через горный хребет по одному из перевалов, а затем выйти к Оби выше ее широкого устья. Оттуда, преодолев реку, ширина которой превышала в тех местах 3 км, дорога должна была пройти по бесконечным болотам западно-сибирской лесотундры и достичь города Игарка на реке Енисей в 1 200 километрах восточнее. Сталин хотел иметь новую трансконтинентальную дорогу, параллельную Транссибу, но в нескольких тысячах километров северней, где жили только кочевники. Он уже окрестил ее «Трансполярной магистралью». Иногда ее называли «Сталинка».
* * *
Проект зародился в Кремле, в кабинете Сталина, 26 декабря 1946 года. Диктатор работал обычно вечерами и ночью, вынуждая своих соратников также переходить на ночной образ жизни. В тот вечер Сталин вызвал многих членов правительства, в частности, Берию, который отвечал тогда за проект по созданию атомного оружия, Молотова, Хрущёва, Ворошилова, председателя Госплана Вознесенского, министра морского флота Ширшова, министра внутренних дел Круглова, заместителя начальника ГУЛДЖС (Главного управления лагерей железнодорожного строительства) Гвоздёвского, начальника ГУСМП Афанасьева. Даже простой перечень этих имен дает представление о повестке встречи: речь шла об арктической железной дороге, имевшей оборонное значение. Такая стройка требовала миллионов рук заключенных ГУЛАГа, находившегося в то время в ведении всемогущего министра внутренних дел.
Война закончилась полтора года назад. СССР лежал в руинах. Страна была обескровлена, но все же это была великая победившая держава. Однако Сталин полагал, что после Хиросимы и Нагасаки, которые продемонстрировали, что Соединенные Штаты обладали новейшим неслыханно мощным оружием, стратегические позиции страны парадоксальным образом выглядели весьма уязвимыми. Атомная бомба разом перевернула все представления военных: отныне один стратегический бомбардировщик большой дальности мог определить исход войны. Ничто не могло помешать такому бомбардировщику проникнуть в воздушное пространство СССР с арктической стороны Сибири, там, где граница менее всего охранялась и была наиболее прозрачна – именно потому, что оттуда не ожидалось никакой угрозы. Таким образом, речь шла о том, чтобы как можно быстрее укрепить эту линию обороны, построив порты и воздушные базы, способные контролировать и защищать потенциальный фронт. Тем более, что отношения с Соединенными Штатами и другими западными союзниками ухудшались месяц за месяцем. Холодная война стояла на пороге, и генералиссимус не исключал, что возможен новый конфликт в то время, как СССР еще не залечил свои раны.
Второй урок, извлеченный из болезненного опыта Второй мировой войны: отрезанная от традиционных ресурсов – от шахт украинского Донбасса, занятого Вермахтом, страна сумела выстоять во многом благодаря усиленной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, открытых в 1930-х годах на Урале и в Сибири. Основные залежи этих сокровищ находились в районе Норильска, в тундре и лесотундре, в самой северной части бассейна Енисея, в 80 км к востоку от реки. Никель, платина, медь, кобальт, палладий и уголь имелись там в изобилии, благодаря чему Норильск стал сердцем одного из богатейших месторождений на планете. Их разрабатывали заключенные из одного из самых больших и страшных лагерей ГУЛАГа, о чем еще пойдет речь. Однако Норильск имел стратегический изъян: его рудники и порт Дудинка зависели главным образом от Северного морского пути, который пролегал вдоль советского арктического побережья и позволял кораблям доставлять драгоценное сырье в порты европейской части страны. Однако недавний опыт войны показал, что этот путь мог быть в любой момент перерезан. Подводные лодки или мощные надводные корабли, как, например, «Адмирал Шеер», доказали это, отправив на дно часть советского арктического флота. Необходимо было усилить военное присутствие на севере и найти альтернативу морскому транспортному обслуживанию Норильска.
Эту двойную задачу и должны были обсуждать на вечернем совещании в Кремле. Однако разговор не продлилось долго. В девять часов, через 40 минут после начала совещания, участники стали расходиться, решение начать стройку, самую масштабную после Транссибирской магистрали, было принято. Трансполярная дорога должна была связать железнодорожную сеть Европейской России с Норильском и его месторождениями. Одновременно она призвана была связать две великие сибирские реки – Обь и Енисей. Проект 501/503 предполагал также строительство морских портов в устье Оби и на Енисее и их соединения железной дорогой. Сталин и его Политбюро, как выяснится впоследствии, предполагали запустить затем, во вторую очередь, поистине гигантское строительство железнодорожных путей от Енисея через всю восточную Сибирь до Чукотки, до побережья Берингова пролива. Напротив американской Аляски.103
Сталин спешил. Уже через месяц проект официально утвержден специальным постановлением Совета министров, которое предписывало немедленно приступить к реализации проектно-изыскательских работ по выбору места для строительства порта в Обской губе, судоремонтного завода, поселка и железной дороги от Воркуты до этого порта.104 Стояла зима, тундра была покрыта снегом, что делало практически невозможными геодезические и геологические изыскания. Но Кремлю до этого словно не было дела: был приказ начинать незамедлительно. Разным институтам и министерствам поручалось проведение всех необходимых аэрофотосъемок, наземных и морских изысканий, без которых невозможна гигантская стройка.
Все развивалось стремительно. В апреле, когда на севере Сибири и на Урале зима еще далека от завершения, когда реки еще скованы льдом и доставка всего необходимого невозможна, а изыскательские экспедиции еще не вернулись, Сталин собственноручно подписал постановление № 1255 о строительстве железнодорожной линии до Обской губы. Он наметил направление и приказал, чтобы первый отрезок пути длиной в 218 км через уральские хребты и вниз по сибирским склонам был завершен к декабрю следующего года.105 Ответственным за стройку оставалось менее восьми месяцев, чтобы выполнить приказ. В отчетах, которые регулярно поступали в Кремль, главные инженеры вплоть до июня жаловались на огромные трудности. Они сообщали, что таяние снегов делало болота практически непроходимыми, а в долинах снег был так глубок, что изыскательские партии на оленях продвигались с огромным трудом. Весной администрация лагерей, согласно директиве, выделила стройке 500 заключенных, специально отобранных по физическим данным и способности к работам в приполярных условиях.106 Летом удалось умножить усилия. Люди работали порой круглосуточно. Чтобы взбодрить зеков и увеличить «производительность труда заключенных стройки 501», власти в виде исключения разрешили применять прогрессивно-сдельную систему «зачета», отмененную в ГУЛАГе в конце 30-х годов. Эта система позволяла заключенным засчитывать один день за два или даже за три при условии, что они перевыполняли нормы. Так, например, норма земляных работ на одного человека составляла 3,8 м³. Копать лопатой, долбить киркой. Заготавливать пилой или топором стволы, необходимые для возведения многочисленных мостов. Если норму выполняли на 125 %, один день засчитывался за два. Если же она переваливала за 200 %, один день приравнивался к трем. Благодаря этой исключительной уступке, новая стройка в ГУЛАГе, простиравшемся от польских границ до самых окраин Дальнего Востока, получила репутацию «привилегированной». В надежде сократить срок многие заключенные просились на нее и использовали все средства, чтобы добиться перевода туда. Аполлон Кондратьев, красноармеец, попавший в плен к немцам и в конце войны выданный Францией Советам, рассказал, как согласился еще в пересыльном лагере, и рискуя жизнью, примкнул к уголовникам строгого режима, надеясь попасть в вагон, который отправлялся к заполярным лагерям.107
7 ноября 1947 года, в годовщину Октябрьской революции, министр внутренних дел мог с гордостью рапортовать Сталину, что «коллектив строителей железнодорожной линии № 501 <…> в ознаменование тридцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции досрочно против графика уложил железнодорожный путь на участке от станции Чум Печорской железной дороги до станции Полярный Урал, перейдя укладкой на восточный склон Уральского хребта и пропустив по уложенному участку первые грузовые поезда».108 Прошло меньше года после вечернего совещания в Кремле. Ритм работ был невероятен. Еще не везде закончились изыскания, где-то они вообще не начинались, а инженеры и отряды зеков уже выравнивали тундру и возводили насыпи. Порой было вообще неясно, куда пролегал путь. Спешка, к которой примешивалось бездарное управление ресурсами, не предполагала учета объективных трудностей. Только вперед. Продвижение любой ценой, чтобы можно было отрапортовать о проложенных километрах дороги. Через полтора года после начала стройки этот метод достиг пика абсурда: колонны заключенных продвинулись уже на сотни километров вдоль Обской губы в сторону планировавшегося Москвой глубоководного морского порта, когда выяснилось, что глубины и грунты не позволяют строить его там. Для арктических кораблей глубина должна была достигать минимум 10 м. А в эстуарии Оби из-за песчаных отмелей глубина лишь кое-где едва доходила до 3 м. Поселок Новый Порт, куда должны были приходить морские корабли, находился в 250 км ниже устья реки, что обрекало речные суда на опасное плавание в ветреной, по сути морской, акватории. Название выбранного для порта участка ввело проектировщиков в заблуждение: они полагали, что работы будут вестись на «Каменном мысе» и надеялись вырубать доки в скалах. Однако выяснилось, что первые картографы неправильно перевели ненецкое название.109 Местные жители называли мыс «Кривым». Слова «камень» и «кривая» в ненецком различаются лишь интонацией, которую геодезисты не уловили. В окрестностях не было ни малейшего намека на скалы. Только глина и песок. Кроме того, постоянное перемещение отмелей в Обской губе делало плавание в тех местах крайне опасным. Единственный выход – углублять русло огромной реки и стабилизировать его тысячами тонн металла и камня. «Строительство порта невозможно», – сообщали инженеры. Затраты, которые потребовались бы для такого строительства, никогда не окупились бы.
Неизвестно, как воспринял Сталин новость о том, что природа, неподвластная его воле, ослушалась высочайших указов. Единственный документ, которым мы располагаем, это новое постановление, датированное 29 января 1949 года, о переносе морского порта из эстуария Оби на Енисей, на 1 500 км восточнее. В новом порту Ермаково предполагали создать 12 причалов с минимальной глубиной в 10 м, а также верфь, способную выпускать по одному ледоколу в год. Конечно, Енисей и его порт должен был обслуживаться железной дорогой. Чтобы ускорить строительство, работы велись одновременно с двух сторон – с запада (стройка 501) и с востока (стройка 503). Раз первый этап ничем не увенчался, нужно перейти ко второму.
С этого момента по большим сибирским рекам в ускоренном ритме начали сновать баржи с «контингентом», по терминологии администрации ГУЛАГа. Огромный плакат, красовавшийся против дебаркадера Салехарда, приветствовал заключенных: «Да здравствует великий Сталин, руководитель лагеря Мира!».110 Ирония вряд ли предполагалась. Администрация вела строгий учет прибывавших: 13 мая 12 колонн, насчитывающих 4 400 заключенных, 5 июля пять колонн – 1 600 человек, затем еще три – 1 000 человек, наконец, две колонны численностью в 700 человек.111 Спешка и неразбериха настолько велики, что различия между заключенными и охранниками стирались: первых как можно быстрее бросали с лопатами и кирками на работы, вторые были обязаны там же их охранять.
Как простые граждане, всего лишь несколькими месяцами ранее схваченные прямо на заводах или в колхозах, чувствовали себя в болотистой тундре? Главный инженер Александр Побожий, участник этой масштабной стройки, поделился своими воспоминаниями в статье, опубликованной в 1964 году в журнале «Новый мир» – глашатае хрущевской оттепели. Описание бесстрастно, без литературных эффектов и претензий. Но оно все равно впечатляет. Побожий первым громко заявил о существовании невероятного проекта трансполярной дороги, которую он окрестил «мертвой». Советские граждане даже не подозревали о ее существовании. Инженер Побожий должен был ждать буксир с баржей с заключенными на берегу одной из многочисленных рек, рассекавших равнины приполярной лесотундры. Баржа отправилась из эстуария Оби и много дней поднималась вверх по реке к намеченному в Москве участку для прокладки железнодорожного полотна. Ближайшие поселок и бараки находились в сотнях километров, и, конечно же, не было ничего для высадки. Поэтому зеки прежде всего построили пристань для выгрузки рельсов, инструментов, всего необходимого для строительства лагеря. Должны были также прибыть тягловые лошади. Некий Антонов посчитал: по стволу дерева на каждого зека – и уже получится добрая тысяча. И обратился к прорабу: тысячи хватит? Главный инженер всматривался в толпу оборванцев на баржах. Он обратил внимание на молчание, царившее среди них. «Пусть пошевеливаются на работе», – приказал Антонов. И добавил, что не потерпит слабаков и бестолочей. И никаких симулянтов! Симулянтов ждут их 300 грамм без баланды![138]
Три лодки безостановочно сновали между баржами и сушей, перевозя заключенных на голый берег. Каждую колонну доставляли на отведенный ей клочок земли. Небольшой участок у реки оцепила вооруженная винтовками охрана с овчарками. Повсюду в землю были воткнуты таблички с надписью «Зона». Высадившиеся на берег заключенные сидели на серых телогрейках под тучами мошкары. Повсюду начали валить деревья, обрубать сучья и тащить стволы к реке для дальнейшей обработки. И заключенные, и охранники проклинали мошкару, разводили костры, чтобы отогнать ее, матерились от невыносимой боли, которую причиняли укусы и зуд. Их подхлестывали: «Живей, живей!» Работы не останавливались ни днем ни ночью. Бригады отдыхали по очереди – не больше пяти-шести часов – в палатках, которые разбили неподалеку самые истощенные заключенные. Люди падали на прибитые к доскам матрасы, накрывались с головой телогрейками и после нескольких часов отдыха снова шли на работу. Через три дня три баржи сумели подойти к пристани, и началась выгрузка.112

К тысячам зеков, привезенных в глухую тундру и спавших в палатках, относились как к человеческому материалу. 27 июня 1947 года министр внутренних дел Круглов рапортовал Сталину и Берии: «Для ускорения начала и разворота работ по строительству железной дороги от станции Чум Печорской железной дороги через Уральский хребет к месту будущего строительства морского порта в Обской губе, МВД СССР были переброшены с других строек значительные материальные ресурсы: рельсы, шпалы, металл, лес, автомашины, строительное оборудование, тракторы, инструмент и необходимое для начала работ количество рабочей силы организованными колоннами».113 Каждая колонна, в соответствии с объемом работ, насчитывала от 300 до 1 200 заключенных. От берегов Печоры (европейская часть) или берегов Оби (сибирская часть) колонны двигались по намеченной трассе дороги до места работы. В каждом лагере размещались одна или две колонны. По лагерю у каждой стрелки, позволявшей разъезжаться встречным поездам, то есть каждые 10–12 км. По мере разворачивания стройки их количество увеличивалось, и скоро на Трансполярной дороге их насчитывалось уже 140.
* * *
Кто эти мужчины и женщины, которых бросили на Крайний Север? В картотеках администраций лагерей есть сведения о десятках тысяч зеков, участвовавших в гигантских стройках 501/503. Они дают полное представление о населении просторов ГУЛАГа после войны. Если посмотреть на сроки, которые получили эти люди, статистика на 1 июня 1951 года выглядит так: 0,02 % до года, 4,6 % от двух до трех лет, 22,8 % от трех до пяти, 59,6 от пяти до десяти, 1,7 % от десяти до пятнадцати, 7,2 % больше двадцати лет.114 Красноречив и анализ типов обвинений: 24 % – контрреволюционная деятельность (знаменитая 58-я статья Уголовного кодекса)[139], 15 % уголовники (бандитизм, воровство, убийство, насилие), 60 % осужденных в соответствии с июньским указом 1947 года.115 Эта последняя категория, составлявшая, как показывают цифры, большую часть контингента ГУЛАГа, заслуживает более подробного рассказа. В основном это заключенные со сроками от пяти до двадцати лет лагерей. На лагерном жаргоне они назывались указниками. Они были жертвами волны репрессий, обрушившейся на страну в 1947 году. В тот год в СССР разразился голод, начало которому положила предыдущая осень. Кровавые военные потери (27 млн погибших) лишили сельское хозяйство рабочей силы, в которой оно так нуждалось. Война выкосила молодых мужчин. Фашистская оккупация на Украине и на юге страны, где было развито сельское хозяйство, как и последовавшее затем освобождение, дезорганизовали производство. И, словно этого было мало, в 1946 году на Украину, Молдавию и весь юг России обрушилась засуха. Результат не заставил себя ждать. Урожай оказался жалким, и осенью сначала крестьяне, а затем и жители провинциальных городов начали испытывать голод. В период с конца 1946 года по лето 1947 от голода умерло от 500 тысяч до 1 млн человек.116
Это было повторение, хотя и в несколько меньшем масштабе, трагедии 1932–1933 годов на Украине, на юге страны и в Поволжье, разразившейся в результате насильственной коллективизации и депортации крестьянства, так называемых кулаков. И, как и в ту эпоху, режим снял с себя ответственность, отыскав виновных и назначив им тяжелое наказание. В 1946 году свинцовый кулак обрушился сначала на руководителей колхозов, которых обвинили в халатности или в саботаже. За несколько недель осени 1946 года более 53 тысяч человек было приговорено к большим срокам.117 Конечно, эти меры только усугубили ситуацию и, начиная с зимы, власти увидели последствия. Разворачивались жутки сцены, когда, чтобы выжить и накормить детей, молодые военные вдовы и инвалиды вынуждены были воровать еду, крохи хлеба, остатки овощей или консервы. Государство ответило знаменитым июньским указом 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». За мелкую кражу вводилось наказание от семи до 25 лет лагерей или тюремного заключения. От семи до десяти лет за преступление, совершенное впервые, до 25 лет – за повторное. На протяжении всего советского периода издавались законы и указы, которые практически превращали граждан в преступников. Возможность попасть в репрессивные жернова зависела лишь от случайности, от везения, от решений чиновников, часто спешивших применить ту или иную статью закона. Просто «хорошее поведение» не могло никому гарантировать защиту от ГУЛАГа и расстрела. Именно к такому выводу пришла в 2004 году группа российских и иностранных историков, работавших на протяжении десятилетия после распада СССР в государственных архивах и опубликовавших семь томов материалов – самую полную в настоящее время историю ГУЛАГа.118 Этот вывод особенно верен, если иметь в виду указ 1947 года.
Количество приговоренных, ставших жертвами преступного указа, поражает. Более 380 тысяч только за первые месяцы после его появления, из которых 21 тысяча – дети и подростки до 16 лет. Несправедливость настолько вопиюща, несоразмерность наказания преступлению настолько очевидна, что, как свидетельствуют архивы, случались протесты. Возмущались даже некоторые судьи и прокуроры, что, несомненно, нечастое явление в годы правления Сталина. В лагеря хлынули испуганные и отчаявшиеся люди, среди которых, что было совершенно необычно для ГУЛАГа, очень много женщин, так называемых «воровок». Их посылали толкать тачки со щебнем или валить деревья на Крайнем Севере за то, что они, желая накормить своих голодных детей, своровали три яблока или две свеклы. Отправляли в лагеря и тех, кто приходил на работу с опозданием. За шесть лет, остававшихся до смерти тирана, 1,5 млн человек, осужденных по указу, отправили в лагеря. Из них 400 тысяч – женщины.119 в 1953 году, после смерти Сталина, «указники» составляли 40 % рабочей силы ГУЛАГа. Цифры, статистика, но за ними – трагические судьбы. Ольга Симоненко, колхозная повариха, пожалела вечером замерзших трактористов и выдала им по дополнительной порции каши, за что была отправлена на стройку 501. Кража общественной собственности: два года лагерей. Заключенная Кукушкина в своих воспоминаниях упоминает другую Ольгу – свою юную товарку по бараку. Они вместе сооружали насыпь для линии, разгружали платформы песка или угля. Разгружать песок лопатами считалось более легкой работой, но на разгрузку угля уходило меньше времени, что очень ценилось.
Кукушкина работала в колхозе во время войны и, по ее собственному признанию, была довольно крепкого телосложения. Ольга же, хрупкая девушка из Днепропетровска, все время плакала. Дитя города, она работала парикмахером и бесплатно подстригла одну из подружек. И получила два года. Как и Нина Васильевна, учительница, попавшая в лагерь за колоски.120 Кто-то получил восемь лет за кражу трех метров пряжи и пяти коробок ниток, кто-то 12 лет за семена ячменя, взятые в колхозе.121 В мире, где вынужденно бок о бок находились преступники и отчаявшиеся жертвы случайности и произвола, рабочие, которых привлекло обещание больших денег, и грубые охранники, жизнь женщин была особенно тяжела. Поток заключенных, связанный с применением указа 1947 года, вынудил администрацию лагерей реорганизовать их. Лагеря были устроены вдоль всей трассы и полностью обслуживали строительство. Каждый пятый лагерь – женский. В некоторых из них занимались пошивочными работами, однако большинство женщин строило насыпь и валило деревья. Легко представить, насколько трудной было такое сосуществование. Нормативный запрет на совместную работу мужчин и женщин соблюдать не удавалось. Согласно статистике начала 1948 года, в лагерях находилось 4 088 беременных, а годом позже их уже было 9 300.122 Тщательное расследование специальной комиссии выявило способы обойти любой запрет. Когда появлялись слухи о возможной амнистии, зечки порой сами искали возможности забеременеть, – в надежде выйти в этом случае на свободу. Но было много насилия, угроз, постоянных злоупотреблений, которые превращали жизнь женщины в лагере в настоящий ад. Так, например, одна немка, побывавшая в лагере, рассказывает, что в 1951 году контингент из 78 уголовников поселили во вторую половину женского барака. Каждый день они пытались проникнуть к соседкам, то демонтируя крышу, то выламывая перегородку. Вооруженная охрана предпочитала не вмешиваться, и уголовников перевели в другое место только через 12 дней.123 Известно, что уголовники играли в карты, используя заключенных женщин в качестве ставки.124 Кроме того, документы из архивов КПСС свидетельствуют, что женщинами помыкали и лагерные начальники.125
Наряду с «указниками» 1947 года в лагерях содержались и бывшие фронтовики. Они, как правило, относились к «политическим», то есть были осуждены за якобы контрреволюционную деятельность или преступления против государства. Вот история Фёдора Ревлева. Ему повезло: он прошел всю войну и вернулся домой. В 1945 году демобилизовался. Фёдору было 26 лет, и он устроился работать в автомастерскую. Во время войны ему приходилось видеть американские машины – «Студебекеры», «Виллисы». Это были красивые мощные автомобили, снабженные хорошими моторами, превосходившими советские ЗИСы. В мастерской Фёдор был далеко не последним человеком, его характеризовали самым положительным образом. И, конечно же, он был коммунистом. Как везде, время от времени случались совместные выпивки, и языки развязывались. Фёдор как-то обмолвился, что немецкие истребители были качественными, а советские развалюхи – из гнили. Это и так было хорошо известно. Кто-то донес. Его арестовали и дали пять лет «за преклонение перед иностранной техникой». И он отправился на север.126 С ним в колонне шагали и другие бывшие красноармейцы-фронтовики.
На Север и в Сибирь отправляли солдат, попавших в плен к Вермахту и интернированных после 1945 года союзными войсками, занявшими Германию. Полностью отдавая себе отчет в происходившем, англичане, французы, американцы и швейцарцы, освободив десятки тысяч военнопленных, выдали их советским властям. Мало того, что с ними в нацистских лагерях[140] обращались гораздо хуже, чем с европейцами, Родина-мать обвинила их в сотрудничестве с врагом и в том, что они не сражались «до последней капли крови», отправив их в «фильтрационные» лагеря. Многие покинули их в составе колонн ГУЛАГа.
Вот таким было население строек 501/503. Анонимность, молчаливость, забитость, покорность. Как и во времена коллективизации, свидетельства немногочисленны. В отличие от интеллектуалов, которых истребляли десятью годами раньше, эти люди были скупы на слова и чаще вообще предпочитали молчать. Однако на стройках 501/503 были и свои знаменитости. Серые одежды зеков носили такие известные люди, как пианист Топилин, иногда выступавший концертмейстером Давида Ойстраха; впавший в немилость официально признанный художник Александр Дейнека; медиевист Лев Карсавин, кинорежиссер Леонид Оболенский, работавший с Мейерхольдом и Эйзенштейном и ассистировавший фон Штернбергу во время съемок «Голубого ангела» с Марлен Дитрих. И еще в белых бараках в разных местах страны оказались братья Старостины, четверо невероятно популярных футболистов того времени, игравших в знаменитом московском «Спартаке». Внезапно – по неизвестной причине – они оказались сброшенными с пьедестала. Ходили слухи, что они отказались перейти в команду «Динамо», любимый клуб Лаврентия Берии – правой руки Сталина. И имели смелость дважды обыграть тбилисский клуб в матчах за Кубок СССР по футболу. В СССР не было ни одного человека, которому были бы неизвестны их имена. И эта знаменитая четверка в 1942 году отправилась в лагеря – за «спекуляцию» и «профашистские настроения», выразившиеся в том, что они якобы намеревались сдаться в плен Вермахту, чтобы продолжить спортивную карьеру в Европе.
К сотням тысяч жертв доносов и облав присоединилась и еще одна категория заключенных, рожденная только что закончившейся войной. Сталинские лагеря населяли немецкие солдаты, взятые в плен в 1944–1945 годах. В принципе, они были более организованы и дисциплинированы, чем гражданские или мелкие правонарушители, попавшие в лагерь по воле более-менее случайных обстоятельств. И еще за колючей проволокой оказались украинские, польские, прибалтийские, кавказские и молдавские националисты. На завоеванных территориях, специальными соглашениями присоединенных к СССР в конце войны, группы партизан вели вооруженное сопротивление, месяцами сражаясь со специальными советскими частями. Кто попадал в плен – также отправлялся на стройку.
* * *
В мае 1945 года, когда красный флаг был водружен над Рейхстагом, советский народ вздохнул с облегчением, надеясь на новую жизнь. Люди, пережившие столько лишений и испытаний – репрессии и казни Большого террора 1937–1938 годов, карточную систему, которая действовала больше 10 лет, расправу с крестьянством, беспрецедентную войну, разруху в деревнях и городах, уничтожение целого поколения, – ждали наступления весны. Враг похоронен под руинами, страна вышла из войны главным победителем, и больше не нужны призывы к бдительности, слежке или священной битве за «социалистическую родину». Все надеялись наконец-то радоваться жизни и общению с теми, кто вернулся живым с бойни. Молодые солдаты, как их прадеды после победы над Наполеоном, дома рассказывали о том, что они увидели в Центральной Европе и в Германии. Все жаждали мира и процветания. Но на народ опять обрушились репрессии. С лета 1947 года в лагеря отправился новый поток заключенных, и условия их жизни резко ухудшились. Лагерное начальство не справлялось с этим потоком. В стране отсутствовало все самое необходимое, что уж говорить о лагерях. Официальные отчеты выдают беспокойство начальства: еды не хватало, не было самой элементарной медицинской помощи, заключенные почти поголовно болели. Только 8 % лагерников могли быть отнесены к «первой категории» (здоровые, способные работать), тогда как 70 % оказались в третьей и четвертой категориях (ослабленные, больные и нетрудоспособные). И это при том, что медицинская комиссия, принимавшая решения относительно трудоспособности заключенных, вовсе не была склонна проявлять снисходительность: например, глаукома считалась причиной освобождения от работ только в том случае, когда она затронула уже оба глаза. Отсутствие одной почки принималось во внимание, если и вторая была больной. Лагеря превратились в гигантский лазарет, забитый до отказа истощенными и немощными людьми-призраками. С приближением зимы 1947–1948 годов обнаружилось отсутствие одежды и обуви для сотен тысяч новоприбывших зеков. И снова гневные отчеты начальства потекли в центральную администрацию ГУЛАГа: «Просим обратить внимание УОС ГУЛАГа на недопущение завоза некачественного обмундирования. ОИТК Воронежской области отгрузил 9 000 пар брезентовых ботинок с картонной стелькой, которые в условиях Воркуты непригодны к носке».127
* * *
Но каковы истоки этой чудовищной лагерной системы, расползшейся по Сибири и всему СССР? И для чего она была нужна в первую очередь? Во вселенной Сталина лагеря выполняли две основные функции: они изолировали «социальные элементы», представлявшие опасность для режима, и снабжали бесплатной рабочей силой большие стройки. Сама система сформировалась в первом большом лагере, который был создан на Соловках – архипелаге на Белом море. Бывший монастырь, особое место для православного монашества, куда стремились попасть многочисленные паломники, а в XVII веке – сердце старообрядчества, был превращен большевиками в место заключения для врагов революции, реальных и выдуманных. Очень быстро в бывших святых стенах, церквях и кельях, рассыпанных по архипелагу, оказались тысячи, а потом и десятки тысяч белогвардейцев, священнослужителей, монахов, социал-демократов, консерваторов, членов аристократических семей, писателей, художников и ученых. Соловки невольно стали местом пребывания интеллектуальной элиты страны, и в воспоминаниях многих узников мы читаем не только об испытаниях и страданиях, выпавших на их долю, но и о духовном подъеме, поначалу какое-то время царившем там.128 Сначала большевики, новые хозяева страны, хотели лишь удалить сильных врагов, чтобы контролировать их, – подобно тому, как поступали с врагами при царе. Однако к концу 1920-х годов один из заключенных по имени Нафталий Френкель, виртуоз спекуляций и процветавшего черного рынка, выходец из одесской еврейской среды, предложил начальству лагеря приспособить заключенных к работе. Его идея состояла в том, чтобы кормить людей в обмен на работу. Следовало установить дневную норму еды, которая соответствовала бы определенному объему работы: сколько наработаешь, столько и съешь. Если заключенный выполнил задание, его кормят согласно норме. Если сделал больше нормы, получал дополнительную порцию. Если не справился, – лишь половину порции. Эта система быстро стала основным законом ГУЛАГа, альфой и омегой его жизни. От нее зависела жизнь и смерть заключенных. А Нафталию Френкелю позволила сделать карьеру в «органах», как называли милицию и органы госбезопасности в СССР.129
В это же время ГУЛАГ стал мощным предприятием, важным субъектом советской экономики. Народный комиссариат внутренних дел и суды вверили ГУЛАГу сотни тысяч, а затем и миллионы рабов, что превратило его в крупнейшую хозяйственную структуру страны. Вплоть до смерти Сталина ГУЛАГ оставался постоянным поставщиком рабочей силы для всех строек режима: каналы, дороги, плотины, железные дороги, промышленные комплексы, добыча полезных ископаемых, в том числе всех типов металлов.
Формально ГУЛАГ – сокращенное наименование Главного управления лагерей – было лишь одним из отделов Наркомата внутренних дел. Оно создано в 1929 году для сопровождения насильственной коллективизации и управления потоками кулаков и их семей, высылавшихся на Крайний Север, в Сибирь и в Среднюю Азию. Крестьянство раздавили, отправили на подневольные работы, и ГУЛАГ стал его тюремщиком. Западные историки порой забывают, что еще в 1935 году 86,9 % заключенных были крестьянами.130 Постепенно ГУЛАГ расширялся. В 1930 году, а потом в 1934-м ему поручили управлять всеми тюрьмами, всеми исправительными колониями и всеми лагерями СССР. Численность населения этого тайного мира, спрятанного за заборами и колючей проволокой, долго оставалась тщательно оберегаемой тайной. Первые западные исследования, посвященные этой расползшейся каторге, основывались на документах, которые нацисты обнаружили в оккупированных районах СССР.131 Затем на протяжении десятилетий при описании ГУЛАГа использовали свидетельства его жертв – «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына или страшные «Колымские рассказы» Шаламова. Культ секретности, особенно в условиях холодной войны, способствовал возникновению любых предположений, любых утверждений, и диапазон расхождений при оценке количества заключенных был огромен.134 Но, как мы увидим, близкие к реальности цифры таковы, что кровь стынет в жилах.
Впоследствии архивы частично открыли, и появились новые свидетельства, однако и сейчас трудно хотя бы приблизительно оценить, сколько было тех, кто прошел через лагеря. Содержавшихся в лагерях людей регулярно пересчитывали, в частности в начале каждого года, но при этом многие факторы, влиявшие на перемещение людей, не учитывались. Судебные и внесудебные приговоры, изменения статуса во время пребывания в заключении, частичная амнистия, освобождение, смерть в лагере, побеги – все это делало подсчет таким сложным, что администрация ГУЛАГа порой совершенно утрачивала контроль над цифрами. С 1929 по 1956 годы обозначения разных форм и типов мест заключения постоянно менялись. Порой в больших лагерях заключенные, уже освободившись, оставались жить вместе с семьями внутри зоны. Следует ли их включать в списки заключенных? В население ГУЛАГа? Задача, над которой ломают голову многие российские историки, не так проста, как может показаться.
Известно, однако, что численность находящихся в ГУЛАГе претерпевала сильные изменения. После возникновения лагерной империи число заключенных неуклонно росло: на 1 февраля 1929 года в ней числилось 76 523 человека, в начале 1934 года – 510 309, в начале 1939-го – 1,289 млн, а через два года, накануне войны, – 2,3 млн. Во время войны колебания численности были довольно значительными, поскольку сотни тысяч зеков были отправлены на фронт, а перед этим амнистированы. Уровень смертности зашкаливал из-за условий содержания, ставших чудовищными во времена военной экономики. Прибывали и новые заключенные: на 1 января 1944 года в ГУЛАГе находилось 1,179 млн. С наступлением мира численность лагерей подскочила, в частности, за счет волны 1947 года, о которой уже шла речь: в ноябре 1946-го – 1,8 млн, в конце 1948-го – 2,356 млн, а с 1950 по 1952 год – исторический рекорд в 2,5 млн, неизменный в этот период.135 В сталинскую эпоху империя лагерей предположительно включала 476 лагуправлений, разбросанных по всей стране, и особенно в Сибири и на Крайнем Севере.136
Каждое лагуправление состояло из десятков, а иногда даже сотен лагпунктов. Российские историки, стремившиеся как можно точнее указать количество заключенных, побывавших в ГУЛАГе в сталинскую эпоху, пришли к выводу, который в настоящее время можно считать самым корректным: с 1929 по 1956 годы через лагеря прошло от 22 до 27,5 млн человек.137 Если вспомнить, что активное взрослое население СССР сразу после смерти Сталина составляло примерно 100 млн человек, можно достаточно уверенно утверждать, что большинство советских семей того времени прямо или косвенно столкнулось с адом ГУЛАГа.
Аресты были нужны, чтобы наказать и запугать. А еще – чтобы поставлять рабскую силу. Эти две функции ГУЛАГа на протяжении его истории сменялись, соединялись и дополняли друг друга. В какие-то моменты приоритет был за запугиванием. Так обстояло дело, например, во время полномасштабной атаки сталинского режима на крестьянство с 1930-го по 1932-й годы. И, конечно, так происходило в 1937–1938 годах, во время так называемого Большого террора. Каждая административно-территориальная единица страны, каждая область, каждое предприятие, каждое министерство поставляло саботажников, предателей и скрытых контрреволюционеров. Власть постановила, что враг близко, что он притаился, готовясь нанести удар, и что его нужно разоблачить. Элита рисковала едва ли не больше других, под прицелом был каждый. Коммунистическая партия прошла через чистку. Доносы шли лавиной – аресты на рассвете, потом пытки. Процесс завершался приговором, который часто выносила за несколько минут тройка, опиравшаяся исключительно на сфабрикованные досье. Страх гулял по всему СССР. 1, 5 млн арестов и быстрых судебных приговоров, 799 тысяч смертных приговоров, приведенных в исполнение в подвалах больших тюрем и на «полигонах» НКВД. Девять десятых смертных приговоров, относящихся к годам правления Сталина, были вынесены в 1937–1938 годах.139
В эти мрачные годы ГУЛАГ являлся прежде всего инструментом физического истребления тех, кого режим назначил своими врагами. ГУЛАГ – подручный палача, хватавший всякого, кто избежал выстрела в затылок, и изолировавший его надолго от общества. Речь в этом случае не шла ни об экономических функциях, ни о поставке рабочих рук – только о репрессиях. И, естественно, в самый страшный 1937 год соображения о пользе рабского труда были еще не востребованными. Большой террор отрицал все принципы, кроме единственного – «спасайся, кто может». Лагерное начальство и охранники боялись только одного: как бы и им не оказаться по другую сторону колючей проволоки. Многие из сторонников «эффективности» ГУЛАГа, из тех, кто видел в исправительном учреждении мощного поставщика рабочих рук для экономики, фигурируют позднее в списках жертв. Затем, когда режим наконец насытился кровью «врагов», за жертвами последовали палачи и исполнители воли Сталина: в ноябре 1938-го, в соответствии с тайным декретом правительства и партийной верхушки, 24 тысяч представителей силовых структур в свою очередь были унесены волной репрессий. Лаврентий Берия, черная душа, – правая рука Сталина, возглавил Наркомат внутренних дел и вернул ГУЛАГу функции гигантского предприятия и поставщика бесплатной рабочей силы. Восстановленный каторжный трудовой конвейер не прерывался вплоть до 1950-х годов, до самого конца системы и закрытия лагерей. Лагерная империя, исходившая из нужд производства, пыталась подчиниться законам максимальной рентабельности и предписывала нормы выработки каждому лагпункту. Речь уже не шла об истреблении тех, кто попал в лагерь. Наоборот, следовало позаботиться о том, чтобы они пребывали в рабочем состоянии. Согласно логике системы, оптимальным было бы сократить расходы на ее функционирование за счет зеков. Маржа была небольшой. Чтобы добиться рентабельности, следовало свести расходы на еду, оборудование, охрану и лечение к строгому минимуму. Однако, если заключенные умирали или же слишком слабели и не могли гарантировать выполнение дневной нормы, установленного для лагеря, начальник рисковал своей шкурой. Свидетельств происходившего со стороны лагерного начальства практически не дошло. В одном из таких редких документов, дневнике Фёдора Мочульского, постоянно всплывает тема давления и угроз со стороны центральной администрации. В 1941 году, пишет Мочульский, стало известно, что Москва решила полностью сменить администрацию Печорлага. Мочульский полагал, что в центре приняли такое решение, поскольку узнали о том, как много заключенных умерло за северную зиму. Ходили также слухи, что лагерные начальники были арестованы и расстреляны.140 Охранники и руководство, отправленные далеко на Крайний Север, не знавшие, сколько времени они должны там провести, не видевшие ни единой лазейки, которая позволила бы вырваться, находились в ненамного лучшем положении, чем заключенные. На протяжении долгого времени уровень смертности оставался одной из самых закрытых информаций об истории ГУЛАГа. Невольно возникавшее сравнение с нацистскими лагерями смерти, печать тайны молчания, наложенная на эту часть советской истории, привели в период холодной войны к появлению ни на чем не основанных, часто совершенно фантастических оценок. Цифры, которыми мы располагаем сегодня благодаря появившейся возможности работать в архивах, следует еще уточнять. В каких-то обстоятельствах минимизация потерь, как уже говорилось, была в интересах лагерной администрации. В других – импульс мог быть совершенно противоположным, в частности, когда хотелось продемонстрировать суровость наказания для зеков. Наличие тесной взаимосвязи между поставками ресурсов, продовольствия и рабочими нормами, не говоря уже об инспекциях, все же позволяют дать более или менее надежные статистические оценки. Цифры свидетельствуют о большом разбросе в зависимости от исторического периода: в начале 1930-х годов смертность в лагерях в среднем держалась на уровне от 3 до 5 %. Вплоть до начала войны этот уровень остается между 2 и 5 %, но в 1942 году, когда все население СССР испытывало большие лишения, вырастает до максимума в 25 %. В это время о лагерях думали меньше всего, и им часто приходилось рассчитывать только на свои силы, чтобы выжить. После войны уровень смертности упал до 0,4–1 % и оставался примерно таким вплоть до закрытия ГУЛАГа.141 Стройки 501/503, одни из самых крупных лагерных управлений того времени, могут служить типичным примером: как показали найденные в архивах ГУЛАГа отчетные документы работавшей там внутренней инспекции, несмотря на тяжелейшие климатические условия и варварские методы работы, уровень смертности не превышал 1 %.142 Основные причины – туберкулез и несчастные случаи на строительстве. Но картина меняется, если обратиться ко всему ГУЛАГу в целом. Конечно, ГУЛАГ был прежде всего каторгой, а не системой лагерей смерти, его предназначением являлась эксплуатация зеков, а не их истребление, и все же итоговые цифры, отраженные в исследованиях историков, не могут не пугать. В целом, согласно разным публикациям, 1,7 млн человек не вернулись из лагеря.143 Большинство умерло от истощения и эпидемий.
ГУЛАГ постоянно лавировал между репрессивной и экономической функциями. Волны слепого страшного террора, как, например, 1937 год, уносят силы страны и лишают ее ценных специалистов. Аресты и депортации, как в 1932-м или 1947-м годах, раздувают систему ГУЛАГа и делают ее недееспособной. И, наоборот, внезапно возникший дефицит заключенных, как после июльской амнистии 1945 года, связанной с окончанием войны, затормозил все работы. Что причина, а что следствие? В чем суть логики системы? В тоталитаризме или утилитаризме? Наблюдения над демографическими колебаниями и волнами массового притока и оттока в истории ГУЛАГа заставляют задуматься. Можно увидеть, что практически одновременно, например, во время войны, происходят такие противоположные явления, как частичная амнистия и массовые аресты, что не подвластно никакой логике. Предстоит еще углубленное изучение различных этапов истории ГУЛАГа и действовавших там механизмов. До сегодняшнего дня анализ внутренних документов не дал ответа на все вопросы. Так, например, нет ни одного документа, который прямо свидетельствовал бы о волне репрессий, обусловленной только стремлением получить новую партию рабов. Этот мир порядка опирался на принцип случайности. ГУЛАГ похож на живое чудовище, которое постоянно приспосабливалось к политическим и экономическим нуждам, но из-за собственного размера не могло быстро реагировать на реальные запросы начальства. Словно подчиняясь противоположным силам, вызывавшим волны непредсказуемых последствий, ГУЛАГ действовал в соответствии с логикой, которая принимала все более и более хаотичные формы. Он как бы управлялся механизмами, становившимися автономными и неконтролируемыми. Тем не менее появление наиболее крупных проектов соотносится с большими волнами арестов. Так, в начале 1930-х годов индустриализация, урбанизация и интенсивное строительство инфраструктуры стали возможны благодаря отправке в неволю большой части крестьянства. А указ 1947 года позволил государству приступить к строительству арктической железной дороги. Гигантские сталинские стройки никогда не состоялись бы, если бы не волны произвола, приносившие рабскую силу, когда это было необходимо.
Трансполярная дорога – прекрасный пример. Она прокладывалась сквозь тайгу и тундру. Сталин со своим правительством и членами Политбюро определил сроки начала и окончания стройки. Отступать от них было невозможно. Последовательность всегда одна и та же: очередной высадившийся контингент начинал с того, что выполнял свою норму – прокладывал 12 или 15 км пути. Это тяжелейший труд – зыбкая почва напитана талой водой вечной мерзлоты, которая снова замерзала осенью. Иногда можно было провалиться по пояс и выше, поэтому сначала необходимо было выложить будущее железнодорожное полотно бревнами или досками, изготовленными на месте. Затем, согласно плану, следовало оборудовать участок телеграфной линии[141]. И только потом начиналась настоящая прокладка дороги: на всей трассе возводили и укрепляли насыпь высотой несколько метров, на которую укладывали балластный щебень, а затем и сами пути. При пересечении многочисленных притоков сибирских рек, текущих в Арктику, на участках в десятки или сотни метров возводили мощные деревянные опоры. Они опирались на соединенные между собой сваи, вбитые в берега и дно. Часто на трассе даже не были проведены изыскания, и тайгу расчищали, ориентируясь исключительно на аэрофотоснимки, на которых не было информации о глубине болот. Главный инженер Побожий вспоминал, что хороших карт не существовало. Имевшиеся карты миллионного масштаба (в 1 см – 10 км), характеризовались неточностью. На них было множество белых пятен, и даже реки обозначались всего лишь пунктиром.144 Главный инженер – один из основных технических руководителей стройки, признает, что важно было делать вид, будто приказы исполнялись, и никогда их не оспаривать. Побожий пишет, что хорошо освоил правила лагерной жизни и не настаивал на формальностях. На любой приказ в любых обстоятельствах следовало, не дрогнув, отвечать «Будет сделано!», даже если и начальник, и подчиненный прекрасно понимали, что выполнить его нельзя.145 Как объясняет Побожий, нужно было приложить все силы к тому, чтобы избежать обвинения в неисполнении приказа. Особую технику создания иллюзии статистики знал весь ГУЛАГ – под названием «туфта». Эта классика лагерной жизни являлась прямым следствием системы норм – ее главного принципа. Чтобы не слечь от выполнения назначенной для каждого ежедневной нормы и не обречь себя на пайку в 300 граммов хлеба, очевидно недостаточную, чтобы восполнить силы, заключенные объединялись, любыми способами фальсифицируя результаты. Бригады обменивались заготовленным лесом, так что одна и та же выработка засчитывалась несколько раз, деревянные сваи укорачивали, чтобы не вбивать их глубоко в промерзлую землю, насыпной материал размачивали, чтобы создать видимость большого объема, и так далее. Таким образом норма выполняли, а срок выполнения работ укорачивали. Руководство лагеря рапортовало о достигнутых целях и получало вознаграждение. Министерство с гордостью отчитывалось перед Сталиным, что сроки строго соблюдались и революционный энтузиазм не угасал.
Однако возникли сомнения в целесообразности этого гигантского проекта. Насыпь из камня и песка ползла по болотам и уже достигла почти 1 000 км. Становилось все яснее, что поддерживать ее в нужном состоянии нисколько не легче, чем строить. Каждую осень основание полотна осыпалось и размывалось. Оно проваливалось, деревянные мосты рушились, а переход через широкие реки требовал технологий и знаний, которых трудно было ожидать от зеков. Во многих местах приходилось защищать вечную мерзлоту при помощи слоев соломы – импровизированного изолятора, чтобы замедлить таяние и избежать осадки.146 Руководство стройкой в докладах Москве делилось сомнениями о рентабельности рабочей силы: производительность труда слишком низкая и, чтобы как-то изменить ситуацию, были введены даже небольшие зарплаты, позволявшие заключенным покупать кое-что в лагерном магазинчике – сладкое, галантерею или табак. И это даже при наличии системы пересчета срока отсидки. Однако эти меры не особо мотивировали толпу рабов. А ведь следовало еще присовокупить расходы на охрану, на жилье и так далее. Руководство проекта задавалось вопросом – не будет ли выгоднее вербовать добровольцев? Сам Сергей Круглов в записке 1950 года, адресованной Берии, министру внутренних дел и главному куратору ГУЛАГа, признавал, что на «содержание» заключенных, которые участвовали в мегапроектах, уходило больше денег, чем на зарплаты, которые получали обычные люди за аналогичную работу.147 Проще говоря: ГУЛАГ не рентабелен. Немыслимые инвестиции, которых требовали амбициозные проекты, опустошали государственную казну. Несмотря на все фальшивки и бухгалтерские уловки, несмотря на речи о жертвенности и трудовом энтузиазме советского народа, экономическая реальность проступала все явственнее. На стройках 501/503 с 1952 года становится заметно, как тают финансовые ресурсы. Продвижение замедлилось. Но никто не осмеливался проинформировать об этом Сталина. С возрастом паранойя вождя народов росла, он становился еще более подозрительным. Если он и упоминал проект трансполярной железной дороги, то лишь для того, чтобы наметить ее продолжение, в сторону Камчатки и Берингова пролива, которые, по его мнению, были бы слишком уязвимы в случае американской атаки со стороны Аляски.148 Хотя ответ на вопрос «Зачем все это?», преследовавший всех ответственных за проект, очевиден, неясно, кто же отправится разубеждать Сталина? Трансполярная линия впоследствии будет задействована исключительно ради конечных пунктов, устроенных на речных артериях – Оби и Енисее. Подсчеты министерства показали, что даже стоимость перевозки руд из Норильска, имевших стратегическое значение, не окупится. Что уж говорить об остальной части гигантской дороги? Станции, возводившиеся каждые 12 или 15 км, получали поэтические имена: Весенняя, Фазанья, Волчья, Орлиная, Комариная и даже… Веселая. Но их окружали колючей проволокой, вокруг них были только лагеря и пустоши, когда дорога уходила вперед. Если бы, как отмечали некоторые инженеры, можно было хотя бы рассчитывать на богатые залежи полезных ископаемых.149 Но никто не проводил серьезной разведки, этого просто не позволяли сроки.
Были ли эти места на самом деле гигантским пустым болотом? Локомотивы, с большим трудом доставленные на Крайний Север, на самом деле катились по огромным кладовым газа и нефти, о которых еще полтора десятилетия не будет известно. В 1960-е годы в этой части Сибири откроют самое большое в истории России месторождение газа. Но в годы строительства железной дороги даже Кремль не подозревал о его наличии.
В начале марта 1953 года было построено более 800 км железнодорожного полотна, и половина его использовалась. Однако оставалось проложить еще 650 км, причем по самой дальней и негостеприимной части лесотундры, в тяжелейших условиях. Но тут Сталин внезапно умер. После этого все завертелось с огромной быстротой. 17 марта, через неделю после грандиозных похорон «отца народов», Берия реформировал могущественное Министерство внутренних дел и взял под контроль все крупные стройки. 28 марта он объявил о резком сокращении инвестиций в большие проекты: их бюджет упал с 500 до 49 млрд рублей. Его товарищи из Центрального Комитета получили список строек, которые следовало немедленно закрыть: 501-я и 503-я значились в нем среди первых.150 После принятия всех предложений Берии была объявлена амнистия, касавшаяся 1 млн из 2,5 млн заключенных. Не прошло и трех недель после смерти Сталина, как его преемники отказались от половины доставшегося им наследства.
Закрытие строительства Трансполярной дороги оказалось полным сюрпризом для тех, кто ее проектировал и строил.151 Проект остановили. На протяжении нескольких дней все гадали, что станет с 850 км дороги, с 217 произведениями искусства, с десятками станций, 40 паровозами и составами, не говоря уже о сотне действовавших на тот момент лагерей. Как обычно, смута соседствовала со спешкой. Инженеры просили два года, чтобы закончить стройку и переправить на места весь привезенный материал, однако власть дала им срок до 1 сентября 1953 года. Ольга Кочубей, работавшая в администрации строительства, вспоминала, что стройка фактически была ликвидирована. Вещи следовало собрать за два дня. Были выделены поезда до Салехарда, на которых первыми отправили заключенных. Круглые сутки поезда вывозили людей. Все произошло очень быстро.152 В мае, благодаря амнистии, десятки тысяч зеков вышли на свободу и вернулись на Большую Землю, или «континент», как говорили в лагерях. В другие лагеря перевели 11,5 тысяч человек, в частности, в Норильск, который брошенная железная дорога должна была бы обслуживать. 2 тысяч тягловых лошадей были убиты. Слишком тяжелые материалы, а также то, что сложно было вывозить, уничтожали. Шесть больших паровозов и десятки вагонов, находившихся на восточном участке, просто-напросто бросили. Енисейский речной порт Ермаково, насчитывавший от 15 до 25 тысяч жителей, за несколько недель превратился в город-призрак, который постепенно поглотила тайга[142]. Как сообщает Александр Жигин, главный инженер, а затем ликвидатор проекта, лагеря покинули примерно 100 тысяч человек:153 заключенные, охранники, а также наемные технические работники с семьями. Все жертвы оказались напрасными. Как и другие гигантские стройки сталинской эпохи, Трансполярная дорога оказалась стерта с карты и превратилась в «Мертвую дорогу». Скоро ее судьба постигнет и сам ГУЛАГ.
Крушение ГУЛАГа
Линия, прочерченная Сталиным, стала ненужной почти сразу после его смерти. Но у ее восточного конца притаился один из самых неприступных, но при этом и самых богатых природных объектов планеты. На севере Сибири, в 80 км к востоку от реки Енисей, лежит Норильск – легенда советской промышленной эпопеи. Режим, твердо вознамерившейся укротить силы природы, выбрал эти места для титанической битвы с ними. Болотистая лесотундра с многочисленными озерами у подножья горного амфитеатра стала ее декорацией. Редкие лиственницы – 69 с лишним градусов северной широты, более 300 км за полярным кругом. Кустарники цепляются за голые скалистые склоны – подножье величественного плато Путорана, лежащего к югу от огромного полуострова Таймыр. Самые близкие горные массивы нависают над долиной и большую часть года усеяны снежниками-перелетками, над которыми не властно короткое лето. В середине июля 12 °C тепла, с начала ноября по конец марта средняя температура –25 °C с несколькими понижениями до –50 °C. Восемь месяцев зима, более полутора месяцев полярная ночь. Очень жесткий ветровой режим, мощные воздушные потоки срываются с краев плато, порождая многодневные пурги, сила которых парализует любое передвижение. Одного такого климата вполне хватает, чтобы отпугнуть людей. Только коренные кочевые народы бывали там во время сезонного перегона оленей.
Норильск, белый зимой, ярко-зеленый летом, можно назвать настоящим адом. Но одновременно и раем, если говорить о полезных ископаемых. Недра там столь же богаты химическими элементами, как таблица Менделеева, и уже окраинные возвышенности содержат залежи угля. Достаточно просто копнуть, чтобы получить топливо. Открытие этого сибирского эльдорадо произошло во второй половине XIX века. Морские офицеры и ученые, участники экспедиций XVIII века, сообщали о существовании залежей каменного угля в нижнем течении Енисея, однако попасть туда по реке было практически невозможно: лишь в 1860-х годах удалось получить подтверждение их наличия. Сибирские купцы Сотниковы, владевшие пароходной компанией на Енисее и торговавшие главным образом солью и табаком, в 1868 году привезли в Красноярск и Томск – экономическую столицу Сибири – несколько сотен килограммов каменного угля.154 Находка не вызвала большого интереса: в тот момент все жаждали золота, а нижний Енисей находился слишком далеко и казался слишком враждебным, чтобы надеяться окупить путешествие туда. Сотниковым пришлось нанимать оленьи упряжки, которым потребовалось много дней пути по лесотундре, чтобы добраться до судов. И все это ради какого-то угля!
Полвека спустя о существовании норильских месторождений забыли. Только семья Сотниковых передавала из поколения в поколение, как великую тайну, знание о месте, где находилось это сокровище. Последний из Сотниковых, Александр, не случайно выбрал профессию геолога и поступил в Томский технологический институт. Он был убежден, что в руках его семьи находится ключ от пещеры Али-Бабы. Александр решил, что следовало воспользоваться этим знанием и сделать на нем несметное состояние. В 1915 году он отправился на разведку и вот он уже бредет в величественной тишине приполярной лесотундры. Разведчик-дилетант вернулся с Крайнего Севера еще сильнее, чем прежде, убежденный в своей правоте. Привезенные образцы молодой геолог отправил в Петроград, переименованный после начала мировой войны, чтобы истребить немецкий акцент в названии столицы – Петербург. Ими живо заинтересовались промышленники и горные компании. Сотников поверил в то, что его ждет богатство. Страна все больше нуждалась в ресурсах сибирских недр, но История, которая, казалось, поджидала его за ближайшим поворотом, решила иначе. Едва студент вернулся к учебе в Томске, как по всей России полыхнула гражданская война – следствие Октябрьской революции. Сибирь оказалась в руках адмирала Колчака – именно там находилось его антиреволюционное процарское правительство.
Очень быстро Сотников и его друг Николай Урванцев поневоле оказались у белых. Они не испытывали особой симпатии ни к монархистам, ни к большевикам, которые пришли к власти в Петрограде. Сотников скорее симпатизировал социалистам-революционерам, к тому времени уже ошельмованным Лениным. Что же касается Николая Урванцева, то он происходил из купеческой старообрядческой семьи. Отец, человек авторитарный, воспитывавший его в строгости, бежал, как только представился случай. Политика совсем не привлекала Урванцева, хотя вокруг и бурлил водоворот социальных событий. Позже он признается, что вполне мог бы прибиться к анархистам.155 Их главный идеолог, князь Кропоткин, был геологом. Но Урванцев, как и его друг Сотников, мечтал лишь об экспедициях и геологических открытиях. Урванцев даже бросил учебу на механическом факультете Томского технологического института и перешел на горное отделение, чтобы посвятить себя горному делу.
Друзья написали первую страницу истории Норильска: невероятной горно-промышленной эпопеи, которая перевернула историю Сибири, но одновременно и трагедии, перемоловшей десятки тысяч жизней, в частности и самих молодых людей.
В 1919 году, казалось бы, судьба улыбнулась им. Адмирал Колчак долго служил в российском флоте, бывал в Арктике и не сомневался в стратегическом потенциале Крайнего Севера. В разгар гражданской войны он решил отправить несколько экспедиций в Заполярье. Одни занимались ботаникой, другие – гидрографией. Существовал проект нового порта в устье Енисея,156 который позволил бы контрреволюционным силам поддерживать по морю связь с западными союзниками. Колчак хотел превратить Енисей в стратегически важную торговую артерию, соединяющую сердце Сибири со всем миром. И этот сценарий требовал больших запасов угля для пароходов. Почему бы не поверить на слово студентам?
* * *
И вот Сотников и Урванцев отправились на Север. Они вернулись уже после падения Колчака и его правительства. Адмирал был расстрелян на льду Ангары в Иркутске, его тело брошено в реку. Геологов встретила политическая полиция нового режима и бросила в томскую тюрьму. Белогвардейцы, контрреволюционеры, враги революции, отпрыски купеческих семей – казалось бы, с ними дело решенное. В архивах ВЧК хранятся протоколы допросов Александра Сотникова.157 Желая избежать смертного приговора, он пытался убедить своих палачей, что они с Урванцевым обладают информацией, способной коренным образом изменить судьбу Советской России.
Там, на севере, скрывались природные ресурсы, в которых так нуждался режим, вознамерившийся создать социалистическую индустрию. И в очередной раз молодой геолог был убедительным. Однако террор имеет свои загадки: Александр был расстрелян во дворе тюрьмы, а Николай отправлен в новую экспедицию. На этот раз – по поручению красных.
Николай Урванцев участвовал во многих экспедициях. Довелось ему и зимовать в норильских буранах. После открытия месторождения нужно его разведать, изучить возможности его разработки. В адском холоде Норильска можно жить! На фотографиях того времени мы видим высокого худого человека с большим всегда наморщенным лбом, широким носом и полными губами. Всегда в очках, сидящих кривовато. Глубоко натянутая меховая шапка напоминает о суровых условиях, в которых он провел 20-е годы – можно считать, в добровольной ссылке. Урванцев вполне мог предполагать, что приговор ему просто отсрочен. Возвращаясь домой, распечатывая почту, он каждую минуту боялся, что клеймо колчаковца приведет его в застенки или прямо на встречу с расстрельной командой. Страх навсегда поселился в нем. На склоне горы Шмидтиха в Норильске экспедиция Урванцева построила первый дом, а также баню и склад. «Этим было положено начало будущему Норильску», – скупо напишет он впоследствии.158 Он измерял температуру воздуха, высчитывал скорость ветра во время сибирской пурги, превращавшей местность в белую живую клокочущую массу, в которой ничего нельзя рассмотреть на расстоянии метра. Летом, когда погода позволяла, исследовал окрестности, взбирался на плато, с краев которого обрушивались водопады, и, стоя в насквозь промокшей одежде, любовался зрелищем необъятных нетронутых просторов: «Поверхность плато у моих ног; на юг оно обрывалось почти вертикальным уступом, а на север уходило вдаль за горизонт <…> Под обрывом расстилалась норильская долина, окруженная со всех сторон, кроме запада, амфитеатром гор. Она густо залесена и сверкает пятнами бесчисленных озер».159 Он один из первых русских в тех местах. И конечно, молодой геолог без устали изучает скальные породы. Каменный уголь? Его много, и он выдерживает конкуренцию с углем самого лучшего качества. Можно брать сколько угодно, запасов хватило бы, чтобы на протяжении десятилетий, а может быть, и веков, снабжать флот, как писал Урванцев. Но геологическая разведка дала и неожиданные результаты: те места оказались настоящим кладом подземных сокровищ. Не оставалось сомнений: Норильск – одно из самых удивительных месторождений, когда-либо обнаруженных на земле. Вот перечень Урванцева – медь, никель, кобальт, палладий, осмий, платина, золото, серебро, иридий, родий, рутений. Геолог еще не знал, в каких огромных количествах! Десятая часть известных мировых запасов кобальта, пятая – никеля и родия, четвертая – платины, третья – палладия находятся по соседству с его деревянным домом[143]. Потрясающе!
Казалось, энергия Урванцева не имела границ. Полярные зимовки следовали одна за другой. По всей видимости, геолог предпочитал холод и пургу риску попасть в руки НКВД. Он не сидел на месте, шел по следам оленеводов или вдоль русел рек, которые, петляя, уходили к Северному Ледовитому океану. Десять тысяч километров на оленях, лошадях и лодках только в 1929 году, когда Урванцев исследовал внутреннюю часть Таймырского полуострова, где ранее бывали только кочевники. В 1930–32 го-дах– более 6 000 км на собачьих упряжках вокруг Северной Земли. Открытие Норильска сразу сделало из молодой советской республики одну из самых могущественных в перспективе горнодобывающих держав. В конце концов в Москве оценили труды Урванцева. После североземельской экспедиции ему вручили орден Ленина – самую высокую на тот момент советскую награду. Ленинградский университет присвоил геологу ученую степень доктора наук и пригласил преподавать, а в 1934 году правительство подарило ему автомобиль – редчайший жест. Это была символическая благодарность за грузовики и вездеходы, которые в 1933 году он привел на Крайний Север. Урванцев польщен, но в то же время и обеспокоен. Мрачноватый и гордый, крайне самолюбивый, как отмечают знавшие его современники, он не мог остаться равнодушным к государственным знакам отличия. Но он знал также, что известность могла и навредить ему.
Наступили 30-е годы, эпоха доносов, и было благоразумнее не вызывать ревности и зависти. У него более чем сомнительное прошлое: семья купцов-старообрядцев, и, что еще хуже, пребывание у Колчака. Этого вполне достаточно, чтобы из-за пустяка вдруг оказаться у расстрельной стены, и неважно, есть у тебя орден Ленина или нет. Коллега, стремящийся сделать карьеру, или же сосед, положивший глаз на хорошую квартиру, могут стать угрозой, и тогда остальное сделает НКВД. Чтобы выжить, лучше держаться скромно и не высовываться.
Урванцев не ошибся в своих опасениях. Ночью 11 сентября 1938 года агенты НКВД Литвинов и Нацаренус постучали в дверь ленинградской квартиры, где жила семья ученого. «Ордер 9/981 НКВД, откройте дверь, товарищ». Это было вполне ожидаемо, поскольку за предшествовавшие недели исчезли многие коллеги Николая по Арктическому институту, где он работал. Урванцевы давно потеряли сон. Большой террор был в разгаре. Каждый знал, как все происходило: арестованный коллега, если он не хочет стать жертвой сам, под пытками называет какое-нибудь имя, стремясь задобрить палача, которому необходимо выполнить норму по выявлению саботажников, шпионов и врагов революции. Орден Ленина конфискован, охотничье ружье, гордость Урванцева, приобщено как вещественное доказательство заговора. Обыск в квартире длился, как обычно, до рассвета, все было перерыто и разворошено. Тщательно собиравшаяся документация экспедиций отправилась в мешки вслед за прочими изъятыми вещами. В шесть утра, когда перепуганные соседи затаились за дверями своих квартир, великого первооткрывателя норильских сокровищ вывели из дома и отвезли в «Большой дом», зловещий штаб НКВД Ленинграда на Литейном проспекте неподалеку от берега Невы. Он попал в смертоносную мясорубку. День, ночь, еще один день, еще одна ночь, допросы следуют один за другим, лишая подследственного сна и отдыха. Писатель Анатолий Львов, раскопавший дело геолога, насчитал 25 допросов в первые дни. Скорее всего, их было больше. Измученный, избитый, страдавший галлюцинациями, мужественный человек не выдержал на девятом допросе. Так долго держались немногие, и только самые отчаянные дотягивали до 14-го. Потом… Вот протокол, сохранившийся в архивах: «Я сын купца, и среда… <…> Политически неграмотный, я легко стал на путь контрреволюции». И далее: «Норильское месторождение мною было полностью освоено. Я там разведал запасы угля на 65 млн тонн, а мог и на 100 млн, но я не применял буровых станков, так как достать их трудно». От одной продиктованной фразы к другой – обвинение набирает силу, находятся подтверждения заранее назначенного преступления, чувствуется, как удары выколачивают заключительные строки. «Я, Урванцев Н.Н… Мною в конце зимы 1936 года был завербован… еще геолог Б. Рожков… с которым был знаком с 1925 года… работал у меня в качестве коллектора… слушал радиопередачи на немецком языке… Я понял, что Рожков был человеком антисоветским», «Правда» села на мель… Я признаю свое вредительство…»160 Человек, открывший Норильск, не был ни героем, ни негодяем. Он такой же, как и другие, попавшие в жернова террора. Изучение протоколов показывает, что Урванцев старался никого не называть, не изобретать сообщников, имена которых ему подсказывали. Исключение – те, кого уже не было в живых, или те, кто уже находился в руках НКВД, то есть в двух шагах от смерти. Самые мужественные брали всю вину на себя, пытаясь сохранить хоть частицу достоинства, позволявшую как-то жить дальше. Урванцев предстал перед судьями, что уже было милостью, поскольку сотни тысяч обвиняемых отправились на эшафот по решению «тройки» НКВД, не получив права быть выслушанными. На суде он отрицал свою вину, дипломатично объясняя, что называл имена, поскольку «двумя-тремя фамилиями следователь не удовлетворился и требовал большего».161 Поздно. 58-я статья, саботаж и контрреволюционная деятельность, приговор – 15 лет лагерей.
В марте 1940 года его освободили, но в августе снова арестовали. Добавили измену Родине, шпионаж, контрреволюционную агитацию, но срок сократили, с учетом предварительного заключения с сентября 1938 года – восемь лет ИТЛ.
* * *
На какие же работы можно было определить заключенного, обладавшего столь выдающимися знаниями? Сначала предполагалось отправить доктора геологических наук на строительство металлургического центра в Казахстане, но довольно быстро Казахстан заменили на куда более подходящее место: конечно же, Норильск, горнодобывающий комплекс, появившийся на карте благодаря Урванцеву. Эльдорадо, на которое потрачено столько лет жизни, должно было стать его тюрьмой. Построенный им дом, где он зимовал, еще стоял на склоне горы, но вокруг растянулись сотни бараков для тех, кто обслуживал горные забои. Норильский рудник и лагеря, объединенные общим названием Норильлаг, образовывали треугольник, словно положенный сверху на девственную природу, – 40 км в основании и 30 км в высоту. Угольные и медно-никелевые шахты работали на полную мощность. Но шла не только разработка богатых месторождений. Был построен огромный промышленный комбинат, включавший несколько металлургических заводов. И еще кирпичные заводы, теплоэлектростанция, цементный завод и механические мастерские. В поселке проложены километры надземного водопровода.162 В лесотундре в конце 1940-х архитекторы спланировали «новый город» из шести-восьмиэтажных домов в том монументальном сталинском стиле, ставшем типичным в послевоенное время. Инженерам-строителям потребовались чудеса изобретательности, чтобы справиться с вечной мерзлотой. Существование Норильска еще держалось в секрете, он появится на картах только в 1951 году. Город, которому предстояло стать промышленным гигантом, уже называли «северной Москвой»163 или «северным Ленинградом».
Но настоящий «старый» Норильск – это неуклонно разраставшиеся деревянные бараки. Значительная часть поселка (город – с 1953 года) была населена бывшими заключенными: кому-то еще не дали разрешения вернуться домой, кто-то сам осел там после отбытия срока. В начале 50-х их было предположительно более 200 тысяч. Рабочие и служащие, приехавшие в Норильск по собственному желанию ради больших северных заработков, составляли не более четверти его населения. Все там напоминало о каторге. Да и сами лагеря, где находилось до пятидесяти тысяч заключенных, располагались на окраинах. Большая их часть относилась к Горлагу, «горному лагерю», одному из «особлагов», созданных в 1948 году для особо опасных, по мнению режима, преступников (в основном для 58-й статьи). Концентрация сильных личностей и «антисоветских элементов» сыграла, как мы увидим, важную роль в истории Норильска. Колонна заключенных, в которой находился Урванцев, добралась до места в январе 1943 года, за несколько дней до 61-й годовщины основания в России Геологического комитета. Урванцев провел его на барачных нарах в компании других выдающихся ученых. Норильские лагеря станут его миром на 14 лет – сначала он заключенный, потом инженер, которому запрещен въезд в крупные российские города, потом главный геолог комбината, которому он останется предан и после закрытия лагерей. В Норильске он пережил много плохого и хорошего, но о плохом до конца своих дней с посторонними людьми отказывался говорить. Не считал, что пришло время вспоминать о прожитом, и даже мог упрямо поворачиваться спиной к собеседникам, когда они заговаривали о тех черных годах.164 Николай Урванцев умер в 1985 году. Эпоха гласности Михаила Горбачева наступила вскоре после его смерти.
* * *
Когда зек Урванцев оказался в Норильске, на Крайний Север и вглубь Сибири шли потоки новых мучеников – новые категории заключенных направляли на шахты ГУЛАГа в конце войны. Они коренным образом изменили социальную структуру лагерей и ход их истории. ГУЛАГ вступал в эпоху кризиса, который в конце концов приведет к его распаду. После волны террора, накрывшей страну в конце 1930-х годов, в лагерях не было и намека на сопротивление. До 1936 года политические заключенные, особенно коммунисты, принадлежавшие к троцкистскому крылу партии, к которым Сталин испытывал особую ненависть, считали возможным применять против сталинских палачей методы, опробованные раньше во время борьбы с царским режимом: голодовки, призывы к международному сообществу и левым мировым лидерам, и так далее. Ответ властей был страшным. Когда стало известно, что один из лагерных начальников передал в Центральный комитет партии петицию троцкистов с жалобами на условия заключения, Сталин написал собственноручно: «Считаю большой ошибкой принятие администрацией Верхне-Уральского изолятора контрреволюционного документа мелкобуржуазных контрреволюционеров. Еще большей ошибкой нужно считать «препровождение» его ОГПУ в ЦК партии. ОГПУ есть карающая рука Соввласти, а не почтовый ящик, обслуживающий нужды мелкобуржуазных щенков контрреволюции. Плохи наши дела, если вы так воспитываете работников ОГПУ».165
Этим все сказано. Сталин счел, что его осужденные противники ошиблись эпохой. Голодовки, практиковавшиеся в дореволюционной России, стали невозможны. За несколько лет все зачатки сопротивления безжалостно раздавили, а большую часть троцкистов истребили физически. Тем же, кто остался в живых, как и другим «политическим», заткнули рот, смешав их с уголовниками. Началась война, также нарушившая порядок жизни в лагерях. За колючей проволокой объявление о нападении фашистской Германии вызвало противоречивую реакцию. На Крайнем Севере Европейской России близость границы, которую перешла финская армия – союзница Вермахта, внушала одновременно надежду и тревогу. Некоторые заключенные, в частности среди «политических», мечтали об освобождении и даже были готовы перейти на сторону захватчиков, чтобы бороться со сталинским режимом. Но одновременно по ГУЛАГу ходили слухи, что при приближении врага власти планировали уничтожить лагеря и заключенных. Документы, которые попали в руки исследователей десятилетиями позже, показали, что ничего такого не предполагалось. Эти слухи, распространившиеся по всему ГУЛАГу, конечно же, были порождены закрытостью и непрозрачностью системы. В лагерной литературе часто встречаются рассказы о массовых казнях, страшных расправах, побегах и невероятных бунтах. Иногда это правдивые истории, иногда немного преувеличенные – плоды тревог или иллюзий, рождавшихся в барачном мире. И даже возможность работать в архивах не всегда позволяет отличить правду от вымысла, потому что лагерное начальство могло, сообразуясь с моментом и обстоятельствами, в своих целях скрыть, преуменьшить или, наоборот, сочинить эпизоды сопротивления или побегов. Например, во время войны произошел внезапный всплеск количества попыток бегства, о которых сообщалось в Москву. Историки интерпретируют этот всплеск как способ, избранный охранниками для того, чтобы защитить себя: так они опосредованно сообщали властям, что ситуация в лагерях сложилась очень трудная и что они, как никогда, нужны на местах. Не могло быть и речи о том, чтобы отправить их на фронт! В другие же периоды, наоборот, лагерное начальство прекрасно осознавало, что упоминание побега немедленно повлекло бы обвинение в саботаже и, следовательно, привело бы их за колючую проволоку на нары. Одно несомненно: все эти слухи были неотъемлемой частью жизни ГУЛАГа, и они действительно оказывали влияние на поведение зеков. Власть, хотя и не могла осмыслить механизм этого явления, быстро поняла, что слухи распространялись с поразительной быстротой, порой вырываясь даже за границы советской империи. Война не принесла ни свободы, ни массовых казней. Во всяком случае в том виде, в каком это представляли себе зеки. В 1942 и 1943 годах люди гибли прежде всего от лишений и условий, вызванных войной: когда в стране голод, в лагерях он еще свирепее. Многим заключенным, брошенным на произвол судьбы, пришлось самим искать способ выжить. В среднем за год умирал один из четверых. И в то же время лагеря пустели из-за чрезвычайного призыва: в Красную Армию брали мелких правонарушителей и осужденных на небольшие сроки. Отчеты свидетельствуют: волна патриотизма ощущалась и в бараках, сотни тысяч заключенных, став добровольцами, попадали в штрафбаты, дисциплинарные батальоны, которые отправляли в самое пекло, где выжить было почти невозможно. Конечно, «политические», осужденные по 58-й статье (саботаж, шпионаж, измена Родине и иная контрреволюционная деятельность), не имели права идти в армию.
Уход на фронт и крайнее истощение десятков тысяч зеков повлияли не только на демографию, но и на социальную структуру лагерей. Соотношение уголовников и политических изменилось. В июле 1944 года, согласно статистике, уголовники, считавшиеся особо опасными, составляли 43 % содержавшихся в лагерях.166 Те, кого можно было заставить работать, исчезли, и закоренелые преступники стали составлять большинство. С началом войны поредевшее население лагерей получило пополнение: к местам каторги прибывали новые колонны. В одной из них был этапирован в Норильск и зек Урванцев. Многие прибывающие побывали на фронте и были отправлены в лагеря военным трибуналом за разные дисциплинарные проступки или антисоветскую деятельность (пораженческие настроения, саботаж, пребывание в немецком плену, дезертирство и т. д.). Они испытывали глубокую, неистребимую ненависть к режиму. Привыкшие к армейской дисциплине, хорошо организованные и стойкие, они сильно затруднили работу лагерного начальства, которое неожиданно для себя столкнулось с новым типом поведения заключенных. Эра разобщенности людей, когда зеков можно было терроризировать поодиночке, осталась в прошлом. Сопротивление нового типа, родившееся в лагерях, не было, строго говоря, политическим. Его целью было выживание с помощью организации элементов коллективной жизни среди вышек. В одиночку зек практически не имел шансов уцелеть в лагере. Формировались группы заключенных, способных к самозащите от конкурировавших объединений. Самыми опасными были, конечно, банды уголовников – блатных, представителей преступного сообщества. У них был свой закон, запрещавший, в частности, его нерядовым членам любую форму сотрудничества с властями, к которому относилась и работа. Была своя структура, свои звания и своя иерархия, на нижней ступени которой находились исполнители, готовые по приказу пытать или убить любого зека. У них были свои игры, свои традиции, свои строго регламентированные татуировки,167 служившие своеобразным паспортом. У них была и своя система долговых и кредитных отношений, своя касса – «общак». У них свой жаргон, владение которым приобщает к лагерному миру и к миру социальных низов.168 У них параллельный подспудный мир, царство насилия и жестокости, прямой наследник каторги, которую веком ранее описал Николай Ядринцев. Этому миру удавалось противостоять самым мощным волнам репрессий и, выйдя за пределы ГУЛАГа, он распространился по стране вплоть до последних окраин СССР. Главари преступного мира, так называемые «воры в законе», соблюдавшие «закон», стали новыми действующими лицами ГУЛАГа военного времени, и охранники с тревогой наблюдали, как росло их влияние на зоне, грозившее авторитету самой власти. Отказ от работы, эксплуатация товарищей по несчастью, убийства и насилие множатся, формируя то, что лагерное начальство называло волной «бандитизма». В одном из многочисленных документов – свидетельств этих событий – рассказывается, что была выявлена группа из десяти заключенных под предводительством зека Чернова. Более четырех лет эта группа терроризировала технический и медицинский персонал лагеря, обирала и эксплуатировала заключенных, «честно исполнявших свою работу». Угрожая убийством, требовала от работников медпункта освобождения от всех видов работ и таким же способом добилась от учетчика сокращения норм и «улучшенного снабжения». Начальник бригады, заключенный Куянов, вступивший в конфликт с этими людьми, был зарублен топором.
Между разными преступными группами, находившимися в одном лагере, шла настоящая борьба за контроль над зоной. Чтобы не утратить полностью власть, начальство придумало оригинальный трюк: вербовало среди преступников союзников, которые помогали наводить дисциплину и гарантировали выполнение работ, остававшихся высшей целью всей системы. Это происходило, конечно, втайне от Москвы, которая отнюдь не одобряла такой противоестественный компромисс с асоциальными элементами. Об этом говорят архивные материалы: коалиция, предложенная преступному миру, являлась адаптационным механизмом к новым вызовам, исходившим от лагерных начальства и посредников, а не порочным инструментом подчинения, изобретенным Сталиным и его режимом. Лагерное руководство было готово идти на любой компромисс ради нормативов, за которые оно отвечало, включая передачу уголовникам отдельных полномочий. Тщательно отобранным «помощникам» начальство обещало снисходительное отношение и привилегии, сокращение работ и лучшие условия жизни. Лагерный начальник Фёдор Мочульский в своих воспоминаниях описывает одну из таких сцен: он вызвал к себе их главаря, бородача, который работал в сапожной мастерской, и долго с ним беседовал. Мочульский предложил ему сделку – если тот согласится работать на лагерное руководство, ему будет разрешено сформировать бригаду по своему усмотрению. Препятствий ни в чем не будет. Охрана разрешит бригаде возвращаться в лагерь, как только норма будет выполнена, даже если работы займут меньше положенных 12 часов. Бригаде также обещали право отправлять своего представителя на кухню, чтобы тот указывал повару, какие продукты должны попасть в их котел. И даже поселить всю бригаду в одном бараке.
Многие главари, соблазненные посулами тюремщиков, соглашались. Они порывали со своим «законом», который категорически запрещал какое бы то ни было сотрудничество с государством и его представителями. Те, кто принимал новую роль, теряли титул «воров», или, говоря на тюремном сленге, становились «суками», «ссучивались». Механизм работал: в конце Второй мировой войны большая часть «архипелага ГУЛАГ» управлялась при помощи такого перераспределения «полномочий». Вторая власть расправляла плечи под официальным покровительством лагерного начальства и охраны. Власть паразитическая, которая выживала и существовала за счет других заключенных, испытывавших таким образом двойной гнет. В бараках, где «суки» устанавливали свои правила, царил полный произвол. Жизнь в таких условиях порой становилась более опасной и невыносимой, чем под игом одной только охраны. Но этот метод оказался эффективен, и, что важнее всего, его признала Москва, на протяжении долгого времени делавшая вид, что ничего не замечает. Лагерное руководство подвело теоретическую базу под новый метод, придумав «положительный контингент», «перевоспитание» через ответственность, конечно, для тех, кто был готов в это поверить. В реальности эта мера привела к укреплению власти представителей преступного мира.
Так происходила отладка всех винтиков единого маховика. Когда шестеренки заработали, этот маховик было уже не остановить. И действительно, за несколько месяцев установившаяся в ГУЛАГе двойная власть и жестокость, с которой она себя утверждала, возымели эффект. «Воры», главари преступного мира, не согласившиеся на компромисс, вступили в борьбу за власть с конкурентами-отступниками за контроль над организацией работы и жизни в лагерях. Между «ворами» и «суками» вспыхнула война, охватившая весь СССР. Эта война продлилась много лет, и ставкой в ней являлась пара миллионов других заключенных. Эту войну называют «сучьей», или «рубиловкой», что хорошо передает страшную обстановку ГУЛАГа. Жестокость была непредсказуемой, она носила тотальный и вездесущий характер. На рассвете охрана находила тела, растерзанные, расчлененные, обезглавленные для острастки или попросту «продырявленные» – дело рук «вора» или «суки». Зверские убийства статистически являлись главной причиной смертей в лагерях, и центральное руководство, осознав это, попыталось, но тщетно, поставить заслон при помощи директив, запрещавших любое двусмысленное сотрудничество с заключенными. Но было уже поздно. Амнистия, объявленная летом 1945-го по случаю победы над фашистской Германией, парадоксальным образом только ухудшила ситуацию. Под нее подпадали только мелкие преступники и те, кто был приговорен к небольшим срокам. После амнистии «зоны» опять лишились тех, кто был готов на компромиссы, и преступная среда еще сильнее радикализировалась. Оставшись в окружении «политических», сидевших по 58-й статье, уголовники внезапно осознали, что им нечего ждать от режима и что они останутся гнить в лагерях до самой смерти. Весной 1947 года Центральный Комитет партии решил закрутить гайки, что резко ухудшило ситуацию. Чтобы наполнить лагеря, Верховный Совет СССР принял указ 4 июня, о котором уже шла речь, существенно увеличивавший сроки наказания, в том числе и за мелкие преступления. 25 лет каторжных работ – такие приговоры сыпались как из рога изобилия. К тому же власти отменили смертную казнь, заменив ее пожизненным сроком. Это была видимость гуманизма, речь шла о том, чтобы надолго обеспечить лагеря рабочими руками. Однако все эти меры только увеличили хаос, и без того царивший в лагерях. Массовое появление новых заключенных, совершенно неподготовленных к лагерной жизни и растерянных, в том числе большого количества женщин, подлило масла в огонь войн, поскольку появилось много легких жертв. Что же касается отмены смертной казни, то эффект от этой меры тоже стал неожиданным: она подарила возможность враждовавшим кланам, имевшим в своем распоряжении самых опасных преступников, располагать группами убийц, практически пользовавшимся иммунитетом с того момента, как они получили наивысший срок и им нечего было больше опасаться. С первых месяцев 1947 года власть начала терять контроль над лагерями. Донесения понеслись в Москву. Встревоженное руководство лагерей описывало ситуации, о которых невозможно было и помыслить раньше. Начальник ГУЛАГа в 1951–54 годах генерал-лейтенант И.И. Долгих в отчете министру внутренних дел сообщает о том, что организованные преступные группировки, имевшие свою систему связи между лагерными подразделениями и колоннами, «предварительно обсуждали планы своих действий, намечали кандидатуры, подлежащие убийству, и устанавливали подставных лиц, которые должны были принять на себя совершаемые преступления», «используя метод угроз, систематически брали с кухни заключенных, сверх нормы, такие продукты, как мясо, масло и сахар».169 Во многих лагерях, занимавшихся крупным строительством, в том числе и на стройке 506, начальство просто отказывалось наводить порядок внутри колючей проволоки. «Бандитами в лагере было уничтожено около трех десятков заключенных, многие получили тяжелые увечья и травмы. Расконвоированные заключенные грабили окружающее население <…> ездить по трассе нельзя», – говорится в рапорте. «Администрация лагерных пунктов просто боялась заходить в зону».170
«Сучья война», в которой столкнулись два больших соперничавших преступных клана, вступила в новую фазу, когда в лагерях оказались колонны зеков с территорий, освобожденных победоносной Красной Армией. В Западной Украине и в странах Балтии партизаны-националисты, брошенные на произвол судьбы после падения Вермахта, попытались оказать отпор Красной Армии. Представители этих группировок, как и гражданские лица, замеченные в сопротивлении или во враждебном отношении к советской власти, хлынули в лагеря. В Молдавии и на Кавказе, где немецкий оккупационный режим встретил сочувствие, прошли широкомасштабные облавы, которые должны были очистить общество от «антисоветских элементов». Сотни тысяч новых зеков не имели ничего общего с несчастными «указниками», которых они застали в лагерях. Яростная ненависть к режиму, глубокая этническая или национальная солидарность, и, особенно, опыт подпольной деятельности их лидеров сильно отличали эти группы заключенных от других. К ним также присоединились красноармейцы, попавшие в плен к фашистам, а затем, в конце войны, отправленные в советские лагеря. Вместе эти группы составили костяк лагерного населения. Новое поколение заключенных совсем не походило на крестьян и троцкистов 1930-х годов. Они быстро организовались, чтобы тоже включиться в борьбу за контроль над ресурсами и за влияние. Война группировок перешла в позиционную и охватила большую часть лагерей. Между «ворами», «суками», националистами с Западной Украины, стран Балтии и чеченцами, которых называли также «кавказцами» или «мусульманами», а раньше, в царских тюрьмах, «татарами», в зависимости от обстоятельств и расстановки сил возникали союзы и контр-союзы. На зоне соперничество часто перерастало в кровавые стычки, первыми жертвами которых становились «кроты» и доносчики, служившие администрации лагерей. Случалось, что на рассвете начальство обнаруживало перед дверями административного барака голову стукача. После отбоя информаторы попадали в лапы преступных банд или этнических группировок, равно стремившихся к контролю над лагерем. Иногда их убивали у всех на глазах, как рассказывает, например, немецкий заключенный Шолмер: «В 1951 году один из самых опасных информаторов лагеря 9/10 был убит ударом кирки среди белого дня. Следствие ничего не дало. Другой стукач долго оставался безнаказанным. Но однажды во время строительства большого здания он имел неосторожность руководить работой подъемного крана. Крановщик поднял груз, а затем сбросил его с высоты 10 м прямо на стукача. Тот переломал себе руки, ноги, таз и позвоночник, но каким-то чудом остался жив». 171
В некоторых донесениях, отправленных в Москву, описываются столкновения, длившиеся часы, а иногда и дни напролет, оставляя многочисленные жертвы. 4 января 1952 года подполковник Середницкий, возглавлявший один из лагерей в Черногорске, в Хакассии, обратился в МВД с просьбой о помощи: уголовники, вооруженные топорами, ножами, металлическими стойками от коек, кирпичами и другими предметами, ночью атаковали бараки, где находились чеченцы и кавказцы. 800 из них разбежались. После налета в бараке нашли тела семерых обезглавленных чеченцев и одного литовца. Уголовники со своей стороны потеряли 13 человек.172 Другой офицер сообщает об убийстве в лагере под Воркутой «украинцами» главы чеченской группировки и его телохранителя. За колючей проволокой началась охота за украинцами, причины которой вскрылись после того, как было найдено завещание чеченца – «крестного отца», призывавшего своих людей после того, как он умрет, «уложить» рядом с его телом 20 бандеровцев.173
Режим, осознав масштаб проблемы, попытался что-то предпринять. На верхней палубе корабля ГУЛАГ тщетно пытались понять, что происходило в машинном отделении и в трюмах. В 48 лагерей, особенно затронутых войнами заключенных, направили комиссии для проведения следствия. В кратчайшие сроки были построены новые лагпункты с особым режимом – так начальство надеялось разделить соперничавшие группировки: 194 новых «изолятора», 194 лагеря усиленного режима, 259 новых отделений для женщин, 37 лагерей особого режима. В 1948 году Москва учредила новый тип лагерей – «особлагов», куда предполагалось отправлять «государственных» заключенных, которые расценивались как наиболее «враждебные» власти. Хозяева ГУЛАГа относили к этой категории не опасных рецидивистов из преступной среды, но снова «политических», сидевших по 58-й статье, контр-революционеров, из тех сотен тысяч не подпавших под амнистию 1945 года и утративших всякую надежду выйти на свободу. Администрация ГУЛАГа, собирая их вместе и изолируя, надеялась сдерживать «самые активные элементы», остановить распространение бациллы бунта и справиться с угрозой потерять «тюремную империю». В реальности она уменьшила гетерогенность лагерников, положила конец раздробленности политических и создала в новых лагерях условия для концентрации возмущения и решимости идти до конца, быстро ставшие фатальными для системы. Взрыв приближался. Нужна была только искра. Особлаги были во всех «столицах» ГУЛАГа. Речлаг, «речной лагерь» в полярной тундре Воркуты, Степлаг, «степной лагерь» на пустынных равнинах Казахстана, Озерлаг, «озерный лагерь» на Урале, Берлаг, «береговой лагерь» в Магадане, на Охотском море. А в Норильске Горлаг, «горный лагерь», охвативший своими щупальцами зарождавшийся город, где селились «свободные» люди. Особлаги – это архипелаг в архипелаге. В Норильске, например, в начале 1950-х годов шесть из восьми отделений Горлага, в которых находилось 35 тысяч зеков, образовали ядро группы из более чем 50 лагерей с населением примерно в 140 тысяч человек.174 Лаготделение (ЛО) 384/3 особо строгого режима, было самым чудовищным из всех. Содержавшиеся в нем заключенные работали прикованными к тачкам, как на каторге в XIX веке. ЛО 384/6 было женским и соседствовало с ЛО 384/5. Оба они располагались неподалеку от строящегося «нового» города и были разделены двойной колючей проволокой и высоким забором. Другие лагеря находились чуть дальше, у подножья горного склона, где уходили под землю штреки. «Мы работали двенадцать часов в день, – рассказывает в своих воспоминаниях бывший заключенный – немец Курт Беренс. – К этому нужно еще прибавить полтора часа пути до места работы и полтора часа пути обратно. У нас не было ни воскресений, ни выходных. Единственное исключение – праздник 1 мая и годовщина Октябрьской революции. Мы работали в любую погоду, предельной считалась температура –40 °C. Земляные работы на постоянно промерзшей почве были мучительными, тем более, что у нас не было никаких инструментов, кроме кирки, лопаты, молотков и шахтных стержней».175 Перемещения и сегрегация заключенных никак не повлияли на ход событий. Администрации становилось все труднее добиваться выполнения плана. Отказы от работы сыпались один за другим, случались даже и забастовки. В лагерях давно поняли, что работа являлась лучшим рычагом давления на начальство, а с тех пор как заключенные начали объединяться, этот обоюдоострый инструмент стали использовать все чаще. Индивидуальный отказ от работы означал голод. Однако коллективный отказ угрожал самой сути существования лагерей. И к тому же подводил под удар лагерную администрацию. Руководители, находившиеся на вершине пирамиды, хорошо осознавали, что стояло на кону. Об этом свидетельствует, например, речь министра внутренних дел Круглова, которую он произнес в марте 1952 года перед своими подчиненными, ответственными за управление ГУЛАГом: «Прошло то время, когда было достаточно построить железную дорогу, положить рельсы, чтобы иметь положительную оценку работы. А теперь мы должны построить комбинат, сами должны его укомплектовать и выпускать продукцию. Появились сложные механизмы, поэтому у нас повысился спрос на специалистов <…> Отдельные лагери строят целые заводы. А разве такой лагерь, как Черногорский, может построить завод? Естественно, нет». Министр пошел дальше и позволил себе покритиковать саму логику системы: в реальности, как объясняет он, чтобы производить больше, чтобы работать лучше, ГУЛАГ нуждался в «нормальных людях», пусть и приговоренных по жестоким сталинским законам, но способных во время заключения «трудиться на благо Родины» с перспективой побыстрее выйти на волю. Однако этого не происходило: ГУЛАГ был парализован бандитскими группировками, ему мешала зародившаяся новая конкурентноспособная власть. ГУЛАГ превращался в гигантскую машину по воспроизводству преступности. Министр закончил свою речь словами, красноречиво выражавшими обеспокоенность режима: «Если мы не установим твердого порядка, – объяснял он своим соратникам, – мы потеряем власть».176 Пророческие слова. Цифры подтверждали слова министра. Производительность труда падала, многочисленные проекты часто ни в малейшей степени не отвечали экономической необходимости, а о рентабельности вообще не приходилось говорить. Но ничего не поменялось, система буксовала, повинуясь собственной логике. Кто мог бы осмелиться описать истинное положение дел Сталину?
Однако утром 5 марта 1953 года Сталин умер на диванчике своей подмосковной дачи. В лагерях известие о смерти вождя было воспринято по-разному. Некоторые горевали и даже впадали в истерическое состояние, как и многие их свободные соотечественники[144]. Им тоже казалось, что мир рухнул, что нельзя и помыслить о будущем без «отца народов». Однако были и такие, которые в бараках северных лагерей с трудом скрывали свою радость. В частности, «политические» и иностранцы, например, заключенная Эмми Гольдакер. Молодая немка, схваченная в Берлине в июле 1945-го и приговоренная к 10 годам лагерей, отказалась от выходного дня, которым был объявлен день похорон, и «вдохновляемая чувством глубокого счастья», работала с удвоенным энтузиазмом.177
Искра была высечена. По обе стороны колючей проволоки надеялись, что с концом власти тирана начнется новая эра. В Москве признаки изменений появились уже на следующий день после грандиозных похорон, ведь некоторые руководители давно рвались в бой. Во главе с Лаврентием Берией, крестным отцом атомного проекта и всемогущим хозяином органов правопорядка. Известно, что он был намерен подправить кое-какие сталинские механизмы, и ГУЛАГ находился в списке того, что требовалось реформировать. По другую сторону, в лагерных бараках, зеки тоже понимали, что готовился поворот в их судьбах, но боялись даже надеяться на лучшее, ведь опыт научил их тому, что разочарование куда тяжелее, чем самые страшные испытания.
И они были правы. Новым партийным руководителям, среди которых Берия и Маленков, претендовавшие на наследство столь почитавшегося ими вождя, хватило трех недель, чтобы принять решение об амнистии, открывавшее ворота лагерей для половины заключенных. Но в особлагах, к которым относился и норильский Горлаг, царило уныние. Амнистия 27 марта касалась только уголовников, получивших небольшие сроки. Те же, на чьих табличках, прикрепленных к нарам, значатся цифры 20–25 лет, а также «политические», некоторые из которых гниют на каторге с довоенных лет, – не получили ничего, ни сокращения сроков, ни улучшения условий. В колоннах Горлага тех, кто попадал под амнистию, можно было пересчитать по пальцам. Повторялся обман с амнистией лета 1945 года, но на этот раз все обстояло куда хуже. Заключенные почувствовали себя погребенными заживо властью, которая предпочла не изменить их участь, а попросту забыть о них.
Взрыв в Норильске был спровоцирован незначительным событием. Оно произошло 7 мая 1953 года в ЛО № 5, где содержались главным образом заключенные с Западной Украины. Этих людей депортировала в Казахстан, а оттуда уже доставили в лагерь после участия в волнениях. У них был опыт сопротивления. Отделение № 5 находилось практически у въезда в Норильск, на новых улицах которого уже начали расти большие здания. Этот лагерь имел одну особенность: он примыкал к женскому ЛО № 6, от которого его изолировала лишь двойная колючая проволока. Серые ватники мужчин и женщин разделяло несколько десятков метров ничейной земли – запретной зоны («запретки»), патрулировавшейся охранниками с собаками. Заключенные, отправляясь на работу, взяли за привычку общаться с соседками, перебрасывая к ним записочки через четырехметровую ограду. Для этого использовали камни и веревки. Конечно, такое общение запрещалось, но охранники, как правило, не вмешивались. Законы каторги незыблемы: как и в царских сибирских тюрьмах, описанных Ядринцевым, общение между заключенными могло стать смыслом жизни.
* * *
Так что же случилось в тот день в лаготделении № 5? У нас нет никаких документальных свидетельств. Однако, согласно самой правдоподобной версии, произошедшее было, на первый взгляд, совершенно безобидным: ближе к полудню конвой, следовавший вдоль кирпичного завода, где работали женщины, увидел, как в «мужскую» сторону полетел рой записочек – ответы на письма, полученные женщинами утром. Но расстояние было слишком большим. Многие записки, перелетев колючую проволоку, упали на «запретку». И тут же мужчины бросились на ограду и, несмотря на крики охраны, принялись карабкаться по ней, тянули руки, пытались пододвинуть записки к себе при помощи палок. Охрана приказала отойти от ограды. Никто не послушался. Раздался выстрел, один заключенный был ранен в руку. Началась свалка. Охрана, стрелявшая в воздух и в землю, ранила второго заключенного. На этот раз в колонне вспыхнуло возмущение. Прибыв в лагерь, зеки заявили о протестной забастовке.178 На следующее утро все отказались идти в угольную шахту. В соседнем женском ЛО № 6 заключенные объявили двухнедельную голодовку. Чтобы не поддаваться соблазну, женщины, работавшие на кухне, и без того недоедавшие, выливали на землю котлы супа и забили дверь туда досками крест-накрест. Днем позже заключенные из ЛО № 4 и 2 обратили внимание на отсутствие товарищей в штольне и на строительстве и тоже присоединились к забастовке. Министерство выслало переговорщика, которому удалось добиться частичного возобновления работ. Но 25 мая перепуганные охранники убили одного заключенного в том же 5-м лагере. На этот раз бунт был всеобщим. В ту же ночь заключенные высадили ворота и выгнали охранников. ЛО № 3, самого строго режима и потому самое изолированное, тоже пришло в движение. Слухи о всеобщей забастовке, неслыханном деле в ГУЛАГе, стремительно распространились по всему региону. «Обычные» лагеря быстро присоединились к Горлагу. В начале июня в Норильске бастовало 30 тысяч заключенных. Несмотря на угрозы репрессий, только несколько сотен зеков соглашались покидать лагерь и выполнять приказы начальства. Такого в истории ГУЛАГа еще не было. Производство непосредственно не было затронуто, но власти испугались: нехватка руды могла довольно быстро создать проблемы для переработки, а затем и для заводов. Новость о бунте в лагерях могла распространиться очень быстро. Срочные телеграммы, адресованные руководству ГУЛАГа, достигли Москвы. Они свидетельствовали о полной растерянности. «Об обстановке в Горном лагере. 29 мая 1953 г. Секретно. <…> в жилой зоне 4-го лагерного отделения 28 мая с.г. заключенные отказались от приема пищи и от выхода на работу. В жилой зоне 5-го лагерного отделения заключенные внутренний порядок соблюдают, но на работу выходить отказались. Заключенные, находящиеся в производственных зонах Горстроя и кирпичного завода, возвращаться в жилую зону отказываются, а также отказались от приема пищи. В 6-м женском лагерном отделении вечером 28 мая с. г. заключенные женщины отказались от ужина и заявили об отказе выходить на работу. В перечисленных выше жилых и производственных зонах, кроме отказа от работы и приема пищи, со стороны заключенных никаких эксцессов нет, с находящимся в зонах начальствующим и надзирательским составом лагеря заключенные ведут себя вежливо и никаких угроз не высказывают».179
Как реагировать на этот в высшей степени мирный бунт? – спрашивали офицеры, находившиеся на месте событий. Их подчиненные, служащие и охранники, были деморализованы побочными последствиями амнистии. Их «легкие» клиенты, с которыми можно было работать, вышли на свободу, и они оказались лицом к лицу с головорезами, которым нечего было терять. К тому же никто не понимал, что происходило наверху: будут ли лагеря закрывать? И, если да, что будет с ними? Или же им прикажут утопить бунт в крови? Но кто впоследствии понесет за это ответственность?
Но наверху тоже царила растерянность. Забастовка началась еще в одном лагере ГУЛАГа, в Воркутинском, неподалеку от подножия полярного Урала. Бунт заразен, и скоро им оказались охвачены все лагеря специального назначения, от Урала до Арктики, а также и те, что находились в Средней Азии. В середине июня, кроме того, начались выступления рабочих в Восточном Берлине, где под угрозой оказался режим, насаждаемый СССР. Советский народ практически ничего не знал о событиях в Германии. Между тем службы МВД констатировали, что заключенные были очень хорошо информированы о происходящем за тысячи километров от колючей проволоки. Немецкие военнопленные, имевшие необычайно эффективные подпольные источники информации, праздновали в своих бараках берлинские события. Обнаруженные документы показывают, что на Крайнем Севере хорошо знали о выступлениях в сердце Берлина, иначе говоря, на передовой холодной войны. Все эти события совпали с кремлевской войной за сталинское наследие, и власть усматривала в них одно из выражений глобальной угрозы советскому режиму. В сознании руководителей страны причиной возникшего хаоса оказалась мягкость политики, имевшей место после смерти Сталина. Под сомнение ставится также авторитет Берии, чье влияние росло, так что он становился все более и более неудобным лидером. Он был ключевой фигурой того переходного периода и заплатил за это. 26 июня, когда в лагерях крепнет протестное движение, Лаврентий Берия арестован в Кремле во время заседания Политбюро или, что вероятнее, до его начала. 23 декабря по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР его тайно расстреляли, и бразды правления перешли к Никите Хрущёву. Однако проблема лагерей не исчезла, и новые хозяева СССР не знали, как поступить. Стрелять в толпу? Это означало вернуться к сталинским методам, то есть сделать именно то, чего им хотелось бы избежать. К тому же размах бунта уже был таков, что использование силы вряд ли помогло бы. Кто затем заставил бы заключенных вернуться к работе? Открыть ворота лагерей? Первая волна амнистированных, освободившихся в марте, спровоцировала резкий рост преступности в городах, что подрывало авторитет сталинских преемников. Лагерные законы и методы расползались по стране. Десятая часть населения СССР имела за плечами лагерный опыт. Люди возвращались «перевоспитанными», но совсем не так, как мыслили этот процесс отцы-основатели ГУЛАГа. Законы зоны подспудно распространялись на общество. Режиму вовсе не улыбалось освободить еще один миллион, но теперь это уже были бы закоренелые преступники и «политические».180 А что, если «сучья война» охватит весь СССР?
В это время в Норильске забастовка набирала обороты и приняла размах, совершенно неслыханный в советском обществе ни внутри колючей проволоки, ни вне ее. Под влиянием наиболее закаленных зеков, в частности, с Западной Украины, бунт принимает организованные формы. В бараках избирают делегатов для переговоров. Чтобы лагерная администрация не смогла обезглавить движение, арестовав их, им не давали никаких полномочий. Они подчинялись тайным комитетам, располагавшим властью, но имена входивших в них заключенных были известны лишь немногим. Рапорты информаторов позволяют предположить, что всем руководили «политические» и «антисоветские элементы». Видимо, так все и было. Впоследствии выяснится, что заключенные, осознававшие риски этнических конфликтов, постарались сделать так, чтобы в тайные комитеты вошли представители всех национальных групп. Такая двойная структура, результат подпольного опыта и учета методов существования опытных преступников, сильно затрудняла действия властей. Взбунтовавшиеся заключенные, выгнав из зоны охранников, вскрыли сейфы лагерной администрации, чтобы узнать имена стукачей. В ЛО № 1, например, группа зеков, которой было поручено выявить предателей, обнаружила в бумагах, хранившихся в сейфе, не менее 620 имен. Иначе говоря, один из пяти «стучал» охранникам на своих товарищей по несчастью. Чтобы избежать кровавой бани, которая, конечно же, положила бы конец бунту, комитеты приняли решение амнистировать доносчиков: было объявлено, что за старые грехи кары не будет. Но новые не останутся безнаказанными.
В богатых полезными ископаемыми окрестностях Норильска образовалась настоящая республика зеков. Республика, насчитывавшая от 30 до 40 тысяч граждан. В бараках перекрыли электричество и воду, но администрация все же доставляла минимальный продуктовый паек бастовавшим. В лагерях, участвовавших в протесте, был поднят черный флаг в знак траура по товарищам, убитым в первые дни бунта. Но очень быстро заключенные приняли решение заменить черный флаг на красный или красно-черный. Один такой флаг с красной и черной полосами водрузили на десятиметровую трубу, чтобы его могли видеть жители расположенного рядом города. Забастовщики хотели мирного диалога, они намеревались убедить власти и свободных граждан в своих добрый намерениях и, чтобы завоевать доверие государства, выступавшего как в роли палача, так и в роли оппонента, использовали тот язык, который оно понимало. «Свободу народам и человеку!» – было написано на импровизированном плакате, который женщины повесили на колючую проволоку своего лагеря. «Товарищи! Будьте вежливы в общении с лагерной администрацией и ее солдатами!» – значилось на деревянном щите ЛО № 3, где содержались самые опасные преступники. А в ЛО № 1 были даже лозунги «Да здравствует мир и дружба между народами!» и «Слава Коммунистической партии!».181
Удивительно: советская власть внезапно столкнулась с бунтом босяков, тон, окраска и требования которого напоминали начало рабочего движения эпохи промышленной революции или даже санкюлотов времен Французской революции. В каждом лагере проходили совещания, в каждом велись записи требований, число которых могло доходить до 15. Их суть представляет собой смесь требований, связанных с условиями работы и уважением человеческого достоинства: ЛО № 5, например, требовало введения восьмичасового рабочего дня, улучшения питания, создания точной системы учета на норильских комбинатах и повышения выплат заключенным. И еще – распространения амнистии на политических, отмены дискриминации по национальному признаку, практики нанесения номеров на одежду и закрытия бараков на ночь.182 ЛО № 3, каторга внутри каторги, в свою очередь требовало отмены цепей, «ледяных» карцеров, смертоносных камер штрафных изоляторов (ШИЗО), патрулей с собаками, находившихся на территории зоны, снятия решеток на окнах бараков, а также разрешения чаще отправлять письма близким.183 В перечень входило все, что могло вернуть зекам статус человека, шла ли речь о работе или свободном времени. В некоторых лагерях требовали обеспечить доступ к «городским библиотекам», показывать, как минимум, восемь фильмов в месяц или убрать колючую проволоку и перенести зоны на периферию городов, чтобы стереть из сознания людей стигмы рабства.184 В центре Норильска раздавались листовки, напечатанные неизвестно где и неизвестно каким образом: «Нас расстреливают и морят голодом. Мы требуем правительственную комиссию. Мы обращаемся к советским гражданам с просьбой обратить внимание правительства на произвол, жертвами которого стали заключенные Норильска. Подпись: зеки Горлага».185
27 июня 1953 года документ, представлявший собой обобщение делегатами разных лагерей всех требований, передали специальной комиссии, присланной из Москвы. Он был озаглавлен «Обращение заключенных Горного лагеря к советскому правительству» и отражал, как объяснялось в первых же его строчках, мысли и чувства всего Горлага. В тексте, занимавшем пять страниц, описывалось и анализировалось функционирование ГУЛАГа в советской системе. Такого анализа, конечно, сложно было ожидать от жертв режима. Зеки начинают с определения фундаментальной роли сталинских лагерей в национальной экономике. «Прошлое доказывает, – писали заключенные, – что чем сложнее проблемы приходилось решать Советскому государству, тем больше было репрессированных <…> Результат налицо: города и рабочие поселки, рудники и шахты, каналы и дороги, фабрики и заводы, сталь и уголь, нефть и золото – все величайшие сооружения эпохи социализма – результат не поддающегося описанию титанического созидания к человеку, в т. ч. лагнаселению». Чувствуется, что писавший владел марксистской диалектикой: «Мы поняли, что мы являемся значительной частью производительных сил нашей социально-экономической формации, а отсюда имеем право предъявить свои справедливые требования, удовлетворение которых в настоящий момент является исторической необходимостью <…> Наша рабочая сила является нашей собственностью, и при любых обстоятельствах, в какие нас могут поставить, мы ее не отдадим до получения ответа на это обращение».
Описав историческую перспективу, заключенные Норильска выдвигают свои требования: если они и находятся под прожекторами вышек, то не из-за того, что должны искупить свою вину, а в силу «исторической неизбежности»: «Никто не родился преступником. Обстоятельства сделали его таковым». Затем приводились некоторые примеры работы машины по созданию преступников, которая и забросила их в лагеря: допрошенный следствием, какой-нибудь гражданин мог ответить: «С таким знаком с 1938 года», но в протоколе записывалось: «Состоял с таким-то в преступной связи с 1938 года». Или же заявление подследственного, что такая-то машина иностранной марки лучше такой-то марки отечественного производства. Оформлялось как восхваление техники врага или буржуазной культуры, т. е. как антисоветская контрреволюционная пропаганда». Приговоры, которые выносились, продолжали заключенные, было «нереально» отбыть, и «логический конец заключения – болезнь, инвалидность и смерть». Документ завершают требования, выраженные с потрясающей силой: «Мы хотим, чтобы с нами говорили не языком пулеметов, а языком отца и сына. <…> Мы хотим, чтобы сотни тысяч женщин, по которым плачут миллионы детей, были бы возвращены домой. Мы хотим, чтобы иностранные подданные при возвращении на родину оповестили о великих демократических переменах в нашей стране. <…> Мы хотим свободы, братства и единства всего советского народа!»186 Мы не знаем, какова была реакция советских властей на эту челобитную забастовщиков. Согласно архивным материалам, Президиум Верховного Совета, являвшийся высшей советской властной структурой, с июня по август пять раз обсуждал положение дел в лагерях. Досье ГУЛАГа, находившееся в тени на протяжении 20 лет и относившееся к административной деятельности сначала Наркомата, а затем Министерства внутренних дел, став политическим, оказалось в центре внимания руководителей государства. Это возвращение в круг света сопровождалось появлением потока документации. Беспокойство вызывали не только бастовавшие лагеря особого назначения Норильска или Воркуты. Драки между преступными бандами, не прекращавшиеся во всем ГУЛАГе, также пугали Хрущёва и его коллег. Наконец, был открыто поставлен вопрос об экономической рентабельности, державшийся под спудом при Сталине. Никто уже не сомневался в том, что рабский труд неэффективен для экономики. Общая забастовка в лагерях особого назначения стала еще одним болезненным подтверждением этому. Что же касалось карательной или «воспитательной» функций системы, то преступная субкультура уже много лет как господствовала в лагерях. Все было очевидно. ГУЛАГ отжил свое. Закрыть лагеря и держать там только уголовников. Задача труднейшая, ведь речь шла об уничтожении целого сектора советской экономики. Кто заменит тех, кто работал в шахтах и на стратегических стройках? На каких условиях? Что делать с теми, кто выйдет на свободу? И не станут ли тысячи жертв режима, оказавшись на свободе, требовать справедливости и пересмотра дел? Смогут ли власти справиться со всем этим?
Между тем нужно было разобраться с событиями в Норильске. Колебания и так уже сильно затянулись. Через два месяца забастовки в самых активных лагерях власть перешла в наступление. Она выбрала язык отца, твердо вознамерившегося призвать своего сына к порядку. Не отказалась она и от языка пулеметов. Специальные силы отправились на места, чтобы заменить охранников, в частности в женских лагерях, поскольку было сочтено, что там у них образовались слишком тесные связи с заключенными. Одна за другой осажденные крепости были вынуждены сдаться. Какие-то подчинялись быстро, другие пробовали сопротивляться. Так было, например, в лаготделениях № 3 и 5. Машины прорвали колючую проволоку, открыв дорогу штурмовым отрядам, которые поливали бараки очередями. Ночью с 3 на 4 августа 1953 года в 23:45 был сорван последний красно-черный флаг. Самый крупный бунт в истории ГУЛАГа и сибирской каторги был подавлен. Более 130 убитых и сотни раненых.187 Зачинщики и те, кто подозревался в том, что руководил бунтом, были отправлены еще дальше, на Колыму и Чукотку. Но это поражение на самом деле оказалось отсроченной победой. Порядки в Горлаге изменены: особлаги закрыты и преобразованы в лагеря общего режима; номера спороты с одежды; охране запрещены оскорбления; с окон сняты решетки; цепи больше не использовались; количество дозволенных писем выросло с одного в год до одного в месяц; денежное вознаграждение было увеличено в три раза; рабочий день сокращен до восьми часов.
ГУЛАГ был при смерти. Забастовки лета 1953 года нанесли ему последний удар. Он рухнул под грузом собственных проблем. Весной 1954 года ГУЛАГ меньше чем на год передан в Министерство юстиции, осенью 1956 года Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ) МВД СССР реорганизовано в Главное управление исправительно-трудовых колоний (ГУИТК) МВД СССР. Лагеря Норильска закрыты. Комбинат передан в ведение Министерства цветной металлургии. В последующие недели заключенных, уже отбывших две трети срока, начали потихоньку отпускать, часто без каких-либо объяснений. Они заполонили вокзалы, потерянные и легко узнаваемые.
ГУЛАГа больше не было, но он продолжал жить в их памяти и в памяти России. И Сибирь, как и ее каторжные города, несет на себе его отпечаток. Почти за сто лет это вторая отмена крепостного права.
Шестая часть
Приручение арктических льдов
Меценаты и лоббисты: борьба за Арктику
Великий Северный путь! Мечты не исчезли, они лишь поблекли, но, как только пришло время, снова заиграли красками. Более столетия первопроходцы – великие и безвестные, генуэзские, британские, голландские подхватывали вирус арктических приключений.
Он поддерживал в них надежду найти путь в Китай, к его сокровищам, он толкал корабли в арктические льды, где их крушила стихия. Ни один капитан не сумел пробиться сквозь льды. Северный путь, огибающий Евразию, оставался мечтой. И к тому же опасной мечтой: в 1617 году царь Михаил, боясь, что чужеземцы пройдут вдоль русских берегов и завоюют рынок пушнины, предпочел запретить навигацию в арктических водах Сибири, вынуждая охотников, промышленников и купцов передвигаться по суше и платить налоги. Желающих помогать иностранным судам не находилось, поскольку за это можно было поплатиться головой. Так большие корабли перестали появляться в ледяных водах. Только лодки аборигенов и иногда небольшие суденышки поморских зверобоев отваживались пускаться в океаническое плавание. Запрет царя канул в историю, однако ему на смену пришел неутешительный опыт исследователей арктического побережья. Единодушное мнение гласило: Арктика неприступна! Северный путь – всего лишь несбыточная мечта. А если не мечта, то тупиковый маршрут, не заслуживающий внимания.
Прошло два с половиной столетия, но и в середине XIX века мечта все еще была жива. Пройти северным путем! Освоить девственные пространства, запертые льдами. И, кто знает, быть может, открыть новые земли? Дух времени благоприятствует планам экспедиций. Националистические устремления на Западе, сопряженные с научным прогрессом и новыми технологиями, вовлекают страны в гонку за колониальными завоеваниями. Кто первым закрасит последние белые пятна на карте? Арктика и Антарктика – самые обширные из них. Что скрывается на полюсе? Попытки поднять завесу над снежной тайной предпринимаются одна за другой. Англичане, американцы, французы и скандинавы, конечно же, активнее других, но к ним присоединяются итальянцы, немцы и австрийцы, которым тоже хочется поучаствовать в гонке.
Русские? Создается впечатление, что русских мало интересовало проникновение на Север, хотя все подталкивало их к этому. Большая часть известных архипелагов, которые находились у северных российских берегов, оставалась неизвестна. Лучше дело обстояло с сибирским побережьем, которое отчасти было нанесено на карты, составленные Великой Северной экспедицией Беринга. Данные о глубинах были очень приблизительны, а для морей восточнее Баренцева и Карского их вообще не существовало. Однако Крайний Север не интересовал ни двор, ни правительство, видевших в нем лишь белые неприступные территории, малопривлекательные по сравнению с другими владениями империи. Российский арктический флот гораздо меньше, например, норвежского. Власти и элита воспринимают Арктику как бесплодную пустыню. Само большее, чего она заслуживает, – нанесения на карте.
Но не все разделяли это мнение. И опять, как это уже было при освоении Сибири, инициатива исходила от купцов. Первым взялся за перо, чтобы обосновать необходимость изучения Крайнего Севера, Михаил Константинович Сидоров. Он жил в Красноярске, в те годы небольшом сибирском городке в верховьях Енисея. Иначе говоря, далеко от Арктики. Но у него, как и у многих его коллег и конкурентов из Центральной Сибири, были серьезные причины интересоваться льдами Крайнего Севера.
Середина XIX века. Сибирские купцы уверенно расширяют торговлю. Разделенные на три гильдии в зависимости от размера состояния, они формируют зарождающуюся буржуазию, влияние которой будет только расти. К пушнине, добытой на севере Дальнего Востока – предмету торговли с Китаем, прибавилось золото из рудников, открытых на Алтае, на Енисее и в Забайкалье. Сельскохозяйственная продукция, в частности сливочное масло, зерновые и мука, также стали важным источником дохода. Сибирь начала производить больше, чем могла потребить, и по ценам, не имевшим конкурентов: в 1877 году, например, средняя цена тонны пшеницы, выращенной в Сибири, была в 10 раз меньше, чем в Великобритании.1 И даже на рынках Европейской России доходы поистине огромны. Но как вывозить товары из Сибири? Как избежать огромных налогов или чудовищных комиссионных, выплачиваемых посредникам? Одни только транспортные расходы для доставки сибирских товаров в европейскую Россию делали их низкоконкурентными. В самые хорошие годы цена одного пуда муки (мера веса, имевшая хождение в империи, равная 16 килограммам и 380 граммам) могла опускаться в Сибири до 10 копеек – настолько низко, что крестьяне оставляли пшеницу гнить в поле. И в тоже время по другую сторону Урала2 от жестокого голода могли умирать люди. Однако стоимость транспортировки через Урал настолько велика (до 10,5 рублей за пуд, чтобы доставить товар в европейскую часть России, то есть в 650 раз больше, чем само производство), что никому, включая и государство, не выгодна эта торговая операция. В этом заключается вечная проблема бурно развивающейся Сибири. Михаил Сидоров считал, что нашел решение. В 1859 году он обратился к властям с прошением, озаглавленным «О возможности морского пути из Европы в западную и восточную Сибирь через устье рек Обь и Енисей».3 Изложение главной идеи занимает несколько строк: поскольку Сибирь представляет собой анклав, как пишет автор, составлявший свою записку за 40 лет до появления Транссибирской магистрали, и поскольку существующие тракты делают цены на транспорт неподъемными, почему бы не попробовать воспользоваться большими реками? Спуститься по Оби или Енисею, затем двигаться от устий этих рек морем до Архангельска, Санкт-Петербурга или какого-нибудь другого европейского порта. В этом случае сибирские товары могли бы завоевать новые рынки и в большой степени поспособствовать развитию азиатской части страны. Единственное немаловажное условие: нужно открыть морской путь от Баренцева моря до устьев гигантских сибирских рек. А это означало – составить точные морские карты, основанные на геодезических и батиметрических данных, расставить маяки и бакены, чтобы сигнализировать об опасностях, построить порты, куда можно было бы зайти и пополнить запасы провизии и топлива, подготовить профессиональных лоцманов, способных провести судно по сложным фарватерам, построить флот, способный осуществлять рейсы и, наконец, организовать таможни, по возможности у устьев рек, чтобы оттуда сразу двигаться на европейские рынки. Сидоров смотрит еще дальше: он мечтает о том, что морской путь будет продлен до Лены, откуда можно будет добраться до Якутска, или же – почему бы и нет? – до самого Тихого океана. В этом случае осуществилась бы мечта первопроходцев, был бы открыт проход из Атлантики в Тихий океан. Сидоров убежден, что Крайний Север можно заселить, что его можно развивать. Арктика – не препятствие, а прекрасный шанс для развития России! Одного взгляда на карту достаточно, чтобы осознать все предстоявшие трудности: даже первый этап – путь до Оби и Енисея, не говоря уже о продвижении в Тихий океан, кажется неосуществимым. Расстояния огромны, риски и препятствия – не меньше. Самую большую опасность представлял переход через Карское море. В отличие от своего западного соседа – Баренцева моря – оно гораздо слабее испытывает воздействие теплых атлантических течений, и его поверхность покрыта льдами восемь-десять месяцев в году. Что же касается рек, то их устья плохо изучены. Неизвестно, например, позволяет ли их глубина пройти морским судам. На этих реках на расстоянии тысяч километров не было портов. Более того, север Сибири заселен лишь промышленниками, живущими в редких поселениях, и ненцами. Откуда взять рабочие руки для осуществления столь амбициозного проекта? Морской путь? Просто несбыточная мечта, в которую государство не готово вложить ни одной копейки. Географ Шокальский писал по этому поводу, что огромные денежные вливания послужат созданию пути, который, насколько можно было об этом судить, займет не меньше шести недель. В лучшем случае корабль из Европы сумеет осуществить только один рейс за сезон.4
Дело подлежало подробному изучению. В ответ на свое первое послание Михаил Сидоров не получил даже подтверждения о его доставке. Но он продолжал отправлять письма. В конце концов, на одно из них, адресованное цесаревичу – наследнику престола, он получил ответ, подписанный генералом Зиновьевым, влиятельным придворным и наставником будущего царя. Этот ответ хорошо демонстрирует умонастроение властей. «Так как на севере постоянные льды, и хлебопашество невозможно, – писал Зиновьев, и никакие другие промыслы немыслимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства, а вы хлопочете наоборот и объясняете о каком-то Гольштреме, которого на Севере быть не может. Такие идеи могут проводить только помешанные!»5
Сопротивление исходило не столько от самих правительственных кругов, сколько от торгового и индустриального лобби крупных городов европейской части России. Заинтересованные лица быстро поняли, что могущественным биржам и ярмаркам Москвы и Нижнего Новгорода будут угрожать прямые коммерческие связи между Сибирью и остальным миром. По свидетельству современника, любая попытка добиться «разрешения порто-франко на морских берегах Сибири всегда вызывали отчаянные протесты московских биржевиков».6 Они вовсю пользовались низкими ценами на зерно на сибирском рынке. Фабрики, производившие алкоголь, были крайне заинтересованы в том, чтобы их дешевое сырье не уходило морским путем в Лондон и Скандинавию. Российские коммерсанты беспокоятся также за свой экспорт в Сибирь. Они обладают монополией на сбыт в молодую провинцию залежалых или неходовых товаров. С их привилегиями было бы покончено, если бы, например, Великобритания начала поставлять в Сибирь напрямую свои машины и оборудование для бурения, необходимое для добычи сибирского золота. Хуже того, в краткие сроки в Сибири возникла бы современная промышленность, способная стать мощным конкурентом. Как простодушно говорится в одном из докладов, Сибирь представляла собой надежный рынок для сбыта мануфактуры, которая не могла сравниться с английской. Интересы российских торговцев состояли в том, чтобы не дать другим странам ввозить туда сахар, чай, табак, алкоголь, вино и мануфактуру, а также запереть местную коммерцию и не подпустить ее к иностранному торговому флоту, не облагавшемуся налогами.7 Чтобы пресечь все попытки проложить морской путь в Сибирь, группы, оказывавшие экономическое давление на власть, внушали ей мысль, что нельзя поддерживать сепаратизм, который способен привести к потере Сибири.
* * *
Но не так-то просто выбить из седла Михаила Сидорова. Купец, ставший по своей воле апологетом идеи морского пути в Сибирь, решил найти аргументы в пользу своего проекта. Смыслом его жизни стала идея развития российской Арктики. Он заработал большое состояние, но все оно растаяло в этой борьбе.
Михаил Сидоров – одна из тех сильных личностей, которых так много в истории Сибири. Он происходил с русского Севера. Еще один помор, родившийся в Архангельске в 1823 году в небогатой купеческой семье, постоянно балансировавшей на грани разорения. Школьная скамья его не привлекала. Еще мальчишкой он ударил учителя французского языка и был исключен из школы. Этот учитель якобы называл учеников из податного сословия «русской тварью».8 Скандал удалось замять, однако через несколько лет юный Михаил, служивший в конторе своего дяди в городском порту, снова привлек всеобщее внимание. В 20 лет он, возмутившись тем, что британские предприниматели занимали главные позиции в бизнесе, попытался основать городской банк взаимного кредитования для финансирования российского мореплавания, рыболовства и торговли. Он считал, что именно такой финансовый инструмент стал ключом к успеху англичан, располагавших эффективной системой страховки и банков, обеспечивавших их преимущество. Губернатор не хотел портить отношения с иностранными инвесторами и запретил ему это. Сидоров обошел губернатора, однако в конце концов вынужден был скрыться из города и губернии, чтобы избежать официального преследования и тюрьмы. Как и многие другие до него, он отправился в Сибирь, где, как показывал опыт его земляков, можно было разбогатеть. Приехав в Красноярск, Сидоров поступил гувернером в семью богатого золотопромышленника Василия Латкина. Он преуспевает на поприще педагогики, хотя сам рано бросил школу. Это был самоучка-энтузиаст. В конце концов, Михаил женился на дочери своего работодателя. Все его интересовало: он штудировал труды по зоологии, ботанике, геологии, биологии и географии, которые ждали его в библиотеке хозяина дома, давшего ему кров и работу. Особенно его занимала арктическая фауна. Позже сибирский предприниматель напишет много научных статей на такие экзотические темы, как ловля сельди и трески в Норвегии, охота на тюленей, или же охота на морских котиков.9 Но и этим не ограничивались его таланты. Город охватила золотая лихорадка, туда хлынули авантюристы, и Михаил не мог упустить подаренный судьбой шанс отхватить себе кусок пирога. Вооружившись лопатой, киркой и ситом, захватив несколько финансовых гарантийных писем, полученных от своих местных покровителей, он в одиночку отправился в тайгу и двинулся вдоль небольших притоков огромного Енисея. Оказалось, что у него был безошибочный нюх на золото. Вернувшись в город, Сидоров официально заявил об открытии нескольких месторождений золота. Ему 27 лет. Началась новая жизнь – жизнь старателя, а затем горнопромышленника. В те времена пять тысяч золотоискателей соперничали и оспаривали участки друг у друга. За 10 лет Сидоров открыл 200 новых месторождений золота. И сам освоил целых 35 из них. Из 20 тонн 200 килограммов золота, каждый год добывавшихся в Сибири, более трех тонн происходили из месторождений молодого Сидорова.10 Несмотря на разорительную налоговую систему, лишавшую старателей трех четвертей доходов, бывший домашний учитель стал миллионером. «Уникальный случай в истории отрасли», – писал по этому поводу генерал Клейменов, главный инспектор приисков.11 Сидоров сделался одним из богатейших людей Сибири, скоро на него трудилось уже 20 тысяч рабочих.
Именно в этот период он решил посвятить себя арктическим проектам. На дошедших до нас нескольких фотографических портретах изображен сорокалетний крепкий человек, лысый, с круглым лицом и окладистой курчавой бородой. Его живой насмешливый взгляд контрастирует с деловым костюмом-тройкой и карманными часами, подчеркивающими его высокое положение. Беглец из Архангельска стал известен в Сибири, но, в отличие от большинства конкурентов, которые думали лишь о том, чтобы увеличить свое состояние, Сидоров решил его тратить. Золото интересует Сидорова как средство для достижения важных для него целей. С ранней юности он вынашивал множество планов, которые теперь можно было попробовать воплотить в жизнь. Дитя русского севера, он хотел преобразовать Сибирь и Арктику, хотел, чтобы они развивались, чтобы их население росло, чтобы у этих территорий было будущее. Север стал для Сидорова Калифорнией: «Оставив на заднем плане выгодную для меня материально золотую промышленность, – писал он, – я перенес всецело всю деятельность и денежные средства на северные приморские окраины нашего государства».12 Предприниматель мечтал, как и многие местные сторонники автономии и либералы, о создании сибирского университета. Ему казалось, что наиболее подходил для этого Красноярск, и он даже отдал на эту цель 16 килограммов чистого золота. Предложение так и останется на бумаге, поскольку власти вовсе не намерены двигаться в этом направлении. Это первая из длинного списка целей, отторгнутых сворой чиновников, генералов и министров. Сидоров буквально фонтанировал идеями. Он хотел строить тракты, порты, железные дороги, развивать промышленность, ремесла и культуру, все то, что могло способствовать созданию прекрасной Новой Сибири. И готов сам действовать: зимой он пересек тундру от Енисея до Оби во главе санного обоза, нагруженного рудой. Сани тянули олени. Он хотел доказать, что север Сибири можно соединить с Европейской Россией. Это было в середине XIX века, но маршрут, который выбрал Сидоров, в основном совпадает с тем, который столетием позже проложат инженеры Сталина: стройки 501/503. Мечтал Сидоров и о железной дороге через Урал и его европейские предгорья: 20 лет он вкладывал капиталы в устройство железной дороги, которая должна была пересечь ледяные и заболоченные пространства, препятствовавшие осуществлению его мечты. Среди проектов Михаила Константиновича значилась также и прокладка каналов.
Однако открытие морского пути между Сибирью и Европой – самый обширный из этих гигантских замыслов. Сидоров на собственном опыте убедился в необходимости этого пути. Из-за отсутствия транспорта на золотых рудниках не хватало оборудования для бурения, которым располагали американские и британские конкуренты. Пребывая в постоянном поиске новых областей приложения сил, он обнаружил неподалеку от реки Курейки богатые залежи графита, очень ценного минерала, необходимого для изготовления карандашей. В них нуждались образовательные учреждения, которых становилось все больше и больше. До этой находки англичане имели практические полную монополию на графит. Благодаря своим владениям на Цейлоне они торговали очень чистым графитом. Сидоров решил поставлять графит в континентальную Европу. Но для этого тоже был необходим северный морской путь, котором он бредил.
За время, прошедшее после отсылки первого письма, его идея получила немалую поддержку. Многие купцы, вышедшие из новых династий сибирской буржуазии, либо поддерживали проект коллеги, либо участвовали в разработке какого-то похожего проекта. Латкины, его новые родственники, а еще Сибиряковы и Трапезниковы – две могущественные семьи из Иркутска, начали открыто отстаивать идею нового морского пути, соединенного с сетью больших рек. Многие города также официально заявили о поддержке проекта. Михаил Сидоров, вступивший в число купцов первой гильдии – самой богатой и престижной, и сделавший из своего проекта речного и морского пути муниципальную политическую программу, был избран в 1864 году городским головой Красноярска 392 голосами против восьми. Однако центральная власть не дремала, она не была готова развязать руки разбогатевшему смутьяну. И, по решению губернатора, результат выборов, на которых победил Сидоров, был отменен.
Однажды, во время поисковой экспедиции, Михаил Сидоров прикрепил к деревянной стене одного из своих временных жилищ бумажный лист, на которой начертал собственной рукой лозунг, провозглашавший, что к большим целям ведет большое желание их достичь.13 Ему-то желания было не занимать. Он в одиночку или же с поддержкой других меценатов пытался сделать то, от чего отказывалась официальная Россия.
С 1860 года начинается третья жизнь Михаила Константиновича Сидорова – посла и адвоката Арктики в России и во всей Европе. Он оставил прииски Красноярска и перебрался в Санкт-Петербург, где была сосредоточена имперская власть. Он начал с того, что предложил Русскому географическому обществу назначить премию в 14 тысяч рублей золотом (которую он, естественно, финансировал) тому мореходу, который сумеет, выйдя из любого российского порта, доплыть до устья Енисея. Эта цель не была такой уж недостижимой. Норвежские рыболовные суда с каждым годом все чаще проходят через проливы Новой Земли и отваживаются вторгаться в нехоженые воды Карского моря. Сидоров уверен, что его инициатива позволит доказать осуществимость проекта. Назначенная премия очень щедра, однако его предложение было сухо отклонено. В правительственных кругах не видят никакого смысла в сражении с вечными льдами. Никто еще не сумел победить их. К тому же этот путь можно будет использовать только три месяца в году. Нужно быть безумцем, чтобы вкладывать в него деньги. Кроме того, петербургская элита не очень верит в потенциал страны. Вице-президент Географического общества Фёдор Литке писал, что в России еще не было мореплавателей, способных дойти по морю до устья Енисея. Подобные экспедиции, как считал он, по силам только Англии, которая за полвека подготовила целое поколение моряков, способных плавать в холодных морях.12 Сидорова потрясло презрение, с которым Литке говорил о соотечественниках, но он решил поймать его на слове. И отправился в Англию, потом в Шотландию, во Францию, в Германию, в Данию, в Швецию и в Норвегию. Он изъездил всю северную Европу в поисках отважного капитана, который осмелился бы принять его вызов. Кто первым проложит путь между Европой и устьями сибирских рек? Наконец откликнулись двое. Один из них – Джозеф Виггинс, капитан британского флота, опытный мореплаватель, побывавший в разных океанах. Его очень заинтересовал проект Сидорова, и он выразил готовность попытаться пройти хотя бы до устья Оби, самой близкой из речных артерий Сибири. Другой – шведский барон, ученый-естествоиспытатель, разговорившийся с Сидоровым после одной из его лекций в Тромсё, в Норвегии. Он был увлечен полярными пространствами и заявил, что готов участвовать в предприятии и начать разведку пути до Енисея. Его имя Адольф Эрик Норденшёльд.
Однако перспективы выглядели не особенно обнадеживающими. Пересечь Карское море без хороших карт, в тумане, по водам, которые лед может сковать за несколько дней – задача, мало походившая на приятную прогулку. Последняя попытка, совершенная капитаном П.П. Крузенштерном, – и естественно, профинансированная Сидоровым, – закончилась полным провалом. Его судно было раздавлено льдами, и Павел Крузенштерн с экипажем смогли спастись, дрейфуя много дней на льдине. Его заключение гласило: проложить морской путь к Оби и Енисею невозможно.15
* * *
Виггинс и Норденшёльд сумеют доказать обратное. С 1874 года, когда на север отправилась первая британская экспедиция, по 1894 год английский капитан 11 раз штурмовал Карское море. Ему удалось пересечь его 10 раз, но с большим трудом. Много раз судно садилось на мель, много раз ему приходилось отступать и поворачивать назад, так и не загрузившись товарами, как это предполагалось. Тем не менее этот опыт позволил накопить знания, необходимые для разработки маршрута в Сибирь. Было замечено, например, что Обская губа, открывавшаяся первой на побережье, – одна из самых опасных. У устья много блуждающих отмелей, которые порой уменьшали глубину реки на 2 м. Что еще хуже, вход в устье преграждал песчаный бар, непреодолимый для морских судов. Чтобы продолжить путь по Оби, нужно было перегрузить товары на речные судна, которые вынуждены были ждать в 5 км от побережья, находясь в полной власти ветров. Как показал опыт, эта операция достаточно непростая, и товары часто оказывались на дне. Путь через Енисей оказался гораздо более удобным. Суда с большой осадкой могли беспрепятственно плыть по реке до рыбацкого стана Игарка, который имел шансы стать глубоководным портом в самом сердце Сибири. Норденшёльд дважды – в 1875 и 1876 годах – сумел добраться до реки и даже дальше, до городов центральной Сибири. Шведский барон, встав на якорь в Енисейске, через который проходил большой тракт – официальная дорога, пересекавшая континент, почувствовал себя новым Колумбом. Путь проложен, и на этих землях можно возводить новый мир: «Земли [здесь] платят обильными урожаями за самые несложные аграрные работы, – писал он. – Кроме того, эти края очень мало населены, так что миллионы жителей смогут прокормиться, когда будут в полной мере освоены все местные богатейшие сельскохозяйственные ресурсы».16 В 1877 году «Утренняя Заря», парусное судно, зафрахтованное Сидоровым, на борту которого находилось пять человек во главе с капитаном Д.И. Шваненбергом, впервые доставила груз – графит, пушнину и рыбу – с Енисея в Санкт-Петербург. Судно шло три с половиной месяца. Путь, о котором так мечтал сибирский меценат, был открыт. Норденшёльд отправил Сидорову поздравительную телеграмму: «Утренняя заря прорезала тьму, которой до сих пор была окутана перспектива навигации в Сибирь». Адресат телеграммы на седьмом небе от счастья, он наконец сумел реализовать свою мечту. 15 лет упорства и усилий были вознаграждены. Сибирь получила выход в Европу, и Сидоров был убежден, что его соотечественники сумеют этим воспользоваться.
Поселившись в доме 18 на улице Сергеевской, одной из самых буржуазных и элегантных в российской столице, бывший золотопромышленник с удвоенной энергией продолжил битву за Север. Он устраивал в своих апартаментах «северные» вечера, на которые стекались петербургские интеллектуалы. Сидоров приглашал на них тех немногих представителей сибирских народов, которые перебрались в столицу, а также военных, специалистов по судостроению, промышленников и избранных журналистов. На этих вечерах подавали «северные деликатесы», нежную рыбу, таявшую во рту, и вяленую оленину. Поднимали неизменные тосты за первопроходцев, охотников, мореплавателей и ученых прошлого. Гости любовались прекрасными геологическими образцами, найденными на рудниках Крайнего Севера, слушали лекции. Путешественники и исследователи расхваливали потенциал неосвоенных земель, скрывавшихся подо льдами. Ходили слухи, что даже сам наследник престола, будущий Александр III, почтил своим присутствием одно из собраний.17
Постепенно Сидоров, постоянно подвергавшийся нападкам со стороны властей и вынужденный преодолевать разного рода препятствия, стал буквально одержим своей борьбой. Сибирский меценат уже не служил Северу, он поклонялся ему. Почувствовав себя пророком, Михаил Константинович готовил бесконечные публикации, которые должны были привлечь внимание публики и властей к недооцененному и малоизвестному краю. Его страсть удивительным образом предвосхищает чувства другого «подмастерья Севера», канадского и исландского авантюриста по имени Вильялмур Стефанссон, который заставит о себе говорить в Америке в начале XX века, когда введет настоящую моду на север. Михаил Сидоров поддерживал традиционные ремесла народов Севера, защищал права этих народов и требовал для них доступа к образованию. Его пыл не остывал, аппетиты были неутолимы. Он рыскал по тундре, чтобы оценить шансы различных проектов, проводил топографическую съемку, чертил схемы шлюзов для новых каналов, собирал ботанические, зоологические, геологические коллекции. И, поскольку официальная Россия не понимала важности задачи и упорно не обращала внимания на эту территорию, он решил пойти дальше и стать послом Крайнего Севера на всех международных встречах.
«Я старался обратить внимание и русских и иностранцев на богатства нашего Севера и потому с 1860 г. не пропускал ни одной выставки, несмотря ни на какие затруднения».18 В 1862 году он побывал на Всемирной выставке в Лондоне, в 1867 году – в Париже, в 1873 году – в Вене. Его можно было видеть в Берлине и в Нью-Йорке, на всех 20 крупных ярмарках, где он арендовал площадку, чтобы рекламировать Крайний Север. В павильоне Сидорова не было никаких товаров, он выставлял на показ самые прекрасные образцы из своей коллекции, овощи и фрукты, которые выращивали в Арктике в теплицах, чтобы доказать, что на севере можно жить вполне комфортно, и даже черную вязкую жидкость, которую он первым обнаружил в сибирской земле. Нефть – от персидского слова «нафта». В одном из комментариев 1882 года он писал, что северные залежи нефти будут по достоинству оценены в будущем, поскольку сулят большую экономическую и финансовую выгоду.
Все усилия Сидорова не получали ни грамма благодарности у властей. Ему никто не возражал, его просто игнорировали. За рубежом на него также не обращали внимания, только исследователи и ученые вовсю пользовались щедротами предпринимателя. Имя одного из первых знатоков и адвокатов Севера не вошло в пантеон главных героев Арктики. Вера в Север была непоколебима, однако со временем, постоянно сталкиваясь с препятствиями, Сидоров все чаще стал испытывать разочарование. В 1882 году он писал: «Считая открытие прохода морем из устьев Оби и Енисея жизненным вопросом для Сибири и имеющим важное государственное значение для всего нашего отечества, я обратил на него все свое внимание. С 1841 года он сделался для меня задачею всей моей жизни, и для решения его я пожертвовал всем своим состоянием, нажитым от золотопромышленности <…> к сожалению, я не встречал ни в ком сочувствия к своей мысли: на меня смотрели как на фантазера, который жертвует всем своей несбыточной мечте. Трудна была борьба с общим мнением, но в этой борьбе меня воодушевляла мысль, что если я достигну цели, то мои труды и пожертвования оценит потомство».19
Совершенно измученный, Михаил Сидоров угас в 1887 году в германском Аахене (Экс-ля-Шапель). В завещании он так распорядился своим состоянием: детям оставил немного, поскольку полагал, что большинство наследников перестает интересоваться науками. Основная сумма выделялась на «нужды человечества», на поддержку русских изобретателей, в частности в деле арктической навигации, а также промышленников и смельчаков, которые откроют путь через северные моря к сибирским рекам. Кроме того, часть наследства должна была быть пойти на образование молодых представителей коренных народов Арктики. Самоеды (ненцы), долганы, якуты, из которых, как он надеялся, должны получиться моряки, ремесленники, доктора и еще, что особенно важно, ветеринары, способные бороться с заболеваниями оленей.20 Увы, этот жест, совершенно удивительный в эпоху торжества колониализма, пропал втуне. Судьба наследства Сидорова красноречиво говорит о тщетности его усилий: во время нотариальной проверки выяснилось, что оно обременено долгами. Все состояние ушло на борьбу за Север. Ничего не осталось.
* * *
Однако не все пошло прахом с уходом великого северного мецената. Сидоров стал первым и, наверное, самым преданным и упрямым лоббистом открытия Сибири миру через Арктику, но он не был абсолютно одинок. Ему на смену пришло новое поколение купцов. Не первые старатели, не пионеры-переселенцы, как молодой Сидоров, а представители крепких купеческих династий, занятых торговлей золотом и зерновыми, а еще товарообменом с Китаем. Их можно встретить в Кяхте, Нерчинске, Красноярске, Томске, но главным центром, перекрестком дорог на юг (Китай), северо-восток (Лена и Амур) и запад (Россия и Европа), где крепла их мощь, был Иркутск. Среди этих семей были и потомки первых торговцев пушниной, первопроходцев Аляски. Были среди них и выходцы из крестьян. Это молодое поколение творит социальную, культурную и политическую жизнь Сибири. Музеи, театры, богадельни, церкви, пансионаты, литературные и научные общества, – ко всему, или почти ко всему, что создается в Иркутске, они приложили руку. Принадлежность к той или иной гильдии, каждая из которых обладала своими правами и привилегиями, определялась размером состояния.21 Первая гильдия, самая престижная, объединяла не больше дюжины семей. Их дома украшали город. В европейской части России самой могущественной была аристократия, но в Сибири, где аристократия отсутствовала, элиту образовывало купечество, и к тому же элиту предприимчивую, либеральную и фрондирующую. Конечно, соперничество между семейными кланами – будни социальной и светской жизни, но борьба с царской бюрократией постоянно объединяла самых ярых конкурентов. В отличие от традиционной России, где аристократия с высокомерием смотрела на зарождающуюся буржуазию, в Сибири купцы пользовались уважением, что, конечно же, укрепляло их позиции. Одна из самых старинных сибирских семей – Сибиряковы. Патриарх семейства составил состояние на торговле с Китаем, а потом увеличил его благодаря месторождениям золота и серебра на Алтае и под Нерчинском, за озером Байкал. Он первым испробовал речную торговлю, создав с несколькими партнерами из своей гильдии судоходную компанию в бассейне Лены, новой территории приложения сил, что впоследствии скажется на судьбе его потомков. Его то и дело исключали из гильдии и корпораций за постоянное и упрямое противодействие деспотическим нравам местной администрации, однако к фамилии Сибиряковы люди относились с неизменным почтением. «Они – сила, – говорили о Сибиряковых, – их не проведешь». Многих представителей семьи избирали почетными гражданами. В 80-е годы XIX века во главе семьи стояло уже седьмое поколение – трое братьев и сестра. Главный из них – Александр, старший брат. Он выучился на инженера в политехнической школе Цюриха, – новейшей из жемчужин европейского образования. Там училось много русских. Вернувшись домой и возглавив семейное дело, молодой Сибиряков занялся торговлей золотом и развитием судоходства, которое, как ему казалось, имело все шансы стремительно развиваться. Но, как и Сидоров, как и многие его соотечественники, он видел, что Сибири мешала чересполосица. В регионе было все, чтобы богатеть, но этому препятствовали неподъемные цены, связанные с его удаленностью. Самой показательной иллюстрацией являлись зерновые. Но и с золотом ситуация не намного лучше: купцы из Иркутска вынуждены были отправлять руду телегами или санями в Петербург, где ее плавили и штамповали. Путешествие долгое и очень рискованное, повсюду кишели разбойники. Так не могло дальше продолжаться. Сибирь со своим скромным количеством жителей, лишенная прямых связей с остальным миром, как замечал Александр Сибиряков, обречена на застой и умирание. «А ведь решение бросается в глаза!» – возмущался иркутский купец. Сибирь богата водными путями. Ее реки – одни из самых крупных на планете. Только бассейн Енисея в три раза превышает по площади бассейн Дуная, а ведь это всего лишь одна из трех больших рек Сибири. «Кажется очевидным, – писал Сибиряков, – что первоочередная задача состоит в том, чтобы использовать реки и создать систему сообщения, которая включала бы и море».22
И диагноз, и лекарство не отличаются от тех, которые называл Сидоров. Сибирь с остальным миром должна соединять вода. Свобода Сибири зависит от воды. Нужно использовать удивительную речную систему, орошающую Сибирь, как использовали ее первопроходцы, промышленники и охотники, как использовали ее казаки XVI и XVII веков. Еще нужно иметь выход в море, чтобы добраться до больших европейских портов. Михаил Сидоров и Александр Сибиряков поддерживали друг друга. Несколько раз молодой сибиряк присоединялся к уставшему ветерану, чьи ресурсы неуклонно таяли. Сибиряков как бы унаследовал его планы и дополнил их. Его проект грандиознее замыслов Сидорова. Сибиряков тоже хотел проложить северный морской путь до устьев больших рек и оснастить его. Но он хотел еще и продублировать его сетью рек и каналов, которая позволила бы, не выходя в море, пройти по воде всю Евразию от Архангельска до Китая или Тихого океана. Его окончательный план включал пять искусственных соединений между большими реками и столько же гигантских верфей. В случае его реализации можно было бы пересечь всю Россию и всю Сибирь по воде, не выходя в океан.
Безумие. Государство, верное себе, заявило, что не станет в этом участвовать. Сибиряков, чьи средства превышали возможности его наставника Сидорова, в одиночку начинает проект и посвящает ему все 80-е годы. На междуречье Оби и Енисея бригады рабочих принялись рыть канал. Бюджет: 4 млн рублей.23 Александр Михайлович предполагал потратить дополнительно еще десятки тысяч на строительство мостов и расчистку Ангары от опасных порогов.
Но и это не все. Купец не забыл о главном проекте Сидорова – открыть новый путь в арктических водах и нанести его на морские карты. В ноябре 1875 года Норденшёльд, вернувшийся в родной город Гельсингфорс[145] после удачной экспедиции в Карское море, профинансированной Сидоровым, получил странную телеграмму, автор которой просил уведомить его, если он собирается в следующем 1876 году доплыть до устья Енисея, и при благоприятных условиях, до устья Оби. В телеграмме сообщалось, что некий сибирский купец желал потратить 25 тысяч серебряных рублей, чтобы снарядить новую экспедицию и просил отвечать Александру Михайловичу Сибирякову, в Петербург.24
Сибиряков неслучайно останавливает свой выбор на Норденшёльде. После профинансированных Сидоровым экспедиций шведский барон получил известность в небольшом сообществе русских исследователей Сибири и Арктики. Сторонники развития Сибири и ее открытости миру охотно приглашали его на приемы, поскольку видели в нем единомышленника. В архивах можно найти любопытные исторические совпадения.
Так, 11 ноября 1875 года в Санкт-Петербурге состоялся прием, организованный обществом морской торговли, на котором Норденшёльд был почетным гостем. Если обратиться к отчетам, появившимся в прессе на следующий день,25 то оказывается, с ним за одним столом сидел адмирал Невельской, открывший устье реки Амур четверть века назад. А тост за Норденшёльда поднял полковник Евгений Богданович, служивший в Министерстве внутренних дел и как раз в то время начинавший борьбу за создание транссибирского железнодорожного пути!
Воодушевленный Богданович, восхваляя шведского гостя, не преминул упомянуть усилия некоего Сидорова. Поразительная встреча великих людей, послуживших сибирской эпопее, которые в тот вечер сдвигали бокалы!
Экспедиция, предложенная и профинансированная Сибиряковым, состоялась в 1876 году. На борту парохода «Имер» Нильс Адольф Эрик Норденшёльд прошел устье Оби и вошел в эстуарий Енисея в 200 км восточнее. Таким образом швед доказал, что до этой великой сибирской реки можно добраться по морю. Но ни Норденшёльд, ни Сибиряков не из тех, кто готов удовлетвориться этим успехом. Морской путь проложен до сибирских рек и даже, благодаря этим рекам, дальше, в сердце Сибири. Но великий вызов истории – обогнуть Евразию, найти легендарный путь в Китай через северные льды, связать через север напрямую Европу и Дальний Восток – не нашел еще решения. Нильс Адольф Эрик Норденшёльд готов принять этот вызов, а Александр Сибиряков – частично профинансировать предприятие.
26 января 1877 года в королевском дворце в Стокгольме состоялся парадный ужин. Его Величество король Швеции Оскар II пригласил барона Норденшёльда и других именитых людей, интересовавшихся Арктикой. Король хотел взять под свое крыло попытки Норденшёльда преодолеть ледовые барьеры Арктики и выйти в Тихий океан с севера. Он намеревался отыскать других спонсоров для этого предприятия. Крупный торговец из Гётеборга Оскар Диксон, присутствовавший на этом вечере, вызвался поддержать проект. Третьим стал Александр Сибиряков. «Можно утверждать без преувеличения, – писал Норденшёльд в проекте экспедиции, предназначенном для трех спонсоров, – что после знаменитых путешествий Кука в Тихом океане столь многообещающей исследовательской экспедиции не бывало. Но она возможна лишь при условии, что льды отступят перед усовершенствованным судном и позволят проложить путь по северным морям».26 Норденшёльд надеется, что совершить этот подвиг ему позволит технический прогресс.
«Вега», вышедшая 22 июня 1878 года из порта Карлскруна, где находились верфи шведского королевства, – судно длиной 43 м с двигателем в 60 лошадиных сил. Скорость могла быть увеличена за счет парусов. Корабль изначально предназначался для охоты на китов в водах Гренландии. Его дубовый корпус имел дополнительную прочную ледовую обшивку. На борту 31 человек. Ход шесть узлов[146] или же десять, если поднять паруса. Капитан надеялся за короткое лето пройти вдоль берегов Сибири и обогнуть восточную оконечность Азии. Большую часть пути «Вегу» сопровождал другой корабль, «Лена», специально построенный для этого путешествия. Предполагалось, что, если обстоятельства позволят кораблям достичь дельты реки Лены, «Лена» поднимется по ней до Якутска. Такого еще не бывало. Это был бы большой успех для Сибирякова, поскольку его семье принадлежала речная судоходная компания, суда которой ходили по этой огромной, но очень удаленной от всего реке.
10 августа «Вега» и «Лена» достигли устья Енисея – предела исследованной акватории. 19 августа корабли впервые бросили якорь у мыса Челюскина, самой северной точки Азии. Норденшёльд ликовал: он очень опасался – в буквальном смысле слова – льда, закрывавшего в этом месте проход, с которым пришлось столкнуться всем его предшественникам. Но в тот 1878 год море было свободно от льдов. Однако густой туман помешал экипажу разглядеть еще не известные на тот момент острова, мимо которых оба корабля прошли, не заметив их. Казалось, удача была на их стороне. 1 сентября они оказались у дельты Лены и разделились, как это и предполагалось. Через три недели «Лена» достигла Якутска. Все это время «Вега» продолжала идти на восток, пользуясь удивительными для этого времени благоприятными условиями. 28 сентября она находилась лишь в 110 морских милях[147] от Берингового пролива– в двух шагах от цели. Однако в этот день температура резко упала, и «Вега» очень быстро оказалась зажата в ледяное кольцо, становившееся все более и более прочным. На борту все были испуганы: до свободных вод Тихого океана оставалось примерно два дня пути, но, следовало признать очевидное, «Вега» – недостаточно мощное судно, чтобы пройти сквозь льды, даже на такое небольшое расстояние. Нужно было подойти как можно ближе к берегу и приготовиться к зимовке. Скрепя сердце Норденшёльд отдал приказ. «Это жестокое разочарование, – рассказывает он в своих воспоминаниях, – было особенно трудно пережить, поскольку мы могли бы, по всей видимости, справиться с ситуацией, если бы достигли западной части пролива всего лишь несколькими часами ранее. А во время путешествия нам представлялось множество возможностей сэкономить эти несколько часов».27 В тот же день «Вега» встала на якорь в припайном льду в километре от чукотского становища Питлекай в Колючинской губе. Там она простояла девять с половиной месяцев, всю долгую полярную ночь, в плену льдов, крепчавших день от дня и достигавших 1,62 м толщины. Шведский экипаж и чукчи близко познакомились и завязали крепкую дружбу. Только 18 июля следующего года, когда в полдень Норденшёльд и экипаж сидели за столом и обедали, вдруг раздался скрип корпуса «Веги», почувствовавшей свободу. Котел заработал, и к 15:30 судно покинуло бухту, продержавшую его так долго в плену. «Они все, – писал глава экспедиции, – стояли на холмах, мужчины, женщины, дети – вся деревня – и смотрели в сторону моря, куда «огненная лошадь» [скорее, они говорили «огненная собака» или «огненный олень»] уносила навсегда прочь от их холодных и унылых берегов тех, кого они за зиму привыкли считать своими друзьями».28
На этот раз ничто не остановило бег «Веги». Через полтора дня после отплытия, утром 20 июля 1879 года, судно обогнуло крайнюю точку Азии, которую Норденшёльд назвал мысом Дежнёва, отдав должное смелому казаку, опередившего его на 231 год. Он поднял шведский флаг под дружное «Ура!» экипажа и дал залп в честь короля. «Вега» впервые в истории вошла в воды Тихого океана, пройдя легендарным Северо-Восточным проходом.
Норденшёльд вошел в историю, а Сибиряков, роль которого, несмотря на всю ее исключительную важность, не столь очевидна, не перешагнул ее порога. Однако цель, которой он и Михаил Сидоров так долго добивались, была достигнута. На протяжении короткого лета Сибирь могла надеяться поддерживать прямые контакты с Европой и остальным миром – по реке и по морю. Обь, Лена и особенно Енисей предоставляли молодой экономике Сибири новые возможности. Успех Норденшёльда позволял задуматься о морском пути на Дальний Восток, о том знаменитом пути в Китай, который в XVI веке искали английские и голландские мореплаватели.
* * *
Александру Сибирякову удалось открыть дверь Арктики. Но не только. Благодаря упорству и миллионам потраченных рублей он смог построить канал между Обью и Енисеем. После решения многочисленных неожиданных проблем и расчистки Ангары, стоившей головокружительных денег, эта река стала судоходной до впадения в Енисей. Одновременно была проложена проезжая дорога длиной в 180 км – первая на Крайнем Севере («Сибиряковский тракт»). Она шла через Северный Урал и соединяла лежащий в Европе бассейн Печоры с притоками Оби на азиатском склоне. Это строительство Сибиряков финансировал в одиночку.
Однако время и государство работали против него. В 1891 году, занимаясь разведкой последнего участка большого пути через Сибирь, промышленник снова обратился за помощью в казначейство. И снова получил решительное «нет». На этот раз власть выдвинула неопровержимый аргумент: Россия приступила к строительству сибирской железной дороги и поставила крест на всех речных проектах, имевших такую же цель. С этого момента Александр Сибиряков, побежденный обстоятельствами, стал постепенно отходить от дел. Он продал свои акции в транспортных компаниях и рудниках и проводил большую часть времени за границей, в частности, на Лазурном берегу. Его брат Иннокентий, тоже заметная фигура в этой династии, в те же годы развивал бурную деятельность. Но он был занят другим. Если Александр употребил свое состояние на развитие Сибири, то Иннокентий стал одним из самых щедрых меценатов России. Он поддержал деньгами Восточно-Сибирский отдел Географического общества. Ему обязана своим существованием большая часть сибирских музеев. Иннокентий – один из основных спонсоров молодого Томского университета, он поддерживал биологов, ботаников и врачей. И еще существенным образом помогал бедным Иркутска. «Я обладаю богатством, – размышлял он. – Как это случилось, думал я, что в моих руках скопились такие средства, которыми могли бы прокормиться тысячи людей? Не есть ли это средства, случайно попавшие ко мне, достояние других людей, искусственно перешедшее в мои руки? И я нашёл, что это именно так, что мои миллионы – это результат труда других лиц, и чувствую себя неправым, завладев их трудами».29 С начала 90-х годов XIX века, когда его брат Александр, смирившись, начал постепенно оставлять свои грандиозные планы, Иннокентий обратился к религии. Он тратил миллионы на строительство монастырей и храмов, как на Дальнем Востоке, так и на Святой Земле – на горе Афон, и ему даже пришлось пройти медицинское освидетельствование и побеседовать с многими министрами, чтобы доказать, что он в своем уме. Раздав все свое состояние, Иннокентий постригся в монахи, удалился на Афон, где и умер в 1901 году.
Династия Сибиряковых, с которой связано столько дел, столько проектов, послужившая культуре, науке и вере Сибири, ушла вместе с веком. Один из первых купленных Россией в 1915 году ледокольных пароходов получил имя Александра Сибирякова, который к тому времени жил во Франции. И, хотя революционеры, пришедшие к власти в 1917 году, переименовывали направо и налево все символы капитализма, он сохранил свое имя. Знаменитый Сибиряков, разоренный, нищий, увидит перед смертью, как корабль с его именем на борту превратился в легенду советского завоевания Арктики. Он умер в 1933 году в Ницце. «Сибиряков» станет первым судном, прошедшим в 1932 году весь Северный морской путь за одну навигацию.
* * *
XX век начинает свой бег, и упорство Сидорова и Сибирякова наконец дает результаты. После десятилетий инертности и порой даже яростного сопротивления власть наконец начала демонстрировать растущий интерес к Арктике и Сибири. Успех экспедиций, профинансированных сибирскими меценатами, сыграл свою роль. Но, кроме того, русская элита прониклась духом времени. Повсюду в Европе, как и в Соединенных Штатах, последние тайны планеты, скрывавшиеся на полюсах, вызывали огромное любопытство. Никто еще не знал, как выглядит самая северная точка Земли, не говоря уже о южном полюсе. Британцы увеличивают число экспедиций к Канадскому арктическому архипелагу, чтобы найти путь между Атлантикой и Тихим океаном, Австро-Венгрия отметилась в Арктике, открыв архипелаг и назвав его Землей Франца-Иосифа, молодая Норвегия, боровшаяся за свою независимость, затаив дыхание, следила за подвигами своих национальных героев Нансена и Амундсена, Франция и Германия тоже стараются не отстать. Технический прогресс позволил значительно улучшить проходимость судов во льдах. В России вице-адмирал Степан Макаров, самый молодой офицер флота, удостоенный такого звания, прославился тем, что начал последовательно защищать необходимость морского присутствия России в Арктике. В результате его усилий царский флот получил первый морской ледокол, названный «Ермак» – в честь русского покорителя Сибири. Макаров, морской офицер по образованию и океанограф по призванию, не сомневался в стратегической значимости подвига Норденшёльда: перед Россией вдруг открылась новая перспектива – освоить Дальний Восток, не огибая Европу, Африку и юго-восточную Азию. При условии, конечно, если государство вложит огромные усилия в разведку и оборудование морского пути, о чем вот уже несколько десятилетий просили Сидоров и Сибиряков. Общественное мнение менялось, стало слышаться все больше и больше голосов в защиту освоения Севера и энтузиазма вице-адмирала, который сам встал за штурвал своего ледокола. Особенно важен был голос Дмитрия Менделеева: сибиряк по происхождению, отец периодической таблицы элементов, пользуясь своей международной известностью, отстаивал развитие морских путей, столь необходимых для его родного края. Через сто лет после своего предшественника, великого Ломоносова, он, в свою очередь, утверждал, что от процветания Сибири зависит судьба всей России.

Север манит, Север завораживает, Север открыт для всех. Сибирский морской путь внезапно обретает совсем другой масштаб в 1904 году, когда Япония напала на Россию, атаковав Порт-Артур на Желтом море. Из диковинки, возможно, потенциально полезной, Северо-Восточный проход превратился в необходимость. Жестокий урок для России: из-за того, что власть не захотела осваивать воды Арктики, Балтийский флот вынужден предпринять многомесячное путешествие, чтобы прийти на помощь осажденному Порт-Артуру. В это время вице-адмирал Макаров, любимец флота, отправленный командовать эскадрой в Порт-Артуре, чтобы поднять боевой дух моряков, погиб 13 апреля 1904 года подорвавшись на японской мине в одном из первых выходов в море. Через год, 27 мая 1905 года, русский флот был полностью уничтожен при Цусиме. Он почти достиг Владивостока, когда практически все корабли были потоплены противником, подготовленным гораздо лучше. Порт-Артур пал 2 января 1905 года, и Россия стала первой европейской державой, потерпевшей поражение от набиравшей силы Азии.
Национальное унижение, ставшее травмой для общества, подействовало как электрошок. Это событие открыло глаза военным на слабость российского флота. Как показал опыт, он был отрезан от тихоокеанского театра военных действия. Но это еще не все. В местах традиционного базирования на Балтике и Чёрном море, выход в океан все больше и больше зависит от иностранных государств. Что, если военный конфликт внезапно столкнет Россию с Германией, контролировавшей выход в датские проливы, или же с Оттоманской империей, у которой находятся ключи от Босфора и Дарданелл?
Пройдет несколько лет, и эта угроза осуществится – начнется Первая мировая война. Царская Россия слишком поздно и слишком медленно, но все же начнет всерьез рассматривать свое арктическое будущее. Экспедиции Вилькицкого, Седова, Брусилова и Русанова отправятся в море, чтобы исследовать морской путь и еще не открытые острова. Только в 1913 году станет известен последний архипелаг Арктики и планеты, Северная Земля. Россия двинется на север, и одним из творцов новой политики станет не кто иной, как министр финансов Сергей Витте, который закончит свой великий транссибирский проект и примется за создание нового большого военного порта на Мурмане, на единственном участке русского арктического побережья, где никогда не бывает льдов. Этот порт, как заявляли сторонники его строительства, будет служить России арктической базой и гарантировать флоту свободный и беспрепятственный выход во все океаны планеты.
* * *
В России начала XX века вокруг Арктики неожиданно все забурлило. Но один человек более других воплощал любовь к северу. Он не был ни купцом, ни богатым интеллектуалом. Его звали Александр Алексеевич Борисов, и его увлеченность Крайним Севером, его упоение им сначала изливалось в живописи. «Крайний Север с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и долгой полярной ночью, всегда привлекал меня к себе»,30 – так начинается первая глава его первой книги. Борисов – сам человек Севера. Он родился в 1866 году в деревне Глубокий Ручей рядом с селом Красноборск на Северной Двине, в 537 км от Архангельска. Его родители были бедными неграмотными крестьянами. Родные места Борисова находились не так уж далеко от Сольвычегодска, города Строгановых и отправной точки русской сибирской эпопеи. «Детство прошло в крестьянской обстановке, – писал он, – но душа моя была далеко не покойна».31 Первые годы жизни были непростыми: маленький Александр рос болезненным ребенком, слишком слабым для крестьянских работ. Он пользовался свободой, чтобы по Псалтири научиться читать и писать у одного из соседей. Родители, уже не чая увидеть его здоровым, дали обет отослать сына, если он поправится, в далекий северный монастырь на Соловецких островах в Белом море. Их мольбы были услышаны, и в 15 лет Александр Борисов оказался за толстыми белыми стенами Соловецкого монастыря. Он открыл совершенно новый мир, такой, например, как великолепные иконостасы соловецких церквей. Он познакомился с живописью. «Картинок и рисунков я не видел никаких», – рассказывает он.32
А затем произошло несколько судьбоносных событий. В 1885 году в монастырь, который был также одним из самых знаменитых центров паломничества, прибыл великий князь Владимир Александрович, младший брат царя. Пройдя по иконописным мастерским монастыря, где трудился Борисов, великий князь обратил внимание на работы юноши, и на следующий год его вызвали в Санкт-Петербург – учиться в Академии художеств. Когда через несколько лет Александр окончил Академию, один из меценатов, оплачивавший его занятия, пригласил молодого художника поехать в официальную экспедицию на Крайний Север в качестве рисовальщика. Министр финансов Витте решил строить порт в Арктике и для этого собирался лично выбрать лучшее для этого место. В этой поездке министр расположился к художнику, который денно и нощно делал наброски разбитых тектоническими разломами побережий и бился над воспроизведением пастельных красок севера. Во время путешествия, продлившегося несколько недель, завязалась дружба, которая позволит впоследствии Борисову, уже состоявшемуся человеку, получать, по рекомендации Витте, персональные приглашения от английского короля, президентов Французской республики и Соединенных Штатов.
Однако это путешествие в первую очередь положило начало совершенно неслыханному в полярных краях событию. Свидетельств исследователей, вернувшихся из этих таинственных и завораживающих мест, крайне мало. И еще меньше изображений. Любопытство публики же огромно. Ни один художник не решился еще вытащить мольберт, акварель или гуашь в Арктике. Александр Борисов стал первым художником Арктики, и при любом удобном случае устремлялся в сторону полюса. Он облюбовал острова Вайгач и Новая Земля, где проводил много времени, зимовал в маленькой хижине и жил бок о бок с приезжими учеными и самоедами, которые рассказывали ему о традициях, о своих идолах и тайных святилищах[148]. Из частых поездок в Арктику Борисов привез десятки картин и многочисленные этюды углем, которые он писал, когда температура воздуха не позволяла ни извлечь краски, ни работать без меховых рукавиц. Его глаза впитывают бесконечные оттенки этого бело-серого пространства. Льды, снега, рябь на воде, обнаженные скалы формируют визуальный мир живописца. Борисов воспевал лед, как Айвазовский – море. Художник белого на белом и северного света, солнца полуночи. Если первые исследователи Арктики открывали ее для науки, то Борисов открывает ее для широкой публики.
Успех не заставил себя ждать. Известные мастера, художники – современники, такие, как Репин, Васнецов, Нестеров превозносят новичка.33 Один из критиков утверждает в столичной газете, что Борисову удается в своих картинах передать суровую поэзию северных снегов.34 Журнал «Новое время» писал, что, хотя многие художники изображали русскую зиму, никто не видел ее такой. «Нет числа тем, кто с такой точностью передавал на холсте снег, что зритель не мог отличить его от настоящего, – продолжал критик, – однако в их картинах не чувствовалась мощь зимы, хорошо известная всем русским». А у Борисова она чувствовалась! Это сама зима, а не ее изображение!35 Борисов выставлялся со знаменитыми передвижниками. Меценат Третьяков купил несколько десятков картин, чтобы отдать начинающему таланту целый зал в галерее. Сам император изъявил желание познакомиться с отражением необычного северного мира. В 1903 году в Зимнем дворце в Петербурге состоялась выставка для царской семьи. Николай II провел на ней три часа, приобрел у своего подданного картину «Страна смерти» и заказал ему еще пять полотен, которые будут висеть на стенах летнего дворца в Царском Селе вплоть до революции[149]. Сын неграмотных крестьян-поморов стал знаменит. Выставки проходят и за границей, в Европе: Вена, Прага, Мюнхен, Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кёльн, затем Париж, Лондон, Нью-Йорк и Вашингтон. И повсюду им восторгаются, его называют русским Нансеном.36 И действительно, Борисов стал апологетом Севера, он позаимствовал у норвежца слова, позволявшие определить Север как «страну будущего». В Вене Юлиус фон Пайер, австрийский полярник, который во время экспедиции 1872–1874 годов вместе с Карлом Вайпрехтом открыл архипелаг Земля Франца-Иосифа и дал ему имя, восхищался произведениями художника, а также самим его подвигом – ведь тому пришлось писать при температуре, опускавшейся до –30 °C. Как признавался Пайер, сам художник, ему это ни разу не удалось.37
Так же, как Сидоров и Сибиряков, Борисов связал свою жизнь и свое имя с Арктикой. Приличные доходы, которые он получал от выставок и продаж картин лучшим коллекционерам, позволили ему осуществить свою мечту – построить в родной деревне крепкий бревенчатый дом с башенкой и большими окнами, выходящими на лесистый берег Северной Двины. Это глухое место, стало для него убежищем, его персональной пристанью и в каком-то смысле воплощением самых разнообразных устремлений. Там он сделал проект большой усадьбы «Солониха» – первого санатория на Севере, там он занимался научными изысканиями в экспериментальных садах и, конечно же, работал в мастерской, наполненной отсветами неба, реки и тайги, окружавшей ее. Там Борисов планировал новые арктические проекты. А их было немало. Страстная любовь к северу не ограничивалась живописью. С самых ранних лет он изучал возможные пути развития этой удаленной части света. Он погружался в рассказы о предыдущих экспедициях, изучал морское и железнодорожное сообщение, географию и управление, обдумывал ландшафтное переустройство нетронутых просторов Арктики. Как Сидоров и Сибиряков, он защищал создание нового морского пути в обход Евразии, который мог бы стать для России «ключом от трех океанов». Но в 1900 году происшествие, случившееся во время экспедиции вдоль побережья Новой Земли, заставило его изменить мнение. Когда яхта Борисова «Мечта» возвращалась, доставив на остров все необходимое для зимовки, ее внезапно сковали льды. Был всего лишь конец сентября, но по опыту художник знал, что это значит для него и его экипажа. Не было никакой надежды, что море вскроется до следующего года, их могло отнести далеко в море, а у «Мечты» не было никаких шансов долго сопротивляться натиску льдов. Все спустились на лед, взяв оружие, багаж и две небольшие лодки, которые нужно было тянуть через гряды торосов. Пока команда двигалась к берегу, дрейф отнес льдину с людьми более чем на 200 км. Это был изнуряющий бег ради жизни: разводья и полыньи разделяли людей, терявших друг друга из виду, и, чтобы найтись, они вынуждены были стрелять в воздух в тумане. Сани с запасами еды утонули, одежда рвалась, цепляясь за острые края льдин. Приходилось двигаться зигзагами, лавируя среди торосов, надвигавшихся с глухим гулом. Когда показался берег, экипаж удвоил усилия, но через несколько часов люди поняли, что их льдину уносило в открытое море. Группа Борисова спаслась только благодаря ненецким охотникам, которые услышали отчаянную пальбу и доставили их в лагерь. Это приключение произвело сильное впечатление на Борисова. С этого момента он начал придерживаться мнения, что морской путь через льды слишком опасен. Борисов, как свидетельствуют современники, был человеком цельным и за словом в карман не лез, поэтому превратился в страстного и активного противника морского торгового пути. «Невозможно, потому что слишком опасно», – неустанно твердил он год за годом.
Постепенно его воображением завладела идея железнодорожного пути. Соединить западные границы Арктики – Мурманск, а затем и Архангельск с устьем Оби, с находящимся восточнее устьем Енисея, и далее, с Божьей помощью, – с Амуром и Тихим океаном. Едва закончилось строительство Транссибирской дороги, как Борисов, пользуясь своим влиянием, начал отстаивать новый путь через Сибирь, параллельный первому, но идущий гораздо выше на севере. Вторая Транссибирская дорога, но уже северная, Трансарктическая, которая сможет наконец дать Северу и Сибири с ее богатым потенциалом все, чего они достойны. «Весь Север России, – писал он, оспаривая правительственную позицию, – довольствуется лишь одной железной дорогой, соединяющей Вологду с Архангельском, в то время, как все инвестиции уплывают на юг или на запад, к Чёрному морю или на Бал-тику».39 Так не должно было продолжаться. Борисов считал, что пришло время, когда России следовало наконец развернуться в нужную сторону.
Война, разразившаяся в 1914 году, показала российским стратегам, что опасения и упреки Борисова не безосновательны. Кригсмарине, германские военно-морские силы, держали выходы в океаны на запоре. В 1915 году художник с горечью писал, что Балтийское и Чёрное моря закрыты для России, из-за чего импорт и экспорт стали практически невозможны.40 Даже ледяные воды Арктики небезопасны: их бороздили первые подводные лодки кайзера. Империя, внезапно заспешив, решила срочно устроить на своем арктическом побережье свободный морской порт. Следуя рекомендациям покойного Сергея Витте, в устье реки Колы была устроена военная база. Мурманск[150] появился в 1916 году, в разгар войны, одновременно с железной дорогой, которую также прокладывали в спешке. Генеральный штаб вознамерился нагнать отставание: следуя рекомендациям Борисова, он планировал протянуть железнодорожную сеть на Крайний Север и проложить ее вдоль арктического побережья в сторону Сибири. В ноябре 1916 года план железнодорожного развития официально одобрен. Он включал многие из предложений Борисова. Формально художник состоял в одной из комиссий Министерства путей сообщения – той, которой было поручено быстро разработать прокладку новых путей через северную Россию. Все происходило очень быстро. 4 января 1917 года Александр Алексеевич представил министру подробный план «Большого северного железнодорожного пути», который, в первую очередь, должен был связать Мурманск с Архангельском, Котласом и уральскими линиями. А уж потом, конечно же, двинуться дальше в тундру. Для улучшения проекта, над которым Борисов трудился два с половиной года, он начал сотрудничать с другим энтузиастом Севера и Сибири, украинским юристом по имени Виктор Воблый, для которого эта дорога стала смыслом жизни. Он был моложе Борисова на два года. Воблый тщательно собирал все данные об открытиях и о геологической разведке в самых отдаленных частях Сибири, в частности в бассейне реки Колымы. Он был убежден, что там лежали несметные богатства, и, как только Россия соберется проложить туда путь, она разбогатеет, да и он сам тоже. Воблый без счета вкладывал в этот проект собственные силы и ресурсы: он окружил себя многочисленными иностранными экспертами, которые консультировали его, а также собрал в Москве настоящее инженерное бюро, где работало более 200 человек. Он полагал, что большая железная дорога, о которой пекся Борисов, являлась самым лучшим инструментом для завоевания Сибири. Во время войны Борисов и Воблый начали сотрудничать, и каждое лето в просторный дом Борисова на Двине приезжали молодые талантливые гражданские инженеры и экономисты, превращавшие живописные мастерские художника в штаб проекта. И уезжали лишь с наступлением зимы – с последним пароходом. Чтобы иметь возможность оплачивать все расходы, Борисов и Воблый уговорили норвежского арматора Эдварда Ганневига присоединиться к ним. Все трое надеялись, что в обмен на инвестиции получат от правительства концессии на самые перспективные месторождения.
* * *
Но они опоздали. За несколько дней до сдачи проекта был убит Григорий Распутин. Наступил страшный 1917 год. Через два месяца император отрекся от престола, и столица оказалась в водовороте революции. Никого уже не волновало будущее Сибири и Арктики, и казалось, что проект Борисова был обречен пойти на дно вместе с царским правительством, поставившим на него свой штамп. В октябре, с приходом к власти большевиков, Борисов, находившийся в Москве, счел, что его будущее под угрозой: если буржуазия будет уничтожена или выдавлена за границу, такому художнику, как он, не выжить. Кто будет покупать его картины? Что ждет его – землевладельца, коллекционера и инвестора?
Мир Александра Борисова рухнул. Россия лежала в огне и в крови. Гражданская война опустошала страну. Архангельск, столицу русского Севера, удерживавшуюся белыми, заняли англичане, французы и американцы. Утративший статус столицы Петербург опустел наполовину. За сеть железнодорожных дорог, столь важную для проекта Борисова, ожесточенно сражались красные и белые. Когда гражданская война закончилась, ущерб, нанесенный железным дорогам, составил 4 233 разрушенных железнодорожных моста и 1 885 км выведенных из строя путей. Сообщение уменьшилось по сравнению с 1913 годом на 80 %.41
Однако судьба помогла Борисову вновь оказаться в седле. В январе 1919 года, в разгар смуты, художника принял сам Ленин. Дело в том, что проекты, которые защищал Борисов, находились на стыке двух приоритетных для большевиков интересов: поезда и Север. Прежде всего, железный символ индустриальной революции и ее пролетариата – поезда, которые изменили общество и в буквальном смысле смели с пути старый режим. В тот момент, когда вождь революции беседовал с Борисовым, его бронированные поезда под командованием Троцкого двигались в сторону территорий, занятых белыми. И еще – Север: с точки зрения большевиков, эта практически нетронутая земля таила в себе огромный потенциал. Его природные ресурсы ждали своего часа, чтобы послужить новому обществу. Они были золотым запасом для нужд назревшей индустриализации. Север больше, чем какая-либо другая территория, стал объектом интереса Советов.
Было очень соблазнительно продвигаться на Север и в Сибирь по железной дороге. Идеи Александра Борисова и его коллег очень понравились Ленину. В январе 1919 года проект был представлен Совету Народных Комиссаров, Совнаркому, новому правительству большевистской России, которое и утвердило декрет, посвященный развитию железных дорог на 1919–1920 годы. Это выглядело немного сюрреалистично: в тот момент в стране демонтировались рельсы, чтобы использовать их для переплавки в экономических и военных нуждах. Сначала были разобраны тройные пути, затем двойные и в конце концов – одинарные. Кто мог тогда думать о строительстве новой Транссибирской дороги через Север и Арктику? Не говоря уже об идеологическом аспекте: от одной мысли о том, что проект пришлось бы доверить предпринимателям, в частности ненавистным иностранным капиталистам, и оплачивать концессиями, у многих революционных лидеров начиналась крапивница. Но вождь революции настаивал и добился своего: 4 февраля 1919 года советское правительство под председательством Владимира Ильича Ленина предоставляет концессию концерну, во главе которого стоят Борисов и норвежский банкир Ганневиг. Инвесторы брали на себя обязательство построить за свой счет новый железнодорожный путь, соединяющий Мурманск с рекой Обь, который должен был проходить через Котлас и пересекать северную часть Европейской России. В обмен советская власть давала им монополию на использование леса в районе новой магистрали, а также права на эксплуатацию нескольких предполагаемых месторождений полезных ископаемых.
Фундаментальные правила молодой социалистической экономики оказались попраны. Ленин стал объектом жестокой внутрипартийной критики. Он ответил на нее через несколько месяцев, выступая перед большевистским правительством Петрограда. «Мы говорим, что лучше заплатить дань иностранным капиталистам, а железные дороги построить, – объяснял он своим товарищам. – От этой дани мы не погибнем, а если не сладим с железнодорожным движением, то мы можем погибнуть потому, что народ голодает; как ни вынослив русский рабочий, но есть предел выносливости. Поэтому принять меры к улучшению железнодорожного движения наша обязанность, хотя бы ценою дани капитализму».42 Однако результаты декрета Совнаркома, пусть даже и подписанного Лениным, оставались довольно скромными. Пока Борисов вел переговоры с властями в Москве, прибывшие в его родную деревню комиссары конфисковали 227 находившихся там картин. Владимиру Бонч-Бруевичу, личному секретарю Ленина, пришлось посылать телеграмму, сообщавшую, что Борисов являлся «великим художником Севера» и что поэтому следовало его защищать и, само собой разумеется, вернуть все конфискованные картины и этюды.43 Но это была всего лишь отсрочка. В апреле 1919 года, через два месяца после выдачи концессии, пришел черед Виктора Воблого, компаньона Борисова. Он был арестован ЧК, политической полицией режима, и подвергнут продолжительному допросу. Такая же участь ждала и его многочисленных сотрудников из инженерного бюро. Большая часть документов, отчеты об исследованиях и планы, над которым корпели много лет, были конфискованы. Значительная их часть пропала, возможно, была уничтожена[151].
Времена менялись, и Борисов быстро понял, что следовало как можно быстрее затаиться. На последующие 10 лет выстроенный им северный бревенчатый дом стал его убежищем. Но он по-прежнему дорожил своим масштабным проектом. И продолжал работать над ним. В конце концов Александр Алексеевич разыскал своего бывшего компаньона Виктора Воблого, сумевшего вырваться из рук ЧК. В 1929 году упрямцы опубликовали брошюру под названием «Великий северный путь».44 На форзаце над именами авторов значилось: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Великая северная мечта, когда-то излагавшаяся царскому правительству, была опубликована государством рабочих и крестьян.
Это стало последней попыткой Борисова повлиять на ход истории. На этот раз он делал ставку на большой прорыв, обещанный Сталиным, на политику ускоренной индустриализации и эксплуатации ресурсов. И действительно, Трансарктический проект Борисова снова стал знаменит. Ежедневная газета «Известия» сделала его национальным и начала обсуждение, в котором приняли участие десятки экспертов и заинтересованных читателей. Проект поручили специальной комиссии Госплана – министерства планирования, составлявшего сердцевину советской системы. Ему было посвящено 200 слушаний и коллоквиумов, по его поводу высказались пять тысяч экспертов. Самые известные художники, среди которых братья Васнецовы и архитектор Щусев, который в то время заканчивал строительство мавзолея Ленина на Красной площади, присоединились к Борисову, чтобы создать проекты вокзалов. Предполагалось, что они будут оформлены в соответствии с традициями российской северной деревянной скульптуры. Борисова пригласили перебраться в Москву, где его обещали поселить в роскошной квартире. Но он отказался. Ему не хотелось покидать север. Никогда. Вдвоем с Воблым они пересмотрели и дополнили свой поистине титанический труд. Большой железнодорожный путь, предлагавшийся ими, должен был пересечь полярную тундру, пройти через Урал к Оби и Енисею. Дорогу предполагалось электрифицировать. Одна ветка должна была доходить до Амура, а другая тянуться в сторону Берингова пролива. Четыре выхода к Тихому океану. Железнодорожная сеть в 100 000 км, интегрированные речная навигация и дороги, обслуживающие Сибирь. Безумие – как твердили многие читатели. Несбыточное безумие: слишком большой размах, слишком сложно, слишком дорого, и это еще далеко не полный список того, что слишком. Однако это безумие хорошо вписывалось в концепцию человека нового типа, родившуюся в Кремле. В одном из официальных документов, связанных с проектом, говорилось, что за всю предыдущую историю были лишь составлены географические карты, да и то не очень надежные. Но территории не были освоены.45 Время настало. В свою очередь Сталин твердо вознамерился завоевать Арктику. Любыми средствами.
Александр Борисов умер от сердечного приступа в 1934 году. Его похоронили на маленьком кладбище над столь любимой им Северной Двиной[152]. Сталинский Госплан занялся разбором богатейшего наследия энтузиастов Арктики. Из трудов Борисова и Сибирякова будет взята идея пути через северные тундры, превратившаяся в стройки 501/503, о которых уже шла речь. Из проекта второй Транссибирской дороги Борисова родится БАМ, Байкало-Амурская магистраль, начатая в 1930-е годы и законченная спустя 50 лет. Но Сталин решил сначала попробовать воплотить мечту купцов Сидорова и Сибирякова – освоить Северный морской путь.
«Челюскин»: одиссея страны советов
В советской арктической саге главную роль сыграл человек по имени Отто Шмидт. Когда весной 1929 года советское правительство назначило его начальником экспедиции, отправлявшейся на Землю Франца-Иосифа, ничто, казалось бы, не указывало на его готовность к этой миссии. Шмидт был математиком, только вернулся из советско-германской экспедиции на Памир, из Центральной Азии, где руководил группой альпинистов, он ни разу в жизни не был в Арктике, и это назначение стало для окружающих полной неожиданностью. Он прибыл в Ленинград, в Институт по изучению Севера, чтобы начать подготовку к экспедиции. Переступив порог комнаты, где его ждали коллеги, Отто Юльевич словно шагнул в историю. Он обладал очень характерной внешностью. Об этом свидетельствуют современники: «Шмидт был высок, несколько сутуловат, носил большую бороду, – писал один из них. – Одет он был в новую, явно не по росту серую шинель. Еще запомнились кепка и ботинки с шерстяными гетрами <…> Во время заседания я мог ближе рассмотреть Отто Юльевича. Он произвел на меня огромное впечатление своей романтической внешностью. У него были тонкие черты лица, высокий лоб, длинные, зачесанные назад волосы и пышная черная борода».46 Другой участник совещания, радист Эрнст Кренкель, которому также суждено было стать одним из героев наступавшего эпического десятилетия, словно вторит этому описанию, но еще более красноречиво: «Первая встреча со Шмидтом произвела большое впечатление. В комнату вошел человек, облик которого был совершенно необычен. Огромная окладистая борода, волосы пышные, зачесанные назад. Прекрасная шевелюра. Запоминающиеся черты лица, особенно глаза – умные серые глаза, способные принимать десятки разных оттенков. Стоило Шмидту зайти в комнату, как тотчас же возникало ощущение, что этот человек все знает, все понимает, все умеет».47 Этому новому арктическому деятелю советской власти было 38 лет. Отто Шмидт родился в 1891 году в немецкой протестантской семье, обосновавшейся в Могилёве, в Белоруссии. Шмидты были скромными крестьянами, жившими на грани бедности. Всей семье, включая бабушек и дедушек с обеих сторон, пришлось пойти на большие жертвы, чтобы дать шанс ребенку, казавшемуся способней других. Юный Отто отправился учиться в Одессу, а затем в Киев. Везде первый ученик, он оправдал надежды семьи. Шмидт неизменно обращал на себя внимание исключительными способностями как к математике – его страсти, так и к языкам, живым и древним, которыми овладевал с легкостью. Отто много трудился и, в отличие от многочисленных современников-интеллектуалов, держался в стороне от политических вихрей, бушевавших в России. Он стал свидетелем восстания на броненосце «Потёмкин» в Чёрном море, бесконечных бунтов и погромов в Одессе. Он был в Киеве 18 сентября 1911 года, когда там убили премьер-министра Петра Столыпина, с которым связывались все надежды сторонников реформ. Во время Первой мировой войны, после февральской Революции 1917 года и отречения царя, Шмидт начал симпатизировать меньшевикам. Но работа прежде всего. Отто Юльевич преподавал в Санкт-Петербургском университете, когда революционная волна смела царскую Россию. В столице, где из-за постоянного хаоса, стычек и забастовок возникли большие трудности с продовольствием, его назначили снабженцем. И в этот момент произошла октябрьская Революция и к власти пришли большевики во главе с Владимиром Лениным. Отто Шмидт, как мы видим, не был ленинцем изначально, в отличие от некоторых других специалистов-полярников, которых отодвинули при его неожиданном назначении руководителем новых арктических экспедиций, задуманных властью. Среди тех, кем пренебрегли и кого обеспокоило странное назначение, Владимир Визе, географ, метеоролог, химик, историограф Арктики, участник полярных экспедиций с 1911 года. Шмидт обошел и Рудольфа Самойловича, «отца» советских арктических исследований, создателя и директора Института по изучению Севера, обладавшего, на первый взгляд, идеальной политической биографией: борец за социализм со студенческой скамьи, большевик-подпольщик, многократно арестовывавшийся царской полицией, продолжавший работу в эмиграции, и, после возвращения в Россию, верный слуга советской власти. Ему, геологу по образованию, Россия обязано установкой заявочных столбов на угольных месторождениях Шпицбергена, на которые затем СССР получил концессии. Он также много лет изучал вытянутый с юга на север архипелаг Новая Земля, составляя карту полезных ископаемых. Это Самойлович одним из первых поднял красный флаг с серпом и молотом на Земле Франца-Иосифа. Его имя было известно в научных кругах и за пределами страны. Самойлович участвовал во многих международных полярных конференциях. Он доказывал властям, что нужно вкладывать средства в новую область – дирижаблестроение, которая, по его мнению, открывала совершенно фантастические возможности для Арктики. Наконец, – и это самое главное, именно Рудольф (Рувим) Лазаревич Самойлович имел в глазах международного сообщества героический ореол, поскольку в 1928 году руководил операцией по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле, когда дирижабль «Италия» потерпел крушение во льдах. Самойлович на ледоколе «Красин» отыскал уцелевших членов экспедиции и буквально вырвал их из лап неминуемой смерти. Советский ледокол, спасающий экипаж дуче, – это очень впечатляло. После тех событий читатели иллюстрированных газет по всему миру легко узнавали овальное лицо, лысую голову, усы, как у моржа, и маленькие круглые очки основателя советской школы полярных спасательных работ.
Самойлович был самым опытным исследователем Арктики, Визе – признанным теоретиком. Хватало и других достойных кандидатов. Почему же советское руководство выбрало Отто Шмидта, по сути, дилетанта? Историки до сих пор так и не нашли ответа на этот вопрос. Самая правдоподобная гипотеза основана на анализе политического климата той эпохи. Прийдя к власти, Иосиф Сталин заявил о переустройстве всей экономики. Наступила эпоха «великого перелома», как провозгласил он. Гигантский прыжок, задуманный Сталиным, становился возможен только при разгроме традиционного сельского хозяйства, проведении насильственной коллективизации и фактическом порабощении крестьян. Именно им предстояло принудительно финансировать и обслуживать индустриализацию, без которой, как считал Сталин, страна и режим не имели никакого шанса выстоять. 1929-й – первый год этого перелома, сопровождавшегося репрессиями: крестьяне, священники, дворяне, политические соперники внутри и вне партии повсеместно преследовались. Сыпались доносы на якобы готовящиеся кампании по саботажу, и их мнимых организаторов – директоров заводов, инженеров, ответственных лиц всех уровней – снимали с постов и арестовывали. Расчищая таким образом поле, Сталин готовился взрастить собственную элиту, так называемых выдвиженцев, свежих кадров режима. Именно они, как полагал хозяин партии, будут строить новое общество. Они сильно отличались от революционеров предыдущего поколения, которых Сталин опасался, поколения, легко вступавшего в дискуссии и способного к критике, прошедшего через школу борьбы и подполья. Для новых лидеров главным принципом была партийная дисциплина, которую они путали с полным подчинением. И, главное, выдвиженцы были всем обязаны своему вождю, что и являлось лучшей гарантией преданности.
Отто Шмидт с этой точки зрения – весьма удобная фигура. Он похож на выдвиженца, в прошлом – сторонник меньшевиков, отошедший от них и проникшийся энтузиазмом, свойственным всем новообращенным. Он не из убежденных партийцев, а из тех, кто примкнул к партии позже. На разных постах, которые ему довелось занимать в 20-е годы, он продемонстрировал свою лояльность партийной линии. Работая в редакции «Большой советской энциклопедии», издании, имевшем стратегическое значение, поскольку в нем фиксировалась реальность, отвечавшая интересам режима, он сохранял верность марксизму. Находясь во главе Госиздата СССР, другого политического оплота власти, он сумел преградить путь некоторым неприемлемым с идеологической точки зрения научным работам. Так, именно Шмидт, как свидетельствуют архивы, ставил палки в колеса биологу А.Л. Чижевскому, основоположнику «гелиобиологии», объяснявшей большую часть поведения человека, а следовательно, и социальных явлений, изменениями активности Солнца. Несмотря на ходатайства знаменитых физиков, Шмидт запретил печатать работы Чижевского, несовместимые с диалектическим материализмом, согласно которому только борьба классов определяет движение истории. «Очень сожалею, – сообщал Шмидт Чижевскому, – но печатать ваш труд преждевременно… Госиздат, к сожалению, сейчас не может взяться за публикацию вашего дискуссионного труда по уважительным причинам… Не сердитесь, прошу вас, на меня. Я огорчен, что не могу быть вам полезным, как заведующий Госиздатом».48 Колея очень узкая, приходилось иногда делать виражи, следуя за изменчивой линией партии: в середине 1920-х годов Шмидт все-таки нарвался на ярость Сталина, издав сочинения Льва Троцкого, чья судьба, несмотря на его тогдашнюю работу в Кремле, была уже решена. Однако Шмидт все же зарекомендовал себя как усердный слуга советской науки, приняв участие, например, в работе контрольной комиссии, снявшей блестящего генетика Николая Кольцова с поста директора Института экспериментальной биологии и лишившей его статуса члена-корреспондента Академии наук. Научные выводы Кольцова являлись, как решила комиссия, возглавляемая Отто Юльевичем, «политически недопустимыми».49
Это были голодные времена, когда все жестко регламентировалось, когда царил тотальный дефицит – недостаток всего. Любой большой проект нуждался в покровителе, занимавшем достаточно высокую должность в правительственном аппарате. Только тогда можно было надеяться на доступ к материалам и высокоэффективному оборудованию, которое тогда часто расхищали еще на пути к промышленным предприятиям. Ведь на него тратили ценную валюту. Нужны были не столько компетентность и знания, сколько административный хозяйственный ресурс, пробивные качества, изворотливость. Всем этим обладал Шмидт. Его одобряла партия, он много лет проработал в правительственных структурах, занимавшихся снабжением. За несколько дней после назначения он сумел получить все, чего его коллеги по исследованию Арктики не смогли добиться за много месяцев: дополнительный бюджет в 40 тысяч рублей, оружие и взрывчатые вещества (взятые у военных Ворошилова), электрогенератор, заграничное оборудование, отнятое у ленинградской администрации, 60 железных бочек, – тогда как во всем порту Архангельска числилась лишь одна, и даже валюту, чтобы купить в Норвегии моторную лодку.50 Новые коллеги Шмидта потрясены. Значит, этого великана (рост Шмидта достигал почти 2 м) с кучерявой бородой и серыми глазами забросили на руководящую должность в области исследования Арктики за его лояльность, эффективность, чувство дисциплины и организаторский дар. И действительно, решение поставленных перед ним задач требовало талантов стратега и управленца. Миссия необычна: Отто Шмидту предстояло завоевать Арктику. А затем – поставить ее на службу Советскому Союзу.
Арктика со времен Октябрьской революции была в фокусе внимания Советской власти. Еще Ленин, желавший использовать недооцененный царизмом Крайний Север, вел переговоры с художником и исследователем Александром Борисовым. С точки зрения победившего марксизма-ленинизма, природа – это производительная сила, которая должна быть полностью подчинена интересам человека. Ее ресурсы – неистощимый резервуар, принадлежащий всем и обслуживающий всех. Новая экономика может черпать оттуда то, что могло послужить построению социалистического общества. Это касалось всей территории СССР, однако Крайний Север с его нетронутыми богатствами, охраняемый безжалостными стихиями, манил особенно. Именно в этих таинственных местах ведущие советские метеорологи – такие, как Молчанов и Вангенгейм,51 – надеялись найти «ключи» от климата, намереваясь познать его законы. Арктика, как писал Отто Шмидт, это «фабрика погоды».52 С 1920 года советская власть, еще нетвердо стоявшая на ногах, прибрала к рукам «Комсеверпуть», созданный незадолго до этого белым адмиралом Колчаком, расстрелянным в Сибири. Ученые и специалисты, работавшие в этом Комитете, стали весьма полезными трофеями. Теперь, как только речь заходила об Арктике, слова «завоевание», «приступ», «господство», «власть», «контроль», «наступление» стали ключевыми. И оставались таковыми на протяжении десятилетий. Следовало завоевать Север, победить его природу, и военный язык казался уместным. Согласно новой вере, только коллективизм способен был совершить этот подвиг.
* * *
У советской власти были и другие причины беспокоиться об освоении арктических просторов. Ледяные пространства, недоступные из-за отсутствия достаточно мощных ледоколов, после изобретения дирижаблей, а затем стремительного развития авиации во время Первой мировой войны, самым мощным державам того времени больше не казались неприступными. Резкий технологический скачок поменял ситуацию вокруг Крайнего Севера. Западные юристы, воодушевленные техническим преимуществом своих стран, откопали старый колониальный принцип, согласно которому физическое пребывание на территории становилось первым составным элементом суверенитета – право первого, сумевшего достичь неизвестных земель. Таким образом присоединение ранее недосягаемых территорий происходило при минимальных усилиях. Никто еще не побывал на Северном полюсе, неизвестно, не прячутся ли на последних градусах широты новые, не открытые земли? Мысль о том, что никем не занятые архипелаги могут быть освоены с воздуха, пугала государства с неразвитым воздушным транспортом. Уже в 1909 году Канада проявила инициативу, заявив, что все известные и неизвестные земли, расположенные в треугольнике, образованном самой западной и самой восточной точками ее территории и полюсом, будут рассматриваться как входящие в ее состав. К этому секторному принципу царская Россия присоединилась в 1916 году специальной дипломатической нотой. Она заявила права на острова и архипелаги, расположенные между двумя линиями, которые идут, с одной стороны, по русско-норвежской границе, а с другой – соединяют мыс Дежнёва и Северный полюс. Согласно этому документу, направленному в разгар войны правительствам союзных и дружественных держав, Новая Земля, Новосибирские острова, Земля Императора Николая II, а также остров Врангеля на востоке и Земля Франца-Иосифа на западе, не говоря уже о землях, которые еще предстояло открыть, рассматривались как неотъемлемая часть России.
Однако одних только прекрасных юридических принципов и заявлений о намерениях маловато. Особенно когда речь шла о государстве «рабочих и крестьян», раздираемом гражданской войной и подвергшемся остракизму со стороны мировой общественности. В 1920 году советское государство ждал неприятный сюрприз: по только что подписанному Парижскому договору, архипелаг Шпицберген (Свальбард) отходил Норвегии. Формально он не входил в «русский сектор», обозначенный несколькими годами ранее царским правительством, однако Шпицберген, который в прошлом русские поморы называли Грумант, издавна являлся одним из их традиционных промысловых районов. В 1912 году, незадолго до начала войны, русская экспедиция геолога Владимира Русанова, в состав которой входил Рудольф Самойлович, отправилась на архипелаг и поставила заявочные столбы на богатых залежах угля. Но на переговоры о судьбе архипелага, которые состоялись сразу после войны, непризнанная еще Советская Россия даже не была приглашена[153]. Это был только первый звоночек. Второй, еще более тревожный, поскольку речь шла об острове, располагавшемся в секторе, заявленном царской Россией, прозвенел на следующий год на другом конце Арктики. В 1921 году группа молодых искателей приключений высадилась на острове Врангеля, который они решили обжить, сделав из него канадскую колонию. Четверых юношей и одну двадцатитрехлетнюю девушку-эскимоску отправил туда известный полярный исследователь Вильялмур Стефанссон. Он был энтузиастом Крайнего Севера, в котором видел новую Землю Обетованную. Оторванная от всего мира группа засела на острове. Канада подтвердила силовую операцию, вызвав протесты Москвы и дипломатический конфликт. Однако авантюра закончилась трагически[154].
Но и это было не все. В 1926 году норвежский полярник Амундсен, выигравший гонку к Южному полюсу, достиг Северного полюса на дирижабле «Норвегия». В 1928 году потерпел крушение дирижабль «Италия» Умберто Нобиле. В тот же год американский пилот Уилкинс взлетел с мыса Барроу на Аляске, перелетел Северный Ледовитый океан и достиг Шпицбергена.53 За каждым полетом таилась надежда открыть последние неизвестные земли планеты, чтобы водрузить на них флаг своего государства. И каждая воспринималась Россией, вынужденной играть роль зрителя, как угроза. Российские власти с облегчением наблюдали, как исследователи возвращались по домам. На полюсе не было нового континента, не было и таинственного острова, в существование которого верили многие эксперты. В 1926 году Москва, желая предотвратить новые попытки «империалистов», подтвердила свои притязания на арктический сектор, заявленные десятилетие назад царской Россией. Советское государство не обладало авиацией, способной соперничать с воздушным флотом западных соперников. И оно в свою очередь принялось обучать полярных пилотов, способных бросить вызов белым ледяным пространствам, а затем и контролировать его. Однако давление со стороны иностранных государств только возрастало. Например, пользуясь внутренними проблемами в России, которые парализовали русские торговлю и промысел, норвежские рыбаки все чаще и чаще входили в воды Земли Франца-Иосифа. Норвегия готовила экспедицию с целью установить на одном из островов радиостанцию.54 В Москве никто не сомневается, что попытка аннексии не за горами. Медлить было нельзя. Следовало ускорить сбор топографических, геологических и океанографических данных о Советской Арктике. Картографировать, инвентаризировать. Самойлович настаивал также на необходимости как можно точнее установить протяженность континентального шельфа,55 который, как ему казалось, будут использовать будущие поколения. Увеличивать число полярных станций, обеспечивая свое постоянное присутствие, – лучшее, что можно сделать. И, конечно же, сохранить за собой Землю Франца-Иосифа, поскольку Норвегия в любой момент могла повторить сценарий Шпицбергена, – первоочередная задача Отто Шмидта. Вся эта деятельность стала сугубо политической. В этом, видимо, и состояла причина его назначения – еще один знак доверия Сталина. Арктика – это государственное дело, которое нельзя было оставлять исключительно в руках ученых.
* * *
Всего через два месяца после назначения великана-бородача ледокольный пароход «Седов», зафрахтованный для первой экспедиции Отто Шмидта, достиг Земли Франца-Иосифа. Подготовку свели к минимуму, поскольку нужно было обогнать норвежцев. 29 июля 1929 года три шлюпки спущены на воду у южной оконечности острова Гукера. Шмидт понимал всю важность пропаганды. Кроме того, он знал стиль мышления хозяина Кремля, поэтому и взял с собой группу журналистов и фотографов, а также одного оператора. На берегу, под высокими скалами, где носились тысячи гнездящихся птиц, Отто Шмидт торжественно установил флаг СССР. «В соответствии с доверенными мне полномочиями государственного комиссара, – торжественно произнес он, нарушая молчание льдов, – я водружаю этот флаг и объявляю Землю Франца-Иосифа неотъемлемой частью Союза Советских Социалистических Республик!» Устанавливать флаг помогал боцман, по совместительству – секретарь партийной ячейки. Раздался залп из карабинов и револьверов. Как свидетельствуют очевидцы, салют был на всякий случай повторен специально для оператора, снимавшего происходившее. Вокруг – черные камни, лед, снег.56 Несколькими днями позже в бухте Тихой, на том же острове Гукера, в самом сердце Земли Франца-Иосифа, торжественно открыли новую полярную станцию. Это вторая советская станция на островах Европейского сектора Арктики[155]. Скоро будут созданы и другие. Через шесть лет их станет уже 72, к началу Второй мировой войны – почти сотня.57 Побережье Северного Ледовитого океана теперь размечено полярными станциями, словно символизировавшими твердую волю нового государства заявить о своем присутствии в этой части планеты.
Москва была довольна. Но это лишь начало дела, порученного Отто Шмидту. Разве кому-нибудь было под силу отменить северный мара фон? Кто осмелился бы испытывать терпение Иосифа Сталина, желавшего превратить завоевание Арктики в один из самых великих эпизодов своего правления? «Освоение» архипелага Земля Франца-Иосифа Советским Союзом – таков был официальный термин – продолжилось на следующий год.
Шмидт с помощниками провел экспедицию уже немного восточнее – в Карском море. Он добрался до Северной Земли, архипелага, положение которого на карте было еще неизвестно. Там экипаж снова поднял над мерзлой землей советский флаг с серпом и молотом и построил несколько домиков полярной станции на острове Домашнем. Там осталось четверо смельчаков. Предполагалось, что за ними вернутся через год или два. В это же время Владимиру Визе, научному руководителю Института по изучению Севера, который перешел под начало Шмидта вместе с сотрудниками, пришла в голову идея, имевшая все шансы понравиться новым хозяевам страны: он заявил, что пришло время вернуться к историческому проекту, позорно брошенному царским режимом. Открыть раз и навсегда Северный морской путь! Не только ради научных изысканий во время зимовки в окружении местных жителей, как вынужден был поступить за 50 лет до этого Норденшёльд, но для организации регулярного торгового сообщения сезонного характера. Ради новой морской транспортной артерии, которая должна была прорезать советскую Арктику. И все это, конечно же, благодаря техническому прогрессу, героическим усилиям всего советского народа и мудрости великого Сталина.
Речь шла – не более и не менее – о воплощении мечты британских и голландских мореплавателей конца XVI века. Преуспеть там, где офицеры экспедиции Беринга, а затем сибирские купцы – Сидоров, Сибиряков – и, наверное, другие люди, имена которых до нас не дошли, отступили под натиском стихий. У Визе и Шмидта были новые аргументы, чтобы отстоять проект: отчеты геологических экспедиций, работавших в Сибири предшествующие десятилетия. Например, в записках Николая Урванцева, район Норильска представлялся в виде гигантского автономного горнодобывающего предприятия. Были еще отчеты его коллеги, Сергея Обручева, отправившегося на далекую Колыму. 11 сентября 1929 года от него пришла телеграмма в Москву. Обручев сообщал, что горный хребет длиной 700 км, а шириной —200 км, который он изучал, очень перспективен для поисков золота! Местные власти сообщали, что слухи об этом немедленно вызвали появление ручейка золотоискателей.
Но до Норильска и Колымы еще нужно было добраться. И постараться, чтобы слухи о совершенных открытиях не привлекли завистливого внимания иностранных держав. Уже поступали сообщения, что по всему тихоокеанскому побережью молодого СССР все чаще появляются американские рыбопромышленники и строят поселки на азиатском берегу Берингова пролива. Нехватка советских судов в том регионе – основная причина такого положения дел. А что, если отсутствие достойного флота станет соблазном для «интервентов» и иностранных «империалистов»? Когда в 1931 году Япония императора Хирохито атаковала и заняла Манчжурию, уровень тревоги достиг максимума. Советские позиции на Дальнем Востоке настолько слабы, что даже одно-единственное столкновение с империей Восходящего Солнца вполне могло привести к еще более чудовищному, нежели в 1905 году, поражению.
Открытие Северного морского пути – уже не просто возможность, это стратегическая необходимость. От этого пути зависит эксплуатация только что открытых колоссальных природных месторождений. И, возможно, покорение Сибири.
28 июля 1932 года ледокольный пароход «Александр Сибиряков» вышел из архангельского порта и направился в Тихий океан. «Беллавенчур», сошедший с шотландских верфей 20 годами ранее, был переименован в «Александр Сибиряков» в честь умершего, как считали тогда, сибирского мецената. На самом деле Александр Сибиряков, разоренный революцией, доживал последние месяцы в пансионе в Ницце. Его нахождение там стало возможным исключительно благодаря пожизненной пенсии, которую выплачивала ему шведская Академия наук в благодарность за его труды.58 Экспедицию на «Сибирякове» подготовил Отто Шмидт. На борту находились 50 членов экипажа, ученые и, главное, представители ведущих советских периодических изданий, знаменитый кинорежиссер Марк Трояновский[156], писатель Сергей Семёнов, живописец и график Фёдор Решетников.59 Имя капитана следует запомнить, поскольку он сыграет в последующих событиях важную роль, – Владимир Воронин, старый морской волк, один из лучших знатоков холодных вод, лидер, которого любил экипаж, и, как станет известно много позже, человек, глубоко верующий и прохладно относившийся к методам нового режима. Роль помощника начальника экспедиции как-то сама собой закрепилась за Владимиром Визе, немало потрудившимся над научными основами предприятия. В частности, он составил классификацию арктических льдов по возрасту. В начале 1930-х годов Визе выявил потепление климата, что породило надежды на менее плотный паковый лед. Опыт показал, что он был прав. Через два месяца и четыре дня «Сибиряков» вышел в Тихий океан, впервые в мире пройдя по Северному морскому пути за одну навигацию. Отто Шмидт с законной гордостью отмечал, что успех экспедиции был с энтузиазмом воспринят советской страной. Руководители партии во главе с товарищем Сталиным от всего сердца приветствовали ее участников.60 Глава экспедиции, впрочем, не забыл отметить, что подвиг «Сибирякова» стал возможен исключительно благодаря блестящим прогнозам Визе и состоянию океана, меньше, чем обычно, покрытому льдами. И еще благодаря везению. В середине сентября четыре лопасти винта были повреждены льдом. Экипажу и членам экспедиции пришлось перетаскать 400 тонн угля с кормы на нос «Сибирякова», чтобы поднять сломанный винт и заменить его. Однако через два дня не выдержал гребной вал и винт ушел на дно, судно осталось без движителя и стало игрушкой ветра и течений. Тогда экипаж изготовил из черных от угля трюмных брезентов импровизированный парус. Дул попутный ветер, и под этим черным парусом, придававшим «Сибирякову» пиратский вид, экспедиция двигалась четыре дня. 1 октября судно вошло в Берингов пролив, откуда его отбуксировали на Камчатку.
Путь открыт? Самое большее – приоткрыт. Именно это и объяснил Отто Шмидт Сталину, принявшему его в Кремле после возвращения. Шмидт предложил строить порты, склады, топливные базы на протяжении тысяч километров. Создавать настоящий полярный флот. Сталин, меривший шагами кабинет и куривший трубку, спросил его: «Вы полагаете, что это возможно?» «Если будет принято решение», – ответил Шмидт. Сталин всмотрелся в карту. «Ну да! Мы этот Наркомвод каждую неделю ругаем за то, что он нефть из Баку по Волге не может как следует перевезти, а вы хотите, чтобы он думал о вашем Тикси, порт там строил? Он же думает, что завтра получит выговор за перевозку нефти, а за ваши дела, за Тикси, выговор ему грозит года через два-три. Не сделает он ничего в Тик-си!» Было решено создавать специальную организацию, которой будет поручено обустройство Северного морского пути.61
По словам одного из помощников Отто Шмидта, так в декабре 1932 года было решено создать Главное управление Северного морского пути, сокращенно Главсевморпути. Эта организация, куда более мощная, чем министерство, должна была управлять всем советским Крайним Севером и претворять там в жизнь решения партии и правительства. Постановление СНК звучало так: «Создать при СНК Главное управление Северного морского пути, поручить ему проложить этот путь и содержать в исправном состоянии».62 По мнению генерального секретаря партии, эта организация могла бы сравниться с Ост-Индской компанией. Однако, как уточнял он, «у нас построена она должна быть не на крови, не на костях местного населения, а на базе поднятия их культуры <…> у Ост-Индской компании были свои войска для подавления восстаний, а у нас все должно решаться мирным путем». И пошутил: «Пушек Шмидту не давать!».63 Через несколько дней новая административная единица начинает действовать и издает первый приказ. Он подписан Отто Шмидтом, который был назначен начальником организации, в шутку уже названной «наркоматом холода». Сталин, как обычно, спешил. И вслед за ним спешил Отто Шмидт. Как только новой организации поручили непосредственное обустройство арктического пути, медлить стало невозможно. Пункт № 4 в следующем Постановлении СНК не оставляет сомнений на это счет: перестроить и сгустить сеть метео– и радиостанций в Арктике таким образом, чтобы в 1933 году все наиболее важные работы, необходимые для открытия навигации по Северному морскому пути, были закончены.64 Постановление датировано 20 декабря 1932 года! Нужны конкретные результаты, немедленные и очевидные, поскольку любая неудача, любая отсрочка равна приговору, причем в буквальном смысле слова. Таков был закон системы. Поэтому, не дожидаясь окончательного формирования новой структуры, не зная еще даже точных границ своих полномочий как хозяина Главсевморпути, Шмидт решил организовать новую экспедицию и повторить опыт «Сибирякова», вернувшегося всего несколько недель назад. Было бы уже подвигом снова пройти тысячи километров воды и льдов, но Шмидт поднимает планку выше: переход планируется на обычном грузовом судне, хотя и ледокольного типа. Его грузовые возможности вдвое превышают те, что были у скромного «Сибирякова». Таким образом, он больше походил на обычные торговые суда, которые предполагалось впоследствии пустить по новой морской магистрали. Можно ли найти лучший способ доказать скептикам, что морской путь можно использовать? Ледокол предполагалось задействовать только на самых трудных участках пути, где плотные льды преграждали дорогу.
Это был огромный скачок вперед. «Сибиряков», совершив впервые в мире сквозной арктический переход за одну навигацию, уже поставил своего рода исторический рекорд. Обещание Шмидта повторить этот подвиг напоминало стремление рядового спортсмена выполнить то, что под силу только олимпийскому чемпиону. Этот дерзкий вызов витал в воздухе. Шмидт предложил капитану «Сибирякова», вернувшемуся из Японии, где его корабль немного отремонтировали, отозваться на призыв времени. «Повторить рейс «Сибирякова» необходимо, – писал он Воронину, – чтобы рассеять неверие в этот путь, как путь торговый, как путь, необходимый Советскому Союзу, а неверие есть у многих, многие считают рейс «Сибирякова» счастливой случайностью».65
Воронин согласился, однако предполагал, что отправится в экспедицию на борту «сильного» ледокола. Поняв же суть замысла, отказался от участия в эксперименте. В июле, когда навигация в Арктике уже была в разгаре, ему показали в ленинградском порту судно, предназначенное для этой экспедиции. Он тут же понял, что оно не подходит для решения поставленной задачи. «Мне размеры «Челюскина» не нравятся, – писал Воронин, – и по типу не испытанного во льдах парохода строить такие же новые суда считаю преждевременным. По моему мнению, дать некоторое изменение в размерах, увеличив грузоподъемность, строить суда ледокольного типа по типу уже испытанных судов «Седов» и «Сибиря-ков»».66 И, крайне недовольный, добавил, что этот корабль, скорее всего, ждет несчастье.67 Судно, о котором шла речь, построили в Дании. Это было грузовое судно примерно 100 м в длину с широкой носовой частью. Его корпус был недостаточно укреплен, чтобы ходить во льдах. Советская сторона окрестила корабль «Челюскиным» в честь одного из героев экспедиции Беринга, состоявшейся двумя веками ранее. Решение официальной комиссии звучит еще более сурово, чем выводы капитана Воронина: корабль построен без учета заданных условий и совершенно непригоден для ледового плавания.68 К выводу комиссии был приложен длинный список технических недостатков, большую часть которых исправить не представлялось возможным. На самом деле у Отто Шмидта не было выбора. Никакого другого, пусть даже и еще менее ледокольного типа судна, не существовало. Шмидт знал, что должен отправляться в экспедицию. Вопреки вероятной неудаче, он преисполнен энтузиазма. Возникает даже вопрос, что послужило движущей силой его твердого намерения идти на обычном грузовом судне: объективная необходимость или его свободный выбор? Возможно, он был рад, что ему выделили хотя бы «Челюскин», несмотря на все недостатки последнего. Ведь ждать, пока другое судно сойдет со стапеля, пришлось бы, скорее всего, очень долго. Спешка отразилась и на всех других подготовительных работах: для экспедиции не предусмотрено никакого дополнительного финансирования и снабжения, кроме заложенного в план экономического развития на 1933 год. Шмидту пришлось снова пойти на ухищрения и придумывать разные комбинации, чтобы заполучить дорогое оборудование и редкие продукты – в СССР в это время снова голод. Что же касается команды, то кандидатуры согласовывались. Начальник экспедиции сначала мобилизовал ветеранов «Сибирякова», в частности радиста Эрнста Кренкеля. В составе экипажа и экспедиции люди с хорошими связями, что в списке приоритетов у нового главы Главсевморпути всегда стояло на первом месте. Например, кинорежиссер М. Трояновский и его коллега А. Шафран, художник Ф. Решетников, писатель С. Семёнов, фотограф П. Новицкий, журналист Л. Муханов и даже модный поэт И. Сельвинский. С капитаном все получалось сложнее: конечно, Шмидту хотелось заполучить опытного Воронина. Но капитана не удовлетворили немногие технические улучшения корпуса и носовой части, и он оставался при своем мнении о непригодности «Челюскина» к такому плаванию. В конце концов, из уважения к Шмидту, он согласился отвести «Челюскин» из Ленинграда в Мурманск – порт отправки экспедиции, в обход Скандинавии. Это позволит, как рассудил он, все же протестировать возможности судна в менее опасном море. Однако, прибыв в Мурманск, Воронин узнал, что другого капитана нет[157] и что судьба экспедиции зависит от него. Скрепя сердце, он согласился и записал в дневнике: «Знаю, что меня ждет». Воронин осознавал, насколько трудно будет протащить это «корыто» через арктические льды.69
Вокруг ядра из опытных людей Шмидт собрал более внушительную группу ученых, чем в предыдущий раз. В нее вошли один физик (которому немедленно поручили следить за сопротивлением корпуса судна), биологи, гидрологи, зоологи, один метеоролог, один химик. Наука – там, где она и должна быть, на передовой строительства нового общества. Впервые судно снабдили легким гидропланом для ледовой разведки. Им управлял один из первых полярных летчиков Михаил Бабушкин. Ну и, конечно, пролетарии: 12 плотников, впервые оказавшихся в открытом море, которые должны были высадиться на острове Врангеля и построить там новые дома для полярной станции. Предполагалось снять с острова группу, зимовавшую уже четыре года, и высадить 18 новых зимовщиков, в том числе две семьи. Одна из них даже взяла с собой годовалую дочь Аллу. Вторая семья ожидала пополнение – женщина находилась на позднем сроке беременности. Экипаж набирали в спешке, поскольку времени практически не было. В Мурманске капитан Воронин потребовал, чтобы с судна сняли нескольких любителей алкоголя, которые могли представлять опасность в открытом море. В суматохе никто не обратил внимания, что на «Челюскин» затесался крестьянин, которого разыскивало ГПУ – сталинская политическая полиция. Крестьянина Дмитрия Березина обвиняли в том, что «он состоял в контрреволюционной группировке, которая систематически вела разлагательную работу в колхозе, агитировала против проводимых мероприятий… сорвала весенний сев… организованно расхитили колхозную рожь».70 Его семья – жена и четверо детей – голодала. Березина арестовали, но в декабре 1932-го ему удалось сбежать. Его младший брат устроился печником на «Челюскин», и Березин надеялся укрыться от преследователей на Севере, там, где никому не придет в голову его искать.
«Челюскин» – это Ноев ковчег советского общества. Во главе экспедиции, хотя и в тени начальника – великана-бородача, стояли два заместителя, которым было поручено следить за исполнением воли партии: И. Баевский и политический комиссар А. Бобров. В царстве Сталина многое причудливо и зыбко: сам Бобров, большевик самого раннего призыва, провел год в заключении по обвинению в контрреволюционной деятельности. Неизвестно, почему его внезапно отпустили и почему назначили политическим комиссаром столь важной экспедиции. Бобров – человек запуганный. Стоя за плечом Отто Шмидта, он больше всего боялся, что из-за малейшей провинности опять окажется в аду.
* * *
Наконец, «Челюскин» вышел из Мурманска. На его борту 112 человек, 26 коров и четыре свиньи, 3 500 тонн угля, 800 тонн грузов, провизия на 18 месяцев. 10 августа 1933 года – середина навигации уже позади. Другие корабли, стоявшие на якоре в большом советском порту, подняли флаги «Счастливого пути и счастливого возвращения». Курс на восток, в сторону Берингова пролива, которого кровь из носу следовало достичь до начала северной зимы. Этой экспедиции предстояло стать легендой. «Челюскин» преподнесет советскому режиму целую одиссею.
Торговое судно очень быстро оправдало все самые мрачные прогнозы морской комиссии и капитана Воронина. Его недостатки проявились, стоило лишь оказаться в открытом море. И немалые. Сергей Гудин, правая рука капитана, отмечал «плохую управляемость при малом поступательном движении, что затрудняло маневрирование во льдах», а также «неудачные обводы носовой части – излишняя скуластость» и то, что «при переходах по открытой воде судно имело крайне стремительную бортовую качку».71 15 августа штурман Марков записал в дневнике: «Вчера обнаружена была течь в трюме № 1 по обоим бортам. По правому борту разошелся шов и ослабли заклепки, а по левому погнуло стрингер и срезало несколько заклепок. На места течи в корпусе поставили цементные ящики. Потом мы обнаружили большую вмятину. Льда, настоящего льда мы, собственно говоря, еще не видели. «Челюскин» его не попробовал, а дел уже уйма. Неприятности доставил нам дряхлый лед».72 Когда же судно встретилось с первыми льдами, возникла другая неожиданная проблема: дорожка, пробитая ледоколом «Красиным», оказалась слишком узкой для «Челюскина». Хуже того, «Челюскин» из-за плохой маневренности с трудом держался в кильватере ледокола.
В последние дни августа произошло радостное событие. В семье геодезиста Васильева, отправившегося с женой на зимовку на остров Врангеля, родилась дочь. Это произошло в каюте в 5:30 утра. Поскольку девочка родилась посреди Карского моря, ее назвали Кариной. Координаты пребывания 130 пассажиров занесли в свидетельство о рождении нового человека: «место рождения: широта 75° 46 5' N, долгота 91° 06´ E, глубина 52 м».

На следующий день «Челюскин» прошел мыс с таким же названием, самую северную оконечность Евразии. На этот раз, казалось, удача улыбнулась экспедиции, поскольку лед, мешавший проходу, оказался разбитым. Однако капитан и его помощники тревожились: начиналась самая рискованная часть пути. Согласно прогнозам ученых и опыту немногих мореплавателей, которые побывали в этих опасных водах, нужно было добраться до Берингова пролива до 20 сентября. Только в этом случае появлялись шансы избежать ледовой ловушки. Однако ледовая разведка на маленьком гидроплане Бабушкина показала, что океан был не такой, как годом ранее, когда отважному «Сибирякову» удалось не попасться в тиски льдов. Не задерживаясь нигде, не останавливаясь на встречавшихся островах, как в Карском море, судно быстро шло на восток и за первую половину сентября благополучно пересекло море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Ситуация ухудшилась, когда «Сибиряков» вошел в Чукотское море, отделявшее его от Берингова пролива. 13 сентября лед затянул все пространство до горизонта. Капитан пытался провести пароход по еще не замерзшим разводьям. По правому борту, обращенному к берегу, пассажиры «Челюскина» увидели, словно дурное предзнаменование, три застрявших во льдах грузовых судна Северо-Восточной экспедиции Наркомвода и Колымской особой экспедиции. Они ждали ледореза «Литке», который должен был освободить их и провести к Тихому океану. Корабли зафрахтовал «Дальстрой», недавно созданная организация, разрабатывавшая знаменитые месторождения полезных ископаемых бассейна Колымы. Суда прибыли из Владивостока, обогнули мыс Дежнёва, достигли устья Колымы, где были вынуждены, не имея удобного рейда, выгружать сотни тонн строительных материалов и сотни заключенных на пустынный берег. Там только предстояло построить первый причал. Работы шли уже две навигации. Архивные документы свидетельствуют о поистине дантовских условиях работ: заключенных, именовавшихся «рабочими “Дальстроя”», перевозили в трюмах. Путешествие длилось много недель, иногда сопровождаясь грохотом льда, бившегося о корпус судна, который устрашающе трещал. Из-за мелководья корабли не могли подойти к берегу ближе, чем на восемь или десять километров. Нужно было переносить грузы на баржи, неприспособленные к перемещению по морю. Некоторые из них тонули. Ходили слухи, что какие-то баржи унесло в открытое море вместе с пассажирами[158]. Часть грузов не достигала берега. Весной 1933 года в условиях, описывашихся как «невыносимые» в прямом смысле этого слова, несчастные зеки, промерзшие и больные, ночевавшие в палатках, вбивали сваи первых трех причалов, возводили бараки для охраны и склады вместимостью до трех тысяч тонн.73 Попавшие в ледяную ловушку суда, мимо которых прошел «Челюскин», увозили часть первых зимовщиков, в том числе самых больных заключенных. Двум кораблям, остановленным льдом год назад, предстояла вторая зимовка. На борту были страдающие цингой, из них треть уже не могла двигаться. Свидетели из членов экипажа рассказывали о поистине катастрофической ситуации: не хватало продуктов и теплой одежды. Без немедленной помощи вряд ли можно было надеяться, что пассажиры прибудут живыми во Владивосток. Капитаны судов каравана по радио умоляли прислать ледокол и высвободить их как можно быстрее.74
Члены экспедиции «Челюскина» не понимали, на какую драму они смотрели в бинокли. «13 сентября в два часа дня, – записал топограф Я. Гаккель, – мы прошли мимо судов колымского рейса – «Анадырь», «Хабаровск» и «Север», стоявших у мыса Аачим и перегружавших уголь».75 Корабли разделяли несколько кабельтовых: один шел навстречу славе, другие везли в трюмах рабов. Вместе они являли собой два образа сталинского освоения Арктики. Воронин понимал, что начались настоящие трудности, и в сложившихся условиях нельзя надеяться на быструю помощь ледореза «Литке», который должен спасать суда-призраки, выполнявшие «специальную операцию “Дальстроя”». В следующие недели ледорезу удалось в целом справиться с этой задачей[159].
С этого дня лед стал единственной декорацией экспедиции. Все чаще и чаще экипаж слышал глухой пугающий звук винта, ударявшегося о лед. 17 сентября одна лопасть сломалась в более плотном льду. «Челюскин» находился в 500 км от Берингова пролива и, как и его предшественник «Сибиряков», был обречен дрейфовать по милости арктических течений. Члены экипажа то и дело спускались на лед, чтобы взорвать его и таким образом попытаться пробить проход до свободной воды. Но эти усилия, достойные Прометея, оказались трудом Сизифа. Ледяные поля, чуть заметно покачивавшиеся и перемещавшиеся под мощным воздействием ветров и течений, простирались повсюду до самого горизонта. При сжатиях лед иногда образовывал за несколько часов стены торосов выше лееров, а иногда внезапно ломался, в мгновение ока отрезая спустившихся на лед людей от судна. Однажды трещина возникла так неожиданно, что люди едва успели подняться на пароход.76
«Челюскину» сначала везло, попутное течение несло его на восток, в сторону Берингова пролива. Но оно капризно, и потому поворачивало судно и толкало то вперед, то назад. Корабль превратился в пробку, качавшуюся между опасными ледяными глыбами. Мыс Сердце-Камень, например, миновали не менее девяти раз в обе стороны. Впереди экспедиция различала караван пароходов «Дальстроя», обогнавший «Челюскин» благодаря «Литке». Неделя шла за неделей, приближалась зима – словно неизбежный приговор. Далеко позади остался конец сентября, момент, когда судно должно было войти в Тихий океан. Весь октябрь – это молчаливый дрейф, покорность стихиям. Руководство экспедиции больше всего опасалось Колючинской губы, само название которой превратилось в синоним невезения с тех пор, как в 1878 году «Вега» Норденшёльда застряла там на девять месяцев. К тому же годом ранее именно там «Сибиряков» потерял винт. В любом случае планы экспедиции нужно было менять. После воздушной разведки Шмидт решил не идти на остров Врангеля, чтобы забрать зимовщиков и высадить их сменщиков и строителей. Это решение далось ему нелегко. Ведь оно означало, что группе на острове Врангеля, так надеявшейся попасть наконец на континент, придется остаться на пятую зимовку без снабжения. Пользуясь относительной близостью берега и появлением охотников-чукчей, услышавших звуки взрывов, на сушу отправились восемь пассажиров, уменьшив расход продовольствия и топлива в случае вынужденной зимовки. Однако женщины, дети и в том числе новорожденная девочка остались на пароходе. На берег ушли самые крепкие члены экспедиции, потому что даже вместе с опытными местными жителями пройти много километров по льду – крайне опасное испытание. И в довершение несчастий в угольном бункере начался пожар. Чтобы справиться с ним, все пассажиры, сменяя друг друга, на протяжении 48 часов в саже и удушливом дыму лопатами выгружали сотни тонн топлива, чтобы ликвидировать очаг возгорания.
В первые дни ноября, казалось, Нептун и Эол соединили усилия, чтобы вытолкнуть «Челюскин» в Тихий океан, к которому судно подобралось уже совсем близко. Пассажиры неотрывно следили за продвижением парохода, подчиненного воле течения. 50, 40 потом 20 км. До Берингова пролива было уже рукой подать. Тысячи километров отделяли судно от Европы. Но пароход вмерз в ледяное поле шириной 25 км, освободиться из которого уже не мог. Он двигался к цели со скоростью 1,5 км/ч. 1 ноября заместитель Шмидта Баевский записал в дневнике: «Проходим меридиан мыса Дежнёва. Вот он, Берингов пролив – прямо к югу от нас. Хотим форсировать это небольшое расстояние. <…> Снова и снова ведем подрывные работы».77
Продолжалось невидимое исполинское противостояние стихий, от которого зависела судьба экспедиции. В самом проливе на поверхности преобладали течения с юга на север, как будто бы Тихий океан выливает свои воды в Арктику. А вот режим ветра зависит от времени года. В тот момент северный ветер заставлял верить, что снова произойдет чудо. 3 ноября пароход уже был в проливе на уровне островов Диомида. Шел снег, горизонт не просматривался, но впереди виднелась свободная вода – не далее километра, по оценкам капитана Воронина, который, впрочем, был очень встревожен. 4 ноября он писал: «В полумиле от нас свободная вода <…> Люди, не понимающие всей серьезности положения, еще вчера глядя на чистую воду, на острова Диомида, на Берингов пролив, считали, что рейс уже близок к завершению <…> Забравшись в марсовую бочку, я видел, как гуляет зыбь, ходят морские звери, пускают фонтаны киты».78 И снова, как и год назад, стихии помогали, так что отважная попытка почти удалась. Однако 5 ноября ветер внезапно стих. «Челюскин» замер на несколько часов на границе двух океанов. Затем течение и изменившийся ветер, пришедший с Тихого океана, повлекли его к северу, который, как все надеялись, остался позади. Поскольку из-за повреждения самолетом пользоваться было нельзя, один из членов экипажа отправился на лыжах просмотреть ледовую перемычку шириной несколько сотен метров, отделявшую пароход от полной свободы. Он заметил трещины, однако поле оказалось слишком толстым, чтобы можно было надеяться пробить необходимый проход: «Не помогли даже три тонны аммонала», – констатировал капитан. В этот ужас никто не хотел верить. На следующий день свободная вода уже в 20 км, ветер усилился. Воронин и Шмидт по рации призывают на помощь ледорез «Литке», которому удалось вывести из льдов часть судов Дальстроя. Его капитан ответил, что во время выполнения задания судно получило большие повреждения, рулевое управление серьезно нарушено, обнаружились течи. Он добавил тем не менее, что его экипаж готов пойти на все, чтобы спасти «Челюскин» от долгого зимнего дрейфа, подчиненного арктическим течениям.
Все понимали, что «Челюскин» ждала катастрофа. Тревога все нарастала, но, судя по собранным впоследствии свидетельствам, постоянно совещавшееся начальство испытывало и более сильное чувство. Страх. Страх не столько неудачи, которая всегда возможна, когда дело идет о дерзкой и рискованной экспедиции. Страх навлечь недовольство властей и, конечно же, в первую очередь, товарища Сталина, который любил назначать виновных и уж кротостью точно не отличался. Капитан Воронин, который еще до отплытия знал, что это путешествие – проверка, боялся, что его обвинят в безответственности. Капитан «Литке» А.П. Бочек, вопреки благоразумию, надеялся вытащить своего коллегу из опасной ситуации, опасаясь обвинения, что бросил героев на произвол судьбы. Политический комиссар Бобров тоже боялся. За два года до этих событий он уже провел 15 месяцев в камере НКВД и не понаслышке знал, что ждет «врага народа», арестованного вторично. Бобров так боялся, что несколькими неделями позже отправил с парохода загадочную телеграмму Михаилу Калинину, одному из его старых товарищей по революционной борьбе, а теперь члену правительства Советского государства: «Москва Кремль Михаилу Ивановичу Калинину / Взволнован сообщением из дома тчк Не рецидив ли болезни 1930 года Убедительно прошу выяснить зпт телеграфировать п/х Челюскин Бобров».80 Комиссар, конечно же, не получал никаких тревожных известий от семьи. Его просьба, адресованная тому, кого он считал своим потенциальным защитником, была вызвана плохо завуалированным страхом новых политических обвинений[160].
Даже сам Шмидт боялся. Пропаганда на все лады склоняла приговоры, выносившиеся «саботажникам», неожиданно обнаружившимся во всех отраслях хозяйства. Шмидт осознавал, чем придется заплатить за фиаско первой же экспедиции, которой он руководил в новом качестве. Именно поэтому он тщательно следил, чтобы ответственность за трудные решения ложилась на коллектив, а лучше – на Москву или других, сторонних, участников событий, не находившихся на борту «Челюскина». Так произошло, например, когда пришлось отказаться от помощи «Литке», казавшейся единственным шансом на спасение. Повреждения ледореза были столь сильны, что он рисковал сам погибнуть. Согласно официальному изложению событий, в каюте Шмидта прошло совещание руководителей экспедиции. На нем приняли коллективное решение отпустить ледокол. Единогласно. Налицо полный набор: партийная дисциплина, жертвенность и героизм. Однако в рапорте для Москвы Шмидт все же приписывает несостоявшееся спасение «усталости экипажа “Литке”».81 Слова тщательно подобраны, они могут стать гарантией жизни.
Мощные течения Северного Ледовитого океана завладели дрейфовавшим судном. Достаточно было нескольких дней, чтобы унести его далеко от Берингова пролива, а нескольких недель – прочь от каких бы то ни было берегов. Наступила зима, палуба корабля покрылась слоем льда и сугробами, через которые экипаж протоптал узенькие дорожки. Конечно же, речь уже не шла о том, чтобы выйти в Тихий океан. Наиболее оптимистичные из ученых полагали, что «Челюскин» сумеет освободиться из ледового плена к 25 июля 1934 года. В лучшем случае – в Северной Атлантике. Но пока шел 1933 год, и температура упала ниже –30 °C. Нужно было готовиться к зимовке. И в первую очередь – экономить уголь: оставшихся 400 тонн хватало, чтобы котлы работали и чтобы в общих помещениях поддерживалась нормальная температура. Однако следовало позаботиться о том, чтобы в нужный момент оказалось достаточно топлива для продолжения пути. Отопление ограничили. Внутри парохода и в каютах температура не превышала 10 °C. Но Шмидт знал, что холод – меньшее из зол. Самый коварный враг – деморализация среди пассажиров. Полярная ночь, отсутствие солнца, бесконечная белая пустыня вокруг, страшный треск корпуса в железных объятиях льда – все это неизбежно порождало депрессию. Тем более, что для многих участников экспедиции это был первый опыт выживания в море. Конечно, были и желающие отправиться на континент пешком по льду, бросив товарищей по несчастью. 150 км через гряды торосов и коварные трещины, в страшном холоде, не говоря уже о белых медведях, часто бродивших неподалеку от парохода. Это было бы совершенным безумием, однако такой план то и дело обсуждали пассажиры «Челюскина». Отто Шмидт, великолепный организатор и природный лидер, придумывает множество совместных занятий: прогулки на лыжах по льду, охота на песцов, уроки арифметики, алгебры, геометрии, истории, географии и даже немецкого языка. Сам Шмидт читал длинные лекции для всех желающих в «красном уголке», где была также библиотека – политические и научные труды. По вечерам – песни, игра на мандолине, гитаре или балалайке, фокстрот в войлочных тапочках.
Начальник экспедиции приказал собрать на палубе все, что могло понадобиться в случае гибели парохода. Если бы случилось худшее, пришлось бы очень быстро высаживаться на лед. «Челюскин», плененный льдами, плывший по воле арктических течений, все сильнее углублялся в океан, и никто не мог предсказать ни направления его дальнейшего движения, ни длительности дрейфа. «Фрам» Нансена блуждал почти три года, пока наконец сумел вырваться из объятий льда. Однако он был специально создан для такого эксперимента, в отличие от советского парохода Отто Шмидта. Шли недели. Экспедиция затерялась в окончательно опустившейся полярной ночи. За спиной уже был и декабрь, и Новый Год, один из главных праздников в советском календаре. Прошел длинный январь. Холод не ослабевал и в феврале. День за днем все по очереди приводят в порядок палубу, разбивают лед, стараясь главным образом очистить корпус от острых льдин, которые могли его пробить. Сизифов труд, неравная дуэль с силами природы, о которой рассказал радист Кренкель: «Едва успевали мы выколоть и оттащить ощутимую порцию искрошенного нашими усилиями льда, как из глубин в проруби всплывали притаившиеся подо льдом глыбы. Молча занимали они освобожденный участок. В этой тишине и неотступности было что-то страшное, давящее на психику».82 6 февраля лед внезапно поменял поведение. Огромный белый массив, окружавший пароход и не дававший ему продвигаться, неожиданно издал грозный рык. Глухой грохот, похожий на близкие взрывы, указывал, что лед ускорил движение и начал ломаться на большом пространстве. Вокруг парохода он страшно трещал. 12 февраля штурманы определили скорость дрейфа – 7 м/мин. Они допускали, что столь быстрое движение означало верную гибель судна. «Не знаю, что ожидает нас в эту ночь, – писал физик Ибрагим Факидов. – Жизнь – как на вулкане или на открытых позициях. Из салона слышны звуки струнного оркестра. Издали доносятся глухие стуки».83 Образовалась трещина, которая шла перпендикулярно корпусу. Это был плохой знак, указывавший на то, что ледяные валы отныне будут давить прямо на металлический корпус «Челюскина». И, что еще ужаснее, гряда торосов в нескольких сотнях метров, уже на протяжении многих недель являвшаяся частью пейзажа, внезапно тоже пришла в движение. Блоки льда медленно начали подниматься, словно прозрачная волна, а затем обрушились со страшным грохотом. На глазах у застывших в ступоре пассажиров выросла и начала приближаться новая стена льда. Вскоре она превысила 8 м в высоту и стала неумолимо двигаться в сторону парохода, толкая перед собой толстые куски льда и наращивая мощь. «13 февраля дул сильный, семибалльный северный ветер. Была пурга. Мороз 30° с лишним», – отметил Шмидт. «Стена льда не остановилась, она надвигалась, как вал морской волны», – записал капитан Воронин. На палубе «напряженно, с затаенным страхом, закрыв лица от леденящего ветра, люди смотрели на высокий надвигающийся с севера торос, – свидетельствует Марков. – <…> Несколько любителей острых ощущений, согнувшись, преодолевая сильные порывы ветра, бежали по льду к торосам».84 Корпус начал гнуться под натиском. Был слышен скрежет металла, заклепки вылетали одна за другой со звуком, как отметили механики, похожим на пулеметную очередь. Внезапно носовая часть судна поддалась льдам. Там находились котлы и машины. Медленно, равномерно и мощно лед забирал отвоеванные пространства, давил котлы, разрушал паровые трубы, уносил электрогенераторы. Все погрузилось во тьму, свист исходившего пара тонул в грохоте льда, обрушивавшегося в трюм. «Конец! – сказал себе Воронин, – Теперь все силы на выгрузку». Был дан приказ покинуть судно. Сформированные заранее группы спустили все необходимое, приготовленное на палубе: палатки, доски, строительные материалы, уголь, теплую одежду, инструменты, научные приборы и так далее. Каждый знал, что он должен был делать. Через иллюминаторы летели одеяла, подушки и одежда. Кто-то пытался выпихнуть на палубу свиней, но, поскольку это не получилось, их тут же зарезали и наскоро нарезанные куски мяса выбросили на лед. В нескольких сотнях метров от корпуса парохода, носовая часть которого медленно уходила под лед, разбили лагерь. Температура упала до –36 °C, пурга свирепствовала. «Всем покинуть корабль!» – кричали командиры. Несколько членов экспедиции пытались пробраться в каюты, чтобы забрать что-то из личных вещей. Аркадий Шафран, кинорежиссер, добрался до своей, чтобы спасти камеру и пленки. Соседняя каюта уже была заполнена льдом. Немного дальше гидробиолог Петр Ширшов, проверявший, все ли каюты пусты, обнаружил Дору Васильеву, укутывавшую свою маленькую дочь Карину. Она не понимала, что все было кончено. «Уже пора, Петенька?» – удивилась молодая мать. Она объяснила ученому, без лишних слов и церемоний выпихнувшему ее на палубу, что ей хотелось как можно дольше продержать ребенка в тепле.85 По палубе катались бочки, оставшиеся предметы скользили и ударялись о борт. Вдруг нос корабля нырнул вниз, круглая корма взметнулась к небу. Метнулся силуэт завхоза Бориса Могилевича с непременной трубкой во рту. Снизу кричали: «Прыгай, Борис, прыгай! Скорее!» Обрушившаяся балка толкнула бочку, покатившуюся и сбившую человека с ног. Больше Могилевича никто не видел. Об этих последних мгновениях рассказал оператор Шафран, воткнувший треногу в лед и снимавший сцену на пленку: «Перетаскиваю аппарат на лед. Работать очень трудно. Ветер сильно бьет, засыпает объектив снегом. Линзы видоискателя при приближении глаза моментально потеют и покрываются тонкой коркой льда. Навести на фокус почти невозможно. Сильно болит примороженная металлом щека. Все-таки начинаю работать. Снимаю разгрузку продовольствия, спуск ледянок. Снимать все труднее, аппарат стынет, ручка еле вращается. Приходится крутить, прилагая всю свою силу. Камера дергается на штативе. «Челюскин» погружается все больше и больше. Кончилась пленка. Делаю попытку перезарядить. Сам удивляюсь, что на таком морозе и ветре удается это сделать. Пришлось бросить рукавицы и голыми руками держать металл. Продолжаю снимать, а в перерывах между планами подтаскиваю ящики. Руки и лицо окоченели. Нет больше сил дальше снимать. Ставлю камеру на общий план, а сам залезаю в палатку Факидова, пытаюсь хоть немного отогреться. В палатке пробыл недолго. Слышу крики: – Аркадий! Скорей! Судно погружается. Опять к аппарату. Снимаю последний момент. Корма приподнимается, показывает руль и винт, из трюмов вырывается столб черной угольной пыли. Через несколько секунд судна уже нет».86
На льду стояли спасшиеся люди, в том числе десять женщин и двое детей. Они вместе с оператором наблюдали, как погибал их корабль. 13 февраля 1934 года, 15–30. 68° 16´ с. ш. и 172° 51´ в. д. Глубина 50 м. «Челюскина» больше нет. Первая ночь на льду была тяжелейшей. По свидетельству писателя Семеёнова, она выдалась самой долгой и самой холодной. «Было особенно голодно», – писал он. И в то же время это была одна из самых удивительных ночей. Измученные физической работой, морозом и эмоциями, потерпевшие кораблекрушение посреди Арктики не могли сомкнуть глаз. Неспешное покачивание льда, на котором они расположились, напоминало каждое мгновение, что они находились на поверхности океана. В единственной палатке разместили женщин, детей и самые ценные научные приборы. Остальные прижались друг к другу, забравшись в мокрой одежде под одеяла, сброшенные с «Челюскина». Кренкель с помощниками поставили мачту, чтобы установить радиосвязь с Большой Землей. Утром до них долетели первые звуки эфира – фокстрот, который передавало американское радио с Аляски. Вскоре советские станции на берегах Чукотки были предупреждены: корабль погиб. Теперь судьба экспедиции зависит от помощи с континента, если такая помощь вообще возможна.
* * *
Так называемый «лагерь Шмидта», находившийся в 150 км от ближайшего берега, дрейфовал по воле арктических ветров и течений. Толщина пакового льда делала невозможной помощь ледокола. Кроме того, любому судну, решившемуся атаковать лед, понадобилось бы несколько месяцев, чтобы добраться до лагеря. «Литке» был ближе всех, но повреждения не позволяли ему выйти в море. Сани с собачьей упряжкой? Такой была первая идея Шмидта, однако операция такого масштаба требовала не менее двух месяцев и 60 саней. Иначе говоря, пришлось бы отобрать у чукчей все сани и всех собак. Они не смогли бы охотиться и попросту умерли бы с голоду.87 К тому же чукчи вряд ли сидели бы и ждали, пока у них конфискуют все имущество, а, скорее всего, заранее ушли бы далеко в тундру, куда советская власть не могла до них добраться. Впрочем, переход сотни пассажиров по льду, ощетинившемуся грядами торосов, изрезанному трещинами, да еще при столь низких температурах, был обречен. Предшествующий опыт показал, что и меньшие расстояния могли сломить даже опытных и хорошо экипированных исследователей. Некоторым членам экспедиции, естественно, наиболее крепким, хотелось рискнуть, и они шептались по палаткам, но Шмидт с револьвером в руках не замедлил оповестить всех, что собственноручно пристрелит любого, кто рискнет без уважительной причины оставить лагерь, как «дезертира».88
Авиация? Она еще в зародыше, и на расстоянии тысяч километров есть всего лишь один самолет отважного летчика Куканова, который по-прежнему перевозил «пассажиров “Дальстроя”» в ближайший поселок Ванкарем. Для спасательных операций предстояло перебросить по морю и по воздуху самолеты и немногочисленные экипажи, имевшие летный опыт на Крайнем Севере.
Что же касается иностранных держав, то даже при наличии согласия на их вмешательство, те несколько самолетов, которые находились на Аляске, не смогли бы добраться до лагеря Шмидта. Задача казалась невыполнимой. Зарождавшаяся полярная авиация еще не бывала в таких широтах. Соседняя Аляска уже вела счет трагически закончившимся полетам.
Тем не менее комитет по спасению челюскинцев во главе с Валерианом Куйбышевым, одним из руководителей партии и давним товарищем Шмидта, созданный в Москве на следующий день после кораблекрушения, принимает решение в пользу авиации. Предстояла огромная работа: отыскать пилотов, готовых рискнуть жизнью и совершить полет в худших из всех возможных погодных условий, переправить самолеты, механиков и горючее в Ванкарем, скромный поселок далеко на севере Чукотки, подготовиться к приему там сотни эвакуированных. В Ванкареме было лишь с десяток яранг местных жителей и маленький заводик по переработке рыбы. Наметили маршруты постепенного продвижения к челюскинцам. Некоторые пилоты двинулись на спасение людей с Дальнего Востока, некоторые – из Москвы и Ленинграда, двое отправятся на Аляску, где СССР купил у Соединенных Штатов самолеты. Эта неслыханная по масштабам операция, предполагавшая поистине неподъемные задачи и сверхсложную логистику, требовала недель и даже месяцев. Только после прибытия экипажей к месту сбора можно было вылетать в белую пустыню на поиски потерпевших бедствие. Это было похоже на бег наперегонки со временем. Но выбирать не приходилось.
Шмидт возглавил работы в лагере, названном его именем. Нашли место для строительства деревянного барака на 50 человек. Лед там был толстым, и рядом устроили склад с оборудованием, наследством «Челюскина». Отдельная группа строила камбуз. На шестиметровом торосе поставили вышку, на нее водрузили бочки с горючим, чтобы сигнализировать летчикам о местонахождении лагеря. У каждого было свое задание. Кухня выдавала чай и галеты, в полдень – суп, гречневую кашу и рис, вечером – мясные консервы (две банки на семерых). Иногда – кусок свинины с добавлением медвежатины (у самого лагеря убили медведицу с медвежонком), кормящим матерям и детям – немного масла, молока, шоколада и сухофруктов. Мужчин настоятельно просили бриться каждый день – эта мелкая деталь красноречиво говорит о том, насколько сильным было стремление не допустить депрессии и поддерживать в лагере определенный уровень культуры. По рукам ходили четыре спасенные книги: томик Пушкина, эпическая поэма «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Пан» Кнута Гамсуна и один из томов – к сожалению, только третий – «Тихого Дона» Шолохова. Их читали вечерам и в моменты досуга. В одной из палаток звучал граммофон, в другой забивали «козла», в третьей просто болтали, слушали Шмидта, который рассказывал биографии революционеров или же вспоминал о своих приключениях. Стенная газета позволяла узнать последние новости с Большой Земли. Художник Решетников вывешивал карикатуры на каждого из членов экспедиции. Среди них – и карикатура на Шмидта: он высовывает голову из палатки, борода примерзла ко льду. Карандаш художника попал в точку: из-за длинной бороды Шмидт ассоциировался с Дедом Морозом, сказочным персонажем, знакомым всем российским детям. Шмидт – образцовый Дед Мороз. Жизнь побеждала. Она вошла в обыденное русло, вопреки тяжелейшим условиям. Было место и любви. Конечно, в официальной историографии об этом ничего не говорится, но несколько романов расцвело в этой вселенной холода и льда. Один из них закончится рождением после возвращения экспедиции маленького Александра. Его родители – молодая буфетчица и великий лидер экспедиции, сам Отто Шмидт, чье вошедшее в легенду обаяние нисколько не поблекло, несмотря на обстоятельства[161].
Работа, культура, дисциплина. Вера в будущее и железный дух. Лагерь Шмидта в каком-то смысле представлял собой коммунистическое общество в миниатюре, такое, каким его рисовала пропаганда. Образчик СССР, затерянный во враждебной природе. Партия вразумляла даже среди льдов. Члены партийной ячейки давали уроки исторического материализма. В день, когда Москва впервые вызвала Шмидта для переговоров по радиосвязи, он сообщил, сообразно с присущим ему символическим мышлением, что занят, поскольку читает лекцию по диалектическому материализму89 и не может ее прервать. Партия бдит и контролирует все и вся среди льдов. Партийная ячейка, состоящая из всех членов ВКП(б), регулярно собирается на встречи. Обсуждают организацию повседневной жизни, дисциплину в лагере, соответствие принципам марксизма-ленинизма в поведении каждого. Дошедшие до нас протоколы этих заседаний, которые велись с большой тщательностью, показывают, что партийцы позаботились и о том, чтобы собрать все спасенное оружие и перераспределить его между партийными товарищами, чтобы не допустить никакой неприятной случайности. Обсуждали также моральное состояние каждой палатки. Живущий в ней большевик должен знать, «чем живет и дышит» его палатка. Озабоченность вызвало отсутствие партийцев в палатках строителей и штурманов. Расселение членов экспедиции решено изменить, чтобы исправить это досадное недоразумение.
Страх перед гневом Сталина парил над льдами, где раскинулся лагерь Шмидта. Комиссар экспедиции Бобров на удивление молчалив во время собраний ячейки. Возможно, его преследовали мысли о новых кругах ада после возвращения? Отто Шмидт и капитан Воронин тоже тревожились. Их крайне беспокоило отсутствие политической реакции на их призыв о помощи. Конечно, специальная комиссия работала. Но Кремль хранил молчание. Что означало это молчание? «Челюскин» погиб в Арктике, значит, столь разрекламированная экспедиция потерпела поражение. И Шмидт, и Воронин прекрасно понимали, какую цену с них могли запросить за отсутствие результата. «Шмидт с Ворониным закрылись у себя в палатке, – рассказывает Михаил Ермолаев в своих воспоминаниях. – Они не представляли, что за этим последует. Они буквально дрожали. Что их ждет? В лучшем случае – отставка, в худшем – «высшая мера». Воронин еще на что-то надеялся, а Шмидт прямо говорил – расстреляют… Да и чего ждать иного?.. Провал. Поражение. Катастрофа. Виновные должны быть наказаны. А кто виновные? В первую очередь – они, Шмидт и Воронин».91 Сталин держал паузу. Раздумывал ли он, какую позицию занять? Выжидал, чтобы понять, есть ли шансы на успех спасательной операции? Первая подписанная им телеграмма пришла в лагерь Шмидта 27 февраля, через две недели после крушения! Легко представить себе, какое облегчение испытал глава экспедиции, когда прочел: «Лагерь челюскинцев. Полярное море. Начальнику экспедиции Шмидту. Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном исходе вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы». Под текстом стояла подпись Сталина и членов Политбюро.
За известием о крушении «Челюскина» последовала организация спасательной экспедиции неслыханного масштаба. Телеграмма Сталина стала началом широчайшей пропагандистской кампании. С этого момента не только весь Советский Союз, но и весь мир за его пределами, все иностранные союзники и просто доброжелатели следили за судьбой экспедиции. Не проходило ни дня, чтобы центральные советские газеты, журналы и, конечно же, радио, главный пропагандист режима, не сообщали новостей о красном оазисе посреди белого океана и о тех мерах, которые принимались, чтобы спасти героев. Вся страна дышит вместе с челюскинцами. Тысячи статей в прессе не позволяют этой теме уйти из фокуса внимания. Ежедневно на первых страницах «Правды», «Известий», «Труда», «Комсомольской правды» и провинциальных газет появлялась хотя бы одна статья, воспевавшая мужество челюскинцев и титанические усилия, которые предпринимались ради их спасения. Катастрофу, постигшую экспедицию, Сталин решил превратить в победу в деле освоения Крайнего Севера и морского пути. «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики», – повторял вождь. Страна Советов не поддастся силам природы. Человек и техника восторжествуют. Новая полярная авиация докажет это.
Чутье подсказало Сталину, что страна нуждалась в поступке, исполненном героики и гуманизма. Шел 1934 год, советское общество переживало страшные годы. Насильственная коллективизация закончилась страшным голодом, длившимся до 1933 года. В 1932 году принят «закон о трех колосках», открывший дорогу масштабным слепым репрессиям. В городах была введена карточная система, зарплаты урезались за счет кампаний по обязательному государственному заему. Реквизиции стали правилом жизни. Политическое и экономическое пространство еще носило на себе раны процессов рубежа 1920–30-х годов против так называемых «промышленной» и «трудовой крестьянской» партий, а также их союзников в правительстве. Риск получить клеймо «саботажник» висел в воздухе. Было необходимо разрядить атмосферу чем-то позитивным. Режим, намеревавшийся втолкнуть СССР в индустриальную эпоху, принося в жертву население, остро нуждался в оптимизме. Лозунг, выбранный для операции спасения челюскинцев, гласил: «Советская родина не оставит в беде своих сыновей и дочерей!». Он пришелся очень кстати. О каждой телеграмме, о каждом шаге, который совершали организаторы операции, сообщалось со всеми подробностями. Заложники льдов публиковали свои личные дневники. Писатели, сменяя друг друга, изо дня в день печатали в газетах статьи, воспевавшие всеобщую мобилизацию вокруг челюскинцев: «Цена жизни» Ильи Эренбурга, «Их имена повторяет все человечество» Алексея Толстого, «Подвиг этот возможен только в стране Советов» Максима Горького. Даже поэтесса-эмигрант Марина Цветаева добавляет свой узор в общую канву. Иностранные сочувствующие тоже не отстают. Бернард Шоу сказал послу СССР в Лондоне И.М. Майскому: «Что вы за страна! Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество, на роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего Деда Мороза с большой бородой. Уверяю Вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи новых друзей».92
В лагере Шмидта тоже все мобилизованы для выполнения насущных задач. Самая тяжелая, самая мучительная – это подготовка взлетно-посадочной полосы на льду, способной принять самолет. При помощи немногих спасенных лопат, кайл и кирок необходимо было расчистить или укатать ровную полосу минимальной длиной 600 м, а шириной – 150 м. Приходилось срезать ледяные бугры и гряды, засыпать ямы и бесконечно выравнивать поверхность. Эта работа заняла много недель. И еще молиться, чтобы из-за дрейфа не возникало трещин на полосе, поскольку в этом случае приходилось все начинать заново или продолжать вести полосу от неповрежденного места. За время пребывания на льду челюскинцы построили не меньше тринадцати разных полос, чтобы принять спасателей. Трещины причинили немало проблем: одна из них внезапно образовалась под главным жилым бараком. За несколько секунд часть снаряжения и запасов оказалась под водой, остальное в кромешной темноте срочно перенесли в другое место.
* * *
Первым обнаружил лагерь Шмидта среди бесконечной белизны, в которой сливались небо и твердь, двадцатишестилетний Анатолий Ляпидевский. Он первым прилетел в Ванкарем – сборный пункт для авиации. 5 марта, через полтора часа после вылета из Ванкарема, экипаж Ляпидевского заметил на горизонте черную точку: «Продолжаю вглядываться – пятно явно колеблется. Все ясно. Это сигнальный дым в лагере! <…> На кругах вижу вышку, барак и палатки лагеря. В самом лагере и за ним трещины и небольшие разводья, аэродром тоже отделен трещиной. Из лагеря к аэродрому бегут люди; другие стоят на ропаках и машут нам. Радостно отвечаю им, забывая на миг даже о предстоящей посадке. Хватит ли этой узкой полоски со стеной торосов кругом? С высоты 500 м эти торосы казались пустяком, но в 30–40 м видишь, что это внушительный барьер. Посадочное «Т» в самом углу площадки, а опуститься нужно у него!.. <…> К границе аэродрома подошли на высоте не более 10 м. Хорошо, хорошо, «Т» прошли не выше 5 м… Отлично, отлично, впереди еще метров 400… Хватит, безусловно хватит. Легкий толчок, и машина плавно скользит, замедляя скорость. Вот это точная посадка!»93
Женщин и детей эвакуировали первыми, несмотря на протесты. Шмидт составил список, определявший очередность вылета. Свое имя он записал под номером 104 Как и положено капитану, он собирался покинуть свое судно последним. Хотя в Ванкарем прибыло еще три самолета, успех всей операции неочевиден, и челюскинцы это понимали. Сам Ляпидевский потерпел аварию во время разведывательного полета и был вынужден сидеть в чукотском становище много недель в ожидании помощи. Некоторые самолеты, вылетевшие с Аляски и из европейской части России, так и не добрались до Ванкарема. Один самолет получил повреждения при посадке в лагере Шмидта. Победой был каждый рейс, каждая машина, которая смогла долететь до лагеря посреди льдов и вывезти людей. Чтобы увеличить число вывозимых челюскинцев, некоторые пилоты заворачивали пассажиров в шубы и размещали в ящиках под крыльями самолетов. Погодные условия часто бывали ужасные, приходилось ждать по несколько дней и даже недель. Надо было быть готовым ко всему, в том числе и к долгому ожиданию. 7 апреля, пользуясь затишьем, в лагере сели еще три самолета. Стоял такой мороз, что Шмидт, руководивший операцией у взлетно-посадочной полосы, заболел пневмонией. Высокая температура держалась два дня, и комиссар Бобров решил эвакуировать своего начальника как можно быстрее в больницу на Аляске, в Ном. Шмидт, находившийся в полубессознательном состоянии, категорически отказался. Он знал, чем ему грозило дезертирство с ответственного поста. Понадобился специальный приказ из Москвы, чтобы заставить его сдаться. Шмидта эвакуировали под номером 76. 13 апреля 1934 года, ровно через два месяца после крушения, последних пассажиров «Челюскина» сняли со льда и доставили в Ванкарем. За исключением завхоза Могилевича, погибшего вместе с пароходом, все спасены. Спасательная операция прошла успешно!
Возвращение – 500 км пешком и на собачьих упряжках для самых крепких, на самолете, а потом на пароходе для самых слабых – займет еще два месяца. Затем герои отправятся по Транссибирской дороге в триумфальную поездку через всю страну. Отто Шмидт выздоровел и двинулся навстречу остальным с Аляски через Соединенные Штаты, где читал лекции в Национальном географическом обществе и был принят президентом Франклином Рузвельтом. Дипломатические отношения с Соединенными Штатами только-только восстановлены, и для Кремля это второе признание СССР, но на этот раз еще и одобренное народом[162]. «Большая дипломатическая победа»,94 – прокомментировал бывший британский премьер-министр Ллойд Джорж. Затем Шмидт побывал в Париже, Праге и Варшаве. Везде как герой.
В другой части планеты экипаж и пассажиры «Челюскина» покинули Владивосток и отправились в Москву, повсюду встречая самый восторженный прием. Вокзалы утопали в цветах, народ приветствовал героев, звучал «Интернационал». Путь детально освещала пресса, сумевшая превратить его в кампанию по привлечению новых членов партии. Людям объясняли, что многие из челюскинцев подали заявление о вступлении в партию. И среди них – такие знаменитости, как радист Кренкель и биолог Ширшов. В передовице одной из газет цитировали слова строителя Скворцова, сказавшего следующее: «он понял, что такое партия и как она управляет страной».95 Не являлся ли весь Советский Союз огромным лагерем Шмидта? Среди спасшихся челюскинцев был и Дмитрий Березин, разыскиваемый ГПУ. А ведь эта далекая экспедиция казалась ему лучшим способом спрятаться! Теперь его имя красовалось в списке героев, который печатали на первых страницах газет. Его присутствие в специальном поезде не прошло незамеченным. Преследователи оказались в сложном положении. В архивах нашлась телеграмма одного из офицеров ГПУ, в которой он напоминал, что Березин являлся политическим преступником, вот уже 17 месяцев находившимся в бегах.96 Что делать? Задержать на вокзале? Арестовать на Красной площади на глазах отца народов? Аннулировать приказ о розыске? ГПУ мудро предпочтет отвернуться.
Возвращение пилотов, ставших символом и орудием победы техники над стихиями, было также тщательно организовано. Чтобы придать празднеству законченный вид, решили, что они приземлятся в Москве одновременно с прибытием туда челюскинцев. Накануне последнего перелета летчики обратились с письмом к Сталину. Они писали о том, что им лучше, чем кому-либо другому, были видны те исторические изменения, которые совершенно преобразили облик страны Советов, ведь они смотрели на нее с высоты. Там, где были брошенные земли, видны колхозные поля, а гигантские стройки служат им ориентирами. Они писали о том, как любуются чудесной панорамой, пролетая каждый день над страной в самолетах с гордой красной звездой на крыльях – результатом работы миллионов трудящихся под руководством партии Ленина, которую ведет к новым победам товарищ Сталин. Они писали, что им известно – именно товарищ Сталин был инициатором грандиозной операции по спасению челюскинцев, и благодарили его за возможность участвовать в этой борьбе со стихиями, за честь спасать челюскинцев.97
Встреча начальника экспедиции с его командой и спасателями была запланирована в Москве на 19 июня 1934 года. Руководство партии поручило службам ГПУ организацию этого потрясающего события. Никогда еще Москва не знала постановки такого масштаба. За несколько станций до Белорусского вокзала, на который пал выбор, потому что он соединен с Кремлем Тверской улицей, в специальный поезд, прибывающий в Москву с челюскинцами, сел «Дед Мороз» Шмидт. Эта главная артерия города была известна как самая обновленная – вдоль нее с двух сторон уже высились новые здания сталинской архитектуры. Толпа заполонила все вокзальное и привокзальное пространство. На фасадах красовались портреты героев, Шмидта и пилотов, участвовавших в спасательной экспедиции. Когда кортеж автомобилей выехал на Тверскую, на него с балконов и крыш, где уже много часов героев ждали толпы, посыпались тонны конфетти. ГПУ явно понравилось то, как в Нью-Йорке в 1927 году чествовали Чарльза Линдберга, и они позаимствовали сценарий. Шмидт высоко поднял над головой девятимесячную Карину, самую маленькую героиню эпопеи. Толпа взорвалась восторженными криками. Кортеж прибыл в Кремль, на Красную площадь, где его ждали все руководители страны.
С трибуны мавзолея Ленина Отто Шмидт приветствовал людей и поблагодарил великого Сталина – главного героя спасательной операции. Сталин, стоявший на специальном постаменте, чтобы не выглядеть маленьким рядом с великаном Шмидтом, улыбался толпе. Всех участников эпопеи наградили орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Маленькая Карина получила железную педальную машину, такую тяжелую, что, по ее собственным словам, она так и не сумела насладиться подарком.98 Существовал проект создать по этому случаю новый орден. Почему бы не Орден Сталина, как предлагалось в тысячах писем? 17 апреля 1934 года ввели звание Героя Советского Союза. Первыми его были удостоены семеро летчиков, победивших Арктику и добравшихся до лагеря Шмидта.
«Челюскин» покоился на дне океана. Но название парохода стало синонимом сталинского завоевания Арктики. И генеральный секретарь партии твердо решил не останавливаться на достигнутом.
Нарком севера
Потрясающий успех операции по спасению челюскинцев, вызвавший восторженную реакцию не только в СССР, но и во всем мире, вдохновил Сталина и его окружение. Триумфальное шествие челюскинцев было не последним, прокатившимся по Тверской улице до Красной площади и Кремля. Cоветская Арктика вскоре стала ареной славы. Советские полярные ассы, используя опыт многочисленных полетов в лагерь Шмидта и посадок на лед, первыми сумели выйти на новые рубежи. Конструкторское бюро инженера Туполева разработало более прочные самолеты с улучшенными летными характеристиками. Вдоль побережья и на многих архипелагах построили полярные метеорологические станции, что облегчало полеты в ранее недоступных северных широтах. 18 июня 1937 года тридцатитрехлетний пилот Валерий Чкалов, известный своим веселым нравом и смелостью, вылетел из Москвы, пролетел над Северным полюсом и продолжил полет по другую сторону планеты, сев в американском штате Вашингтон. 63 часа беспосадочного рейса длиной 9500 км над макушкой мира. Это будет «Сталинский маршрут», заявил Чкалов. В Америке молодой пилот, о котором рассказывали, что он тренировался, пролетая под арками ленинградских мостов, прослыл новым Линдбергом. По возращении его ждал триумф. Центральная артерия столицы стала улицей Горького еще до смерти писателя. Через несколько дней в Москву приехал Отто Шмидт, и на этот раз его снова ждали овации толпы: он вернулся с Северного полюса, где 21 мая пилотам Главсевморпути удалось впервые посадить четыре самолета АНТ-6 на девственный лед. На фотографиях первых полос всех советских газет «Дед Мороз» Шмидт играл в шахматы в то время, как члены его экспедиции разворачивали на льду полярную станцию – там, где уже не существуют ни север, ни восток, ни запад, а все направления идут на юг. Если англичане говорили, что море принадлежит тем, чей флот мощнее, то начальник советской Арктики считал, что Северный полюс принадлежит нации, которая обладает самым мощным воздушным флотом.99 В июле прошел маршрутом славы экипаж Михаила Громова. Пилоты пролетели над крышей мира на своем АНТ-25 и совершили посадку в Сан-Джасинто в Калифорнии: 11 400 км без посадки, рекорд мира. Советских летчиков приняли в Голливуде, где они раздавали автографы вместе с юной Ширли Темпл.100 Они утверждали, что открыли авиалинию Сталина. И вот опять триумф, еще один праздник на улицах Москвы в то лето 1937 года, в честь завоевания Арктики!
Все колоссальные технические и организационные усилия выпали на административный аппарат Главсевморпути – царства Отто Шмидта. Царство? Скорее империя. Через месяц после возвращения челюскинцев, после показа тирану только-только смонтированных кадров кораблекрушения последовал приказ государственным издательствам немедленно выпустить рассказы о героических событиях. Их тут же начали собирать в спешном порядке. А ведомству Шмидта Сталин значительное расширил сферу деятельности. «Чтобы выполнить свою историческую миссию, организации нужны средства», – утверждал Шмидт. И Сталин его услышал. Деятельность Главсевморпути больше не ограничивалась Северным морским путем, как на это указывало название организации, превратившейся в своего рода гигантское министерство Севера, государство внутри советского государства – знаменитый «народный комиссариат Севера». Территория ответственности ГУСМП охватывала 3,3 млн км²: всю сушу севернее 62 параллели, примерно широты Якутска, включая, само собой разумеется, арктические архипелаги. Шмидту подчинена территория, сравнимая с размерами Индии. Новому административному монстру власти перепоручили сферы, бывшие в компетенции ранее созданных и затем упраздненных организаций, – управление, экономику и культуру. ГУСМП имел в своем распоряжении арктический флот, грузовые и китобойные суда, а также ледоколы. И еще суда, ходившие на Чёрном море, на Балтике и в Каспийском море. А также полярную авиацию и 715 летчиков. Главк управлял полярными станциями, «аванпостами СССР», как назвал их Шмидт, число которых значительно возрастет с годами, а еще рыболовством, охотой и заготовкой пушнины. В этой последней сфере, например, к Главсевморпути перешло 37 заготовительных предприятий. Фермы по разведению оленей, 28 больших колхозов, без которых администрация Шмидта, скорее всего, прекрасно бы обошлась. Местные кочевые народы насильно загнали в колхозы, что имело самые печальные последствия: общины сильно уменьшились, а некоторые и вовсе распались, оленеводы часто предпочитали отпустить животных или забить их, чем отдать в колхозы. В результате за несколько лет поголовье уменьшилось на 600 тысяч голов. Зарождавшееся промышленное рыболовство также приписано к Главсевморпути, со всеми становищами и поселениями, созданными в советское время, и находящимися в них школами и интернатами, в которые местное население обязали отдавать детей. Туда же входили больницы, дома культуры, так называемые «культбазы» и «красные чумы». Там занимались общим и политическим образованием аборигенов, оказывали им врачебную и ветеринарную помощь. Существовал еще Институт народов Севера – гордость советского режима 1920-х годов, где знаменитый этнограф Владимир Богораз разрабатывал и обосновывал политику защиты малых народов. Институт находился в Ленинграде. Это был главный центр высшего образования для студентов из многожества народностей Крайнего Севера. Там разрабатывали алфавиты для северных языков и диалектов, издавали книги на якутском, чукотском, бурятском, хантыйском и других языках, по большей части переводы, часто классиков марксизма-ленинизма и самого Сталина, но иногда и произведения местных авторов. Здесь, согласно сталинскому плану, предстояло усилить контроль: после периода патернализма, рожденного Октябрьской революцией, предполагалось закрутить гайки. Новой администрации поручили бескомпромиссную борьбу против шаманизма и «феодальных» традиций, поддержку коллективизации, упразднение алфавитов на основе латиницы, разработанных несколькими годами раньше и теперь считавшимися «буржуазными пережитками», русификацию национальных кадров, устранение оппозиции из защитников традиционных культур.
В империи Шмидта был свой мозговой центр – Институт по изучению Севера, в 1930 году переименованный во Всесоюзный арктический институт (ВАИ). В самом центре Ленинграда, в стенах Шереметьевского дворца на Фонтанке, отданного Институту, были сконцентрированы почти все советские полярные исследования. Основные научные интересы лежали в области геологии, океанологии, гидрологии, метеорологии, биологии, зоологии, гляциологии, физики, химии и ботаники, – важнейших направлений географического и экономического освоения Севера. Во главе Института стояли все те же Рудольф Самойлович и Владимир Визе, которым в свое время Сталин предпочел Шмидта.
Это внезапное расширение границ сферы деятельности сопровождалось, как нетрудно представить, безжалостной борьбой за влияние между старыми и новыми структурами. Так, например, полная неразбериха царила в том, что касалось управления месторождениями полезных ископаемых. Кому должны идти доходы от добычи угля в Воркуте? А от колымского золота? От никеля и меди из Норильска? Главсевморпуть, требовавший себе львиную долю, встретил сопротивление своего ровесника – «Дальстроя», который держал под своим контролем весь Дальний Восток. Нужно было считаться также с Народным комиссариатом внутренних дел, НКВД. Его управление лагерями (ГУЛАГ) намеревалось получить максимальную выгоду из принудительных работ, проводимых по всей стране. Столкновение интересов, хоть и неявное, но сильное, превратило этих титанов в соперников, оспаривавших монополию на природные ресурсы Сибири и Арктики. Борьба между управлениями, каждое из которых обладало мощью почти государственного масштаба, проходила на глазах Сталина много лет.
У Главсевморпути был свой флаг: синее полотнище, по центру – золотой якорь, в верхнем левом углу – красный прямоугольник с серпом и молотом. У него была свой журнал – «Советская Арктика». И свои чиновники: 200 тысяч служащих[163], работавших в семи управлениях, семи отделах, секторе кадров и бюро ледовых прогнозов в центральном аппарате, а также в их региональных подразделениях над самыми разными задачами – кораблестроение, флот, авиация, гидрография, рыболовство, культура коренных народов, финансы, полярные станции и др.101 Директивы из центрального аппарата, находившегося в Москве, поступали в семь территориальных управлений (трестов), в Ленинград, Мурманск, Архангельск, Тобольск, Игарку, Якутск и Владивосток. Политическое управление ГУСМП участвовало в принятии всех важных решений и имело своих представителей во всех – даже самых далеких – подразделениях, а также выполняло надзорные функции и подготовку кадров. Во главе Политуправления в 1934–37 годах стоял Сергей Бергавинов. Он станет одним из столпов террора, начинавшегося в это время в ГУСМП, как и во всей стране.
Сталин не поскупился на средства для Отто Шмидта. Великан-бородач сразу получил бюджет, в пять раз превышавший финансирование его предшественников. За четыре последующих года ему удалось добиться его увеличения в 14 раз.102 Но что хотел получить хозяин Кремля взамен?
Всего-навсего отдачи от инвестиций. Учитывая, сколько было вложено в Крайний Север, он ждал колоссальной прибыли. Сталин, как и его предшественник Ленин, был убежден, что Арктика, Сибирь и вообще Север скрывают ресурсы, которых так не хватает стране Советов, чтобы догнать и перегнать конкурентов – капиталистов и империалистов, готовившихся напасть на нее. Сам Сталин во времена своей революционной молодости испытал суровость тех мест, поскольку отбывал политическую ссылку в северных районах империи. Он был выслан в Туруханск, одно из мест сбора пушнины на Енисее, а перед этим – в Сольвычегодск, родной город Строгановых. Эта негостеприимная земля должна была служить новому обществу, единственно способному укротить ее и использовать в своих интересах.
Север должен был стать самоокупаемым: таков смысл инструкций, полученных Отто Шмидтом. Предполагалось, что затем он в короткие сроки начнет приносить ожидаемые дивиденды. Как и при Ленине, в дело вовлекли самых известных ученых, занимавшихся Арктикой. Они участвовали в разработке плана второй пятилетки. Конечно же, сам Шмидт, но также геологи Рудольф Самойлович, Сергей Обручев и Александр Ферсман, биолог-генетик Николай Вавилов и главный идеолог новой нефтяной отрасли Иван Губкин. Послание прозрачно: им было приказано немедленно поставить науку на службу производству. Сталин говорил о тоннах, о километрах, о процентах. И хотел, чтобы ученые привыкли к этому языку. Чтобы геология была ориентирована на поиски богатых месторождений полезных ископаемых и не растрачивала свои силы, стараясь понять историю формирования горных пород архипелагов. Гидрологи, метеорологи и гляциологи должны обслуживать флот и авиацию, а исследования отложить на будущее. Режиму необходимы прежде всего своего рода инженеры Арктики, а не ученые-теоретики.
Эту новую привычку не так просто выработать. Еще труднее применять. Работы Визе, Самойловича и Ермолаева позволили предположить, например, что атлантические воды попадают в Карское море, проходя через впадину, обнаруженную в центре Арктики. Как объяснить чиновникам, что эти данные очень важны для понимания того, как образуется лед на морском пути? Как убедить власть, что идея устроить «оленьи фермы» на островах нереалистична, поскольку местные оленеводы бегут в тундру со своими стадами, как только слышат слово «колхоз»? Партия строго следила за тем, чтобы взятый ею курс воплощался в жизнь. В самом Главсевморпути надзор за учеными поручен начальнику Политуправления Бергавинову. И каждый раз, когда кто-то из них приходит отстаивать свои научные интересы, просить финансирования или отсрочки, он реагирует по-своему. В лучшем случае, это «субъективизм» со стороны интеллектуалов, оторванных от народа и его нужд, а в худшем – что чаще приходило ему в голову – дополнительное свидетельство того, что «саботажники» и «прислужники» буржуазии стараются оттянуть открытие месторождений, если не спрятать их, чтобы воспользоваться богатствами потом, после «реставрации капитализма».103 Ведь, если подумать, большая часть этих специалистов происходила из обеспеченных семей с еврейскими или иностранными корнями.
Поставленные задачи невыполнимы. Все происходило слишком быстро, все имело слишком большой масштаб. Главсевморпуть, непомерно разросшийся за несколько месяцев, естественно, страдал от бесконечных неполадок в работе. Интеграция различных организаций, рассыпанных по Арктике и Сибири, делала крайне сложной образование действующей централизованной структуры. На некоторых факториях и в промысловых становищах не хватало провизии, условия жизни были тяжелейшими, зимовки кишели крысами и паразитами, самое необходимое, например, мыло, просто отсутствовало. Люди страдали от цинги и алкоголизма, множились несчастные случаи. Отчеты проверок, поступавшие в центр, были удручающими. Повсюду шло строительство, начальство было постоянно занято рапортами партии. Кадров не хватало. Добровольцев, желавших отправиться в самые негостеприимные части страны, тоже не хватало. С последней проблемой Кремль нашел, как справиться: именно в 1930-е годы ГУЛАГ разрастается и становится гигантским поставщиком столь необходимых Северу и Сибири подневольных рабочих рук. На Дальнем Востоке их массово использует «Дальстрой», занятый добычей золота и других редких металлов. Его колымские лагеря быстро приблизились к аду. Главсевморпути также не отказывался от манны, предлагавшейся НКВД, но был скромнее. В 1935 году в его распоряжении 5 тысяч заключенных, годом позже – 10 тысяч зеков, направленных в Норильск, за освоение ресурсов которого также отвечал ГУСМП.104
Несмотря на все усилия, результаты далеки от ожидаемых. Тучи сгущались. Поскольку ни линию партии, ни установленные сроки нельзя было оспаривать, следовало найти причины неудач и желательно – виноватых. В январе 1936 года состоялось собрание сотрудников Арктического института, головной научной организации Главсевморпути. Протокол передает атмосферу того времени и методы управления кризисной ситуацией. Открывает огонь Шмидт. Его слова задают тон. Он говорит, что, как бы это ни казалось обидным и странным, Север еще недостаточно изучен. Конечно, он огромен, но ведь работа идет уже не первый год. Руководитель Арктического института, товарищ Самойлович в прошлом году отпраздновал 15 лет своей научной деятельности в Арктике. Он геолог. Есть и другие геологи, например, Урванцев. Но что мы знаем о геологии Севера? Знаем ли мы, например, на каких именно участках следует сконцентрировать усилия? И дальше: «У меня есть серьезные претензии к современной науке. Она так и не дала нам точной картины, где начинать добычу ископаемых».
* * *
Самойлович, Урванцев и другие – каждое произнесенное имя звучало угрозой. Имена никогда не назывались случайно. Это всегда указующий перст партии и ее представителя Бергавинова. Замершее от ужаса собрание знало правила игры. Никто не осмеливался ни протестовать, ни защитить директора, ветерана полярных исследований с мировым именем и старого большевика. Обвиняемый – по-другому не скажешь – поднялся на трибуну. Он пытался защититься при помощи самокритики, полагая, что сможет ценой самообвинений доказать свою лояльность линии партии. Он говорил, что научная деятельность в Арктике не отвечала потребностям дня. Ее результаты слишком абстрактны и пока нет данных, которые позволили бы проводить востребованные практикой работы.105 Направление указано, и следующие ораторы соревновались в красноречии: леность, отсутствие дисциплины, научное самолюбование, – все шло в ход, все годилось, чтобы попасть в протокол. Только бы это позволило отвести от себя обвинение и прикрепить этикетку «виновен» на жертву, намеченную партией. Рудольф Самойлович с самообвинениями прекрасно подходил на эту роль. Через два года словами, произнесенными в тот день, будет вымощен его крестный путь.
Самойлович не принадлежал к тем, кто умел укрощать гнев хозяев страны и предупреждать их желания. А вот Отто Шмидт виртуозно проделывал фокус, который скоро станет правилом выживания для политической и административной элиты Сталина. Советская Россия стоит на пороге 1937 года, одного из самых страшных в ее истории. 1937-й – кровавый год, начало массового появления братских могил по всей стране, символ и вершина слепого неприкрытого террора. 1937-й, когда хитом являлась песня «Маша» Вадима Козина[164], советского Тино Росси: «Улыбнись, Маша, / Ласково взгляни, / Жизнь чудесна наша, / Солнечны все дни». Год, когда Шостакович написал 5-ю симфонию и «Джазовую сюиту». Год парадов, подвигов и рекордов.
1937-й – год, который через десятилетия выглядит декорацией к огромной чудовищной постановке. Из месяца в месяц режим чередует репрессии и праздники в сложной последовательности, не давая времени гражданам засомневаться или задуматься. Тон был задан уже в январе, когда состоялся второй большой политический процесс над занимавшими высокие посты большевиками из старой гвардии. За полгода до этого Зиновьев и Каменев, товарищи Ленина по ссылке, были обвинены в троцкизме и расстреляны. Наступила очередь других ветеранов – таких, как Пятаков, один из первых «прорабов индустриализации». Пресса изрыгала на Пятакова ненависть и злобу. 29 января сам Пятаков и его «сообщники», «ничтожные, подлые людишки», как выплевывал прокурор слово за словом, «презренные бешеные псы», заслужившие пулю от советского народа, говоря текстом газеты «Правда», были приговорены к смертной казни и расстреляны на следующий день. Процесс пестрил подтасовками и доносами в адрес руководителей страны, которые еще оставались на свободе. Послание предельно ясно: это лишь начало, Сталин намерен истребить старые кадры коммунистической партии и заменить их своими. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Все шестеренки смазаны, стране не дается времени ни задуматься, ни сформулировать вопросы. Прошло всего несколько дней после расстрела приговоренных руководителей партии, и в СССР начинаются пышные торжества, посвященные столетию со дня смерти Пушкина. Они занимают умы людей на протяжении всего февраля. Это настоящая канонизация великого поэта: в его честь переименовывают города, улицы, площади и набережные. Повсюду, где побывал поэт, открывают музеи[165]. СССР жил под знаком юбилея. Выставки, лекции, спектакли. За год издали более 18 млн экземпляров произведений Пушкина – больше, чем за предыдущий век.
Затем на повестке дня опять террор. В конце февраля был созван пленум Центрального Комитета, самая высокая инстанция ВКП(б) после съезда, с целью уничтожения других соперников Сталина. На этот раз главная мишень – сам Бухарин, любимец Ленина, партийный экономист и мыслитель. Уничтожение этого политического деятеля и его соратников – также очень уважаемых и популярных – проходило при особых условиях освещения: ни одной фотографии, ни одного рисунка или наброска. Атмосфера была настолько пугающая, настолько исполненная ярости и жестокости, что ее протоколы опубликовали только 60 лет спустя. Бухарин, борясь за свое право защищаться, объявил голодовку. На процессе он выглядел измученным, даже изможденным. Он был плохо выбрит, изношенный костюм болтался на нем. Ему не позволяли говорить, его освистывали. Сигнал к травле дал сам Сталин. Бухарина и Рыкова арестовало НКВД во время дискуссии прямо в разгар заседания Центрального Комитета и препроводили на Лубянку. Это было неслыханно. Новый арест взбудоражил общественное мнение. Как? Снова предатели в самом руководстве? Неужели Бухарин тоже? Третий акт чудовищного спектакля вызвал замешательство. Молчаливое сомнение закралось в души даже самых убежденных. Когда это закончится? И тогда власть опять запускает интермедию. Нужен какой-нибудь длинный «сериал», способный подогреть общественный интерес и взбудоражить публику. На этот раз заполнить авансцену и страницы газет наступила очередь саги о полярниках.
13 февраля, накануне пленума, на котором планировалась расправа с Бухариным, Сталин вызвал к себе Отто Шмидта. Глава правительства Молотов, нарком обороны Ворошилов и глава НКВД Николай Ежов также приглашены на встречу. Присутствовал и другой партийный тяжеловес – грузин Серго Орджоникидзе, отвечавший за тяжелую промышленность и считавшийся одним из самых доверенных лиц Сталина. Это одно из последних появлений Орджоникидзе, который покончит с собой через несколько дней: соратник Сталина, понимавший, что он окажется на скамье подсудимых рядом с товарищем Бухариным, предпочел уйти сам. Отто Шмидт принес план, который должен был понравиться Сталину. Обдумал он и кандидатуру, которой можно было бы поручить его реализацию. Проект поистине грандиозный – сесть на лед прямо на Северном полюсе. Это стало бы не только подвигом, достойным войти в историю авиации. Поскольку официальные заявки на первенство, поданные американцами Фредериком Куком и Робертом Пири, утверждавшими, что они побывали на Полюсе в 1908 и 1909 годах, так и не были удовлетворены[166], посадка советских летчиков стала бы первым появлением человека на вершине планеты. Но этим Шмидт не ограничился. Он предложил устроить в этом месте полярную станцию, которая затем будет дрейфовать на льдине вместе с людьми. Это была бы первая дрейфующая станция, которая позволила бы вести научные исследования в никогда не изучавшейся акватории и передавать метеорологические данные, имевшие огромную ценность для планировавшихся полетов через полюс. Еще одна страница славы для СССР!
Человек, которому предстояло осуществить этот проект, стоял рядом со Шмидтом. Контраст был поразительный. Иван Папанин – сорокатрехлетний невысокий полноватый человек с короткими чаплинскими усиками. Он новичок в молодой элите советских полярников. Папанин приехал с юга, из Крыма, где он провел детство в бедной семье в порту Севастополя. Начал работать токарем. Во время гражданской войны, которая была особенно ожесточенной в тех краях, он зарекомендовал себя во время операций местной ЧК. Некоторые предполагают, что он лично руководил расстрелом солдат и офицеров Белой армии, загнанных в угол Красной армией.107 После окончания гражданской войны и демобилизации он возглавлял самые отдаленные полярные станции – на Земле Франца-Иосифа и на мысе Челюскина. Одним из первых он перевез на мыс Челюскина свою жену. Никакого фундаментального образования у него не было: это далеко не Шмидт, Самойлович или Визе. Начальником дрейфующей станции СП-1 («Северный полюс-1») он стал благодаря организаторским способностям, чекистскому прошлому и яркому характеру.
Стиль Папанина не имел ничего общего с отшлифованной харизмой Шмидта. Он был южанином, человеком экспансивным, «близким к народным массам», как повелевала заповедь той эпохи. Папанин быстро приобрел популярность благодаря хорошо подвешенному языку, оживленности, шуткам, иногда немного тяжеловесным, и прямоте методов. О нем говорили, что он из тех, «кто открывает дверь ногой».108 Но при этом это был человек с ясным пониманием нужной линии поведения. Его ответы на газетную анкету красноречивы: «Любимый путешественник. – Фритьоф Нансен <…> Какую черту характера больше всего цените в людях. – Верность слову и долгу. Ваш идеал человека. – Конечно же, Ленин».109 Один из подчиненных Папанина в своих воспоминаниях воспроизвел типичный для него телефонный разговор с высокопоставленным флотским руководителем: «Браток, мне нужно перебросить гидрологический катер из Архангельска на Диксон, поможешь? – Да, Иван Дмитриевич, конечно, поможем. А кто оплатит эту перевозку? – Ты что, не понял? Это Папанин у телефона! – Все понял, Иван Дмитриевич…»
На самом деле идея дрейфовать на льдине по океану не совсем нова. Владимир Визе уже писал об этом в 1929 году правительству в одном из проектов, предлагая отправиться в центральную Арктику, чтобы изучать движение льдов. И гидролог Ширшов тоже утверждал в своих записках, что этот несколько безумный проект бурно обсуждался челюскинцами во время их пребывания на льду.110 Он стал более реальным после накопленного опыта посадки самолета на льды во время спасательной операции.
Однако проект все еще казался слишком смелым. Шмитд, понимавший, что он больше не имел права на провал, настоятельно просил Сталина, чтобы проект держался в секрете до тех пор, пока не станет понятно, что достигнут успех. Первая фаза подготовки началась 22 марта 1937 года. Четыре четырехмоторных АНТ-6 и один разведочный двухмоторный АНТ-7 конструкции Туполева, покрашенные в ярко оранжевый цвет, чтобы их было лучше видно на льду, вылетели из Москвы на остров Рудольфа на севере Земли Франца-Иосифа. Это самая близкая к полюсу земля в 800 км от него. Выбор довольно тяжелых самолетов (около 25 тонн) был результатом опыта: на ледовую поверхность, неровную и с застругами, летчикам удобнее сажать более устойчивые машины, способные к более короткой посадке. Толстый лед вполне выдерживал, как выяснилось, большой вес.
Пользуясь редкими «окнами» хорошей погоды, летчики совершили несколько разведывательных полетов в околополюсном районе. Экипаж разведчика погоды Головина, достигнув полюса, даже сбросил на него канистру авиационного масла. Вернувшись, он со смехом объяснил, что сделал это «для смазки земной оси». И только 21 мая экипаж под командованием Водопьянова вылетел на полюс, чтобы высадить станцию. Однако в высоких широтах на пересечении всех меридианов летчику оказалось трудно отыскать площадку, пригодную для посадки двадцатипятитонной машины. Поверхность льда под низкими облаками было трудно разглядеть. Все вокруг белое. Где небо, а где лед? Несколько полыней с черной водой и трещины отчасти облегчали задачу. Неровный лед покрыт мелким снегом, толщина слоя которого неизвестна, повсюду высоченные ледяные торосы. Какой лед окажется под лыжами четырехмоторного самолета? Нужно было, к тому же, найти достаточно прочную льдину, чтобы обитатели станции могли дрейфовать на ней, не опасаясь, что их природный плот быстро рассыплется. В нескольких десятках километров от полюса Водопьянов увидел, наконец, достаточно ровную льдину, миновал гряды торосов и… «Лыжи коснулись поверхности. Бежим, резко накреняясь и вздрагивая на неровностях. Сзади раздается хлопок парашюта. Он надулся и тормозит самолет – это изобретение Водопьянова. Вот и стали. Все в порядке. Цель достигнута».111 Местоположение: 89° 26´ с. ш., 78° в. д. 11:35 утра. Экипаж выпрыгивает на лед. Штурман Иван Спирин вспоминал, что все инстинктивно принялись притаптывать ногой поверхность, словно желая убедиться, что она прочная. Оглядевшись, он восхитился представшим перед ним величественным зрелищем: вот он, полюс! Огромные глыбы льда в три-четыре метра толщиной лежат друг на друге. Словно мощный титан-невидимка разбросал их повсюду. Все настолько необычно и сказочно! Трудно поверить, что этот невероятный хаос – всего лишь результат давления и дрейфа льдов.112 «Северный полюс, 22 мая». Агентство ТАСС передает слова Отто Шмидта, руководившегося экспедицией. Тот рапортует, что она провела первый день на советской станции на Северном полюсе. Установлены две высокие антенны. Метеостанция готова к работе, теодолит, установленный на штативе, позволяет наблюдать высоту солнца и определять координаты льдины в ходе непрерывного дрейфа. Довольно тепло, –12 °C, светит солнце, легкая поземка. Затем Шмидт добавляет, что многие члены группы – бывшие челюскинцы, и они невольно вспоминают их предыдущее пребывание на льдине. «Теперь, – заявляет Шмидт, – удалось отомстить силам природы за крушение “Челюскина”».113
Итак, доказано: Советский Союз может победить природу и укротить самые дерзкие ее проявления. Четыре человека, высаженные на лед, должны продержаться там как можно дольше и воспользоваться уникальной возможностью для изучения окружавшей их неведомой природы. Из троих спутников Папанина двое – ветераны челюскинской эпопеи. Эрнст Кренкель, радист, который ходил также в 1932 году на «Сибирякове», отвечал за связь с берегом и Москвой. Петр Ширшов, гидролог и морской биолог, тоже продолжил работу после крушения «Челюскина». Оба они, несомненно, из самых опытных людей Шмидта, но на отбор именно этих специалистов не могла не повлиять и их лояльность к бородатому начальнику Главсевморпути. Чтобы установить равновесие в этой маленькой группе, Папанину позволили отобрать четвертого «мушкетера льда»: Евгений Фёдоров, молодой талантливый геофизик, его товарищ по зимовкам на Земле Франца-Иосифа и на мысе Челюскин. Начальник – организатор, радист, двое ученых: вот те, кого страна готовится чествовать как героев. Можно и классифицировать ее иначе, в соответствии с принципами политического отдела Главсевморпути: 25 % членов партии (И. Папанин), 25 % кандидатов в члены партии (Э. Кренкель), 25 % комсомольцев (Е. Федоров) и 25 % беспартийных (П. Ширшов).114 Идеальная ячейка общества в глазах политических комиссаров.
* * *
С самых первых дней папанинцы погрузились в исследования. Все, что могло помочь понять, как функционирует «фабрика погоды» – Арктика, стало объектом изучения. Колебания температуры, атмосферного давления, океанические течения, циркулирующие на разных глубинах, строение и толщина льда, химический состав и температура воды, сила земного притяжения, подводный рельеф, не говоря уже о флоре и фауне океана, – все это измерялось, анализировалось, классифицировалось изо дня в день, час за часом. Рабочий день длился 17 часов. В первые месяцы дрейфа полярное лето облегчало дело. Радист Кренкель должен был бессменно выходить на связь каждые шесть часов, каждый день и каждую ночь, без выходных. Одна из главных задач станции СП-1 с самых первых часов ее существования – передавать данные о погоде центральной Арктики, над которой советские летчики собирались летать летом того же 1937 года. Объем новых данных велик, что неудивительно, поскольку исследователи первыми получили доступ к оставшимся белым пятнам планеты. Их ждали немалые сюрпризы. Уже в первый день Ширшов опустил в воду стальной трос с прикрепленными на нем на расстоянии 250 м друг от друга батометрами. Это тяжелый труд, особенно когда нужно ручной лебедкой поднять сотни метров троса на лед. Ширшов, торопившийся получить первые результаты с глубины 1 000 м, приказал его вытаскивать. В итоге – сюрприз: «Черт! – воскликнул Ширшов, – Термометры показывают какую-то ерунду»! Термометр, вернувшийся из ледяной воды с глубины 250 м, показывал температуру 0,62 °C. «Невозможно», – подумал Ширшов, знавший, что средняя температура арктических вод обычно находится в пределах от полутора до двух градусов ниже нуля. Однако второй термометр, побывавший на глубине 500 м, показывает 0,48 °C, и даже третий (750 м!) показывает плюсовую температуру. И только на глубине 1 000 м подо льдом температура опускается до –0,17 °C, что все равно слишком много.116 Теплая вода на полюсе! Экспедиция сразу открыла, что воды Центрального полярного бассейна находятся под влиянием теплого атлантического течения. Последующие наблюдения покажут это с еще большей точностью. Доказано, что течение на глубинах 250–750 м идет из Атлантики, и самую высокую температуру имеет вода, находящаяся на глубине 400 м от поверхности (0,77 °C).
Открытия множились. Обнаружив, что глубина океана более 4 500 м, папанинцы практически исключили существование ушедших под воду неизвестных земель в сердце Арктики, о которых говорили некоторые ученые. Другой пример: наука того времени полагала, что на полюсе нет никакой жизни. Зимовщики СП-1 обнаружили обильный планктон на глубине тысяча метров, а также многочисленных рыб, обитавших подо льдом.
Будни четверки проходили в тяжелых изнурительных трудах. Они делили палатку – 2,5 на 3,7 метра и 2 метра в высоту – из прорезиненной ткани, с подкладкой из черного шелка. Пол был сделан как алюминиевый каркас, покрытый водоотталкивающей тканью на гагачьем пуху. На палатке написано: «СССР 1937 Дрейфующая экспедиция Главсевморпути».117 По две койки с каждой стороны, разделенные столом. Был установлен рацион: килограмм консервов и концентратов на человека в день. Папанин хотел порадовать своих товарищей и в тайне от них погрузил в самолет несколько ящиков мороженой рыбы, свинины и говядины. Увы, солнечные лучи быстро испортили часть продуктов, и некоторые прекрасные куски закончили свои дни в миске сторожевого пса Весёлого, взятого с собой для предупреждения о появлении белых медведей. В редкие часы отдыха играли в шахматы, слушали радио и граммофон, читали Пушкина и других писателей.
На дрейфующей льдине папанинцы вели разные виды наблюдений в четырех пунктах, работая ночью и днем, иногда по 36 часов непрерывно. Приходилось постоянно следить за состоянием льдины. В любой момент могла образоваться трещина и лишить полярников оборудования, продовольствия, отправив их в пучину океана, или помешать наблюдениям. Папанин, ничего не понимавший в научных исследованиях, был зато мастером на все руки, он с удвоенной энергией помогал своим товарищам. «Я был первым контрабандистом Северного полюса, – вспоминал Папанин, – первым парикмахером, первым паяльщиком, первым поваром – и так до бесконечности. Вместе со своими друзьями я долбил трехметровый лед, вертел «солдат-мотор» для радиосвязи, крутил лебедку помногу часов подряд».118 Совместная жизнь на льдине не всегда была безоблачна, что можно иногда прочесть между строк. Папанин, любивший напомнить, что он главный, и придававший большое значение порядку и дисциплине, не всегда легко сносил шутки в свой адрес со стороны товарищей[167].
Немалую долю времени занимала подготовка репортажей о жизни четверки. Как во время челюскинской эпопеи, но на этот раз в соответствии с хорошо продуманным планом, папанинцы информировали средства массовой информации и советскую общественность о всех, даже самых незначительных, деталях своей жизни. Каждый вел дневник, отвечал на какие-то из тысяч писем, полных энтузиазма и восторга, которые им передавала по радио «Большая Земля». Публика требует историй, и Иван Папанин сам стал героем более 2 000 статей, посвященных дрейфу.119 Он особенно гордился заметками в L'Humanité и New York Times, авторы которых утверждали, что экспедиция – «новый шаг в планомерном завоевании льдов Советским Союзом».120 Советские люди знали все о характере пса Весёлого, сочувствовали папанинцам, страдавшим от приступов ревматизма и бессонницы. Они разделяли их радости: «9 августа. В четыре часа тридцать минут утра Эрнст разбудил Петровича [Ширшова] и поздравил его: у Ширшова накануне родилась дочь».121 Последовала лавина телеграмм, адресованных молодому отцу. Люди разделяли также беспокойства и невзгоды папанинцев: 13 августа, когда летчик Леваневский попытался установить новый трансполярный рекорд, четверка напряженно всматривалась в небо и ждала радиосообщения. Напрасно. Затем на протяжении многих дней они, как и весь советский народ, следили у радиоприемника за поисками исчезнувшего самолета. Ни экипаж, ни машина не будут найдены. Катастрофа, первая безусловная неудача сталинской полярной саги, погрузила всю страну в скорбь. Не избежали этого чувства и папа-нинцы, тем более, что случившееся живо напомнило им об опасности ситуации, в которой находились они сами. Станция СП-1 всего лишь осколок СССР, медленно дрейфовавший от самых высоких широт к югу. Четверо робинзонов Арктики находились на самом краю света, однако все же ощущали удушающий климат лета 1937 года. Время от времени их призывали, хоть и издали, все же поучаствовать в больших политических и культурных маневрах режима. На льдине они выслушали трансляцию концерта из московской Консерватории имени П.И. Чайковского, а также от начала и до конца многочасовое торжественное празднование 20-й годовщины Октябрьской революции. По этому случаю они надели все самое нарядное. 11 июня, через три недели после начала эпопеи, полярники узнали по радио об аресте Тухачевского и многих других высокопоставленных армейских командиров. Это было начало новой волны чисток, которая буквально обезглавит Красную армию. Ширшов записал в дневнике, что в шесть часов Кренкель передал невероятную новость: Тухачевский, Якир и другие арестованы. Им предъявлено обвинение по статье 58. Папанинцы долго не могли прийти в себя и с нетерпением ждали девятичасовой сводки с Диксона. Им не верилось, что все это происходило на самом деле.122
Но это происходило на самом деле. Ширшов благоразумно не стал делиться своими чувствами. Была немедленно созвана партийная ячейка станции СП-1. Как и тысячи других людей, ее члены должны были присоединиться к национальной вакханалии ненависти, сыпать проклятиями и требовать голов «предателей». И станция Папанина по радио тоже взывала о смерти «бешеной собаки» Тухачевского и его сообщников. Их голос был важен, и политическое руководство Главсевморпути постаралось, чтобы он был услышан. Тень террора росла. ГУСМП еще не знало, что скоро придет и его черед.
Но куда дрейфовала льдина, на которой находились эта четверка? И где конец дрейфу? На этот вопрос, от которого зависела их жизнь, ответа не было. Отсутствие сведений о течениях центральной Арктики делало любой прогноз произвольным. Мнения специалистов противоречили друг другу. Главное управление Гидрометеорологической службы предполагало сначала, что дрейф будет идти в сторону Канадского архипелага. Это был бы благополучный вариант, поскольку течения в той части океана медленные, а лед крепкий. Так что было бы время спланировать спасательную операцию. Визе и Шмидт в руководстве Главсевморпути придерживались другого мнения: они склонялись к тому, что льдина будет медленно дрейфовать в сторону Гренландии, а затем северной Атлантики. Вызывало ли это тревогу? «Нет», – публично заявлял Отто Шмидт в первые дни экспедиции. Он выражал надежду, что дрейф будет происходить со скоростью, которая позволит завершить работы за год. «Через год, – утверждал он, – эта льдина, хоть и немного обломавшаяся, будет все еще в Центральном полярном бассейне, только сместится немного к югу».123
Но ситуация развивалась по-другому. Льдина набирала скорость. В июне она двигалась со скоростью 2,5 км в день. В августе – 4,5 км. В ноябре – в среднем 7,5 км в день. С 5 октября станция скользила во тьме полярной ночи, температура опустилась: –20 °C, потом –30 °C. Льдина с черной палаткой дрейфовала к югу, где воды теплее. В Москве начали волноваться, все происходило слишком быстро. Дрейф опережал расчеты на 220 км, приближая льдину к Гренландии. Если бы она столкнулась с берегом, то была бы раздроблена, и для Папанина и его товарищей все было бы кончено. Начальник экспедиции согласился с тем, что план снять их самолетом следующей весной не годился. Льдина просто не продержалась бы до этого. Предполагалось, что она в мае окажется на 82-м градусе северной широты. В ноябре эта точка уже осталась позади, и скорость только нарастала. В начале января льдина двигалась на юг со скоростью 18 км в день, дрейфуя восточнее Гренландии, на 1 000 км южнее, чем предполагалось. «22 мили [40] за два дня?» – с изумлением запрашивает Москва. В это было трудно поверить.124 Слышался глухой мощный треск, все больше и больше трещин рассекало льдину, от которой начали отваливаться крупные куски. 21 января Папанин писал в дневнике, что никогда не думал, что давление льдов могло сопровождаться таким грохотом. Зимовщики начали готовить сани на случай, если придется перебираться на новую льдину. Наступил момент, когда Ширшов сообщил, что палатка – лаборатория с приборами – отрезана от лагеря трещиной. Он попытался добраться до нее на лодке. Пес Весёлый лаял. Туман усиливался. Лодка вернулась, но лебедку и трос пришлось бросить. Обитатели льдины демонстрировали поразительное спокойствие. Петрович и Кренкель играли в шахматы. Никто не выглядел встревоженным. Точнее говоря, каждый боялся испугать других.125 Зато в штабе Главсевморпути царила настоящая тревога. Шмидта было не узнать. Один из его коллег будет вспоминать, как встретил его в те дни в коридорах Главсевморпути. Шмидт отвел его в сторону и тихо сообщил о только что полученной телеграмме. Он рассказал, что лед начал ломаться, спокойным, как всегда, голосом. Но впервые в его глазах стоял страх.126 И, как при спасении челюскинцев, Шмидт решил сделать все, чтобы выиграть гонку у времени. Всеобщая мобилизация! Ледокол «Ермак», на который поднялся сам Шмидт, два ледокольных парохода «Таймыр» и «Мурман»,127 тральщик и три подлодки вышли из портов и двинулись в сторону льдины, которая текла, во всех смыслах этого слова, в сторону Атлантики. И, наконец, в глубочайшем секрете из Долгопрудного под Москвой вылетел дирижабль. Однако он вскоре разбился неподалеку от Кандалакши на Белом море, 13 аэронавтов погибло. В спасательной экспедиции были задействованы все существовавшие в начале 1938 года средства. Арктический флот был заперт льдами, о чем еще пойдет речь. Использовать авиацию, как в случае с «Челюскиным», не представлялось возможным, так как, по сообщению папанинцев, на горизонте не было видно ни одной пригодной для посадки льдины. Лед вокруг станции продолжал ломаться. Ширина обломков льдины не превышала 70 м, а разводьев – до 50 м. Ледяные поля беспрерывно сталкивались друг с другом.128
19 февраля 1938 года «Мурман» и «Таймыр», каждый из которых жаждал принять на борт четверых героев Арктики, находились километрах в двух от станции. Экипажи соперничали друг с другом в скорости и способности пробираться по разводьям. Около 14 часов корабли пришвартовались к кромке льдины. Координаты: 70°54′ с. ш. и 19°48′ з. д, это близко к широте норвежского Нордкапа, но сильно западнее. Льдина имела размеры 30х50 м. Антенн больше нет, палатка полна воды. Папанин постарался покрепче закрепить советский флаг, чтобы он в одиночестве продолжил путь, пока не исчезнет в океане. В 18 часов по местному времени Эрнст Кренкель передал последнее радиосообщение со станции С-1. Станция прошла 2 500 км за 274 дня дрейфа. Иван Папанин, вполне дородный мужчина, потерял несколько килограммов. Папанинцы поднялись на борт «Мурмана» вместе с псом Весёлым. Сначала Папанин решил отдать его в зоопарк, но поднялась такая буря протестов, что первую дрейфовавшую собаку в конце концов решили подарить товарищу Сталину, большому другу животных.
И, конечно же, папанинцев ждал триумф. Папанин, Фёдоров, Кренкель и Ширшов – не было такого человека в СССР, который бы не знал этих фамилий. Но, когда доблестные путешественники пересели на «Ермак», где их ждал Отто Шмидт, что-то пошло не так. На этот раз, в отличие от предшествующих славных эпизодов, пресса ведет себя сдержанней, и почетный комитет поредел. Сам Шмидт, несмотря на облегчение, которое он почувствовал, увидев своих товарищей живыми и здоровыми, выглядел обеспокоенным. За предыдущие месяцы основателя и символическую фигуру Главсевморпути трижды вызывали к Сталину. Шмидт не особенно распространялся о содержании бесед, однако было ясно, что его там ждали не похвалы. Имя Шмидта отсутствовало в наградном листе по случаю возвращения папанинцев. Всем четверым присвоили звание Героя Советского Союза, но главный спасатель Шмидт остался в стороне. Под конец пребывания на льдине Папанин и его товарищи часто получали тревожную информацию с родины: обнаруживались новые предатели, саботажники, шпионы и контрреволюционеры, шли аресты, и имена исчезавших из официальных сводок были не менее громкими.
Террор простирался повсюду. Тень его пала и на кортеж славы, приготовленный для папанинцев. Сначала торжественное прибытие «Ермака» в ленинградский порт запланировали на 13 марта, но неожиданно ледокол задержали на два дня в Таллине, почти у конечного пункта. Официально – чтобы пополнить запасы угля. На самом деле – по решению Кремля, как считают российские историки: прибытие героев и связанные с ним празднества должны были произойти сразу после завершения последнего из больших процессов, процесса Бухарина и его «приспешников». По замыслу власти, ожидавшийся шок от смертного приговора знаменитым людям, обвинявшимся в правом троцкистом заговоре, можно было нейтрализовать победным оркестром в честь покорения Арктики. Папанинская сага должна была занять общественное сознание, отвлечь от советских будней с их чистками, арестами, исчезновениями, громкими процессами и расстрелами. И ее завершение – торжественное возвращение – вполне могло справиться с такой задачей. К несчастью, капля дегтя все-таки подпортила тщательно подготовленную картину: один из обвиняемых, бывший заместитель наркома юстиции Крестинский внезапно отказался от показаний, полученных под пытками, так что судьи были вынуждены отправить дело на доследование, чтобы снова добиться от строптивца нужных признаний. Из-за этого завершение зрелищного процесса и вынесение заготовленного уже смертного приговора было перенесено на 13 марта. Как полагают некоторые специалисты,129 Папанин и его товарищи вынуждены были ждать два дня, чтобы избежать досадного смешения жанров – ужаса и восторга. Итак, всего через несколько часов после залпов расстрельной команды 15 марта 1938 года «Ермак» вошел в ленинградский порт под приветственные гудки кораблей, стоявших на якоре, крики собравшийся на набережной толпы и залпы салюта. Для Отто Шмидта и его администрации это был последний праздник.
Через 10 дней после парада в столице и очередного шоу на Красной площади становится понятным, какую судьбу уготовил Сталин арктическому главку. В правительственном постановлении, посвященном работе Главсевморпути в 1937 году, она признана «неудовлетворительной». Среди причин называлось отсутствие организации, самоуспокоенность и зазнайство. И, что гораздо хуже, «создание в аппарате благоприятной обстановки для преступной антисоветской деятельности вредителей».130 В 1938 году такая фраза звучала прелюдией к поминальной молитве. Обвинение произнесено, оно станет приговором.
* * *
На самом деле серьезные неприятности в ГУСМП начались за несколько месяцев до этих событий. С осени 1937 года, в самый разгар террора, когда сотни тысяч граждан уводят на рассвете из квартир или прямо с рабочих мест, Главсевморпуть тоже затягивает в воронку репрессий. Еще на дрейфующей льдине папанинцы узнали, что «предатели и подонки» проникли повсюду, в том числе и в их организацию, во что им совсем не хотелось верить. Один из первых арестов – самый неожиданный. В октябре 1937 года арестован начальник Политуправления ГУСМП Сергей Бергавинов, правая рука Отто Шмидта. Парадоксальным образом он стал жертвой собственного усердия: испуганный размахом охоты на саботажников, охватившей всю страну, он отправил в НКВД тысячи доносов, которые оказались в итоге в его собственном отделе в Главсевморпути. В основном, пустяки – обвинения в алкоголизме, растратах, коррупции, жалобы на плохое функционирование гигантского и чересчур централизованного аппарата, и, конечно же, пухлая пачка анонимных доносов политического характера, каких немало писалось в то время во всем СССР. Лавина доносов произвела впечатление. НКВД решил, что арктическая организация стала жертвой контрреволюционной операции, имевшей целью посеять в ней хаос. Бергавинова допросили. Он назвал имена, много имен. Через полтора месяца после ареста он, по всей видимости, покончил с собой в камере Лубянки.131
С тех пор список жертв продолжал увеличиваться. Арестованы все главы региональных трестов ГУСМП. Десятки, а затем и сотни рядовых и высокопоставленных сотрудников исчезали один за другим. Среди них Алексей Бобров, политический комиссар «Челюскина», так боявшийся, что снова попадет в ад, в котором ему уже довелось побывать. На этот раз он пробыл в заключении недолго. Боброва арестовали осенью 1937 года, и его имя фигурировало в списке обвиняемых, завизированном 3 января 1938 года самим Сталиным и другими членами Политбюро. Приговор прозвучал 11 января и в тот же день Бобров получил пулю в затылок на полигоне Коммунарка, в пригороде Москвы. Вместе с ним расстреляли еще 10 его коллег из Главсевморпути и Наркомата водного транспорта.132 Через пять дней тела еще девяти сотрудников этих организаций сброшены в братскую могилу. Бобров – не единственный из героев-челюскинцев, расстрелянный «как бешеный пес». Илья Баевский, один из заместителей Шмидта, который на льдине вел заседания партийной ячейки, оказался в той же отправленной на полигон группе. Его арестовали дома, пытали. На последней фотографии, сделанной в тюрьме, у него страшный блуждающий взгляд. Расстрелян. Его жена, педиатр, сослана на пять лет в Северо-Двинский лагерь. О судьбе их двоих маленьких детей ничего не известно.133 И другие герои-челюскинцы, – гидролог Хмызников, зоолог Белопольский, завхоз Канцин, плотник Юганов попадут в разное время в ГУЛАГ или в ссылку. В расстрельных списках также числятся участники славной советской полярной эпопеи 1928 года – девять членов экипажа «Красина», спасавшего итальянскую экспедицию Нобиле. Секира НКВД не щадила никого. У несчастных вырывали гротескные и сюрреалистические признания: шпионаж в пользу Чехословакии в Арктике, «передача в виде шпионских сведений данных о режиме льдов в Северном Ледовитом океане».134 Из 300 человек, награжденных во время чествования челюскинцев, у 24 отняли награды, 11 арестовали, и, наконец, семерых расстреляли. В июне – июле 1938 года расстреляны трое из пяти членов комитета спасения челюскинцев: Николай Янсон, заместитель начальника Главного управления Севморпути, награжденный в июне 1937 года; другой заместитель начальника ГУСМП Семён Иоффе, а также Иосиф Уншлихт, начальник Главного управления гражданского воздушного флота. Как скажет Михаил Громов после смерти Сталина, когда вас вызывает вождь, вы, направляясь на встречу, не знаете, украсит крест вашу грудь или вашу могилу.135
Когда папанинцы дрейфовали на льдине, 115 служащих Главсевморпути, 30 научных сотрудников и 40 других «работников советского Севера» уже предстали перед специальными трибуналами. Большинство было немедленно расстреляно. Среди них и известные люди, например, Михаил Плисецкий, руководитель советского угольного треста на Шпицбергене, отец балерины Майи Плисецкой и ее брата, будущего балетмейстера Азария Плисецкого. И множество других, менее известных. Назовем хотя бы некоторых из длинного скорбного списка,136 кропотливо составленного историком Сергеем Ларьковым и обществом «Мемориал»: Жигалев, заместитель начальника полярной авиации, расстрелян; Поляков, радист, расстрелян; Чиковани, начальник планово-экономического отдела, расстрелян; капитаны Семикоз, Дымский, Стехов, Пережогин, Гадилло, расстреляны. Весной 1938 года, после возвращения папанинцев и «неудовлетворительной» оценки работы ГУСМП ситуация становится еще хуже. Отто Шмидт, стоявший над всеми, пытался остановить погром, ударившись в красноречие в духе палачей, чтобы заверить их в своих самых лучших намерениях: «Подлые троцкистско-бухаринские агенты фашизма, пробравшиеся в Главсевморпуть, срывали выполнение планов, скрывали от Родины богатства Арктики, замораживали суда, всячески вредили и дезорганизовывали работу, разрушали стахановское движение… Первейшей задачей для всех честных работников Главсевморпути является сейчас решительное и беспощадное выкорчевывание вражеских остатков, очищение Главсевморпути от всех сомнительных элементов и полная ликвидация последствий вредительства».137 Но ничто не могло уже остановить инерцию репрессий. Счет шел на сотни служащих, ученых, летчиков и простых работников Арктики, увидевших на рассвете на своем пороге агентов НКВД в васильковых фуражках. В «Дом полярников», престижное здание, только-только построенное на Никитском бульваре, одном из красивейших бульваров Москвы для новой элиты полярников, приходили так часто, что треть квартир опустела. Всего, согласно данным Сергея Ларькова,138 небольшая империя Шмидта потеряла более 2 000 человек.
В чем же винили министерство Севера? В том, что оно не сумело реализовать непомерные амбиции Иосифа Сталина, подтолкнувшие его создать столь мощную организацию за пять с половиной лет до того. Слишком много потраченных средств, в которых так нуждалось сталинское государство. Слишком много катастроф, слишком много жалоб, слишком много нескоординированных усилий, слишком мала отдача, учитывая вложенные инвестиции. Конечно, были созданы десятки полярных станций по всей Арктике, которые не простаивали. Конечно, разрабатывались месторождения полезных ископаемых, конечно, совершено множество подвигов. Но где же мощное экономическое развитие, на которое возлагалось столько надежд? Запланированные результаты не были достигнуты. Где Северный морской путь, попавший в название организации? Кремль считал, что управление «северной империей» шло из рук вон плохо. И вырванная победа последней экспедиции на Северный полюс нисколько не смягчила гнев вождя.
Самым важным в глазах Сталина было, вероятно, то, что произошло на трассе Северного морского пути. Зимой 1937–1938 годов советский арктический флот постигла катастрофа. Пока Шмидт занимался своим главным проектом дрейфующей станции и метался между Ленинградом и Москвой с бессчетными отчетами партийному руководству, управление судами в Арктике и их разгрузка-погрузка в портах Крайнего Севера, дало сбой и не смогло скоординировать запланированные операции. Две навигации перед этим Северный путь функционировал без помех, и Шмидт им не занимался. Но как только ледовая обстановка усложнилась, отсутствие начальника, способного быстро принимать трудные и рискованные решения, стало резко ощущаться. Не хватало ледоколов и, в довершение несчастий, зима выдалась очень суровой, температура упала до необычно низких значений. Полярная авиация, мобилизованная для высадки СП-1 и поисков Леваневского, не могла поставлять данные о состоянии льда в море, как она это обычно делала. Многие суда оказались в ледовой ловушке с людьми и грузами. В конце 1937 года окружено льдами не менее 26 судов, из них 8 ледоколов. В числе плененных стихией есть и носившие символические имена «Ленин» и «Товарищ Сталин». Уж не собралась ли природа отомстить? На Большой Земле началась паника. «Челюскин», помноженный на 26! Некоторым судам удалось подойти к берегу для вынужденной зимовки, но другие, например, «Седов», «Садко» и «Малыгин» оказались заблокированными за тысячу километров от ближайшего порта и дрейфовали по воле льдов в еще неизученные широты.
Многочисленные телеграммы из высоких инстанций с приказом капитанам выбираться из ледовых ловушек не могли ничем помочь. Наоборот, испуганная суета и противоречивые инструкции, передававшиеся, в частности, ледоколам, привели к полной катастрофе. Только капитан Воронин на ледоколе «Ермак», наш старый знакомый, отказался подчиняться не всегда разумным приказам с Большой Земли. И был единственным, кто вырвал свой ледокол из объятий льда практически без повреждений, что позволило ему, как мы уже знаем, вовремя забрать папанинцев со станции СП-1.
В Кремле тоже не оказалось никого, кто смог бы объяснить ситуацию вождю. Шмидт в разъездах по стране. Он страдал от последствий перенесенной пневмонии, к тому же умерла его жена. Другие специалисты или находились в подвалах НКВД, или старались что было сил руководить работой и успокаивать тех, кто еще что-то делал на местах. На какое-то время прекратил существование не только морской путь, но и весь арктический флот. Главсевморпуть торпедирован в свою самую чувствительную точку – затронута непосредственно цель его существования. Мощную структуру погубила смесь невезения, непредсказуемости, отсутствия должной организации и некомпетентность. И еще перегрузка, поскольку очевидно, что одновременное проведение такой важной операции, как высадка папанинской станции, и управление текущими делами при ограниченных ресурсах было гибельно. Катастрофа ударила по Главсевморпути в тот момент, когда он еле дышал, в самый разгар деструктивного бешенства, охватившего тирана. Сталин плевался слюной: как рассказывает один из свидетелей гнева вождя, он кричал, что в любой другой стране за такой бардак, такую халатность и дезорганизацию, ставшие причиной остановки стольких судов, следовало ответить по суду, а тут их всего лишь называют троцкистами и шпионами.139
Бессмысленно искать более глубокие причины расправ. В организационной структуре Главсевморпути было много имен, звучавших как иностранные, в частности немецких и еврейских. Они часто встречаются среди ученых, подозреваемых в связях с заграницей. Много и так называемых выдвиженцев, молодой сталинской поросли, жаждавших столкнуть старшее поколение и доказать свою приверженность новой вере и абсолютную преданность режиму. Анонимные доносы текли рекой. Каждая ошибка, каждое упущение, пусть даже и случайное, могло превратиться в обвинение в саботаже. Виновных легион, нужно только указать на них.
* * *
В то время, как охота на ведьм набирала обороты, в Арктике экипажи грузовых судов и ледоколов, надолго плененных льдами, пытались как-то организовать выживание. В тех условиях было неясно, что лучше: застрять на много месяцев во льдах или каждую минуту бояться, что в дверь позвонят. На «Товарище Сталине» заделывали течь в борту. «Рабочий» пошел ко дну, раздавленный, словно орех, глыбами окружившего его льда. Его экипаж пытался на себе и на единственных санях перетащить 200 тонн груза с тонувшего судна на «Ленин», застрявший в 25 км от «Рабочего». Но самая сложная ситуация сложилась в так называемом «лагере трех кораблей», треугольнике, образованном «Малыгиным», «Седовым» и «Садко», вмерзших в лед в нескольких сотнях метров друг от друга. Пароходы были абсолютно не готовы к нежданной зимовке. Не хватало ни провизии, ни инвентаря. Температура в отапливавшихся каютах колебалась между –3 °C и +7 °C. Дрейф уносил суда все дальше на север. Капитаны попросили Рудольфа Самойловича, директора Арктического института, ветерана полярных исследований и заместителя Шмидта, находившегося на борту «Садко», принять на себя руководство зимовкой. Самойлович неохотно согласился. Он слишком хорошо знал все риски подобной деятельности. Пассажиров перераспределили по пароходам и соединили все три судна тропами, огражденными леерами. Организовали досуг, как это делалось на «Челюскине». Самойлович все-таки был ученым, поэтому он проводил исследования, чтобы эта невольная экскурсия в неведомых водах не проходила напрасно. Его коллега по той зимовке Михаил Ермолаев вспоминал, что в тех тяжелых условиях Рудольф Лазаревич Самойлович показал себя выдающимся руководителем. Он обустроил повседневную жизнь: жилье, отопление, питание, научные исследования; он создал «дрейфующий ВУЗ» – 25 студентов гидрографического института на «Малыгине» и «Седове» продолжали курс обучения.140
В апреле под руководством того же Самойловича прошла эвакуация самолетами 183 из 217 пассажиров и членов экипажей пароходов. На борту остались лишь команды, которые должны были привести ледокольные пароходы в порт после освобождения из льдов[168]. Когда летчики вышли из своих машин, чтобы пожать руки зимовщикам, контраст был поразительным. Один из вывезенных вспоминал, что пилотов охватил ужас, когда они увидели толпу оборванцев в драных войлочных куртках, опоясанных веревками, на одной руке – перчатка, на другой – варежка. Так выглядели зеки на одном из рисунков. Летчики же казались марсианами: сверкающие, в кожаных куртках, желтых брюках, сапогах из оленьей кожи на беличьем меху! Зимовщики и летчики молча созерцали друг друга.141 Спасены. Так ли? Спасители поспешили открыть глаза спасенным: «На Большой Земле дела плохи, – рассказали они, – все директора, все, кто занимает хоть какой-нибудь пост, оказались вредителями, они арестованы». Атмосфера далека от праздничной. Когда они прибыли в поселок Тикси, не было ни цветов, ни речей. В столовой, где для них накрыли стол, ни одного гостя. Люди в форме или в кожаных куртках суетились у ангаров. Они окликали то одного, то другого из прибывших. На многих из них выписаны ордеры на арест еще в то время, когда они мыкались посреди льдов, борясь за выживание. Они об этом ничего не знали. Представители НКВД ждали некоторых прямо на вокзале, некоторых – у подъездов. 5 мая 1938 года «Правда» и «Известия» опубликовали адресованное Сталину благодарственное письмо семей спасенных. Они благодарили «любимого Иосифа Виссарионовича» за заботу об отцах и сыновьях, а также о себе – женах и детях и заверяли, что будут хранить это чувство всю оставшуюся жизнь.142 Письмо подписали жены Самойловича, Ермолаева, Евгенова, Орловского и некоторых других зимовщиков. Эти имена всплыли в последний раз – вскоре они надолго исчезнут из советской истории и науки.
Через несколько дней появилось официальное коммюнике, объявлявшее о больших изменениях в Главсевморпути. Отто Шмидт формально оставался во главе организации, но руководство переходило в руки зимовщиков СП-1 – папанинской четверки. Иван Папанин назначен заместителем Шмидта, Эрнст Кренкель, радист, – начальником управления полярных станций, а Петр Ширшов сменил Рудольфа Самойловича на посту руководителя Арктического института. Многие администраторы исчезли, за исключением Шмидта, фигуры, как все понимали, уже ничего не решавшей. Самойлович, правая рука Шмидта, директор института, старый большевик, столько сделавший для науки и для страны, даже не упоминался.
Михаила Ермолаева арестовали дома ночью 6 июля. Рудольфа Самойловича та же судьба постигла двумя неделями позже, когда он отдыхал после всех перенесенных тягот в санатории на Кавказе. Жена пыталась предупредить его. Обоих отвезли в тюрьму НКВД и жутко пытали. Бывший директор Арктического института кровью заплатил за каждое слово самокритики, с которой он выступил перед собранием за два года до этого, а также за каждый упрек, публично высказанный в его адрес Шмидтом. Жена Самойловича рассказывала, что Отто Шмидт приходил к своему коллеге чуть ли не на коленях вымаливать прощение.143 Самойлович – легкая мишень. В список его страшных грехов можно добавить старую дружбу с Бухариным, которого уже расстреляли. Отныне знаменитый геолог – лишь французский и немецкий шпион, вредный элемент, участник контрреволюционного заговора. 4 марта 1939 года последовало обвинение по статье 58, после чего Самойловича расстреляли в московском Донском монастыре.144 Что же касается его друга Михаила Ермолаева, то он обвинен в сговоре с Николаем Урванцевым, одним из основателей Норильска. Их сначала приговорили к 12 и 15 годам лагерей, а после второго процесса, состоявшегося в 1940 году, – к 8 годам. В 1942 году Ермолаева, сидевшего на Крайнем Севере, поездом привезли в Москву в сопровождении офицера НКВД. От него потребовали, чтобы он выступил на международном симпозиуме по железнодорожному строительству на вечной мерзлоте и рассказал о специфике «прокладки стальных рельсов в условиях вечной мерзлоты». Он подчинился и выступил, надев костюм, сшитый по его меркам для этого случая, после чего снова облачился в одежду зека.145 Ермолаев вынужден будет потом остаться жить на Крайнем Севере. Он вернется к научной карьере только в 1950-е годы. Гроза разразилась над Главсевморпути и унесла многих коллег Ермолаева, а также сотрудников отдела океанографии, которые были уволены, а многие – арестованы. И шире – все геологи оказались под прицелом, поскольку их подозревали в коллективном саботаже. Жертвами режима стали 970 геологов (не только работавших на Севере), из которых 197 сгинуло в тюрьмах и лагерях.146
Судьба не лучше обошлась с папанинцами, занявшими руководящие позиции в Главсевморпути и невольно содействовавшими падению своих предшественников. Иван Папанин, уполномоченный Государственного комитета обороны по морским перевозкам на Севере во время Великой Отечественной войны, в 1946 году был отстранен от должности Сталиным. В 1947 году Фёдорова сняли с поста начальника Гидрометслужбы СССР за «политическую близорукость»: принимая своих коллег – метеорологов из Соединенных Штатов, он провел с ними неформальный вечер у костра. Эрнст Кренкель избежит преследований, хотя некоторые авторы говорят, что его обвиняли в шпионаже в пользу Германии. Что же касается Петра Ширшова, то его ждала судьба многих сталинских руководителей. Член Комитета обороны, главной государственной организации военного времени, министр морского флота и, наконец, директор Института океанологии, который он сам и создал. В 1946 году, находясь на вершине карьеры, он узнал, что его жена, известная киноактриса Евгения Гаркуша арестована на даче сотрудниками Берии, хозяина НКВД. Больше он ее не увидит. Вызванный в парткомиссию, он узнал, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Англии и в спекуляции. Ему предлагали поддержать обвинение и отречься от жены под угрозой исключения из партии и увольнения. Позже во время частной аудиенции Берия заверил полярника-ветерана в своем глубоком уважении, но при этом предупредил, что если тот еще раз начнет расспрашивать его о жене, то он пристрелит его на месте. Вне себя от страданий и страха за жену Ширшов обратился к своему старому товарищу по экспедиции, Папанину, умоляя его заступиться за нее перед Сталиным. Папанин передал ответ Сталина: «Пусть забудет. Найдем ему другую».147 Ширшов, день и ночь тосковавший по жене, измученный отсутствием известий о ее судьбе, продолжал вести образ жизни высокопоставленного чиновника, не оставляя при этом надежды отыскать ее следы и посылая бесконечные просьбы о помиловании. В его ведение входил транспорт Арктики, а в одном из северных лагерей мучилась его жена[169].
А Отто Шмидт? Казалось, все говорило против него: немецкое происхождение, меньшевистское дореволюционное прошлое, дружба с обвиненными и сгинувшими интеллектуалами, – режиссером Всеволодом Мейерхольдом или писателем Исааком Бабелем, признание и награды всех академий мира, триумфальная поездка по Америке и, наконец, высший пост в стратегическом учреждении, которое было пригвождено к позорному столбу за оглушительную неудачу, на которое указывали как на гнездо «саботажников». Такая вот отягощенная биография. Но главное правило в царстве Сталина – произвол, всегда непредсказуемый. В архивах найдено огромное досье, которое было собрано на Шмидта следователями НКВД. Охота длилась много лет, и арест приближенных к нему политических руководителей – часть плана. В досье есть полученные на допросах признания арестованных в том, что они вели шпионскую деятельность в пользу Германии с участием Шмидта, а также утверждения, что их вместе со Шмидтом завербовали прямо в Арктическом институте, где они образовали опасную группу антисоветских кадров. Как свидетельствует досье Самойловича, на допросах от него добивались, чтобы он потащил Шмидта за собой в ад.
Однако Отто Шмидт избежал самого страшного. Ни один историк так и не сумел объяснить причины, по которым Сталин пощадил великана-бородача, так часто стоявшего рядом с ним во время триумфальных шествий по Красной Площади. Было ли дело в слишком большой популярности Шмидта? Или в том, что не хотелось принести в жертву героя, который имел имидж доброго ученого? Или в каких-то других тайных мотивах, живших в глубинах сознания диктатора? Судьба Шмидта состояла в том, что он наблюдал за разгромом ГУСМП, в который он так верил и которому отдал столько сил. В августе 1938-го, через два месяца после назначения Папанина, империя Главсевморпути была уже сильно уменьшена. Большую часть ее хозяйственных функций изъяли, кроме управления непосредственным функционированием Северного морского пути. А через 26 лет (1964) ГУСМП стало лишь сравнительно небольшим отделом в Министерстве морского транспорта. Наоборот, соперник Главсевморпути – «Дальстрой» – расширил свою территорию на Дальнем Востоке. Кормясь силами ГУЛАГа, он обернул в свою пользу кризис ГУСМП и вышел победителем. Весной 1939 года Шмидт, которому было всего сорок восемь лет, вышел в отставку, покинул созданное им сильно обескровленное детище. Главной целью Главсевморпути осталось не комплексное хозяйственное освоение Арктики, но лишь развитие судоходства на Великом северном пути. После войны Арктика снова окажется в центре внимания, которое еще больше возрастет в 1980-е годы. Но советская полярная эпопея 1930-х годов, в ореоле славы и пятнах крови, подошла к концу. Падший властелин, «Дед Мороз» из Арктики, стал редактором «Большой советской энциклопедии». Он умер осенью 1956 года, успев услышать, как и все его соотечественники, из уст нового секретаря партии Никиты Хрущёва о преступлениях прошлого и о наступлении новой эпохи. И Сибири в ней будет отведена ключевая роль.
Седьмая часть
По нефтяному морю
Берёзовское чудо
9 февраля 1946 года в Москве в Большом театре проходит необычное мероприятие. Главный театр страны задействован для предвыборного собрания особой важности: кандидат от Сталинского избирательного округа – сам Иосиф Сталин! Выборы в Верховный Совет, парламент страны, назначены на следующий день. Во всех избирательных округах, не только в Сталинском, в первых послевоенных выборах участвует только один кандидат.
Речи вождя ждет вся страна. С окончания Великой Отечественной войны прошло всего полгода. Многие солдаты Красной армии еще не вернулись из Восточной Европы или с Дальнего Востока, куда их забросили последние месяцы войны. Страна обескровлена: 27 млн жителей погибли в кровавой бойне. Пора приниматься за полное или частичное восстановление 1 710 городов, 70 тысяч деревень. Разрушено 6 млн домов, 32 тысячи промышленных предприятий и 98 тысяч колхозов. А еще надо позаботься о новых приобретениях на западе и востоке, а также о странах-союзниках СССР, тоже серьезно пострадавших во время войны. Теперь все хотят знать, что же будет дальше?
Товарищ Сталин, стоя перед тяжелым красным занавесом Большого театра, начинает свою речь с оправдания предвоенной военно-промышленной кампании. Он говорит, что без интенсивной индустриализации, без сознательных жертв, без форсированной коллективизации сельского хозяйства СССР не смог бы победить в войне. Напрашивается естественный вывод: и речи не может быть о смене курса. Программная речь Сталина – как приказ о наступлении, не оставляющий никакой надежды не только на передышку, но и на улучшение качества жизни. «Что касается планов на более длительный период, – заявляет вождь с трибуны, – то партия намерена организовать новый мощный подъем народного хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 млн тонн чугуна (продолжительные аплодисменты), до 500 млн тонн угля [продолжительные аплодисменты] и до 60 млн тонн нефти (продолжительные аплодисменты). Только при этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей (бурные аплодисменты)».1
Сталин не случайно подчеркивает настоятельную потребность в энергоносителях. Советскому Союзу очень нужны нефть и газ, их никогда не бывает достаточно. Сама по себе колоссальная задача по восстановлению страны требует гораздо больше энергоресурсов, чем страна может произвести на данном этапе. План Маршалла, в соответствии с которым США оказывает помощь по восстановлению Западной Европы, также уделяет особое внимание энергоресурсам. Пятая часть выделяемой Европе поддержки должна идти на импорт американской нефти. Речь не только о том, чтобы восстановить нормальное жизнеобеспечение населения в послевоенные зимы, но и о том, чтобы противостоять давлению сочувствующих коммунистам профсоюзов шахтеров, непрерывные забастовки которых дестабилизируют работу новых правительств, в том числе во Франции. Естественно, СССР не включен в план Маршалла. Кроме того, он должен гарантировать поставки энергоносителей в свою новую зону влияния – восточноевропейские страны, некоторые из которых охотно воспользовались бы щедростью США. В частности, Румыния, Польша и Чехословакия добились от СССР гарантий поставок в обмен на выполнение требований Москвы.
По-настоящему осложняют ситуацию и первые признаки недоверия со стороны бывших союзников. Чувствуется приближение холодной войны. США производят более 240 млн тонн нефти, что на 20 % больше, чем до начала войны. к тому же они могут рассчитывать на гигантский потенциал своих новых должников на Ближнем Востоке, например, Саудовской Аравии. СССР же в 1945 году производит только 19 млн тонн. В 1941 году, на момент немецкого вторжения, он добывал 33 млн тонн. Поэтому смысл предвыборной речи Сталина предельно ясен. Но где же найти манну небесную, которая позволит восполнить этот угрожающий дефицит?
Сталин потребовал 60 млн тонн нефти – продолжительные аплодисменты. Однако самозабвенно аплодировали не все. Некоторые потрясены и застыли от ужаса. Среди них – министр нефтяной промышленности Николай Байбаков: «У меня, когда я это услышал, прямо волосы встали дыбом: откуда эти цифры?» – рассказывал он впоследствии. До войны СССР достиг уровня добычи 33 млн тонн, на что потребовались десятилетия. А теперь, когда измученной войной с фашизмом стране предстояло в короткие сроки восстановить разрушенные промышленность и сельское хозяйство, требовалось одновременно еще и поднять уровень производства нефти с 19 до 60 млн тонн?2
Николай Байбаков – плоть от плоти нефтедобывающей отрасли. Он родился в 1911 году. В семье белорусского кузнеца, приехавшего на заработки в Баку и устроившегося механиком в компанию братьев Нобелей. Николай Байбаков выучился на инженера по нефтепромыслам и сделал стремительную карьеру в конце 1930-х годов, когда начал занимать в отрасли ответственные должности. Именно в эпоху сталинских репрессий основной руководящий состав был заменен более сговорчивыми молодыми сотрудниками. Руководитель советской нефтедобычи с густыми бровями на круглом лице как свои пять пальцев знал возможности отрасли, которой руководил в военные годы, Еще лучше он знал пределы этих возможностей. Однако ему было прекрасно известно, что означала задача, поставленная лично Сталиным, пусть даже в предвыборной речи. Поэтому на следующий день он позвонил Лаврентию Берии, заместителю председателя Совета народных комиссаров, который курировал топливные отрасли промышленности. «Откуда у товарища Сталина такие цифры по нефти?» – печально спросил Байбаков, на что получил сухой ответ: «Не твое дело. Сталин сказал, теперь ты давай делай что угодно».3 Нужно найти эти 60 млн тонн.
* * *
Уже в 1930-х годах Сталин рассматривал нефть как один из приоритетных источников энергии. Конечно, ускоренная индустриализация, которая шла в молодом Советском Союзе, в первую очередь опиралась на уголь Донбасса и Кузбасса. Доменные печи Урала и Украины потребляли его в огромных количествах. Однако Сталин не уставал напоминать, что будущее принадлежит нефти. От нее непосредственно зависит транспорт, а значит, мобильность и военная мощь. Это один из уроков Первой мировой войны, породившей революцию и сформировавшей поколение, пришедшее к власти. «Современная война будет войной моторов: моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой, – говорил Сталин в январе 1941 года, обращаясь к военным. – В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов».4 Последующие события подтвердили его правоту: не имея собственных энергоресурсов, которые позволили бы вести продолжительную войну, Третий рейх был вынужден прибегнуть к «молниеносной войне», Blitzkrieg, одной из главных целей которой был захват нефтяных месторождений. Неудачи Вермахта при попытке прорваться к скважинам Кавказа и Ливии истощили ресурсы Германии и привели к поражению в войне. Таким образом, после окончания войны Сталин еще больше укрепился в мысли о необходимости этой «моторизации Советского Союза». Ленин неоднократно говорил, что «коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Сталин больше полагался на союз нефти и террора, чтобы защищать СССР от, как ему казалось, постоянной угрозы.
Впрочем, черное золото – родная стихия для «отца народов», напоминавшая ему годы молодости, когда, став профессиональным революционером, он под псевдонимом Коба занимался организацией подпольной большевистской борьбы в Баку. На заре XX века богатый нефтью город на каспийском берегу развивался с головокружительной скоростью. Как грибы росли буровые вышки посреди нефтяных луж. В то время Баку, где жил будущий Сталин, был мировой столицей нефтедобычи. Чернорабочие, безземельные крестьяне, авантюристы всех мастей стекались туда в огромном количестве, надеясь найти работу, и «Черный город», как называли тогда район нефтяных вышек, привлекал пеструю толпу азербайджанских, армянских, русских, грузинских и еврейских пролетариев, представляя собой идеальную среду для пропаганды дела революции. До 1910 года, когда в ход развития города вмешались большие пожары, погромы и репрессии, Баку, без сомнения, был одной из колыбелей зарождающегося большевизма, наряду с крупными заводами Санкт-Петербурга. Иосиф Джугашвили, скрывавшийся в нефтяной столице вместе с первой женой и ребенком, был одной из ключевых фигур подпольного движения. Несколько лет подряд он организовывал вооруженные налеты и похищения людей (скромно называемые «экспроприациями»), снабжал подпольные типографии партии, вел политическую борьбу. Лес вышек, подступающий к Баку, песчаные почвы, пропитанные нефтью, стремительные обогащения и последующие банкротства, нищета рабочих бараков и новая экономика, основанная на нефтяной промышленности, – все это было не чуждо будущему диктатору. Его личность сформировалась в нефтяных джунглях. Тоже самое можно сказать и о ряде других большевистских руководителей, сделавших карьеру в Баку. Красин, мозг экономической стратегии и будущий нарком внешней торговли; Литвинов, будущий нарком иностранных дел; Микоян, ставший впоследствии наркомом внутренней и внешней торговли; Орджоникидзе, создатель тяжелой промышленности; Тер-Петросян по прозвищу Камо; Вышинский, будущий прокурор на процессах Большого террора; Ворошилов, возглавивший Красную Армию; Берия, правая рука Сталина и руководитель гигантского аппарата госбезопасности, – все эти имена, к которым надо присовокупить еще и Сергея Кирова, после революции руководившего развитием Баку, тянут за собой черный нефтяной след. И все они входили в ближайший круг сподвижников Сталина. Своей карьерой они обязаны нефти, и впоследствии именно нефть сделали главным видом топлива для развития Советского Союза. В 1917 году Сталин стал народным комиссаром по делам национальностей, получив полномочия в непростой этнической и колониальной политике, унаследованной от Российской империи, и в то же время он отвечал за проведение политической линии партии в нефтяной промышленности.5 Кирова и Орджоникидзе направили в Баку для обеспечения жизненно необходимого молодой республике, страдавшей от международного эмбарго, производства. Красин выехал в Европу, где пытался продавать советское черное золото на черном рынке, чтобы добыть валюту. Даже многие годы спустя эта группа «нефтяников», вместе прошедшая через бакинский плавильный котел, будет заметно выделяться из партийной верхушки, контрастируя с такими интеллектуалами-теоретиками, как Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, не говоря уже о Ленине, привыкшими к «превратностям» изгнания в Швейцарии, Лондоне или Брюсселе.
В конце 1920-х годов, когда наметился «великий перелом» – задуманная Сталиным индустриализация и насильственная коллективизация, «нефтяное лобби» прочно сплотилось за спиной своего лидера. Альянс Киров – Орджоникидзе – Сталин стал центральной осью нападения на Зиновьева, Каменева и Троцкого. С помощью своих союзников Сталин в 1927 году захватил контроль над партией. Мобилизация ресурсов, централизация, индустриализация, урбанизация, модернизация, защита советской экономики – вот ключевые слова в мышлении этих людей, сформированном опытом жизни среди нефтяников. Пусть даже ценой порабощения крестьянства. Производство черного золота сразу стало одним из приоритетов советского режима: оно необходимо, чтобы обеспечить топливом 55 тысяч тракторов и 100 тысяч автомобилей, которые новая промышленность взяла обязательства поставлять ежегодно с момента окончания первой пятилетки.6 Дело только за нефтью! Согласно первоначальному плану, в 1928 году предполагалось удвоить ее производство. В 1930 году ненасытное руководство партии приказало нефтяникам найти способ нарастить объемы извлекаемого из-под земли сырья в четыре раза. С этого времени добыча нефти и газа становится одним из самых важных факторов политической жизни Советского Союза.
* * *
Как уже было сказано, война с нацистской Германией только укрепила Сталина в убеждении, что роль нефти для стратегического развития страны решающая. По архивным материалам, среди постановлений Государственного комитета обороны (ГКО), принятых в военный период, 600 документов касаются снабжения нефтью и нефтепродуктами армии и гражданского населения.7 Протоколы свидетельствуют, что Сталин, хорошо осведомленный и педантичный в данных вопросах, был в курсе всех технических деталей отрасли. Поворотным пунктом «войны моторов», которую предсказывал диктатор, стало танковое сражение под Курском, в ходе которого советские танки израсходовали свыше 200 тысяч тонн горючего. Но война также показала, что окраинное расположение основных месторождений – на Каспийском море и в предгорьях Кавказа, неподалеку от границ с Турцией и Ираном, – при нападении извне представляет собой серьезный фактор риска. Немецкое наступление удалось остановить лишь на подступах к нефтяным полям Кавказа, причем часть промыслов пришлось заранее уничтожить. Нападение на Сталинградский транспортный узел позволило немцам частично перерезать пути снабжения Красной Армии. Чтобы покрыть свои потребности, СССР вынужден обращаться за помощью к союзникам, которые поставили ему значительные объемы топлива через Иран и караванами судов через Атлантику.
Опыт этих страшных лет тяжело отразился на послевоенных задачах, стоящих перед углеводородной отраслью. Нужно найти нефть, много нефти, причем не в тех регионах, где она уже добывается. Задача сформулирована кратко: все и сразу. Такие требования политиков к нефтяной отрасли быстро вошли в привычку на много десятилетий вперед. Но как ответить на подобный вызов? Несомненно, Сибирь будет играть ключевую роль в этой безумной гонке, от которой в конечном счете зависит само существование Советского Союза. Но сначала необходимо заглянуть на Урал и в Поволжье.
Действительно, именно древняя страна татарских ханов, расположенная между Волгой и Уральскими горами, первой помогла Советскому Союзу обрести столь необходимое второе дыхание. Уже в 1930-е годы там обнаружили обнадеживающие признаки нефтегазоносности. Министр нефтяной промышленности Байбаков, которого Сталин, не оставив права на ошибку, обрек на успех, всерьез рассчитывал на этот новый нефтяной бассейн. От этого зависела его карьера, а может быть, и жизнь. Разведочные работы велись главным образом в Татарстана и Башкирии: дополнительным преимуществом обеих республик было нахождение вдали от границ и риска военного вторжения, и в то же время поблизости от крупных центров горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Урала и Центральной России. В 1948 году месторождения нефти обнаружили неподалеку от деревни Ромашкино, а в последующие месяцы в радиусе 15 км от нее один за другим забили новые черные фонтаны. Геологи провели расчеты: по всей видимости, у них под ногами находилось целое озеро черного золота. Суммарный дебит месторождения по расчетам достигал 850 тонн нефти в день! Неслыханные размеры Ромашкинского месторождения, которое нефтяники нежно окрестили «Ромашкой», полностью изменили расстановку сил в топливно-энергетическом комплексе. Традиционные ресурсы Каспия и Кавказа временно отошли на второй план, и всего за несколько лет Татарстан стал лидером нефтедобычи и самым богатым регионом страны. Вторым Баку. А у руководства Татарской АССР появился мощный инструмент экономического и политического влияния для урегулирования внутрисистемных разногласий. Отныне нефть – важнейший политический капитал в арсенале советской власти.
Высокая черная волна нефти, забившей из скважин Татарстана и Башкирии, дала наконец Советскому Союзу возможность залечить травмы Великой Отечественной войны. На десять лет позже начала «славного тридцатилетия» в Западной Европе в РСФСР и другие республики пришла эра экономического роста и перемен к лучшему. Следы от ран, нанесенных противостоянием с фашистской Германией, еще видны повсюду: города не полностью восстановлены из руин, продовольственных товаров мало, и они распределяются по карточкам, но дешевое топливо из «Второго Баку» подстегнуло долгожданный перезапуск мотора постсталинского общества. Первым подтверждением этому стал рост транспортного парка. Количество моторизованных транспортных средств в стране стремительно растет начиная с середины 1950-х годов, даже несмотря на то, что, в отличие от США и стран Западной Европы, приоритет в их производстве отдается грузовому автотранспорту и автобусам. Газета «Правда» с гордостью сообщает, что «нет ни одного предприятия, стройки, организации, которые бы не пользовались услугами грузового автомобиля». Сельхозпредприятия тоже наконец оснащают тракторами и механизированными транспортными средствами. Парк паровозов сменили более эффективные тепловозы. Главным же символом этого обновления становится гражданская авиация. В 1956 году на советских авиалиниях введен в эксплуатацию самолет Ту-104 на реактивной тяге, позволяющий перевезти 50-100 пассажиров через всю огромную территорию Советского Союза. Таким образом, еще до Боинга-707, появившегося в 1958 году, и до французского лайнера «Каравелла» 1959 года, которые сделали перелеты на Западе доступными широким слоям населения, советский воздушный флот обзавелся самолетом со средней дальностью полета. Ту-104 раздвинул границы мира для совершенно новой публики. Благодаря низким ценам на отечественное топливо советские граждане теперь могут летать на дальние расстояния, и для многих это стало возможным впервые в жизни. Советские газеты уже представляют недалекое будущее, когда москвичи будут утром вылетать на Черное море, чтобы искупаться, и в тот же вечер возвращаться домой разомлевшими от солнца.8 Но у ускоренной механизации есть и последствия в совсем другой области: она позволила покончить с рабовладельческим режимом ГУЛАГа, так как на смену лопатам и заступам освобожденных зеков пришли машины.
Наконец для СССР прошло время войны, прошла и сталинская «зима». Во многом такому возрождению поспособствовали новые энергоносители Урала и Поволжья.
Но специфика нефтегазовой промышленности в том, что ее достижения отражаются не в текущих результатах. Оценивается ее потенциал к поддержанию и наращиванию объемов производства, поэтому для стран-производителей нефти и газа важны разведанные и подтвержденные запасы углеводородов. Советская экономика 1950-х годов не была исключением. Даже если достигнутый успех намного превзошел ожидания руководства страны, главной заботой плановиков и добытчиков ископаемого топлива стало долгосрочное развитие нефтегазодобычи. Действительно, к 1960 году объемы производства давно превысили 60 млн тонн, которых требовал Сталин в своей речи со сцены Большого театра. В масштабе страны они приблизились к планке 150 млн тонн.9 Татарстан и Башкирия пришли на смену Баку и Кавказу, как в США месторождения Техаса и Калифорнии опередили Пенсильванию, где впервые была обнаружена нефть. Но что дальше? Если американцы могут рассчитывать на мировой рынок энергоносителей, на котором их компании уже лидируют с большим отрывом, если Персидский залив и Аравийский полуостров уже находятся в их зоне влияния, Советский Союз может полагаться лишь на свои ресурсы, тем более, что он еще должен обеспечивать растущие энергетические потребности своих политических союзников – демократических республик Восточной Европы.
* * *
Когда в 1946 году министр нефтяной промышленности Николай Байбаков получил от Сталина распоряжение найти существенные запасы углеводородов, он прекрасно понимал масштаб задачи. Для удовлетворения амбиций Кремля требовался не один, а два или три новых Баку. Для этого было необходимо выйти на новые масштабы и перспективы, открыть новые горизонты. Неудивительно, что с конца 1940-х годов все взгляды обратились к Сибири. Богатства недр и геологические условия этого огромного «континента» еще плохо изучены, но, если азиатская часть России обладает такими ресурсами угля, металлических руд, алмазов, золота, урана, столь востребованного атомной промышленностью и ВПК, почему бы не предположить, что там есть также запасы нефти и газа?
Где же их искать? Сибирь в полтора раза больше Соединенных Штатов вместе с Аляской. По правде говоря, уже в рассказах первых путешественников и промышленников-пионеров прошлых веков можно найти многообещающие указания. Так, в 1660-х годах хорватского иезуита и богослова Юрия Крижанича сослали на 15 лет в Западную Сибирь – о причинах ссылки хроника умалчивает. Зато она сообщает, что, вернувшись в 1676 году физически и морально истощенным, умоляя, чтобы его отпустили в Рим, Крижанич оставил подробное описание Сибири, написанное по-русски, но латинским шрифтом. Он упоминает там илистую и сернистую горючую землю.10 Просвещенный иезуит предполагает, что это тот же вид горючего вещества, что добывают в Шотландии и Курляндии. Всего через несколько лет после Крижанича московский иконописец, находящийся на государевой службе в Иркутске, сообщает об обнаружении неподалеку от байкальской столицы горячего источника, который не покрывается снегом зимой и от которого прямо исходит запах нафты. Этот художник по фамилии Кислянский обещает поехать туда посмотреть, но через несколько месяцев пишет, что так и не добрался до тех мест, сомневаясь, что там можно добыть много нафты.11 Позже один шведский офицер, попавший в плен к Петру Великому в Полтавской битве в 1709 году, сообщает из ссылки о находке битума: по его свидетельству, на Иртыше, между солеными озерами и Семью Палатами (нынешним Семипалатинском), есть выходы битуминозного материала темно-коричневого цвета, который горит, если к нему поднести огонь.12 И, наконец, Гмелин и Стеллер, которым было поручено исследование нового сибирского пространства, по возвращении из Второй Камчатской экспедиции Беринга докладывали о многократном обнаружении каменного масла, называемого ими также и «горным маслом». Как указывает Гмелин, каменное масло описано им многократно во многих горных районах Сибири, а также на реке Мана.
Итак, следы битума, нафты или каменного масла, бесспорно, обнаруживаются повсюду. Но эти свидетельства так разрозненны и, как правило, так глубоко скрыты в архивах, что они ничем не могут помочь геологам XX века, от которых требуются великие открытия в кратчайшие сроки.
* * *
Первый полноценный прорыв в Сибири был инициирован типичным представителем сталинской элиты, имя которого неразрывно связано с историей нефтяной промышленности. Роль Ивана Михайловича Губкина в развитии нефтедобычи сопоставима с ролью Отто Шмидта в советском исследовании Арктики. Вплоть до своей смерти в 1939 году при неизвестных обстоятельствах[170] он оставался столпом новой бурно развивающейся отрасли энергетики. Хотя Губкин родился в бедной семье волжских бурлаков и рыбаков, он достиг таких успехов в изучении горного дела, что даже смог съездить в США. Из Нового Света ученый вернулся в 1918 году убежденным в насущной необходимости разведки нефтяных месторождений на родине. Ленин выслушал его и познакомил с молодым Сталиным, отвечавшим в партии за политику в нефтяной отрасли. Оказалось, что они мыслят одинаково, и с этого момента в карьере молодого геолога произошел головокружительный взлет. Благодаря Сталину он быстро оказался в числе членов Госплана, был избран в Академию наук и возглавил Московский нефтяной институт. Награды и звания сыпались на него как из рога изобилия: Ленинская премия, орден Ленина, орден Красного Знамени, назначение вице-президентом АН СССР, избрание депутатом Верховного Совета. Худощавое лицо с ямочкой на подбородке, неизменные круглые очки, густые вьющиеся волосы, спадающие на лоб – Иван Губкин, как и полярник Отто Шмидт, одновременно был ученым и политическим волюнтаристом. Главный геолог страны играл заметную роль на политической сцене и пользовался этим, неустанно отстаивая свои убеждения: Губкин утверждал, что для решения колоссальной задачи, которую перед ним поставила история, требуется «армия геологов», выступал за решительное внедрение новых технологий, основывал новые высшие учебные заведения, отстаивал идею особого статуса геологии, от которой, с его точки зрения, зависел успех советской власти. Как и Шмидт в своей области, Губкин безоговорочно поддерживал самые дерзкие начинания в геологоразведке и в то же время без малейших сомнений разрушал карьеры людей, не разделявших его пыла и взглядов.
На чрезвычайном собрании АН СССР в июне 1931 года Губкин впервые провозглашает нефтяное будущее Сибири. Он утверждает, что к востоку от Урала, на границе Западно-Сибирской низменности, можно обнаружить нефтеносные геологические структуры.13 По его гипотезе, Урал в России играет ту же роль, что Аппалачи в США: он утверждает, что на внешних склонах низменности – огромного речного бассейна, можно и нужно предполагать залежи нефти. Нефть в тайге? Нефть под бесконечными непроходимыми болотами сибирских равнин? Научное сообщество расценивает страстную речь «первого среди равных» геолога как пустое бахвальство. Однако уже через год на Урало-Сибирской сессии АН СССР Губкин заходит еще дальше: он предсказывает существование огромных нефтеносных пластов, разработка которых могла бы полностью удовлетворить потребности всей экономики СССР.14 Выступая в Новосибирске, он объявляет о начале систематических поисков нефти к востоку от Урала.15 Пользуясь своим авторитетом, несмотря на враждебный скептицизм коллег, Иван Михайлович отправляет первую геологоразведочную экспедицию на поиски в бассейны нескольких притоков среднего течения Оби. Следуя указаниям рыбаков и местного населения, геологи поднимаются по реке Большой Юган, впадающей в Обь недалеко от современного Сургута. В июне 1934 года они обнаруживают на берегу реки поток маслянистой жидкости шириной 5–6 м, вытекавшей на поверхность в течение часа-полутора. Как отмечает геолог Васильев в своем полевом дневнике, эта жидкость переливалась всеми цветами радуги и по своим характеристикам была похожа на нефть. К сожалению, у геологов даже не было необходимого оборудования, чтобы произвести отбор образцов. Экспедиция проходила в крайне тяжелой обстановке: неблагоприятные природные условия, незаселенная местность, отсутствие транспортного сообщения и снабжения. Имеющееся оборудование не позволяло бурить грунт глубже нескольких метров. В июле, добравшись до ближайшего административного центра, геологи отправили в Москву телеграмму за подписью Васильева: «Указание о выходе нефти на Югане подтвердилось. Необходимы детальные геологоразведочные работы».16 Вернувшись в Москву, геологи докладывают, что все нефтеносные признаки на месте, не хватает лишь главного – собственно, нефти. Но она должна быть совсем рядом. Месторождение на Большом Югане? На самом деле, обследованный партией Васильева район скрывает целое море нефти. В недрах Обского бассейна на больших глубинах таятся гигантские нефтеносные пласты, одни из самых протяженных в мире. Экспедиция лишь в малой степени предсказала их наличие.
Итак, пора отправляться на освоение сибирской нефти! Партия Васильева представляет отчет об экспедиции на открытой конференции 5 декабря 1934 года.17 Спустя всего четыре дня после убийства Сергея Кирова, одного из самых популярных советских руководителей, прямо в Смольном, ленинградском штабе партии. Убийство человека, который был одновременно одним из ближайших соратников и потенциальных политических противников, привело Сталина в состояние сокрушительной ярости, только нараставшей до Большого террора 1937–1938 годов. Уже в день убийства началась волна масштабных репрессий, которые не пощадили даже привилегированные при Сталине отрасли народного хозяйства. Как и полярники, геологи попали под удар особой силы. К ликвидации элиты геологии приступили еще с начала 1930-х годов, с больших показательных процессов. Членов Геологического комитета обвиняли в преследовании интересов бывших капиталистических собственников, в сокрытии статистических данных, в организации ненужных буровых работ, в саботаже стратегически важных проектов, в сговоре с заграницей в интересах эмбарго, направленного против СССР. В ходе процесса по делу «Промпартии» 77 руководителей осудили за участие в «шпионско-вредительской организации в нефтяной промышленности СССР»: 29 из них были приговорены к расстрелу, 35 – к десяти годам лагерей, 9 человек – к пяти годам, один обвиняемый покончил с собой, не дожидаясь вынесения приговора, дела еще троих передали в другой суд по обвинению в сопутствующих преступлениях.18 В 1937 году все руководители отрасли, отвечающие за поисково-разведочные и нефтедобывающие работы, в том числе сотрудники министерства, находились в местах лишения свободы. В Баку, в Грозном, на Сахалине, в Краснодаре, а также в геологоразведочных партиях, рассеянных по всей стране, ежедневно происходили аресты, ответственные лица исчезали одно за другим. Тысячи специалистов получили пулю в затылок на расстрельных полигонах. Еще больше сгинули в лагерях. Отрасль была попросту обезглавлена, как и многие другие ветви молодой сталинской экономики. А поиски нефти временно передали в ведение ГУЛАГА. Дело Губкина загубили на корню, причем удар пришел с неожиданной стороны. Теперь, разумеется, нечего было и думать о геологоразведке и экспедициях в Сибирь. Нужно было дождаться окончания разрушительных чисток НКВД. Великие планы разведки и освоения востока ушли в небытие вместе со своими авторами, а с началом войны были окончательно преданы забвению. Сибирь снова обрекли на ожидание.
* * *
Когда после войны руководитель нефтяной промышленности Николай Байбаков решает приступить к рискованным изысканиям в Сибири, целое поколение геологов уже уничтожено. Ограниченное количество трудовых ресурсов только усложняло задачу. Практически отсутствуют геологические карты бескрайних просторов Сибири, и в выборе мест, куда можно направить немногочисленные геологоразведочные партии, министерство опирается только на неубедительные теории. На тот момент, согласно самой распространенной их них, углеводороды следует искать в угленосном окружении. Если это так, поисковые усилия следует направить на каменноугольные бассейны Южной Сибири, в частности на Кузбасс, горнопромышленный район к востоку от Новосибирска. Специалисты созданного в 1946 году Министерства геологии считают, что в этом районе велики шансы обнаружить промышленные запасы нефти, что благоприятных результатов можно ожидать в кратчайшие сроки и с минимальными затратами,19 – сообщает авторитетное издание в 1948 году. Фактор времени – весомый аргумент в этой охоте на сокровища, объявленной государственной властью. Задача не в том, чтобы искать, а в том, чтобы найти, в этом и состоит принципиальное отличие.
Легко догадаться, что выбор Южной Сибири в качестве приоритетного направления разведочных работ объясняется не только научными воззрениями того времени. Региональное лобби также заинтересовано в привлечении инвестиций, которые могут последовать за разведками. В этом смысле сильная позиция у Новосибирска: город, возникший на Транссибирской магистрали, после войны стал неофициальной столицей Сибири и начал развиваться ускоренными темпами. Туда перенесли крупные гражданские и военные заводы, там была стратегически важная транспортная ось, а через 10 лет в его лесистом пригороде появился научно-исследовательский центр нового типа Академгородок. Крупному научно-промышленному центру требовалось много энергии. Угольщики тоже были заинтересованы в том, чтобы геологоразведочные работы велись поближе к ним. Наконец, лучший аргумент в пользу Южной Сибири состоял в удаленности и плохой транспортной доступности северных регионов. Конечно, отчет об экспедиции Васильева и его призывы продолжать поиски на Севере не были забыты. Но обнаруженные им признаки нефтеносности руководство предпочитает считать счастливой случайностью.20 Нет никакой возможности оценить предполагаемые запасы. к тому же, даже если в затерянных и труднопроходимых районах Северной Сибири и будут обнаружены новые нефтеносные пласты, каким образом организовать их будущую эксплуатацию? Как вести разведочные работы в десятках, а то и в сотнях километров от водных путей, в местах, где нет ни дорог, ни взлетно-посадочных полос? Где взять энергию для бурения и перекачки? Да и кто согласится жить и работать в этих условиях: летом тонуть в болотах, а зимой переносить морозы в –300? Наконец, как организовать поставку предполагаемого богатства сибирских недр потребителям Европейской России? Неужели кто-то действительно думает, что такие жертвы оправданы?
Итак, официальная линия состоит в том, чтобы сконцентрировать поисковые работы в Южной Сибири. Как можно узнать из документов того времени, нормативные инструкции категорически исключали выход за пределы освоенных и обжитых районов, из зоны цивилизации. Представляется нерациональным покидать освоенные территории только ради того, чтобы искать черное золото на Севере. Того же мнения придерживается партия. Такая расстановка приоритетов кажется вполне разумной: в условиях нехватки средств и потребности в скорейшем достижении результата разведка на Севере не дает никаких гарантий и связана с несоизмеримыми рисками.
Однако среди геологов есть по крайней мере один человек, который думает иначе. А главное, не боится об этом сказать. Это скромный научный сотрудник Всесоюзного геологического института в Ленинграде Николай Ростовцев. Изучив карты, сводки и отчеты своих коллег, он отстаивает противоположную точку зрения: он пришел к выводу, что наиболее перспективные месторождения ждут нефтяников на Севере, а отнюдь не в южном Кузбассе. В 1949 году Ростовцев имел дерзость выступить со своей диссидентской точкой зрения на научном конгрессе в Новосибирске. Его коллеги пришли в бешенство, когда он позволил себе открыто опровергать выводы генерального плана изучения и освоения Западно-Сибирской плиты на 1950–1955 годы, подготовленного руководством отрасли. Старые методы еще не ушли в прошлое: геолога вызвали для дачи объяснений в «Большой дом» – управление НКВД в Ленинграде. Двое суток подряд продолжался жесткий допрос, на котором Ростовцев рассказывал о географии, геологии, научных умозаключениях и гипотезах о нахождении месторождений углеводородов следователям, привыкшим к скорым выводам о саботаже, шпионаже и антисоветском заговоре. Но Ростовцев держался твердо. Развязка этой беседы труднообъяснима: то ли он оказался талантливым лектором, то ли его собеседники были настроены мягче обычного, а может быть, им позвонили сверху? И… Николай Ростовцев ушел из этого мрачного здания свободным человеком[171]. Что еще удивительнее, вскоре Министерство геологии СССР включило его предложения в опубликованный план на 1950-е годы. На этот раз повезло: наконец было запланировано экспериментальное бурение на севере Сибири.
Руководство разведочными работами в этом регионе, по площади равном Канаде, возложили на инженера-геолога, фамилия которого указывает на французские корни, Юрия Эрвье. Его управление находилось в Тюмени, столице Западной Сибири. Оттуда на север отправляли партии буровиков и геологов. Они спускались, потом поднимались по течению рек, пока их коллеги из Новосибирска обследовали южную часть огромной территории. В распоряжении геологов были очень скудные средства для выбора участков детальных работ. Поскольку подробных геологических карт не было, они выбирали самые изученные районы, руководствуясь приблизительными схемами первопроходцев-геодезистов. У первооткрывателей тайги не было ни гусеничных тракторов, которые могли бы проложить дорогу по лесу и болотам, ни авиации для доставки оборудования и продовольствия. В распоряжении геологоразведочных экспедиций были лишь баржи, на которых они неделями или даже месяцами плыли по лабиринту северо-сибирских рек. Это было похоже на пари и на лотерею одновременно. Четыре года подряд каждое лето геологические и буровые бригады отправлялись на север, везли с собой буровые вышки, погружали трубы в топкий грунт, тщетно надеясь наконец обнаружить пласт, насыщенный черной сернистой жидкостью. Бесчисленное множество попыток оказалось напрасным. Неужели Сибирь непродуктивна?
Осенью 1952 года одна из таких экспедиций пристала к деревянному дебаркадеру села Берёзово. Сюда добралась буровая бригада Тюменского геологоразведочного управления под руководством инженера Александра Быстрицкого. Берёзово стоит на высоком берегу у впадения реки Сосьвы в могучую Обь. Это одно из самых древних на Обском Севере поселение долго оставалось на обочине истории. Несколько бревенчатых домов, круглые башни и высокий частокол острога, основанного первопроходцами, – форпост на далекой границе, обозначавший край света или, точнее, русского мира. И именно потому, что Берёзово всегда казалось краем Вселенной, село долгое время служило местом ссылки и изгнания. Невольными жителями суровых изб над рекой были самые знатные люди Российской империи: Меншиковы и Долгорукие – фавориты, внезапно попавшие в опалу, а позднее народовольцы, эсеры и некоторые большевики, в том числе Лев Троцкий. Но границы России сдвинулись намного дальше на восток и на север, и село стало транзитным пунктом на пересечении речного пути и дороги, спускающейся с предгорий Урала вглубь Сибири. Несколько рыбаков – представителей местной народности ханты, чиновников, районная администрация, школа, медпункт, несколько лесозаготовительных предприятий, – вот и все Берёзово середины XX века, забытое хранилище сибирской истории.
Нефть? Никто никогда не видел здесь ее следов, как, впрочем, и газа. Берёзово даже отсутствовало в списке перспективных мест бурения, но группа Быстрицкого приняла решение там остановиться, не имея возможности добраться до изначально запланированного пункта назначения, реки Казым – небольшого притока Оби, куда не могла доехать вездеходная техника, а русло осенью было таким мелким, что баржи геологоразведочной экспедиции не могли подняться по течению, не сев на мель.
Именно поэтому группа Быстрицкого осталась в Берёзове, дожидаясь паводка, который позволил бы им добраться до места назначения. Чтобы не терять время впустую, они решили пробурить экспериментальную скважину прямо на месте, где находились, дабы было о чем отчитаться. Бригада работала вслепую, полагаясь только на свое чутье. Люди не питали особых иллюзий: из нескольких десятков скважин, пробуренных за последние годы в Сибири,21 ни в одной не были обнаружены следы углеводородов. Министерство нефтяной промышленности уже начинало выражать недовольство геологами, которые зря тратили время и выделенные им дефицитные ресурсы на разведочные работы, основываясь лишь на вере в свои убеждения. Органы безопасности снова заподозрили преступную халатность, один из чинов даже заявил, что «нефть есть везде, где ее ищут».22 Почти не веря в успех, бригада пошла по простому пути: в нарушение норм безопасности они не стали транспортировать на два километра тяжелое буровое оборудование, перенесенное с реки, и поставили вышку прямо на краю поселка, всего в нескольких метрах от крайних изб. Местные жители, конечно, беспокоились, но, как рассказывает бывшая поселковая учительница, «этот Быстрицкий знал, что делает. Это был симпатичный парень, еврей с хорошо подвешенным языком».23 Год спустя бригада все еще оставалась в Берёзове. Первое бурение, произведенное в июне 1953 года, не дало обнадеживающих результатов: наоборот, судя по последним извлеченным образцам, скважина уперлась в гранит, и геологи пали духом. Быстрицкого вызвали в окружной центр, и он временно оставил бригаду. Поговаривали, что его накажут за несоблюдение инструкций, но, судя по всему, не только – снятие бригады было не за горами. Москва устала от «сибирских капризов». Действительно, постановление от 23 июля 1953 года гласит, что в ближайшее время геологоразведочные работы на Севере завершаются, и все бригады должны сдать окончательные отчеты не позднее 15 сентября. К 1 октября работы должны быть полностью завершены.24 По-видимому, скважина в Берёзове – это последняя попытка бурения, после которой поиски на севере Сибири забросят.
21 сентября в пять часов вечера, когда бригада постепенно извлекала на поверхность колонну обсадных труб, послышался свист, а за ним глухой гул: выражаясь жаргоном буровиков, скважина «заговорила». Еще через несколько секунд оттуда забила мощная струя воды, выбрасывая из шахты сотни метров труб диаметром 15 см и поднимая их в воздух на десятки метров. Этот вихрь жидкости, смешанной с газом, снес вышку. По сообщению свидетеля происшествия, доски и куски шланга разлетались, как вареные макароны. Бурильщик Кулиев вспоминал: «Фонтан выкинул все наши инструменты и, набирая силу, окутал всю буровую, поднимаясь, все выше и выше. Гул перерос в неистовый рев, казалось, что разбуженное под землей чудовище старается отпугнуть людей, посмевших нарушить его древний покой».25
Газ! Газ в Сибири! И какой мощный приток! Буровая бригада, на глазах у которой все оборудование только что разлетелось ко всем чертям, не знала, радоваться или ужасаться. Упорство геологов было вознаграждено историческим открытием! Но фонтан воды и газа, бьющий на высоту 50–60 м, не ослабевал, газ распространялся по всему поселку, и буровики не знали, что делать. Они не установили запорную арматуру, как того требуют правила, а теперь было слишком поздно: уже никак нельзя было справиться с этим мощным фонтаном и сопутствующим грохотом. Буровики побежали в укрытия. Как вспоминает еще один участник партии Быстрицкого, все были в растерянности: инструментов для обвязки устья скважины не было.26 В довершение всех бед, отсутствовал начальник партии. Об общей панике свидетельствует телеграмма, которую несколько минут спустя получил Юрий Эрвье, начальник Тюменской нефтеразведочной экспедиции: «21 сентября, Берёзово. СРОЧНАЯ. Выброс при подъеме инструмента. Давление на устье 75 атмосфер. Срочно ждем самолета. Сурков». Сообщение вполне однозначно: на месте бурения великое событие поначалу было воспринято как авария. Однако в Тюмени в геологоразведочном управлении оно вызвало эйфорию. В своих воспоминаниях об этом историческом моменте Юрий Эрвье описывает, как к нему в кабинет вбежал Володя, один из сотрудников, с криком: «Великая новость, мощный газовый фонтан в Берёзово! Я только что получил радиограмму. Но что-то не так, радиограмма тревожная». Наконец! Эрвье счастлив: пять лет работы большой группы геологов увенчались успехом. Значение этого открытия трудно было переоценить. В одно мгновение шансы на несомненное наличие нефти и газа в Западной Сибири многократно возросли.27
Жители поселка отнеслись к событию куда более сдержанно. Поселок оцепили, пролеты над ним запретили, речное сообщение отменили. Людей из ближайших домов эвакуировали, и все, у кого была возможность, уезжали из поселка. Березовцы распространяли пугающие слухи: достаточно одной искры, чтобы сгорела вся тайга на десятки километров вокруг. Как вспоминает одна из старейших жительниц поселка, «мы оставались здесь, но жизнь стала невозможной. Стоял чудовищный шум. Даже на другом конце поселка нельзя было спокойно разговаривать. Нужно было постоянно носить ушанку, закрывая уши. Все было залито грязной водой. Огороды были разрушены. Нам всем было очень страшно, но куда было бежать, да и как? Это было как цунами».28
Газовый фонтан наводил ужас на жителей Берёзова еще полгода. Пока не настала зима. Выпал снег, и по лесным дорогам прибыла колонна с аварийно-спасательным оборудованием. Часть местного населения уже привыкла к этому шумному и беспокойному соседству. «Некоторые даже ходили мыться в фонтане. Но одного из них, Евгения Лютова, убило обломками. На его похоронах не было цветов».29 Только следующей весной, в феврале 1954 года, бешеный рев газа заключили в газопровод, и неподалеку от поселка возник газовый факел. Скважину закрыли цементной плитой, а чуть позже там появился небольшой памятник. Александр Быстрицкий, начальник буровой партии, сначала получивший выговор за самовольный выбор места бурения, был полностью реабилитирован и в 1964 году стал лауреатом Ленинской премии. Позднейшие разведочные работы показали, что в изначально запланированном месте бурения его партия ничего бы не нашла.30
Берёзовская авария придала развитию Сибири новый импульс. «Если бы не тот фонтан – неизвестно, на сколько лет отодвинулось бы открытие тюменской нефти», – говорил впоследствии один из крупнейших деятелей сибирской нефтепоисковой эпопеи академик А.А. Трофимук.31 Стоит ли продолжать разведочные работы в Сибири? Этот вопрос, звучавший так часто, наконец получил ответ. Случайно забивший фонтан поставил последнюю точку. «Даже, пожалуй, восклицательный знак»,32 – как сказал Николай Байбаков, руководитель нефтяной отрасли. Отныне Сибирь открыта. И неудивительно, что министр, каким бы советским человеком он ни был, не удержался от слова «чудо».
Сибирь – третье Баку
В феврале 1956 года 1 400 делегатов от Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) собрались в Большом Кремлевском дворце. Предстоящий XX съезд КПСС проводится на восемь месяцев раньше запланированного срока, потому что новый лидер страны, Никита Хрущёв, которому удалось после смерти Сталина избавиться от своих главных соперников, спешит обозначить символический разрыв и положить конец сталинскому периоду. Главный эпизод этого исторического события – заседание за закрытыми дверями ранним утром 25 февраля, в последний день съезда. Перед онемевшим от изумления залом генеральный секретарь ЦК лично обличает злодеяния Сталина и культ личности, по словам докладчика, ставший предательством идеологии и исторических ценностей партии. Это выступление стало официальным сигналом к началу десталинизации.
Однако повестка дня съезда, ставшего судьбоносным для страны, не исчерпывалась этим вопросом. Перед возращением домой, чтобы разнести весть об историческом перевороте, свидетелями которого они стали, делегаты должны еще утвердить ряд директив, определяющих приоритеты нового пятилетнего плана, шестого по счету, но первого в послесталинский период (1956–1960). В них нашли отражение результаты березовского открытия: впервые достойное место уделено поиску новых месторождений нефти и газа в Сибири. Решено всеми доступными средствами развивать поисковые работы в восточных регионах страны,33 как гласит восьмая директива от 25 февраля, одобренная, как и полагается, единогласно. Концентрации усилий ждут от производителей газа и электроэнергии. Березовский фонтан разбудил надежду. Также партия должна удовлетворить спрос на жилищное строительство. Разработан колоссальный план возведения нового жилья, чтобы переселить людей из деревянных бараков и коммунальных квартир, в которых ютилась значительная часть населения городов, включая столицу, хотя после окончания войны прошло больше десяти лет. Эти сотни тысяч блочных пятиэтажных домов-параллелепипедов нужно будет отапливать. За предстоящие 15 лет в них переедут более 100 млн советских граждан.34
Советскому Союзу нужно много новой энергии, но ее ресурсы наперечет. Газ, электростанции, уголь и даже нефть: как будут определены приоритеты и куда направлены инвестиции? У Никиты Хрущёва есть своя точка зрения на этот счет, и вскоре его предпочтения становятся всем известны. Сибиряки, видевшие в нефти и газе надежду на быстрое развитие своего региона, будут разочарованы. Становится понятно, что Хрущёв не воспринимает всерьез их аргументы и их взгляд на проблему. Карьера человека, сменившего Сталина на посту главы государства, начиналась вовсе не среди бакинской нефти. Хрущёв – выходец из горнопромышленного Донбасса, угольной базы Советского Союза. Он руководил этим регионом 15 лет, и потом, возглавив Коммунистическую партию Украины, с самого окончания войны всеми силами способствовал возрождению серьезно пострадавшего угольного бассейна. Товарищу Хрущёву близок уголь, ему близки терриконы и черные лица шахтеров. Опыт работы на Украине укрепил его мировоззрение: этот человек, одновременно суровый, забавный и властный, в душе сельский житель. Он хочет поднимать экономику села, чудовищно пострадавшую от сталинской коллективизации. Он хочет расширить посевные площади за счет целины Казахстана, которая, как ему кажется, может превратиться в землю обетованную благодаря удобрениям и пестицидам. Его страсть к кукурузе приобрела такую известность, что легла в основу множества анекдотов, самый невинный из которых при Сталине стоил бы рассказчику нескольких лет лагерей.
Другие руководители партии, не менее влиятельные, чем Хрущёв, например, его главный соперник Лаврентий Берия, делали ставку на развитие добычи черного золота. Но Хрущёву это было неинтересно. И, поскольку новый генеральный секретарь должен все-таки выбрать приоритетный источник энергии, Хрущёв решительно выступил за гидроэнергетику. Возводить большие плотины, копируя на сибирских реках опыт, полученный на украинском Днепре и на Дону, – вот что его воодушевляло! Мощные, грандиозные, производительные гидроэлектростанции, требовавшие совместной работы всей страны, воплощали собой дух социализма в понимании Хрущёва. Вскоре на Волге, Ангаре, Енисее, Каме и Днепре появились стройки, репортажи о которых украшали первые полосы советских газет. «Правда» перепечатывала восторженные отзывы американских специалистов по электроэнергетике, восхваляющих достоинства этой новой энергетической политики. Очень быстро гигантские бетонные сооружения, которыми СССР перекрыл крупнейшие реки внутри страны (например, Братская ГЭС) или которые возводил за рубежом (Асуанская плотина в Египте), стали визитной карточкой хрущевского правления. Сильнее, чем ГЭС, дух этой эпохи передавало разве что освоение космоса – спутники и полет Юрия Гагарина.
Один из таких гигантских проектов особенно беспокоил геологов и нефтяников Сибири. Это плотина, причем колоссальная, общесибирского масштаба! Инженеры-разработчики планировали перекрыть реку Обь недалеко от места впадения в Северный Ледовитый океан, в районе Салехарда, создав рукотворное озеро протяженностью около 1 000 км. Воды этого озера, в три раза превышавшего площадью Байкал, должны были затопить немалую часть Западной Сибири, десятки тысяч квадратных километров тайги и болот[172]. В своих воспоминаниях Юрий Эр-вье, управляющий Тюменским геологическим управлением в Западной Сибири, рассказывает о закрытом совещании в обкоме, на котором ему представили этот гигантский проект: создание внутреннего моря, поднимавшегося высоко на юг по течению Оби, до самой Тюмени, охватывавшего бассейны Оби и Иртыша и покрывавшего более 100 млн куб. м леса. Предполагалось, что его вместимость будет равна трем годовым стокам Оби, входящей в десятку крупнейших рек мира. Планируемая годовая выработка ГЭС – 36 млрд кВт·ч. Цифры сыпались как из рога изобилия, одни грандиознее других, как вспоминает Эрвье.35 Разработчики проекта расписывали строительство на новых берегах современных сибирских городов, а в самых смелых версиях планировали даже повернуть вспять верхнее течение Оби и ее притока Иртыша. Благодаря строительству плотины переброска стока в южные степи Казахстана и Средней Азии обеспечила бы водой зерноводство, столь дорогое сердцу Генерального секретаря партии, и узбекского хлопководства. Авторы проекта предполагали использовать не только уникальный гидроэнергетический потенциал гигантского водохранилища. Они видели в нем еще и новый мировой центр рыбоводства в самом сердце сибирского региона. Они гордо заявляли, что никто, ни в СССР, ни в других странах мира, до сих пор не строил плотин такого масштаба на равнине,36 и стройка призвана была стать мировой сенсацией.
Выполнение исполинского проекта коренным образом перекроило бы всю карту Сибири. Сколько деревень и древних поселений коренных народов придется затопить? Как этот проект отразится на самом Северном Ледовитом океане? Какие изменения произойдут в сложной и хрупкой экосистеме Арктики? Даже в таком централизованном, технократическом и авторитарном мире, как Советский Союз той эпохи, подобная перспектива привела в ужас ряд ответственных специалистов. В их числе был академик Лаврентьев, строивший новый Академгородок под Новосибирском. Его возражения дошли до Хрущёва. С ним была солидарна группа сибирских писателей под руководством Сергея Залыгина,37 защищавших сибирскую самобытную и девственную природу, оказавшуюся под угрозой исчезновения. Но самые яростные протесты раздавались со стороны углеводородного лобби. Геологам, занимавшимся поисками нефти и газа, этот чудовищный проект представлялся настоящим кошмаром. Все их усилия и надежды были бы похоронены под 20–25-метровой толщей воды. Гигантское Нижне-Обское водохранилище должно было затопить большую часть самых перспективных нефтеносных площадей Сибири. Так что для отрасли это был практически вопрос жизни и смерти.
Из-за мегапроекта развернулась настоящая политико-административная битва. Среди наиболее последовательных его противников – Николай Байбаков, отвечавший в правительстве за нефтяную промышленность, Юрий Эрвье, руководитель Тюменского нефтеразведочного треста. Их главный союзник в Москве – Министерство геологии. Его специалисты как раз заканчивали составление геологической карты Западной Сибири. На ней тот самый Ростовцев, которого вера в будущее нефти привела на допрос в НКВД, нанес предварительные контуры самых перспективных площадей. Они могли оказаться крупнейшими в мире. В самом регионе, в столице Западной Сибири Тюмени мобилизовались местные власти. Геологи забросали партийные органы и прессу письмами и обращениями. Даже местное КГБ в своих докладах на Лубянку пыталось заручиться поддержкой центрального аппарата в этой борьбе. Если бетонный гигант будет построен, им придется попрощаться с мечтами о богатой нефтеносной провинции. Западная Сибирь станет лишь гигантским водохранилищем у подножия Уральских гор.
По другую сторону баррикад были сторонники строительства ГЭС, которых поддерживало Министерство энергетики. А главное – сам Никита Хрущёв, не скрывавший своих предпочтений. Обский гигант стал бы самым важным узлом той сети гидроэлектростанций, которую его правительство возвело по всей стране. И, чтобы призвать Сибирь к порядку, «царь Никита» отправил в Тюмень нового руководителя навести там порядок. Первый секретарь обкома Б.Е. Щербина прибыл из Иркутской области, где курировал строительство Братской ГЭС. Казалось, все было уже решено, и противникам стройки века, которая грозила затопить половину их региона, оставалось только спустить флаг.
Черное золото? Где же оно, скажите на милость? Административная верхушка страны, в первую очередь чиновники всемогущего Госплана, отнюдь не разделяли мистическую веру в новое нефтяное эльдорадо. Его искали много лет, а говорили о нем еще дольше. Однако все капиталовложения в это перспективное направление обернулись открытием лишь нескольких нефтяных лужиц. Очередной чиновник, приехавший из Москвы инспектировать район бурения, заметил, что государство потратило миллионы на пресловутые скважины, а результата так и не дождалось. Не пора ли успокоиться и убраться отсюда?38 Вся активность областных политиков и геологов – лишь проявление местечкового мышления, идущего вразрез с линией и интересами партии.39 Их обещания – химеры. «Огромные запасы нефти и газа, о которых много говорят тюменцы, не более чем плод провинциального и больного воображения»,40 – написал зампредседателя Госплана РСФСР.
Итак, наперегонки со временем. Только фонтан нефти, бьющий в тайге, мог стать тем доказательством, которого остро не хватало клану нефтяников. Только уверенность в огромных доходах бюджета на многие десятилетия вперед давала им преимущество перед сторонниками строительства ГЭС. Времени мало, объявлена всеобщая мобилизация по разведке нефтеносных районов. На рубеже 1950-х и 1960-х годов в Сибирь на поисковые работы отправляются сотни, а потом и тысячи молодых геологов. Некоторые из них только закончили университеты, специализированные учебные заведения в Баку, Москве, Грозном, другие успели сделать первые шаги в нефтеносных районах Урало-Поволжья. Они пробирались по тайге с тяжелыми рюкзаками, с ружьями на случай неожиданной встречи с медведем. В холодное время года гусеничные бульдозеры прокладывали для них в тайге сезонные дороги – зимники. Новое поколение пришло на смену старшим коллегам, которых выкосили годы войны и террора.
Среди них двадцатитрехлетний инженер Фарман Салманов. Таких называют «энтузиастами», то есть добровольцами, увлеченно сражающимися за дело, которое представляется им правым. Этому человеку суждено сыграть важную роль в истории Сибири XX века. Он азербайджанец, выходец из крестьянской семьи с берегов Каспийского моря. Его дед уже был в Сибири в конце XIX века в царской ссылке. Похоже, внук унаследовал решительность деда. В 1954 году, сразу по окончании геологоразведочного факультета Азербайджанского индустриального института, он послал телеграмму в Москву лично Николаю Байбакову, министру нефтяной промышленности. Суть телеграммы сводится к следующему: «Возможно, Вы помните обо мне. Почти десять лет назад Вы обещали мне помощь. Сегодня она мне нужна. Я хочу, чтобы меня направили на поисковые работы в Сибирь. Я читал Губкина и уверен в его правоте».
Министр улыбается. Действительно, он припоминает первую встречу с этим дерзким студентом. Это было в 1946 году. Тогда Байбаков, молодой сталинский министр нефтяной промышленности, выступал с докладом на предвыборном собрании в одном из избирательных округов Азербайджана, выдвинувшем его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Жители деревни, на которых этот визит произвел большое впечатление, поручили отличнику местной школы передать будущему депутату свои наказы. Мальчик справился с заданием, отважно потребовав провести в деревню электричество и заасфальтировать дорогу. Этим образцовым советским школьником был не кто иной, как Фарман Салманов. Чтобы его отблагодарить, министр пообещал ему поддержку, если юный азербайджанец выберет карьеру геолога.
Итак, Фарман Салманов направлен в Сибирь, где ему поручили поиски нефти в Кузбассе. Проработав там три года, он вознегодовал. Ни малейшего следа черного золота. И он уверен, что нет никаких шансов найти там хоть каплю нефти. Молодой инженер готов поклясться, что нужно бурить на Севере, в среднем течении Оби. Начальство сочло его безумцем. С трудом верилось, что это худенький и невысокий кавказец способен сердиться и совершать экстравагантные поступки. Его темные глаза, растрепанные волосы, выразительные черты лица и маленькие усики быстро создали образ одного из самых ярких и непокорных сибирских геологов.
Фарман Салманов не сдавался. Он упорно требовал перевода на Север, вниз по Оби, где более 20 лет назад партия Васильева видела нефтяные пятна на реке. Но как туда попасть? За прошедшие годы транспортная доступность тех мест не стала лучше. Ни туда, ни даже просто в том направлении не проложена ни одна дорога. Нужно спускаться более 1 000 км по реке. Нет речного транспорта, да и поселков, где можно было бы переждать суровую сибирскую зиму, на берегах дикой реки крайне мало.
Весной 1957 года Салманов решился на авантюру. Не имея никаких полномочий, он погрузил геологическую партию на баржи, тайно арендованные у одного предприятия. Его спутникам было запрещено звонить по телефону перед отъездом. Радиосвязь с геологоразведочным управлением не поддерживалась. Пункт назначения – деревня Сургут в среднем течении Оби, в тысяче с лишним километрах ниже по течению. На первой же пристани баржи встретил телеграфист, размахивавший срочной телеграммой из центра: приказывалось немедленно вернуться. Салманов вспоминает, как, прочитав телеграмму, он сказал телеграфисту со своим сильным кавказским акцентом: «Слушай, я тебя не видел, ты меня не видел, мы друг друга не видели».41
Когда баржи наконец подошли к единственной пристани села Сургут, Салманова ждала уже целая группа: ему угрожали увольнением, исключением из партии, судом, его обвиняли в волюнтаризме, хулиганстве, отсутствии политической сознательности.42 Брань и угрозы сыпались градом. Но Салманов держался стойко. Он был убежден, что именно там ему назначена встреча с Историей. Начальник местного райкома так описывает свою первую встречу с неугомонным геологом. Пришел чернявый паренек, с темными блестящими глазами. Представился: «Салманов. Геолог. Назначен к вам начальником нефтеразведочной партии». И начал объяснять, как разведка нефти и газа перевернет жизнь всей области и Сургута в частности. Здесь будут жить и работать тысячи человек, построят аэропорт, порт будет принимать десятки судов. «Товарищ Салманов! – ответили ему, – У нас уже искали нефть, но, увы, ничего не обнаружили». А он на это: «Теперь ситуация изменилась. Мы нефть обязательно найдем!»43 В конечном счете он отделался переводом на другое место работы и строгим выговором с занесением в учетную карточку члена КПСС. Пустяки, это не последний выговор в его карьере.
В то время Сургут, где высадилась его партия, – всего лишь небольшой поселок – центр района, каких сотни по всей Сибири. Несколько десятков разбросанных домиков, колхоз, где советская администрация пыталась привить местным народам ханты и манси привычку к оседлой жизни. Пункт приема пушнины, хиревший с каждым годом, лесоучасток, рыбоконсервная фабрика, отделение милиции, телеграф и здание райкома партии.44 Село не было электрифицировано, дома освещали керосиновыми лампами и свечами. В этой новой вселенной геологам предстояло жить. Вскоре после приезда и знакомства с местностью Салманов писал: «Ни дорог, ни троп, ни деревень. Одни бесконечные рыжие болота, лесные гривы». Ни малейших признаков жизни. Вглядываясь в эту картину, он пытался понять, как можно в таких условиях жить и работать, и честно признавался, что был растерян.45
При всей своей самоуверенности Фарман Салманов не стал первооткрывателем драгоценного черного золота. В сентябре 1959 года нефтеносные пески обнаружили неподалеку от села Шаим, на юго-западе Ханты-Мансийского округа, в предгорьях Урала. Это и была первая сибирская нефть. Увы, ее открытие не дало геологам повода к ликованию. Месторождение находилось далеко от берегов Оби, где специалисты прогнозировали, если не обещали, новое нефтяное эльдорадо и где работал Салманов со своей группой. Бурение обнаружило лишь маломощные нефтенасыщенные пласты между непродуктивными породами, от которых нельзя было ожидать промышленного притока нефти. Так что ситуация оставалась неопределенной. Ничего не прояснилось и следующей весной, когда в марте – апреле 1960 года нефть нашли в скважинах с номерами Р-2 и Р-7. Дебит первой составлял 1,5 тонны в день, а второй – 20 тонн, что было недостаточно для обоснования необходимости инвестиций. Месторождения с таким скромным дебитом геологи называют «мышами», а требовалось найти «слонов» – гигантские подземные емкости, простирающиеся на десятки километров. Специалистов охватили сомнения, и вновь зазвучали агрессивные нападки на сибирский проект. Нефть существует только в голове Эрвье, как утверждали высокопоставленные чиновники, успевшие невзлюбить главного геолога Тюмени. А его противник Назаркин с большим успехом выступил перед ЦК КПСС, заявив, что с научной точки зрения нефть не может быть обнаружена севернее 60-й параллели.46
И все-таки упорство увенчалось успехом. 21 июня 1960 года Юрию Эрвье в его тюменский кабинет принесли срочную радиограмму. Под Шаимом, где впервые есть признаки наличия нефти, из скважины Р-6 забил фонтан иссиня-черной жидкости. Точный дебит определить невозможно ввиду того, что скважину пришлось по техническим причинам два раза останавливать, он будет сообщен позднее. На радиограмме стояла подпись: Шалавин.47 Два часа спустя вслед за ней пришло новое сообщение загадочного содержания: «Ики юз али – уч юз».48 По-азербайджански это означает «250–300» (имелось в виду, тонн в день). Буровики не хотели раньше времени трубить об успехе? А может быть, сами не могли в него поверить? Во всяком случае они предпочли прибегнуть к коду, знакомому работавшим на Кавказе Эрвье и Шалавину, но непонятному остальным. В этот раз все получилось! Сибирские недра заговорили. На следующий день «Тюменская правда», главная ежедневная газета Западной Сибири, вышла с заголовком огромными буквами во всю первую полосу: «ЭТО – БОЛЬШАЯ НЕФТЬ!» Как будто речь шла о высадке на Луну. И это не преувеличение. Большая нефть! Big Oil, как сказали бы англоязычные коллеги! В эксклюзивном интервью Андрей Трофимук, академик-геолог из Академгородка, сказал, что значение этого открытия трудно переоценить. И это только начало. «До сего времени среди геологов еще были скептики, которые не верили в перспективность наших районов. Теперь от споров все перейдут к действиям»49. Скоро весь Советский Союз увидит фотографию широко улыбающихся буровиков скважины Р-6, окруживших геолога Галину Габелко с сияющим от счастья лицом, перемазанным нефтью. Этот кадр войдет в историю. Буровой мастер и девушка-геолог в едином трудовом порыве – вот новый состав пары советских героев – покорителей Сибири.
А что же Салманов? За сотни километров от места открытия неуемный инженер продолжал свою кипучую деятельность. Ему предложили присоединиться к первооткрывателям, но он упорно стоял на своем: месторождения большой нефти, «слоны» сибирских недр дремлют у него под ногами, и чтобы их разбудить, достаточно «пощекотать» в правильном месте пласты, укрытые на глубине 2 км под земной поверхностью. Конкретно в тот период Салманов был занят поиском месторождения в месте слияния рек Мегион и Обь. 21 марта 1961 года, в день Новруз-байрама – новогоднего праздника тюрко-иранских народов, пришла его очередь праздновать победу. Еще до того, как бурение достигло запланированной глубины, из-под земли неожиданно вырвался мощный фонтан нефти. Все участники события вспоминают торжественный момент в одних и тех же выражениях: буровики и геологи обнимаются, обмазывают себе лица тягучей жидкостью, которая для них ценнее любых духов, кричат «ура» посреди тайги. «Нами овладела гордость и радость, и, не выдержав, некоторые геологи плакали от счастья», – вспоминал Салманов.50 Один из бурильщиков вбежал под струю черного фонтана с криком: «Вторую Татарию открыли!» Глядя на впечатляющий приток нефти, начальник партии крикнул ему, чтобы перекрыть рев скважины: «Какая Татария? В двадцать раз больше!»51 Это был не просто успех, а настоящий реванш за все долгие годы напрасных поисков. Это было еще и торжество природы над оппонентами нефтяников. С присущим ему темпераментом азербайджанец не упустил случая подчеркнуть это в телеграмме высокому московскому начальству, отправленной сразу после открытия: «В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? Приветом, Салманов».52
Таким тоном с Москвой разговаривать не принято. Когда непокорного геолога и его непосредственного начальника Юрия Эрвье вызвали в Кремль с отчетом об открытии, они совсем не ожидали того приема, который оказал им Никита Хрущёв. В приемной генерального секретаря ЦК КПСС двое мужчин взволнованно поправляют галстуки. Они совершили прорыв в развитии Сибири и готовятся к похвалам и поздравлениям. Салманов вспоминает, как Хрущёв его горячо обнял. После этого они ожидали заслуженных поздравлений в адрес всех тех, кто участвовал в этом великом свершении. Но вместо поздравлений генеральный секретарь принялся яростно отчитывать обоих, а особенно Юрия Эрвье, полагая, что тот скрывал от него эти гигантские запасы энергоносителей. Как рассказывает Салманов, Хрущёв принялся кричать на Эрвье: «А ты куда смотришь, почему не видишь, что у тебя под носом творится? Сегодня проморгали нефть, а завтра всю страну проспим?» Он оставил их стоять в дверях, а сам вернулся по ковровой дорожке к своему массивному столу. Они медленно проследовали за ним, как заколдованные, и остановились на почтительном расстоянии, глядя, как он усаживался в кресло.53 Сибиряки были подавлены. Генеральный секретарь обвинил их в сокрытии поисковых работ, которые проводились в Сибири, в недооценке возможных результатов и их значения для всей страны. Это немыслимо. Но, когда прошел первый шок, они догадались, чем объяснялась такая реакция их могущественного собеседника: возможно, Хрущёв просто не читал тех бесчисленных отчетов, которые все эти годы отправляли ему нефтяники и геологи? Весной 1961 года Хрущёв был полностью поглощен другим событием, от которого во многом зависел его личный престиж: первым полетом человека в космос, всего за несколько недель до этого совершенным Гагариным. Геологи понимали, что, возможно, только сейчас, готовясь к этому разговору, генеральный секретарь осознал, какое важное открытие они совершили. Понял ли он вообще значение этого события для Сибири и всего Советского Союза? Его вспышка гнева наводит на мысль о человеке, который чуть не упустил поезд Истории и пытался возложить вину на машинистов. А если посмотреть глубже, это может быть признание собственной ошибки: он никогда не верил в наличие нефти и газа в Сибири, и его гости словно стали живым упреком его упрямству.
Оставалось всего несколько месяцев до очередного съезда КПСС. Событие было запланировано на октябрь, и сибиряки надеялись воспользоваться им в своих интересах. На этом XXII съезде должно было решиться будущее их региона. По советской традиции крупные предприятия и коллективы приветствовали каждый съезд залпом достижений и производственных рекордов. На официальном языке это называется «подарок съезду». Нужно успеть сделать еще что-то впечатляющее. В сентябре бригады Салманова приступают незадолго до замерзания реки к бурению новой скважины на Юганской Оби – одном из протоков Оби. Всего за несколько часов до торжественного открытия съезда трубы буровой вышки задрожали. Похоже, сибирские недра решили вручить партии роскошный подарок: на глазах у буровиков Салманова из-под земли забил поток черной жидкости. Предполагаемый дебит: 300–500 тонн в день. Скважина Р-62 проходит через шесть нефтеносных слоев, и запасы месторождения, простирающегося на сотни километров, впоследствии были оценены в сотни миллионов тонн. Услышав эту новость, первый секретарь обкома партии, известный своей суровостью, заплакал. «Пусть умрут от зависти те, кто не верил в ваши прогнозы», – воскликнул он, обнимая Салманова.54 Жители деревень и поселков со всей округи потянулись пешком через тайгу и болота, чтобы посмотреть своими глазами на поток черной жидкости, который изменит их жизнь. Сибирь стала третьим Баку. И даже больше. Всего за две недели новооткрытые месторождения дали столько же нефти, сколько каспийские производили за год. Скоро в пустынном районе, вырастет город, и люди Салманова уже придумывают ему название. «Геолог»? Слишком безлико. В конце концов его окрестили Нефтеюганском, что буквально означает «нефть на Югане». Впоследствии именно здесь появилась компания ЮКОС, которую ждала такая сложная судьба. Геолог Н.Н. Ростовцев уже мечтал о новых городах, многочисленных предприятиях, автодорогах!55 Здесь заново создавался целый мир. Сибирь поплыла по нефтяному морю, в котором одним из первых штурманов и мореходов стал Фарман Салманов.
Теперь открытия новых месторождений следовали одно за другим. 15 лет спустя в 1977 году в Тюменской области насчитывалось уже 250 месторождений нефти и газа, несколько десятков из которых открыл Салманов. Годы спустя академик Алексей Конторович утверждал, что ни один другой геолог в мире не участвовал в открытии такого количества гигантских месторождений.56 Салманов открыл их 130.57 В том числе 30 уникальных, 33 гигантских и 49 крупных. Это уже не «мыши» и «слоны» – здесь можно говорить о скоплении «мастодонтов»: запасы нефти оцениваются в 10 млрд тонн. Академик Трофимук, не скупясь на превосходные степени, клянется, что нефти не только хватит на XX век, но ее добыча в XXI веке еще вырастет.58
Советская пресса не была склонна персонализировать достижения и уделяла мало места светской хронике. Но имена и черно-белые портреты героев этой нефтяной эпопеи вскоре заполнили страницы центральных газет. Их лица всем знакомы: вот Николай Байбаков с густыми черными бровями, неустанно отстаивающий интересы отрасли в союзных министерствах. По волосам, зачесанным назад, носу с горбинкой и вечной сигарете в зубах легко узнать Юрия Эрвье, начальника Главтюменьгеологии. Это потомок семьи французских иммигрантов, которую некий Жан-Франциск Эрвье в 1860-х годах привез на Кавказ. Говорят, что от них он унаследовал свою легендарную вежливость. Приветливое улыбающееся лицо, почти на всех фотографиях в окружении перемазанных нефтью буровиков, – знаменитый геолог Андрей Трофимук, один из основателей Академгородка. Вера в потенциал сибирских недр, готовность защищать интересы региона в научных и политических кругах принесли ему всеобщее уважение. Он никогда не боялся Москвы. И вот теперь он в стане победителей.
И конечно же, в центре этой группы упрямцев всегда оставался Фарман Салманов. Мечта азербайджанского мальчишки сбылась, Сибирь подтвердила его правоту. Сейчас, на вершине успеха, он видел свою задачу в том, чтобы построить среди этих бескрайних просторов – сплошных болот, березовых и сосновых лесов, бесконечных зим и летней мошки – обетованную советскую землю. Пользуясь возможностями, которые дала ему победа, он требовал выделить средства, проектировал города, автомобильные и железные дороги. Его методы не изменились: сибирский герой был все так же несговорчив и легко шел на нарушение партийных норм, не боясь ссориться с финуправлением и даже с законом. Он получал выговор за выговором, на него писали жалобы и анонимки. Например, его обвинили в том, что два раза в неделю он отправлял в Москву самолет за записями эстрадных концертов. В другой раз в том, что для осушения местного футбольного поля он поднимал с земли служебные вертолеты. Его обвиняли в нецелевом расходовании казенных средств на строительство Дома культуры. Он был уверен, что его геологи-первопроходцы достойны самых лучших комфортабельных условий жизни.
Такое упрямство и свободолюбие, а также постоянное недовольство чиновников принесли ему народную любовь не только в профессиональной среде геологов. Главная звезда советской эстрады Алла Пугачёва прилетела в Тюменскую область с концертами в его поддержку. Знаменитый советский бард, поэт и актер Владимир Высоцкий после встречи с ним написал песню «Тюменская нефть», которая стала неофициальным гимном первых нефтегазовых городков. Салманов предстает в ней как джинн сибирских недр:
Популярность несговорчивого геолога распространилась и на советскую центральную прессу. С точки зрения СМИ, его заразительный энтузиазм, деятельная вера в будущее Сибири, готовность сражаться с бюрократией и патриотизм с лихвой перекрывали пресловутое отсутствие дисциплины. Последнее даже придавало ему обаяния. За несколько месяцев в пользу нефтяников решительно высказались такие авторитетные издания, как «Известия» – печатный орган советского правительства, «Комсомольская правда» – ежедневная молодежная газета, «Правда» – официальная газета КПСС, позицию которой не посмел бы оспорить ни один чиновник. Газеты подняли ряд спорных вопросов, которые многим читателям могли показаться непостижимыми: как следует расставлять приоритеты в геологоразведке? На что нужно выделять бюджетные средства? Каким регионам предоставить преимущественное финансирование? На какие новые жертвы допустимо пойти? В советском обществе пресса, как правило, наделялась образовательными функциями, но в этот раз газеты взяли на себя более амбициозную роль, высказываясь от лица практически не существовавшего общественного мнения. Эти бурные дебаты давали представление об ожесточенной подковерной борьбе, которая происходила внутри правительства. Официальные СМИ выработали свою позицию в этой борьбе. И нефтяники охотно благодарили влиятельные газеты за поддержку. Новое перспективное месторождение, открытое Салмановым, получило название «Правдинское». И чтобы не обижать «Известия» таким явным предпочтением конкурирующего издания, следующее – «Известинское».60
* * *
17 октября 1961 года, в день открытия XXII съезда КПСС, радостная новость об открытии скважины Р-62 красовалась во всех газетах рядом с приветствиями делегатам съезда. Из Тюменской области Президиуму пришла ликующая телеграмма. Благодаря фонтану черного золота, как нельзя более кстати забившему из скважины Р-62, Сибирь ворвалась в повестку дня. Предполагалось, что съезд будет посвящен модернизации. Но теперь одной из его главных тем стали углеводороды.
Заседание проходило в новом Кремлевском дворце съездов, построенном по распоряжению Никиты Хрущёва в Московском Кремле. Его современный архитектурный облик выделяется на фоне классических линий окружающих древних строений и золотых куполов. Кремлевский Дворец отражает стремление к модернизации страны, главный замысел товарища Хрущёва. Городской пейзаж в те годы менялся на глазах. Повсюду росли знаменитые «хрущёвки», недорогое панельное пятиэтажное жилье, сменившее ветхие довоенные деревянные бараки. Из-за их типового вида, лишь изредка дополняемого на местах какими-либо необычными деталями, все советские города казались похожими друг на друга.
Хрущёв хотел, чтобы этот съезд стал вехой на пути к идеальному коммунистическому обществу. С присущим ему красноречием он объявил тысячам делегатов о великом историческом рубеже: к 1980 году в СССР будет построен коммунизм. Генеральный секретарь поклялся, что к этой дате Советский Союз достигнет последней стадии развития человечества, предсказанной отцами марксизма-ленинизма, конца истории по версии советских идеологов. Каждый будет получать по потребностям. И для начала у каждой семьи будут своя квартира и автомобиль.
Итак, путь в светлое будущее открыт, и от сибиряков ждут топлива для этого последнего рывка. Будущий коммунистический рай потребует много энергии. Генсек даже знает, сколько именно, его советники уже произвели необходимые подсчеты. Для наступления всеобщего счастья к 1980 году потребуется 710 млн тонн нефти в год.61 Но в 1960 году в СССР добывалось всего 150 млн тонн. Что касается газа, за тот же период добычу необходимо нарастить в 15 раз. Методы остались сталинскими, изменились только цифры: вот приказ, он должен быть выполнен любой ценой, выпутывайтесь как знаете. Такова цена коммунизма.
Эти дешевые пророчества вновь привели специалистов нефтегазовой отрасли в замешательство. Их смущали не столько амбициозные и фантастические задачи, оглашенные генеральным секретарем перед делегатами съезда. Нет, их скепсис объяснялся главным образом неуверенностью в том, что Никита Хрущёв способен руководить экономикой страны. Им казалось, что он не только тормозит развитие, но и прямо вредит ему. Генеральный секретарь по меньшей мере уже опоздал с революцией, которая произошла в мировой экономике: переходом от угля к нефти и газу. От него исходило множество нелепых инициатив, и порой казалось, что он не понимал, какие задачи стояли перед СССР. Затеянные им реформы привели к снижению производительности труда и хаосу во многих отраслях. Вновь вернулся дефицит основных товаров народного потребления[173]. Начались волнения. Обеспокоены не только нефтяники и газовики. Во многих отраслях народного хозяйства, включая ведущие, руководство с тревогой следило за развитием событий. Сколько можно терпеть разрушительные эксперименты Генерального секретаря? Сколько можно исполнять все его причуды? В руководстве партии это беспокойство находило отклик у административно-хозяйственного крыла, в частности, у одного из самых компетентных руководителей – у заместителя председателя Совета министров Алексея Косыгина, вскоре приобретшего большое уважение и всегда выступавшего на стороне нефтяников.62
Летом 1964 года Никита Хрущёв совершил большую поездку по всему Советскому Союзу. Его основная цель никого не удивила: он хотел осмотреть урожай на полях. Но нефтяники с радостью узнали, что глава государства собирался заодно посетить и основные месторождения страны. Возможно, это был их последний шанс убедить его в стратегическом значении отрасли для будущего СССР.
И вот наконец в ходе своей двухнедельной поездки по полям страны Хрущёв уделил два дня посещению буровых и встречам с передовиками нефтяной промышленности. К его приезду тщательно готовились. Вдоль всего маршрута кортежа черных правительственных автомобилей наскоро отремонтировали деревни, а в полях, чтобы не огорчать страстного поклонника кукурузы, скосили ее жалкие всходы, посаженные по его приказу, но, естественно, неспособные к вызреванию в этих широтах. Руководитель областного нефтегазового производственного объединения провел Хрущёву экскурсию, тщательно выбирая слова и образы, чтобы произвести на гостя впечатление. Он говорил, например, что если весь объем нефти, добываемой в области за год, поместить в трубу диаметром 1 м, нефтепровод мог бы сделать несколько оборотов вокруг экватора. Потом четыре трактора провели эффектную демонстрацию переноса буровой вышки без демонтажа для повышения скорости и производительности. Генеральному секретарю показали бурение новой скважины. Никита Хрущёв невозмутимо осмотрел на все это без малейших признаков любопытства на усталом лице. Оживился он позже, во время посещения колхоза «Авангард» и встречи с колхозниками, которых он расспрашивал обо всем подробнейшим образом. На следующий день вышло интервью специального корреспондента газеты «Правда», сопровождавшего генсека в поездке. Хрущёв признался, что он впервые в Тюменской области, что эти плодородные поля и перелески, рожь, пшеница, горох, сахарная свекла, картофель, – все это напомнило ему родную Курскую область. Он похвалил колхозников за работу и выразил надежду на хороший урожай.63 Про нефть он сказал только одну фразу, в которой горячо поблагодарил нефтяников и пожелал им успехов и счастья. В довершение картины на следующий день, выступая перед руководителями нефтяной промышленности, глава государства воспевал сельское хозяйство. Нефть тоже важна, говорит он онемевшей от изумления аудитории, из нее будут производить удобрения завтрашнего дня.
И генеральный секретарь отправился дальше, на бескрайние равнины Казахстана, где его тоже, прежде всего, интересовал будущий урожай. Сергей Хрущёв в недавно опубликованной биографии отца, основанной на самых надежных источниках, едва упоминает об этих двух днях, проведенных в будущем сердце советской экономики. Единственное свидетельство о них – фраза из дневника его спутника в этой поездке, датированная 10 августа 1964 года: «Весь следующий день проездили. Наконец вечером остались одни. – Устал, – предупредил меня Никита Сергеевич. – Чертовски устал. Пойду, отдохну. Если даже война, не будите».64

Пробуждение настало через два месяца. В начале осени «царь Никита» уехал в отпуск на Кавказ, в свою резиденцию в Пицунде. 12 октября его срочно попросили вернуться в Москву: якобы было назначено чрезвычайное заседание Президиума ЦК КПСС, перед которым нужно еще провести консультации с руководством партии. Войдя в зал заседаний Кремля, семидесятилетний Хрущёв узнал, что единственным вопросом в повестке дня была его отставка «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».65 Один за другим члены Президиума, с которыми он вместе заседал столько лет, просили его отказаться от всех должностей. И первым выступил один из самых молодых членов Политбюро – Леонид Брежнев. На Хрущёва сыпались обвинения: его упрекали в авторитаризме, в отсутствии коллегиальности, в просчетах в сельскохозяйственной и экономической политике. Единственный, кто сдержанно выступал в его защиту, – Микоян, только что прилетевший с ним из Пицунды. Хрущёв один против всех: «Почему же мне раньше обо всем этом не сказали?», – спрашивает он со слезами на глазах.66 Он подписал прошение об отставке, заранее составленное его коллегами, и Президиум ЦК КПСС тут же опубликовал официальное постановление: «Признать, что в результате ошибок и неправильных действий тов. Хрущёва, нарушающих ленинские принципы коллективного руководства, в Президиуме ЦК за последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партией и страной».67 Итак, «царь Никита» был смещен с поста без шума и насилия. Как стало известно позднее, его противники воспользовались отпуском генсека, чтобы склонить на свою сторону руководство партии и правительства. По всей видимости решение о его смещении было принято летом.
Назначения и мероприятия, начавшиеся сразу после вынужденной отставки товарища Хрущёва, не оставили никаких сомнений в личности победителей и их предпочтениях. На смену, как считалось, «абсолютной монархии» генерального секретаря ЦК пришло коллективное управление. Руководство политическим аппаратом взял на себя Леонид Брежнев, а экономические реформы были поручены Алексею Косыгину. Введенную Хрущёвым экономическую децентрализацию упразднили, и отраслевые министерства восстановили в правах. Одним из важнейших в новом правительстве стало Министерство нефтяной промышленности, образованное из группы крепких инженеров с опытом непосредственной работы на местах, под руководством Валентина Шашина, убежденного оппонента экономической политики поверженного генсека. Стратегический пост председателя Госплана занял Николай Байбаков, опора нефтяного лобби. Эту должность он занимал 20 лет. Проект гигантской ГЭС на Оби окончательно отвергли. Тюменский нефтеразведочный трест был преобразован в Главное Тюменское производственное геологическое управление и укреплено: Юрий Эрвье назначен его начальником. Ставленник Косыгина Виктор Муравленко, известный своей критикой советских управленцев, возглавил Главное Тюменское производственное управление нефтяной и газовой промышленности (Главтюменнефтегаз). На его рабочем столе установили красный телефон прямой связи с Кремлем.68
Сибирская болезнь
Наконец настал золотой век нефтегазоносной Сибири. Это начало «Сибириады»[174], новой волны колонизации, пока последней в истории российского покорения Сибири. Это эпическая страница биографии советской Сибири.
Благодаря смене власти в Кремле у огромной провинции, в первую очередь, у ее западной части, появились могущественные союзники. Сразу после назначения новый председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин объявил о реформах, соответствовавших интересам нефтяной промышленности. Новое правительство полно решимости изменить роль государства в планировании народного хозяйства на глубинном уровне. Гигантский экономический механизм, состоящий из множества винтиков и колесиков, уже невозможно было контролировать извне. По современной концепции, которую продвигает Косыгин, Госплан устанавливает ориентиры и решает задачи координации. Государство не отдает приказы, а инициирует работу и распределяет задания.
Эти новые условия предоставляют предприятиям ключевую роль. Их пространство для маневра и принятия решений существенным образом расширено: они могут самостоятельно внедрять инновации и развиваться, они сами выбирают поставщиков и ищут пути сбыта продукции. Новые критерии оценки их деятельности – это не объемы производства, установленные планом, а рентабельность и общая сумма прибыли. Более того, они могут сами распоряжаться основной частью своих доходов, формируя собственные фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищного строительства. Эффективно работающий завод или колхоз может по своему усмотрению повысить зарплаты и выплатить премии, улучшить снабжение столовой или магазина при предприятии, построить жилье, ясли или детский сад, больницу, стадион, дом отдыха для сотрудников.
Восьмой пятилетний план (1966–1970), который интенсивно разрабатывали реформаторы, должен был советским гражданам дать возможность наконец купить второй костюм, несколько платьев и пар обуви, обставить квартиру мебелью, съездить в отпуск, а может быть, даже купить новые «Жигули» – советский «Фольксваген», производство которых начиналось на берегах Волги. Эта пятилетка осталась в народной памяти как «золотая».
Естественно, резкая смена экономического курса привела в восторг нефтяников, которые мечтали о таких переменах. Многие предлагаемые меры им исключительно на руку: возможность повышать зарплаты позволит привлечь в этот негостеприимный край новую рабочую силу. Переход предприятий на хозрасчет приведет к росту инвестиций в регион. Наконец, благодаря новой ценовой политике черное и голубое золото частично отправляют на экспорт, что позволит Сибири быстро разбогатеть.
Новая власть сразу продемонстрировала готовность сделать ставку на Сибирь. Весной 1965 года было предложено два возможных сценария, определяющих приоритеты в области энергетики. Оба предполагали гарантированное производство более 700 млн тонн нефти к началу 1980-х годов. Первый, более осторожный, опирался на проверенные источники энергоносителей, а именно на Татарстан и Башкирию. «Второе Баку» было способно обеспечить непрерывный рост производства нефти и газа на многие годы вперед. Параллельно предполагалась постепенная разведка сибирских месторождений, которые должны прийти на смену, когда иссякнут запасы Урало-Поволжья.
Второй сценарий полностью основывался на развитии Сибири. Его авторы рассчитывали на еще недостаточно исследованные гигантские месторождения, которые могут иметь огромный экспортный потенциал. Предлагалось интенсифицировать геологоразведку в среднем течении Оби, где были обнаружены запасы нефти, несравнимо превосходящие имевшиеся в традиционных районах добычи. Затем планировали продолжить исследования в северном направлении: в тундре Ямальского полуострова были недавно открыты залежи газа. По химическому составу сибирская нефть одна из лучших в мире: она легкая, имеет малую вязкость, низкое содержание серы и парафинов. Конечно, для разработки нефтегазоносных бассейнов, дремлющих под сибирскими болотами, потребуются серьезные инвестиции, но сторонники сибирского сценария подают этот недостаток как преимущество: они уверены, что расходы окупятся сторицей. Только колоссальные капиталовложения позволят высвободить сокровища сибирских недр, зато впоследствии полученная прибыль щедро возместит все затраты. По сравнению с осторожными оценками первого сценария, сибиряки обещали намного более быструю отдачу. Полумеры недопустимы: нельзя исследовать недра вполсилы. Без сомнения, энтузиазм и вера сибиряков заразительны. Но на тот момент они производили всего около 1 млн тонн в год, а их конкуренты – в сто с лишним раз больше.
Кому же верить? Решение должен принять следующий, XXIII съезд КПСС. В очередной раз будущее региона поставлено на карту, и сибиряки, надеясь склонить на свою сторону руководство страны, которое пугали смутные перспективы и заявленные объемы инвестиций, пошли на новую уступку: они предлагали хотя бы на первые годы отказаться от строительства полноценных городов и поселков в нефтедобывающих районах. Отказ от возведения городов и крупных инфраструктурных объектов, минимизация строительства автомобильных и железных дорог позволили бы сократить необходимые расходы. Предлагалось работы на буровых скважинах вести вахтовым методом сменяющимися бригадами нефтяников, как это делалось в Канаде на месторождениях Крайнего Севера. Как вскоре станет понятно, эта тактическая уступка в ближайшее десятилетие повлекла за собой самые серьезные последствия.
В последние недели, предшествующие XXIII съезду, первому для тандема Брежнев – Косыгин, в верхних эшелонах партийной власти, как отмечают свидетели, шла ожесточенная борьба между сторонниками двух описанных выше сценариев развития.69 Но в начале апреля 1966 года, когда решения XXIII съезда наконец вынесены на голосование, сибиряки могли праздновать победу. Пять тысяч делегатов единогласно поддержали предложения их руководства. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану гласили: «Ускоренно развивать нефтедобывающую и газовую промышленность. Считать важнейшей задачей создание новых нефте– и газодобывающих центров в Западной Сибири».70 «Тюменская правда» ликует: «5 млрд рублей – таков объем капитальных вложений нашей области в начавшейся пятилетке. Это почти в 4 раза больше капитальных вложений в хозяйство области за семь лет».
В последующие месяцы и годы началось интенсивное освоение Западной Сибири. Армия геологов, о которой мечтал Губкин 30 лет назад, наконец вышла на позиции. Для того, чтобы оправдать надежды и реализовать обещания, годятся любые средства. Ничто уже не нарушало сложившуюся коалицию интересов центральной и областной власти, нефтяного и газового лобби. Риторика оставалась все такой же воинственной: нефтяники должны были «завоевывать», «вести наступление», «наносить удары».71 Раньше приобскую нефть сплавляли по реке на тысячи километров до пересечения с Транссибирской магистралью. Теперь в тайгу ринулись бульдозеры, чтобы скорее проложить трубопроводы. Пользуясь зимой, когда болота замерзают, мощные машины пробивали путь через леса и топи, проходя в день всего по несколько километров. За ними шли более тяжелые 20-тонные тягачи, похожие на ракетовозы, перевозившие трубы нефте– и газопроводов. Они продвигались в основном по прямой линии через холмы и ложбины без оглядки на окружающую природу. Разве природа не должна служить человеку? Трассы, проложенные нефтяниками, не учитывали традиционных путей постоянных кочевок местных оленеводов. Официальная хроника завоевания сдержанно отмечает, что, например, ханты относились к нефтяникам неоднозначно.72 Но нефть и газ прежде всего. Строительство трубопроводов осложнялось вечной мерзлотой, верхний слой которой оттаивает в летние месяцы, деформируя гигантские стальные трубы, змеившиеся с севера на юг. Как при строительстве железных дорог во времена ГУЛАГА, как и при строительстве Норильска и других северных городов, инженеры были вынуждены срочно укрощать природу, демонстрируя чудеса технической мысли. Свидетельства этого периода рисуют картину варварского и героического завоевания: тракторы продвигались по заснеженной грязи, как танковые колонны, вслед за канавокопателями и тягачами. Как вспоминает один из первопроходцев, дороги бывали настолько разбитыми, что машины порой заваливались вверх колесами. На подъемах трубовозы застревали, образуя пробки посреди тайги, и их вытаскивали с большим трудом. Однажды, как рассказывает тот же очевидец, оставалось проложить всего 30 км трубопровода, но для этого нужно было проехать еще примерно 300 км. Путь продолжался более 20 часов, и некоторые машины опрокидывались. В конце концов прислали вертолет, чтобы забрать обессиленных водителей из кабин, а их сменщики буквально «падали с неба».73
В районах нефтегазоразведочных работ бурили одну скважину за другой. И здесь тоже никто не думал о мерах предосторожности или о долгосрочном развитии, работали быстро, чтобы успеть выполнить спущенный сверху план, нарушая правила, в том числе техники безопасности. По словам инженера-разработчика газовых месторождений Юрия Ивановича Полыгалова, вряд ли можно назвать хоть одно месторождение, на котором были бы соблюдены все технические нормы и проектные требования.74 При этом серьезно страдала окружающая среда, загрязнялись почвы и воды. Впоследствии проверки показали, что в стоках, сбрасываемых в Обь, содержание углеводородов в 4–5 раз превышало предельно допустимые значения.75 Нефтегазоносные пласты, обычные для приобских недр, никого не интересовали, разведка концентрировала усилия на поиске гигантских месторождений, пресловутых «слонов». Месторождения меньших размеров забрасывали или эксплуатировали в недостаточной степени – их все равно не хватило бы для выполнения плана! Это привело к разбазариванию природных ресурсов. Из 362 месторождений, открытых в Ханты-Мансийском автономном округе, – новой нефтеносной территории, 80 % всей добычи давали всего 12.
В целом результаты соответствовали заявленным плановым показателям. «Сибирское пари», заключенное на XXIII съезде, было выиграно: 1 млн тонн нефти в год в 1965 году, 30 млн тонн в 1970-м, 148 млн тонн в 1975-м, 312 млн тонн в 1980-м, 382 млн тонн в 1985-м.76 К середине 1980-х годов, когда началась эпоха Михаила Горбачева, Западная Сибирь давала две трети всей нефти СССР.
А ведь в Сибири была не только нефть. Газовая промышленность тоже получила зеленый свет. Если в середине 1950-х годов голубое топливо еще не было стержнем энергосистемы,77 то теперь спрос на него очень велик по всему Советскому Союзу. Архитекторы и градостроители, которым было поручено возведение новых кварталов панельного жилья в хрущевский период, быстро поняли, что энергоснабжение советских мегаполисов невозможно обеспечить только за счет угля, нефти и мазута. Железнодорожные и автодорожные сети не были рассчитаны на перевозку таких объемов и быстро захлебнулись бы от перегрузки. Зимой 1961 года целые кварталы Москвы и Ленинграда чуть не остались без тепла из-за нехватки электроэнергии. К тому же, газ – очень дешевый источник энергии. В начале 1960-х годов его цена составляет малую долю от цены нефти или угля. Именно газ принес революционные изменения в городской быт, дал горожанам возможность пользоваться горячей водой, стиральными машинами и другими современными удобствами. С тех пор доля газа и нефти в энергетическом балансе страны непрерывно росла за счет уменьшения доли угля и традиционных энергоресурсов – дров, торфа и т. д.
Газовики тоже смогли воспользоваться благоприятной ситуацией для массированной геологоразведки в Северной Сибири. По мере продвижения к северу они все больше убеждались в том, что если огромные запасы нефти сосредоточены, по всей видимости, в среднем течении Оби, то газоносные пласты нужно искать еще дальше. Похоже, что история повторялась: так же, как нефтяники долгое время указывали на район Сургута, разведчики природного газа проявляли интерес к тундровым равнинам за Северным полярным кругом, в низовьях Таза и Печоры, на Ямальском полуострове. Все дальше на север! У газовиков есть даже свой Салманов – горластый парень по имени Василий Подшибякин, в 1967 году возглавивший Ямало-Ненецкий геологоразведочный трест по нефти и газу «Ямалгеологоразведка». Его биография вкратце повторяет всю историю сибирской геологоразведки: родился в семье одного из первых председателей колхоза, окончил Московский нефтяной институт (который теперь носит имя И.М. Губкина), участвовал в буровых работах в Берёзове, закончил обучение в Сургуте в бригаде Салманова. Ученик многое взял от своего учителя. Едва прибыв в ямальскую тундру, он тут же поклялся сопровождавшим его журналистам, что три жалких деревянных барака скоро станут столицей газовой империи: «Мы здесь будем иметь запасов 6 трлн куб. м, – обещал он в мае 1966 года. – Вот так вот! И я это гарантирую. Хотя от таких цифр и голова может лопнуть».78 Через месяц после этого громогласного заявления одна из его бригад, работавшая вдоль брошенной железнодорожной стройки № 501 ГУЛАГа, решила бурить у одного из заброшенных лагерных бараков. В этом месте под названием Уренгой было всего семь жителей. На глубине 2 200 м буровики обнаружили самый большой газоносный пласт в истории, площадью свыше 6 000 кв. м и объемом 12 млрд куб. м.79 Инженеры сталинского ГУЛАГа, участвовавшие в прокладке железных дорог № 501/503, и представить себе не могли, что под ними целое море природного газа. Василий Подшибякин занял почетное место в пантеоне сибирских первооткрывателей: в его активе 36 открытых месторождений с 36 млрд куб. м природного газа.80
Ханты-мансийский и ямальский бум резко увеличил приток трудовых мигрантов. В первую очередь существенно выросло количество геологов, участвовавших в поисковых экспедициях. До березовского бурения разведкой недр занимались всего несколько десятков геологов, теперь же в регионе работают около 7 тысяч специалистов.81
В первое время геологи селились где могли, выбирая самые удобные места на берегах рек. Они жили в спартанских условиях, чаще всего – в брезентовых палатках, шалашах или землянках, вырытых прямо на берегу. Историк Константин Лагунов, сам из тех энтузиастов, которых комсомол посылал на сибирский Север в качестве подкрепления, описывает, как во времена первопроходцев выглядело село Шаим, где впервые обнаружили нефть: землянки лепились к обрывистому берегу, как ласточкины гнезда. Невообразимо «живописные» постройки из упаковочной тары, сырых неокоренных досок, шифера, кусков жести и дерева. Над крышами, засыпанными снегом, торчали трубы, как дымящиеся сигареты… и этот ряд землянок назывался «улица Пионерская».82 Немногочисленные воспоминания очевидцев тех лет сильно отличаются от официального пафоса партийной прессы и литературы. Зачастую условия, в которых жили герои нефтеразведки, были немногим лучше, чем у заключенных прошлых десятилетий. Тот же Лагунов описывает, как после двенадцатичасовой смены рабочие должны были отстоять на морозе очередь в несколько сотен метров, чтобы попасть в единственную столовую поселка. Там они выпивали подряд восемь – девять стаканов обжигающе горячего чая. Только после этого они получали ужин, состоящий из тушеного мяса, смешанного с консервированной капустой, или щей из стеклянных банок.83
Несмотря на высокие зарплаты, условия жизни были столь тяжелы, что ежегодно личный состав обновлялся более чем на половину, и такой уровень ротации было сложно поддерживать даже в среднесрочной перспективе. Чтобы переломить эту тенденцию и компенсировать почти трущобные условия, в которых жили рабочие, Министерство нефтяной промышленности предприняло попытку ввести гарантированный «социальный минимум», закрепленный постановлением 1965 года: теоретически было запрещено проводить буровые работы без обеспечения необходимых для достойного существования условий, а именно водоснабжения, электричества, транспортного сообщения с жилыми поселками, средств связи с внешним миром и складов для хранения оборудования.84 Но все было тщетно. Нефтяники и газовики предпочитали не тратить время на ожидание достойных условий и снабжения, малореальных в этих широтах, а вместо этого наращивать темп бурения вверенных им месторождений. После окончания работ по крайней мере можно было получить обещанные премии. Речь шла о крупных суммах: в середине 1960-х годов геолог в Сургутском районе получал в среднем 1 312 рублей в месяц, плюс ежегодную премию в 500 рублей и ряд льгот на отпуск и проезд.85 Обычный советский инженер мог рассчитывать всего на 120 рублей в месяц.
Проблема стала еще острее, когда к первопроходцам начали присоединяться эксплуатационники. Вслед за геологами пришли электрики, строители, сварщики, водители, руководящие работники, а за ними, естественно, и работники сферы обслуживания. В основном это была молодежь. В середине 1970-х годов средний возраст населения Сургута составлял примерно 27 лет.86 Образовывались новые семьи, стрелой взлетела рождаемость. Где же разместить столько людей? Вопрос колонизации этих негостеприимных земель, который столько раз возникал в истории Сибири, вновь встал с неожиданной остротой. На этот раз речь шла не о захвате земель, не о стратегических соображениях и не о перенаселенности европейской части России, вызвавшей миграцию в конце XIX века, не о насильственном распределении рабского населения, как в годы ГУЛАГА: экономическая реальность поставила государство перед необходимостью практически спонтанной колонизации, не предусмотренной планом, масштабы и последствия которой невозможно оценить заранее. Каковы бы ни были решения по размещению нового населения, необходимого для добычи углеводородов, это в любом случае безумная авантюра. В начале 1960-х годов Тюменская область, в недрах которой обнаружили основные запасы нефти и газа, располагала плодородными землями только на юге и насчитывала немногим более 1 млн человек, главным образом сконцентрированного в южных районах, вдоль Транссибирской магистрали. Плотность населения в нефтегазоносных северных районах в 38 раз ниже, чем в среднем по европейской части России.87 Фактически это пустыня. Полет над этими бескрайними пространствами не мог не производить впечатления на самых смелых первопроходцев: на протяжении долгих часов под крылом самолета тянулись буро-зеленые, осенью – желтые или красные пейзажи тайги или тундры, поблескивали болота, окруженные камышами. Но приезжих уже десятки тысяч, затем сотни и миллионы. А к месторождениям можно добраться только водным путем, открытым всего несколько месяцев в году.
Нужно ли в таких условиях возводить города? И если нужно, какими они должны быть: деревянными, кирпичными или каменными? В свое время, торопясь урвать кусок в политической схватке на высшем уровне, энтузиасты развития нефтяной промышленности замяли этот вопрос, но настал момент, когда он потребовал ответа. Официально одобренная стратегия развития нефтегазоносных районов предполагала вахтовую систему, согласно которой рабочие буровых платформ приезжали из городов Южной Сибири и отрабатывали смену в течение нескольких недель. Такая система была принята, по крайней мере временно, из соображений минимизации затрат.
Всего за несколько лет небольшие поселки начали разрастаться, как грибы, превращаясь в города, не подчинявшиеся никаким градостроительным планам. Урбанизация происходила сама по себе, но нужно было решить, кто должен за нее отвечать. Пока государственные и экономические ведомства спорили о выборе стратегии (Москва выступала за временное деревянное жилье, область требовала строительства кирпичных и каменных домов, которые гарантировали долгосрочное развитие), геологоразведочные управления Министерств нефтяной и газовой промышленности, непосредственно руководившие добычей, продолжали наступление и открывали все новые месторождения. Каждое новое месторождение привлекало очередную волну трудящихся, которые искали новой жизни и быстрого обогащения. С этим процессом невозможно было совладать. За 25 лет с 1965 по 1990 год в Западной Сибири на пустом месте возникло 16 новых городов, а к 2010 году к ним добавилось еще шесть. Общая численность населения области выросла в три раза, а население нефтегазоносных районов увеличилось в 10 раз за 15 лет; доля городского населения выросла с 32 до 72 % за период с 1960 по 1985 год.88
Можно ли было считать эти города городами? Поселения Севера не заслуживали этого названия. Там не было водопровода, системы сброса и очистки сточных вод, парков, кинотеатров и зон отдыха, не было проспектов и даже градостроительных планов: города новой Сибири стихийно росли по мере прибытия новой рабочей силы, как столетием ранее – города-призраки Калифорнии и Юкона времен «золотой лихорадки». Госпредприятия, занимавшиеся добычей нефти, не смогли справиться с хаосом. Например, в Сургуте, первом нефтедобывающем центре, в марте 1964 года не хватало жилья для 500–600 семей, и еще 300 вновь прибывших остались попросту без крова.89 Всего 10 % новых жителей могли получить квартиру. Остальным предлагалось типовое жилье – балок, вагончик из листового железа, разделенный на отсеки по 2–6 кв. м с общим коридором. В каждом отсеке размещались четверо рабочих или одна семья. Эти балки, тоже ставшие символом сибирской нефти, доставлялись баржами по рекам или тракторами по зимникам. После расчистки участка балки на глазок выстраивали рядами, получившейся улице давали имя первого жителя или какого-нибудь выдающегося человека. Потом на фасадах балков белой краской писали номера. В зависимости от профессиональной специализации жильцов, они могли укрепить балок дополнительным слоем металла, покрыть его досками или теплоизолирующим слоем из материалов, предназначенных для трубопроводов, позаимствовав их на складе. Летом там было жарко, зимой холодно. В полярную ночь вода, капавшая из умывальников, замерзала, даже несмотря на раскаленную докрасна чугунную печку. Жителям балков не раз случалось, проснувшись, обнаружить, что их волосы примерзли к металлической стенке.90 После сильных ночных снегопадов с утра приходилось прорывать в снегу тоннель от входной двери до поверхности; поэтому двери балков всегда открывались вовнутрь. Воду брали из бочки, которую наполняли на реке. И в реку же сливали сточные воды и сбрасывали мусор. Социальная жизнь была минимальной. На первых порах предприятия так торопились набрать новую рабочую силу, что забывали организовать вагон-столовую или хлебную лавку.
На архивных фотографиях мы видим сотни таких вагончиков, с которыми соседствуют утопающие в грязи деревянные сараи. Вместо асфальтированных улиц по мерзлому грунту проложены песчаные или бревенчатые дороги, чтобы можно было хоть как-то перебраться через грязь. Картина сильно напоминает Баку времен дикого капитализма. Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Урай – в скором времени нефтяные городки, о которых мечтал Салманов, насчитывали уже десятки тысяч жителей, а самые большие – 250–300 тысяч, но по качеству жизни они совершенно не соответствовали сказочным обещаниям первопроходцев.
Власти уверяли, что это временное жилье. Но временный характер растянулся на 20 лет. Все нужно было запланировать и создать с нуля, а государство не справлялось с управлением и координацией той почти дикой колонизации, которую проводили его собственные министерства. Это хорошо видно на примере Сургута, неофициальной столицы советской нефтяной промышленности. Прошло двадцать лет после высадки Салманова с его мятежной экспедицией на сельской пристани, и выросший на этом месте город представлял собой бесформенное скопление кварталов, не связанных между собой и существующих по отдельности. Торопясь разместить своих работников и обеспечить жильем постоянно прибывающих новых сотрудников, каждое из государственных ведомств с непроизносимыми названиями действовало только в своих интересах, не заботясь о соседях и партнерах. Гипротюменнефтегаз строил районы для нефтяников и строителей, Гипрогеолстрой – для геологов, Сибгипроречтранс – для работников водного транспорта, Уралтеплоэлектропроект – для работников теплоснабжения: в сумме возведением города занимались 23 организации при полном отсутствии единого согласованного плана. Виктор Муравленко, возглавивший Главное Тюменское производственное управление по нефтяной и газовой промышленности Совнархоза РСФСР (Главтюменнефтегаз), возмущался: «Пожалуй, не хутора, <…> целые удельные княжества <…> со своей многочисленной обслугой. Как же, каждое ведомство строит свою котельную, свою электростанцию, свой водопровод, свою баньку, прачечную, пекарню, все свое, свое… а не сургутское, хотя живем-то мы на сургутской земле».91 В городе не было ни главной улицы, ни главной площади, ни даже речного вокзала на Оби. Панельные пятиэтажки можно было сосчитать по пальцам одной руки[175]. Даже в 1973 году, через десять с лишним лет после начала нефтяного бума, городское статистическое управление сообщало, что построено 14 жилых многоэтажных домов, но семь из них еще не заселены, так как работы не закончены полностью.92 Это объяснялось не только халатностью или ошибками планирования. Строительство городов в такой неблагоприятной среде требовало огромных средств. В частности, серьезным негативным фактором являлся холод. При низких температурах, характерных для нового нефтегазового эльдорадо, затраты на обслуживание оборудования возрастали в геометрической прогрессии. При –6 °C для двигателей уже требуются особые камеры сгорания. –15 °C – критический порог температуры для аккумуляторов и стандартной стали. При –25 °C даже сталь с улучшенными свойствами становится ломкой, резина крошится, все компоненты требуют теплоизоляции. Самая низкая температура, позволяющая производить строительные работы, –30 °C. При этом необходим постоянный ремонт. Что касается рабочей силы, опыт показывает, что при –40 °C работы занимают в четыре раза больше времени, чем при –10 °C. Поэтому для выполнения тех же объемов требуется больше рабочих. В целом, по оценкам специалистов, затраты на строительство в Северной Сибири в восемь раз превышают средние показатели по стране.93
Все нужно было делать быстро, и все было настолько плохо организовано, что руководство явно не справлялось. Министерство нефтяной промышленности провозгласило два лозунга: «План любой ценой!» и «Все во благо человека!», но нетрудно догадаться, какой из них был важнее. Отдел рабочего снабжения, в задачи которого входило заполнение прилавков в новых городах, не успевал за бурно растущим спросом, что, надо признать, было нетипично для плановой советской экономики. Нехватка товаров народного потребления, которая в СССР называлась дефицитом, на протяжении 1960-х годов сохраняла пугающие масштабы. Официальный список «дефицитных товаров» включал практически все необходимое советской семье: соль, хлеб, свежую рыбу, селедку, мясо, молочные продукты, овощи, картофель, растительное масло, муку, макароны, спички, сигареты, посуда, стаканы, чашки, игрушки, ткани, костюмы, юбки, платки, куртки, парфюмерную продукцию, электронные приборы, стиральные машины, ведра, мебель, музыкальные инструменты.94 Некоторые из этих товаров поступали в недостаточном количестве, другие отсутствовали полностью. Разве что алкогольная продукция текла рекой. В 1965 году сургутская газета с возмущением сообщала, что в местных магазинах были лишь хлеб, сметана и рыбные консервы.95 В ту зиму ситуация обострилась настолько, что самому крупному городу нефтяников угрожал голод. Январской ночью пришлось поспешно открыть через тайгу «дорогу жизни» в несколько сотен километров, которая должна была связать город с имеющейся дорожной сетью.
Кого же могла прельстить такая жизнь? Зачем люди ехали в нефтяные городки? «А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги»,96 гласит припев одной из самых популярных песен тех лет, которая была в репертуаре лучших советских исполнителей. Как и эта песня, Сибирь была в моде. Перспектива приключений в необжитом регионе, жизнь первопроходцев была очень привлекательной для части молодежи. Эта притягательность только усиливалась комсомольской пропагандой, которая в значительной степени обеспечивала ежегодный приток добровольцев в неосвоенные области. Но романтика 60-х – не единственный аргумент. Это первое послевоенное поколение, безусловно, соблазняли и повышенные зарплаты в нефтегазовой отрасли, сулившие комфортную современную жизнь. Добровольцы мечтали о машинах, домах или дачах. Самый короткий путь к исполнению их желаний лежал через Сибирь. Им казалось, что необязательно оставаться там надолго: желаемую сумму можно было скопить всего за несколько лет. К тому же, диапазон востребованных профессий был велик: рыбаки, вальщики леса и конторские служащие получали надбавку к зарплате в 30 %. Для работников транспортной отрасли надбавка составляла 50 %, для строительных рабочих – 70 %, для геологов – 100 %, а для тех, кто был готов работать сварщиком на гигантских стройках нефте– и газопроводов, она достигала 120 %. Сверх того, правительство Косыгина с первых же месяцев своей работы ввело ряд дополнительных льгот, чтобы стимулировать поток добровольцев на нефтегазодобычу: за ними гарантированно сохранялось жилье в родном городе, они получали солидные подъемные на переезд, дополнительный отпуск и гарантию регулярного повышения зарплаты в период работы в Сибири.97
С 1965 по 1980 год в регион прибыло 15 млн человек: в среднем миллион в год. На расспросы половина из них отвечали, что руководствовались прежде всего стремлением заработать. Еще четверть сопровождали кого-то из семьи. И всего 7 % отозвались на романтический зов «тумана и запаха тайги».
Всему есть предел, и романтике тоже, особенно после нескольких месяцев жизни в таких условиях. Наплыв добровольцев в Сибирь был впечатляющим, но и встречный поток был не меньше. Как правило, проведя год в нефтяном городке, 90 % вновь прибывших уезжали домой. Такая текучка рабочей силы, естественно, тревожила руководство, в связи с чем проводилось множество опросов. Ответы не вызывают удивления: 43,7 % уезжавших жаловались на отсутствие жилья и социальной инфраструктуры, 37,2 % на недостаточное снабжение. Только 18 % опрошенных уехали из-за холода и суровых природных условий.98 Все они решили вернуться к более скромной, но обустроенной прежней жизни. После 15 лет интенсивной трудовой миграции к 1980 году около 2 млн человек со всех уголков Советского Союза окончательно осели в новых городах, давно появившихся на картах. Для властей это более чем достаточно, лишь бы нефть и газ текли рекой и кормили всю страну.
В этом отношении все показатели исключительно благоприятные. Сибирь сдержала свое обещание: темпы роста добычи оказались поразительно высокими. В 1970 году Сибирь обогнала соперничавший с ней татарско-башкирский нефтедобывающий регион, став бесспорным лидером по производству углеводородов в стране. Первое место она удерживает и сегодня. В 1975 году благодаря этому СССР даже удалось сместить США с позиции мирового лидера по производству черного золота – результат, о котором Сталин, наверное, не мог и мечтать. Газ не отстает: от примерно 9 млрд куб. м в 1955 году за последующие десять лет добыча выросла до 127 млрд куб. м с лишним, а судя по оценкам вновь открытых месторождений, можно предположить, что в сибирских недрах скрыты 40 % мировых запасов газа. Советский Союз мог уже не беспокоиться о поставках энергии в зависящие от него страны Восточной Европы, более того, можно позволить себе такую роскошь, как экспорт природных ресурсов за пределы соцлагеря.
* * *
Впервые эта мысль пришла в голову газовикам. Темпы роста их отрасли были такими, что имевшихся в наличии ресурсов не хватало для ее развития. Газовая промышленность требовала больших затрат: если нефть можно перевозить танкерами или железнодорожными составами, то для транспортировки газа нужна сеть трубопроводов, производство и укладка которых стоят дорого. Значительная удаленность месторождений Северной Сибири только осложняла ситуацию. Чтобы справиться с этой проблемой, руководство отрасли предложило революционное решение: если нужно привлечь гигантские инвестиции, почему бы не обратиться к банкам капиталистических стран Европы? Полученные кредиты позволили бы профинансировать строительство тысяч километров трубопроводов и закупку новых технологий, а расплатиться можно было бы поставками газа. Просить о помощи противника в самый разгар холодной войны? Естественно, политических аргументов против такого проекта было более чем достаточно. В частности, резко отрицательно отозвался Госплан. Но когда министр газовой промышленности выступил в Кремле на совещании и с цифрами в руках доказал выгоду этого решения, идея получила одобрение партийного руководства.99 Для пилотного проекта в 1968 году выбрали нейтральную Австрию. Потом настала очередь Италии, с которой СССР уже давно поддерживал особые экономические отношения. После Италии к советской газопроводной сети была подключена и Западная Германия. Впервые после окончания войны Советский Союз по своей инициативе открыл железный занавес. В экономическом отношении это выгодная операция: теперь поставки углеводородов обеспечивают три четверти экспорта СССР в капиталистические страны. А трубы для строительства нефтепроводов, получаемые в качестве компенсации, составляют 60–70 % импорта страны.100 Но в этом проекте была и политическая выгода: он уменьшает международную напряженность и открывает пути диалога, в частности с Германией, которая искала возможности возобновить отношения с восточными соседями. Сибирский газ стал топливом Новой восточной политики (Ostpolitik), которую канцлер Вилли Брандт проводил с 1969 года.
Предлагались и более смелые идеи. Был даже составлен проект масштабного экспорта газа в США через Мурманский порт. В этом были заинтересованы несколько крупных американских энергетических компаний. Но Конгресс США не хотел поддерживать коммерческие отношения с идеологическим противником и заблокировал все перспективы торгового обмена с помощью поправки Джексона – Вэника[176].
Успех газовой операции в Западной Европе не остался незамеченным нефтяниками. Сибирских запасов хватало на поставки не только в пределах Советского Союза и в дружественные восточноевропейские страны. А драгоценная валюта, которую можно было бы выручить, пригодилась во многих областях, и в первую очередь для модернизации самой нефтегазовой отрасли. Так почему бы не воспользоваться этим для развития и обустройства региона? Какая прекрасная перспектива – кормилица-Сибирь может стать пилотной областью Советского Союза!
Осенью 1973 года история как будто пришла на помощь советским нефтяникам. Чтобы наказать страны Запада, в первую очередь США, за поддержку Израиля в «войне Судного дня», страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки сырой нефти. Картель стран-производителей черного золота извлек уроки из своих прошлых неудач: помимо полного эмбарго США, Нидерландов и некоторых колоний, производители заявили о поэтапном (на 5 % в месяц) снижении поставок нефти всем остальным потребителям, вплоть до полного выполнения их требований. Такая мера была введена, чтобы исключить любые поставки нефти в обход эмбарго через третьи страны и посеять раздор между странами-потребителями.
Цель была достигнута. Цены на топливо тут же взлетели и всего за несколько недель выросли в четыре раза. Экономика ряда крупных импортеров, таких как Япония, серьезно пострадала. Американские потребители, которые даже не задумывались о том, что наполняют свои баки импортным топливом, выстроились в очереди перед бензозаправками в страхе перед новым повышением цен. Некоторые страны, например Нидерланды и Швейцария, ввели «воскресенье без машин» с полным запретом на пользование автомобилем. В Великобритании профсоюзы шахтеров воспользовались моментом, чтобы вступить в противостояние с правительством консерваторов.
Столкнувшись с угрозой дефицита, которая с каждым месяцем становилась все серьезнее, западные страны обратили взгляд на Советский Союз, располагавший огромными запасами и не входивший в картель ОПЕК. Почему бы идеологическому противнику не прийти им на помощь в обмен на наличную валюту? Именно такого счастливого случая ждала советская нефтяная промышленность. Кремль не долго колебался между солидарностью с производителями из стран третьего мира, дружескими отношениями с Палестиной и другими арабскими странами, и привлекательной возможностью наполнить бюджет. В апреле 1974 года советский министр иностранных дел Андрей Громыко с трибуны ООН заверил антиизраильскую коалицию в своей искренней симпатии, но заявил, что его страна намерена расширить торговые отношения с развитыми капиталистическими странами в сфере энергоносителей. Министр добавил, что было бы несправедливо, чтобы трудящиеся расплачивались за ошибочную политику своих правительств.
Итак, вентили были открыты, и европейцы вздохнули с облегчением. Воспользовавшись обстоятельствами, Советский Союз начал экспорт своего черного золота на Запад. К нефтепроводу «Дружба», который проходил по территории Белоруссии и Украины и уже снабжал страны Восточной Европы, за несколько лет добавилась целая сеть трубопроводов, соединявших месторождения с черноморскими и балтийскими портами, а также с западными границами СССР. Оттуда нефть поставлялась на НПЗ Западной Европы. По данным статистики за пятилетний план 1971–1975 годов, в это время было построено свыше 19 тысяч км трубопроводов – абсолютный рекорд СССР.101
Это был звездный час сибирского нефтегазового комплекса. Благодаря ресурсам своих недр Тюменская область принесла Советскому Союзу средства, о которых раньше нельзя было даже мечтать. Точные цифры, позволяющие судить об объеме этой нефтяной манны, до сих пор трудно определить даже по архивным данным, но, по оценкам историка Марии Славкиной, которая попыталась восстановить данные о потоке экспортной нефти, за период с 1970 по 1980 год ее экспорт из СССР[177]вырос с 111 млн тонн до 182 млн тонн. Это означает, что примерно треть производимой в СССР нефти постоянно направлялась на экспорт.102 Чтобы осознать масштаб этих цифр, надо вспомнить, что в 1945 году добывалось около 20 млн тонн, а Сталин требовал увеличить добычу до 60 млн тонн к 1960 году, что тогда казалось нереальным. Через 20 лет Советский Союз поставлял своим противникам по холодной войне намного больше нефти.103
До энергетического кризиса 1973 года СССР получал от экспорта нефти за пределы соцлагеря 1 млрд долларов. В 1980 году экспорт в капстраны приносил в 15 раз больше.104 Почти 16 млрд долларов в конвертируемой валюте. И большая часть этих доходов обеспечивалась черным или голубым золотом Сибири. Если прибавить к этому прибыль от продажи другого сырья, такого как золото и алмазы, то вклад азиатской части страны будет еще больше. Кажется, никогда, со времен экспорта пушнины, вклад Сибири в российскую экономику не был так велик. Никогда Сибирь не была так необходима для выживания страны. Никогда, если называть вещи своими именами, Россия так не зависела от своих зауральских территорий.
* * *
Однако сама Сибирь так и не смогла воспользоваться плодами этого экспорта. Потому что этот внезапный всплеск процветания был предвестником конца эпохи и конца империи. История советской Сибири вплотную подошла к последней странице, хотя никто еще этого не предчувствовал.
Валюта, зазвеневшая в кремлевской казне, была как нельзя более кстати для режима. С начала Косыгинских реформ прошло 10 лет, и они явно зашли в тупик. На первом этапе методы, основанные на рыночной экономике и хозрасчете для предприятий, способствовали экономическому росту и дали стране перевести дух. Но вскоре оказалось, что эти методы, внедряемые в час по чайной ложке, недостаточны. Давление государственной системы планирования оставалось слишком большим. Руководители предприятий шли на все бухгалтерские хитрости и уловки, чтобы остаться на плаву. А колхозное сельское хозяйство просто терпело бедствие. Оно было не в состоянии обеспечивать потребности страны. Принципы ценообразования были далеки от реальности. Например, в нефтяной промышленности средняя экономическая стоимость тонны произведенной нефти составляла 70–90 рублей, но Государственный комитет по ценообразованию отказывался платить за нее больше 25 рублей.105 В результате государственные предприятия не располагали достаточными средствами для инвестиций. Изношенное оборудование представляло опасность, разведка недр отставала, потери росли.
Следовало бы продолжать реформы, довести до конца мероприятия, начатые в 1965 году, а в нефтяной промышленности вкладывать экспортные деньги в развитие новых технологий. Но время ушло. Автор реформы был уже пожилым и больным человеком, его влияние уменьшалось с каждым годом. Бывший единомшленник Косыгина Брежнев не хотел трогать хозяйственную систему, о неустойчивости которой он, вероятно, догадывался. Теперь он стремился только к сохранению стабильности. Ирония истории: поговаривали, что наследник Хрущева сидел на телефоне, требуя отчета об урожаях, ожидавшихся в каждой области.
Вместо попыток укрепить шаткое здание экономики, вместо новых действий, что, вероятно, вызвало бы новые конфликты внутри системы, руководство партии и ее Генеральный секретарь заранее выбрали путь ухода от проблем. Сибирское черное золото обеспечивало их спокойствие. Зачем предпринимать усилия по основательной реорганизации неэффективных колхозов и совхозов, если чудодейственная валюта позволяет закупать недостающие зерно, корма, мясо и молочные продукты? Легкая промышленность развалена? Сибирских нефтедолларов хватит на покупку обуви, одежды и мебели, которые нужны потребителям. «И я, и многие мои коллеги в конце 70-х – начале 80-х годов не раз думали, что западносибирская нефть спасла экономику страны»,106 – так академик Георгий Арбатов описывал общее состояние умов советской политической элиты. Нужно ли спешить восстанавливать строительный сектор, находящийся в ужасающем состоянии, если можно пригласить финских, югославских или шведских рабочих? Системой завладела головокружительная иллюзия легкости.
У этого явления есть свое название. Оно называется «голландская болезнь» (dutch disease) в память о болезненном опыте Нидерландов после открытия на их территории месторождений природного газа в 1960-х годах. Диагноз прост: когда государство слишком сильно зависит от своих сырьевых ресурсов, нарушается экономический баланс, и здесь больше минусов, чем плюсов[178]. Эта болезнь – своего рода закон легкости, применимый к целой экономике. Обычно носителями вируса являются нефть и газ. В Сибири эта болезнь проявилась очень ярко.
Ее симптомы не всегда были очевидны. Николай Байбаков, старый соратник Косыгина, стоявший во главе Госплана, мог убедиться в этом на горьком опыте весной 1975 года, когда он направил руководству партии докладную, больше похожую на крик о помощи. Он писал, что страна уже не управляет своей экономикой. СССР впал в зависимость от нефтедолларов, государство прибегает к легким решениям за счет импорта и неправильно вкладывает средства. Нужно реагировать незамедлительно. В посвященной Байбакову биографической книге приводится рассказ о реакции Политбюро, высшего партийного органа, на его выступление. Слово взял сам Брежнев: «Товарищи, Госплан представил нам материал. В нем содержится очень мрачный взгляд на положение дел. А мы столько с вами работали. Ведь это наша лучшая пятилетка».107
Советскую экономику лихорадило, и голландская болезнь распространилась по стране незаметно. Нефтедоллары, достававшиеся сибирякам такой дорогой ценой, стали решением всех проблем и лучшим аргументом за отсутствие реформ или реального развития. В том числе в самой Сибири, для которой эта болезнь стала проклятием. Предполагаемая пора долгожданного вознаграждения стала порой упущенных возможностей.
В 1980-е годы Советский Союз вступил без фанфар и барабанов. Всем хватало такта, чтобы не напоминать об обещаниях идеального общества, которые в свое время раздавал Никита Хрущёв. Экономика внутри страны стагнировала, и уровень жизни удавалось поддерживать за счет импорта товаров и услуг, который оплачивался нефтью и газом. Кремль вернулся к дурным привычкам прошлого и выжимал из нефтегазовой промышленности дополнительные миллионы тонн, необходимые, чтобы закрыть постоянные дыры в государственном бюджете. «Вертушка», красный телефон, который установили на столе руководителя Главтюменнефтегаза Виктора Муравленко, с приходом команды Косыгина использовалась Кремлем для непомерных требований. Позднее Муравленко вспоминал о подобных разговорах: «Это Алексей Николаевич [Косыгин, председатель Совета министров]. С хлебушком плохо – дай 3 млн тонн сверх плана».108
Недавно рассекреченные архивные документы дают представление о том, насколько верхушка государства была поражена «сибирской болезнью». Так, в протоколе заседания Политбюро от мая 1984 года приводится выступление Николая Тихонова, сменившего Косыгина на посту председателя Совета министров: «Нефть, которую мы продаем в капиталистические страны, идет, главным образом, на оплату продовольственных и некоторых других товаров. В связи с этим, видимо, целесообразно при разработке нового пятилетнего плана предусмотреть резерв для возможной дополнительной поставки нефти в количестве 5–6 млн тонн за пятилетие».109
Из сибирского крана все время пытались выжать как можно больше. Снова шла массированная эксплуатация месторождений для обеспечения самых неотложных нужд: бурили быстро, хладнокровно оставляли недостаточно богатые пласты, забрасывая месторождения после извлечения самой легкой нефти, и спешили дальше, чтобы немедленно добыть большие объемы. Впечатляющий пример этой гонки за количеством – самое большое сибирское месторождение Самотлор. В 1980 году оно давало половину всей нефти Западной Сибири: по рекомендации геологов, исследовавших это подземное море, Министерство нефтяной промышленности в 1975 году распорядилось ограничить производство 120 млн тонн в год. В случае превышения этого объема добычи ущерб, нанесенный месторождению, и потери нефти привели бы к существенному снижению срока его эксплуатации. Однако уже через два года объем добычи достиг 140 млн тонн, а в 1985 году Самотлор выдал 155 млн тонн черного золота. Через несколько лет дебит месторождения упал до 65 млн тонн.110
Геологоразведка тоже страдала от этой политики краткосрочного планирования, на которую СССР был обречен своей сырьевой зависимостью. По логике, следовало бы каждый год обнаруживать новые (наращивать) запасы, как минимум равные объемам добычи. Однако из-за нехватки средств это было невозможно. Обеспокоенные нефтяники предсказывали худшее. Если государство не предоставит им наконец дополнительные трудовые и технические ресурсы, сибирское чудо может внезапно закончиться. Местные власти тоже стучали кулаком по столу: если их область хотят эксплуатировать, пусть для начала ее сделают пригодной для жизни. Вновь прибывшие вахтовики почти сразу сбегали с новых промыслов. Сибирь уже много дала, теперь она хотела что-то получить взамен. В марте 1980 года, когда Политбюро вновь пошло в атаку, требуя «в порядке исключения» нарастить добычу еще на 10 млн тонн, чтобы оно могло расплатиться за импорт зерна, сибиряки и нефтяники добились соглашения. В обмен на нефть партийное руководство утвердило государственный план урбанизации и строительства инфраструктуры. Ряд союзных республик: Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, три прибалтийские республики, а также города Москва и Ленинград были мобилизованы властями для создания в Западной Сибири полноценного пригодного для жизни региона.111 Все они должны были направить в Сибирь отряды строителей и архитекторов и финансировать их работу. Для каждого нефтяного или газового городка разработали генеральные планы строительства, прочертили улицы, наметили благоустройство, запланировали масштабные работы по жилищному строительству. 150 тысяч вагончиков из листового железа были отправлены на слом. Наконец, новые автомобильные трассы и железнодорожные линии связали промыслы, затерянные в долине Оби, с «континентом».
Но было уже поздно. Политика «нефть здесь и сейчас» исчерпала свои возможности. Обещанные 10 млн тонн сверх плана так и не были добыты. Наоборот, темпы роста сибирской нефтедобычи с каждым годом снижались. В течение нескольких лет производство еще росло: в 1980 году на 29 млн тонн, в 1981 году на 21 млн тонн, в 1982 году на 18 млн тонн, в 1983 году на 17 млн тонн, в 1984 году на 7 млн тонн. В 1985 году пик был пройден, объем добычи сибирского черного золота упал на 12 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.112 С потерей опоры на Сибирь в Советском Союзе начался общий спад. Впервые после войны производство снизилось. Это начало кризиса. Последний небольшой подъем экономики был отмечен в 1988 году, а с тех пор и до наступления эпохи Путина страна неуклонно катилась под откос.
Но худшее было еще впереди. С 1981 года все страны – экспортеры нефти столкнулись с резким падением цен на мировом рынке. Баррель, в 1980 году стоивший 36 долларов, к 1985 году подешевел на треть. Короткий период эйфории, вызванной энергетическим кризисом и последовавшим взлетом цен, завершился. В следующие несколько лет ОПЕК старалась сдерживать падение цен за счет резкого снижения производства. Руководила процессом Саудовская Аравия, и она же приняла на себя основной удар[179]. Но королевство не могло проводить эту линию в течение долгого времени, потому что это ставило под угрозу его бюджет. Из Белого Дома раздавались призывы Рейгана, избранного президентом США бывшего актера, который убеждал саудовских правителей открыть краны, наводнить рынок нефтью и не препятствовать снижению цен. Уильям Кейси, новый руководитель ЦРУ, был уверен, что зависимость от экспорта нефти – ахиллесова пята Советского Союза. Его эмиссары объясняли королю Саудовской Аравии, что обрушение цен приведет к оживлению биржевых площадок, где были размещены капиталы королевской семьи. И что еще важнее, снижение цен поставило бы на колени СССР, ведущий в Афганистане войну против групп повстанцев, которых поддерживал Эр-Рияд.113 Соединенные Штаты со своей стороны тоже перешли в атаку: они всеми способами препятствовали строительству нового газопровода из СССР в Западную Европу, применяя разнообразные меры воздействия и санкции, и развязали на европейской арене гонку вооружений, длительное участие в которой Советский Союз выдержать не мог[180]. В сентябре 1985 года Саудовская Аравия уступила аргументам американцев и открыла свои резервуары.113 Цена барреля нефти немедленно рухнула, опустившись ниже 15 долларов. Для Советского Союза это была катастрофа. Архивные документы Политбюро отражают почти паническую атмосферу того времени. Историк Мария Славкина оценивает потери валюты в 1986 году почти в 5 млрд долларов,114 а будущий ельцинский премьер-министр Егор Гайдар, допущенный в архивы, рассчитал, что упущенная прибыль, в этот период составила 20 млрд долларов в год.115 Чтобы устоять при таком резком снижении доходов, правительству не оставалось ничего другого, как ограничить импорт промтоваров и вновь уменьшить капиталовложения в нефтегазовую отрасль. Делалось все возможное, чтобы сохранить объем экспорта, пусть даже по сниженным ценам. Вскоре кризис охватил и финансовый сектор: золотовалютные резервы, предназначавшиеся для импорта зерна, были практически исчерпаны. Международные банки отказывались давать новые кредиты. Кризис стремительно нарастал. Своей некомпетентностью советский режим сам подписал себе приговор и дал противнику возможность одержать победу. Весной 1985 года ЦК КПСС стремительно избрал нового Генерального секретаря – энергичного 54-летнего Михаила Горбачёва. Ему предстояла сверхчеловеческая задача: чтобы спасти режим, новый лидер должен был одновременно попытаться снизить внешнеполитическую напряженность, уменьшить масштаб гонки вооружений, коренным образом преобразовать существующую экономическую систему и освободить страну от углеводородной зависимости. Но было ли это возможно?
Через несколько месяцев после вступления в должность Михаил Горбачёв посетил новые нефтегазовые центры Западной Сибири. В программе поездки были Сургут, Новый Уренгой и гигантское месторождение Самотлор. Непривычный стиль руководства генсека понравился сибирякам. Еще на аэродроме он возмутился, что за ним прислали бронированный автомобиль. На встрече с нефтяниками Горбачёв говорил без бумажки и сочувственно выслушал их жалобы. Он был возмущен, что в городе на 200 тысяч жителей нет ни одного кинотеатра. Но атмосфера оставалась напряженной. Нефтяники и газовики ждали чего-то большего, чем дружеское похлопывание по плечу. «Разговор с нефтяниками и газовиками получился на редкость острым, – писал Горбачёв в своих воспоминаниях. – Проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться ежедневно, выходили за рамки местных интересов. <…> Я почувствовал по реакции зала, что людям надоели общие декларации»116.
Нефтяники требовали лучших условий жизни в своих поселках посреди тайги или тундры. Они жаловались на политику краткосрочного планирования и разбазаривания ресурсов, которая завела отрасль в тупик. Генеральный секретарь был согласен: нужно вернуться к более рациональному природопользованию, разрабатывать небольшие месторождения, проводить геологоразведочные и исследовательские работы. Нужно также обеспечить запчастями оборудование, которое использовалось в отрасли союзного значения: триста чиновников из ЦК были командированы на крупнейшие заводы страны, чтобы добиться немедленной поставки необходимых де-талей.117 Как мы видим, отказаться от привычных методов не получалось.
Но движение под откос шло уже слишком быстро, чтобы его можно было остановить. Нефтяники и газовики старались изо всех сил, и какое-то время им еще удавалось удерживать уровень производства: в 1987 году в РСФСР было произведено 570 млн тонн нефти и 573 млрд куб. м газа.118 Вклад Сибири в эти цифры составил 71 % по нефти и 88 % по газу. Но реформы певца гласности и перестройки запоздали и уже не могли изменить ход событий. Наоборот, они только усилили общий хаос. Уровень производства обрушился вместе с мировыми ценами на нефть, и темпы падения, невиданные в российской нефтедобывающей отрасли, все время усиливались. После 1992 года, когда новая Россия встала на рыночные рельсы, спад стал еще быстрее. В 1995 году было произведено всего 307 млн тонн сырой и сжиженной нефти. В 1998 году объем производства был даже меньше 300 млн тонн.119
Нефтегазовая Сибирь обрушилась, увлекая за собой весь Советский Союз. 250 лет назад Михаил Ломоносов предсказывал, что будущее России будет решаться в Сибири. Конец XX века подтвердил его правоту. Сегодня необъятная сибирская земля – уже не просто далекая азиатская провинция, не сказочный рог изобилия и не супермаркет природных ресурсов, откуда Россия может брать, сколько захочет. Теперь судьба России зависит от Сибири. Ее развитие будет определять расцвет или дальнейшее падение страны. После крушения СССР мятежной и предприимчивой провинции потребовалось более 10 лет, чтобы возродиться. Что же до коммунистического режима, он так и не оправился от удара.
Источники
Первая часть
1. План Сольвычегодска, вычерченный Афанасием Чудиновым в 1793 году для А. Соскина. Сольвычегодский историко-художественный музей // Рыбаков А. Вологодская икона. М.: Гапарт, 1995.
2. Соскин Алексей. История города Соли Вычегодской. Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т., 1997, с. 38.
3. Гавлин М.Л. Российские предприниматели и меценаты. М.: Дрофа, 2005, с. 28.
4. Там же, с. 206.
5. Lantzeff George V., Pierce R. Eastward to Empire: Exploration and Conquest on the Russian Open Frontier to 1750. Montréal: McGill-Queen's University Press, 1973, p. 83.
6. Введенский А.А. Дом Строгановых в XVI–XVII веках. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962, с. 215 (ЦГАДА, Городовая книга по Сольвы-чегодску).
7. Новая Земля / Под ред. П.В. Боярского. М.: Паулсен, 2009, с. 26.
8. Введенский А.А., цит. соч., с. 10.
9. Введенский А.А., цит. соч., с. 241 (ЦГАДА, ф. 365, Строгановские дела).
10. Кузнецов С.О. Строгановы. 500 лет рода. Выше только цари. М. – СПб.: Центр-полиграф, 2012, с. 18.
11. Соскин Алексей, цит. соч., с. 68–69.
12. Сокровища Сольвычегодска: древнерусская живопись и декоративно-прикладное искусство. Альбом-каталог / Авт. – сост. Е.Н. Парконен; науч. ред.: И.Д. Соловьева, О.В. Клюканова. М.: Гранд-Холдинг – Сольвычегодский историко-художественный музей, 2010. 105 с.
13. Введенский А.А., цит. соч., с. 91.
14. Котылева И.Н. Место св. Стефана Пермского в геокультурной политике Строгановых // Культурное наследие русского Севера. СПб., 2009, с. 73.
15. Послания Ивана Грозного. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1951, с. 6–11.
16. Послания Ивана Грозного. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1951, с. 4.
17. Merridale Catherine. Red Fortress: The Secret Heart of Russia's History. London: Allen Lane, 2013, p. 70.
18. Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного. М.: Издание М. и С. Сабашниковых. 1925, с. 131.
19. Там же, с. 107.
20. Там же, с. 108.
21. Там же, с. 86.
22. Там же, с. 81.
23. Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 1. XVII век. Второе изд., исправленное и дополненное. М.-Л.: Изд. АН СССР, Ин-т истории, Ле-нингр. отделение, 1960, с. 60.
24. Там же, с. 60.
25. Там же, с. 62.
26. Небольсин П.И. Покорение Сибири. СПб.: Тип. И. Глазунова и К°, 1849, с. 56.
27. Там же.
28. Гавлин М.Л. Российские предприниматели и меценаты. М.: Дрофа, 2005.
29. Летописи сибирские / Сост. Е.И. Дергачева-Скоп. Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1991, глава 2. Автор использовал изд.: Armstrong Terence. Yermak's Campaign in Siheria. London: Routledge, 1975.
30. Скрынников Р.Г. Ермак. М.: Молодая гвардия, 2008, с. 83.
31. Введенский А.А., цит. соч., с. 77.
32. Скрынников, цит. соч.
33. Флетчер Д. О государстве русском / Пер. М.А. Оболенского. М.: Захаров, 2002, с. 101–102.
34. Штаден Генрих, цит. соч., сс. 106, 109.
35. Верхотуров Д.Н. Покорение Сибири. Мифы и реальность. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2005, с. 80.
36. Штаден Генрих, цит. соч., с. 92.
37. Летописи сибирские, цит. соч., глава 12.
38. Lantzeff George V., Pierce R., цит. соч., c. 87.
39. Зверев В.А., Зуев А.С., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Ч. II: Сибирь в составе Российской империи. Новосибирск, ИНФОЛИО-пресс, 2006, с. 37.
40. Андреев А.И., цит. соч., с. 158.
41. Небольсин, цит. соч., с. 73 (Указ Ивана Грозного от 30 мая 7082 (1574)).
42. Соскин Алексей, цит. соч., с. 67.
43. Там же, с. 39.
44. Шинкарёв Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда идет: факты, размышления, прогнозы. М.: Сов. Россия, 1978, с. 34.
45. Шинкарёв Л.И., цит. соч., с. 36 (Krachenninikov Stepan. Histoire du Kamtschatka, des isles Kurilski et des contrées voisines, 2 tomes, Lyon, 1767).
46. Соскин Алексей, цит. соч., с. 41.
47. Шинкарёв Л.И., цит. соч., с. 34.
48. Верхотуров Д.Н., цит. соч., с. 54.
49. Naumov Igor V. The History of Siberia. New York: Routledge, 2006, p. 53.
50. Kerner Robert J. The Urge to the Sea: The Course of Russian History. Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1946, p. 84; Fisher Raymond. The Voyage of Semen Dezhnev in 1649. London: The Hakluyt Society, 1981, p. 119; Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина, 2014, № 3, с. 128.
51. Буцинский П.Н. Мангазея и Мангазейский уезд / Записки Императорского Харьковского университета, вып. I. Харьков, 1893, с. 50–51, цит. также в Fisher, цит. соч., с. 29 и Kerner, цит. соч., с. 86.
52. Fisher, цит. соч., с. 109, 138.
53. Kerner, цит. соч.
54. Fisher, цит. соч., с. 146–157.
55. Там же, с. 155.
56. Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. М.: Изд-во Московского университета, 1988, с. 203.
57. Более подробно об этом обороте капитала см.: Fisher, цит. соч., с. 173 и след.
58. См. подробнее у Роберта Кёрнера, цит. соч.
59. Lantzeff George V. Siberia in the Seventeenth Century: A Study of the Colonial Administration. Berkeley: University of California Press, 1943, с. 88.
60. Там же, с. 87–89.
61. Эрлихман Вадим. Навстречу Солнцу // Родина. 2006, № 11, с. 47.
62. Там же, с. 47.
63. Fisher, цит. соч., с. 51.
64. Там же, с. 60.
65. Lantzeff, цит. соч., с. 128.
66. Fisher, цит. соч., с. 56.
67. Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 662 с. (Труды ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия, т. LV).
68. Эрлихман, цит. соч., с. 49.
69. Глубокое исследование, посвященное Сибирскому приказу, его истории и функционированию: Lantzeff George V. Siberia in the Seventeenth Century, A study of the Colonial Administration. Berkeley: University of California Press, 1943. Нельзя не упомянуть также труд Николая Оглоблина, который в XIX веке подробно изучил архивы приказа: Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). Ч. 1–4. М.: Университетская тип., 1895–1901. 4 т.
70. Merridale Catherine, цит. соч., с. 82.
71. Там же, с. 47.
72. Lantzeff, 1943, цит. соч., с. 100.
73. Эрлихман, цит. соч., с. 48.
74. Slezkine Y. Savage Christians or Unorthodox Russians? The Missionary Dilemma in Siberia, in Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture / Ed. by Galya Diment et Yuri Slezkine (éds.). New York: St. Martin Press, 1993, с. 15–31, на с. 16 цитируется Н. Оглоблин Женский вопрос в Сибири.
75. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1941, с. 276.
76. Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков: тип. Губ. правления, 1889, с. 243–244.
77. Вершилин Е., Визгалов Г. Новая Мангазея. Город, которого нет на карте // Родина, 2012, № 2, с. 58.
78. Там же, с. 58.
79. Lantzeff, 1943, цит. соч., с. 110.
80. Эрлихман, цит. соч., с. 48.
81. Fisher, цит. соч., с. 143.
82. Lantzeff, 1943, цит. соч., с. 141–142.
83. Зверев, Зуев, Кузнецова, цит. соч., с. 83.
84. Окладников А.П., Шунков В. И. История Сибири. Л.: Наука, с. 131.
85. Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома // Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1956, с. 389.
86. Статистика 1630–1637 гг.
87. Fisher, цит. соч., с. 98.
88. Там же, с. 98.
89. Там же, с. 100.
90. Там же, с. 23.
91. Визе В.Ю. Моря российской Арктики. М.: Паулсен, 2008. Т. 1, с. 35. (Libellus de legatione Basilii Magni ad Clementem VII)
92. Hakluyt R. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation. London: 1907, 8 т.
93. Spies Marijke. Arctic Routes to Fabled Lands // Olivier Brunel and the Passage to China and Cathay in the Sixteenth Century. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, p. 45. (Haithonus Armenus. De Tartaris Liber. Paris, 1532).
94. Там же, с. 35, 44.
95. Purchas S. Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes. Сontaining a History of the World in Sea Voyages and Lande Travells, by Englishmen and others. Glasgow: James MacLehod and Sons, 1905, chpt. XIII, p. 54. Рассказ Томаса Эджа (Thomas Edge) (1587–1624) который станет одним из тех, кто продолжит начатое, отправившись исследовать Северную Атлантику.
96. Willan T.S. The Early History of the Russia Company (1553–1603). Manchester: Manchester University Press, 1956; New York: Augustus M. Kelley, 1968, p. 4.
97. Там же, с. 5.
98. World Anew. The radical vision of Martin Waldseemller's 1507 & 1516 World Maps // John W. Hessler and Chet Van Duzer. Delray Beach (USA, Florida) and Washington, DC: Levenger Press in association with the Library of Congress, 2012, p. 34.
99. Ultima Thule. Архангельск: Край Земли, 2013, с. 10–11.
100. Там же., с. 16–20.
101. Spies, цит. соч, с. 22, 23, 25.
102. Hakluyt, цит. соч., с. 253.
103. Там же, с. 254.
104. Там же, с. 265.
105. Ги Мьеж, 1663; см. Виане Бруно. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Арктики французами в XVI веке. / Пер. с фр. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2017, с. 23.
106. Hakluyt, цит. соч., с. 275.
107. Rude and Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-Century English Voyagers / Ed. by Lloyd E. Berry et Robert O. Crummey. Madison (USA, Milwaukee) and London: University of Wisconsin Press, 1968, с. 24–25.
108. Fisher, цит. соч., с. 200.
109. Willan, цит. соч., с. 7.
110. О деталях организации этого потрясающего предприятия, трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и новаторстве см. в: Willan T. S., цит. соч.
111. Holland Clive. Arctic Exploration and Development. Oslo: 2013, с. 16–17.
112. См. интересный анализ в: Sokoloff Georges. Le Retard russe (882–2014). Paris: Fayard, 2014. Автор предполагает, что гигантские разрушения, произведенные монгольскими завоевателями, оставили неизгладимый след в русском обществе и объясняют замедленное экономическое и социальное развитие России вплоть до современной эпохи.
113. Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I//Библиотека литературы Древней Руси, т. 11. СПб.: Наука, 2001.
114. Willan, цит. соч., с. 115 (Инструкция, данная посланнику Савину 18 мая 1570 года).
115. Там же, с. 239.
116. Там же, с. 165.
117. Holland Clive, цит. соч., с. 20.
118. Россия и Голландия. Пространство взаимодействия/Под ред. Владимира Булатова, Елены Гороховой. Каталог выставки. М.: Кучково поле, 2013, с. 40–41.
119. Там же, с. 214.
120. Там же, с. 42.
121. Robel Léon. Histoire de la neige. La Russie dans la littérature francaise. Paris: Hatier, 1994, с. 47.
122. О деталях торговых обменов в эту эпоху см.: Kraatz Anne. Le Commerce franco-russe. Concurrence et contrefactions. De Colbert à 1900. Paris: Les Belles Lettres, 2006.
123. Виане, цит. соч., с. 100–101 (Письмо Шарля де Данзея от 15 июля 1571 года).
124. Там же, с. 103.
125. Там же, с. 109.
126. Записка о путешествии в Россию Жана Соважа Дьепского // Северные ворота России. Сообщения путешественников XVI–XVIII веков об Архангельске и Архангельской губернии. М., ОГИ, 2009, с. 42–43.
127. Ultima Thule. Архангельск: Край Земли, 2013, с. 33.
128. Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. Иркутск: Крайгиз, 1932, с. 188.
129. Цит. в: Владимир Визе, цит. соч., с. 40.
130. Hakluyt, цит. соч., т. 2, с. 224.
131. Визе, цит. соч., с. 42.
132. Там же, с. 44.
133. Там же, с. 47.
134. Там же, с. 48.
135. Там же, с. 49.
136. Там же, с. 52.
137. Willan, цит. соч., с. 81.
138. Скрынников, цит. соч., с. 125–126.
139. Dahlmann Dittmar. Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn – München – Wien – Zürich, Ferdinand Schöning, 2009, с. 59.
140. Скрынников, цит. соч., с. 127.
141. Там же, с. 127.
142. Штаден Генрих, цит. соч., с. 65 (План обращения Московии в имперскую провинцию).
143. Там же, с. 68.
144. Там же, с. 64.
145. Там же, с. 74.
146. Назаров В., Ударов П., Новоселов В. Мечтают иметь иноземного государя… // Родина. 2006, № 11, с. 100–101.
147. Там же, с. 101.
148. Ремезовская летопись, гл. 1.
149. Введенский, цит. соч., с. 26–27; Андреев, цит. соч., с. 47–48.
150. Андреев, цит. соч., с. 145, 146, 162, 163.
151. В частности, немецкий историк Дитмар Далман (Dahlmann, цит. соч., с. 55)
152. Spies, цит. соч., с. 14, 92, 93.
153. Скрынников, цит. соч., с. 128–129.
154. Скрынников, цит. соч., с. 129; Гавлин, цит. соч., с. 33; Введенский, цит. соч., с. 96.
155. Spies, цит. соч., с. 19.
156. Там же, с. 19.
157. Скрынников, цит. соч., с. 8.
158. Верхотуров, цит. соч, с. 84.
159. Введенский, цит. соч., с. 93.
160. Скрынников, цит. соч., с. 34.
161. Карамзин Н. История государства российского. Кн. 3, т. 9, примеч. 663.
162. «Для советского же времени «демократическое» происхождение играло роль положительного фактора, когда оценивалась та или иная историческая личность» (см.: Володихин Д. Тысяча миль за полтора года // Родина. 2010, № 8, с. 50).
163. Верхотуров, цит. соч., с. 48.
164. Гавлин, цит. соч., с. 24.
165. Карамзин, цит. соч., т. 9, с. 224.
166. Там же.
167. Начиная с Миллера, затем, в XIX веке, этой гипотезы придерживались другие историки, среди них Небольсин.
168. Скрынников, цит. соч., с. 49.
169. Armstrong, цит. соч., с. 41.
170. Небольсин, цит. соч., с. 168.
171. Скрынников, цит. соч., с. 90.
172. Скрынников, цит. соч., с. 92.
173. Там же, с. 55.
174. За рекой Кама. См. Небольсин, цит. соч., с. 39.
175. См., в частности, Миллер, цит. соч., с. 11.
176. Ремезовская летопись, гл. 8.
177. Соскин, цит. соч., с. 56–57.
178. См., например, Небольсин, цит. соч., с. 72–75. Скрынников также занимает близкую позицию, однако Дальман замечает, что нет никаких источников, которые подтверждали бы это предположение; см. Dahlmann, цит. соч., с. 63.
179. Там же, с. 82, 83, 85, 87.
180. Андреев, цит. соч., с. 70, 172–173; Верхотуров, цит. соч., с. 90; Введенский, цит. соч., с. 98–101.
181. Скрынников, цит. соч., с. 105.
182. Верхотуров, цит. соч., с. 89.
183. Миллер, цит. соч., с. 16.
184. Ремезовская летопись, гл. 8.
185. Строгановская летопись по списку Спасского, гл. 15.
186. Небольсин, цит. соч., с. 97–98.
187. Небольсин, цит. соч., с. 91–93.
188. Скрынников, цит. соч., с. 110–112; Гавлин, цит. соч., с. 36; Небольсин, цит. соч., с. 100–106; Строгановская летопись; Есиповская летопись, Ремезовская летопись.
189. Зверев, Зуев, Кузнецова, цит. соч., с. 52.
190. Строгановская летопись по списку Спасского, гл. 17.
191. Там же.
192. Небольсин, цит. соч., с. 109.
193. Суриков В. И. Письма. М.—Л.: Искусство, 1948, с. 97.
194. Кеменов В. Василий Суриков. СПб.: Аврора, 1997, с. 103–119.
195. Dahlmann, цит. соч., с. 74. Список Далмана содержит более 150 названий.
196. Шинкарёв, цит. соч., с. 45.
197. Верхотуров, цит. соч., с. 118.
198. Fisher, цит. соч., с. 26–27.
199. Скрынников, цит. соч., с. 37 (Летопись Есипова).
200. Эрлихман, цит. соч., с. 48.
201. Там же.
202. Lincoln W. Bruce. The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians. New York: Random House, 1994, с. 55.
203. Белов М. И. Подвиг Семёна Дежнёва. М.: Мысль, 1973, с. 52.
204. Fisher, цит. соч., с. 122–123.
205. Белов, цит. соч., с. 57.
206. Там же, с. 58.
207. Там же, с. 63.
208. Там же, с. 65.
209. Там же, с. 61.
210. Там же, с. 68.
211. Ultima Thule, цит. соч., с. 30.
212. Там же, с. 33.
213. Там же, с. 37.
214. Россия и Голландия, цит. соч., с. 186.
215. Белов, цит. соч., с. 91.
216. Белов, цит. соч., с. 101–105, точный список участников. См. также обсуждение вопроса о разделении групп в экспедиции в: Fisher, цит. соч., с. 142 и след.
217. Fisher, цит. соч., с. 91 (Таможенная книга Якутска).
218. Белов, цит. соч., с. 115.
219. Там же.
220. Fisher, цит. соч., с. 198.
221. Белов, цит. соч., с. 120.
222. Там же, с. 118.
223. Belov M.I. Russians in the Bering Strait, 1648–1791. Anchorage: White Stone Press, 2000, с. 27.
224. Белов, цит. соч, с. 123.
225. Там же, с. 124.
226. Там же, с. 129.
227. Там же.
Вторая часть
1. Д'Оссонвиль, граф (Comte d'Haussonville). La visite du tsar Pierre le Grand en 1717 d'après des documents nouveaux // Revue des Deux Mondes, 1896, t. 137.
2. Russian Penetration of the North Pacific Ocean, a Documentary Record // Ed. by Dmytryshin Basil, Crownhart-Vaughn E.A.P., Vaughn Thomas. Portland: Oregon Historical Society Press, 1988, с. 59 и след. Цит. по: Павлов-Сильванский Н.П. Проекты реформ в записках современников Петра Великого. СПб.: 1897, с. 32–34.
3. Gastaldi Giacomo. La Universale descrittione del Mondo. Venise, 1562.
4. Герье В. Отношение Лейбница к России и к Петру Великому. СПб.: Печатня Головина, 1871, с. 187. Цитируется по Koushnarev E.G. Bering Search for the Strait. Portland: Oregon Historical Society Press, 1990, с. 12.
5. Николас Витсен пересказывает содержание своих бесед с Петром I в переписке с Лейбницем; Герье, цит. соч., с. 35.
6. Belov M.I. Russians in the Bering Strait, 1648–1791, Anchorage: White Stone Press, 2000, с. 8.
7. Belov, цит. соч., с. 7. Эта карта, которую специалисты называют Анадырской или картой Львова – Попова, скорее всего, основана на тех же источниках, что и карта Ремезова. Она датируется 1712–1713 годами, но некоторые советские историки полагают, что она могла быть создана и раньше, в 1700 году.
8. Koushnarev, цит. соч., с. 4.
9. Болховитинов Н.Н. История Российской Америки. М.: Международные отношения, 1997, т. 1.
10. Там же, с. 6.
11. Нартов Андрей. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.: изд. Л. Н. Майкова, 1892, с. 98–99.
12. Dmytryshin et al., цит. соч., с. 66–67. ЦГАВМФ, ф. 223, oпись. 1, дело 29, с. 11, 110–111.
13. Lauridsen Peter. Vitus Bering: The Discoverer of Bering Strait. Chicago: S. C. Griggs & Company, 1889, с. 96.
14. Dmytryshin и др., цит. соч., с. 69.
15. Koushnarev (цит. соч., с. 43) склонен считать, что речь шла о карте Страленберга, хотя Петр I, по всей видимости, относился к ней с большим скептицизмом; Белов (цит. соч., с. 8) полагает, что это была карта голландского гравера Иоганна Баптиста Гоманна, жившего в Нюрнберге, которому царь передал разные варианты карт Ремезова и Львова – Попова.
16. В русских источниках – Мартын Шпанберг.
17. О помощниках Беринга см.: Stejneger Leonard. Georg Wilhelm Steller. Cambridge: Harvard University Press, 1936, с. 96–97, а также в: Lauridsen, цит. соч., с. 84–85, Дивин В.А. Русская Тихоокеанская эпопея. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1979, с. 43; Belov, цит. соч., с. 34.
18. Koushnarev, цит. соч., с. 24.
19. Датирован 28 января 1725 года, исправлен и пополнен 30 января по просьбе Беринга. Dmytrychin и др., цит. соч., с. 68.
20. Дивин В.А., цит. соч., с. 42.
21. Там же, с. 43.
22. Koushnarev, цит. соч., с. 79–80.
23. Belov, цит. соч., с. 35.
24. Lauridsen, цит. соч., с. 30.
25. Koushnarev, цит. соч., с. 90.
26. О спорах между членами экспедиции и причинах, толкнувших Беринга взять курс на север, см. в: Болховитинов, цит. соч., с. 57.
27. Koushnarev, цит. соч., с. 98.
28. Koushnarev, цит. соч., с. 97. Немного отличающаяся версия содержится у В.А. Дивина, цит. соч., с. 45.
29. Дивин, цит. соч., с. 46; Koushnarev, цит. соч., с. 102.
30. Lauridsen, цит. соч., с. 33.
31. Belov, цит. соч, с. 37.
32. Цит. в: Belov, цит. соч.
33. Koushnarev, цит. соч., с. 105.
34. Du Halde Père J.-B. Description géographique, historique de l'empire de Chine. La Hague, 1736, с. 562.
35. Ломоносов М. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1952, т. 6, с. 451.
36. Arnold Ann. Sea Cows, Shamans and Scurvy. Alaska's First Naturalist: GeorgWilhelm Steller. New York: Farrar, Straus et Giroux, 2008, p. 14.
37. Koushnarev, цит. соч., с. 146. Архивы Адмиралтейства, ЦГАВД.
38. Lauridsen, цит. соч., с. 36.
39. Панфилов А. Невозвращенец // Наука из первых рук. 2007, № 6, с. 24–25.
40. Смирнов Ю. Споры патриотов // Родина. 2011, № 9, с. 41.
41. Полный текст в: Dmytrychin и др., цит. соч., с. 108–125.
42. Там же, с. 122.
43. Дивин, цит. соч., с. 79.
44. Там же, с. 110.
45. Там же, с. 112.
46. Болховитинов, цит. соч., с. 62.
47. Дивин, цит. соч., с. 95.
48. Matthies Volker. Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering. Von Sibirien nach Amerika, 1741–1742. Wiesbaden: Erdmann, 2013, с. 24.
49. Lauridsen, цит. соч., с. 80.
50. Stejneger, цит. соч., с. 103.
51. Элерт А. Путешествие по Сибири // Наука из первых рук. 2007, № 6.
52. Gmelin Johann. Voyage en Sibérie, Paris, 1767, t. 1, p. 377–378. Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири 1733–1743, в 4 т. СПб.: Альфарет, 2009. Репринтное изд. 1751–1752 гг.
53. Stejneger, цит. соч., с. 111.
54. Gmelin Johann, цит. соч., с. 380–381.
55. Подробнее о всех трудах арктических отрядов Великой Северной экспедиции см. в выдающемся труде: Gauthier Yves, Garcia Antoine. L'Exploration de la Sibérie. Arles: Actes Sud, 1996. Переиздание: Paris: Transboréal, 2014. Эта книга – вклад в ту историю Сибири, о которой очень редко пишут французские исследователи. В данном издании представлена полная панорама первых веков освоения Сибири Россией. См. также отечественные источники: Соколов А. Великая Северная экспедиция // Записки гидрографического департамента, ч. IX, 1851; Глушанков И.В. Славные навигаторы Российские. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1986. 224 с. Белов М.И. История исследования и освоения Северного моского пути. В 4 т. Т. 1. М.: Морской транспорт, 1956.
56. Gauthier et Garcia, цит. соч., с. 229.
57. Lauridsen, цит. соч., с. 94.
58. Фёдорова Т.С. Доносы и жалобы на В. Беринга как источник по истории Второй камчатской экспедиции // Русское открытие Америки. М.: РОССПЭН, 2002, с. 196.
59. Фёдорова, цит. соч., с. 199.
60. Там же, с. 202.
61. Там же, с. 203.
62. Дивин, цит. соч., с. 105–106.
63. Ford Corey. Where the Sea breaks its Back. The Epic Story of Early Naturalist Georg Steller and the Russian Exploration of Alaska. Boston: Little, Brown & Company, 1966; переизд. Portland: First Alaska Northwest Books, 1992, p. 43; переизд. в карманном формате, 2014.
64. Krachenninikov Stepan. Histoire du Kamtchatka, des Isles Kurilski et des contrées voisines. Lyon, 1767, p. 356–357.
65. Lauridsen, цит. соч., с. 195–201.
66. Ford, цит. соч., с. 45.
67. Там же, с. 85. Оригинальный немецкий текст: Matthies, цит. соч., с. 76.
68. Панфилов А. Идущие за горизонт или молитва о преодолении // Наука из первых рук. 2007, № 6, с. 45.
69. Stejneger, цит. соч., с. 12.
70. Там же, с. 19.
71. Stejneger, цит. соч., с. 65.
72. См. в: Панфилов, цит. соч., с. 44.
73. Текст полностью: Stejneger, цит. соч., с. 88.
74. Панфилов, цит. соч., с. 44.
75. Sebald W.G. Nach der Natur, Ein Elementargedicht. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1995, p. 44.
76. Reise durch Sibirien, цит. в: Matthies, цит. соч., с. 49. Русский перевод по: Панфилов, цит. соч.
77. Панфилов, цит. соч., с. 42.
78. Stejneger, цит. соч., с. 170.
79. Там же, с. 167.
80. Панфилов, цит. соч., с. 47.
81. Stejneger, цит. соч., с. 419.
82. Панфилов, цит. соч., с. 43.
83. Лукина Т. Трактат о народной медицине // Наука из первых рук. 2009, № 6, с. 62–63.
84. Об этом эпизоде см.: Смирнов Ю. Споры патриотов // Родина. 2011, № 9, с. 43.
85. Карта воспроизводится в: Matthies, цит. соч., с. 20–21.
86. Дивин, цит. соч., с. 77.
87. Krachenninikov, цит. соч., с. 392.
88. Ford, цит. соч., с. 55.
89. Ford, цит. соч., с. 69.
90. Steller, Reise durch Sibirien, cité par Arnold, цит. соч., с. 193.
91. Ford, цит. соч., с. 61.
92. Ford, цит. соч., с. 61.
93. Там же, с. 61; Stejneger, цит. соч., с. 257.
94. Там же, с. 70.
95. Matthies, цит. соч., с. 72; Ford, цит. соч., с. 70.
96. Stejneger, цит. соч., с. 260; Ford, цит. соч., с. 71.
97. Matthies, цит. соч., с. 74.
98. Там же, с. 75.
99. Там же, с. 76.
100. Болховитинов, цит. соч., с. 65; Дивин, цит. соч., с. 156.
101. Там же.
102. Дивин, цит. соч., с. 159.
103. Там же, с. 160.
104. Там же.
105. Там же, с. 162–164.
106. Письмо Алексея Чирикова Лаптеву от 11 декабря 1742. Дивин, цит. соч., с. 224.
107. Ford, цит. соч., с. 65. Легенда основана на рассказах индейцев тлинкитов, которые жили в той части аляскинского побережья.
108. Эту гипотезу высказывал, в частности, Golder (Дивин, цит. соч., с. 164 или Ford, цит. соч., с. 66).
109. Дивин, цит. соч., с. 225.
110. Там же.
111. Matthies, цит. соч., с. 78.
112. Там же.
113. Sebald, цит. соч., с. 54.
114. Matthies, цит. соч., с. 80–81.
115. Ford, цит. соч., с. 78.
116. Matthies, цит. соч., с. 90.
117. Ford, цит. соч., с. 79.
118. Там же.
119. Matthies, цит. соч., с. 86.
120. Там же, с. 88.
121. Stejneger, цит. соч., с. 269.
122. Matthies, цит. соч., с. 91.
123. Ford, цит. соч., с. 156.
124. Matthies, цит. соч., с. 88.
125. Там же, с. 94; Ford, цит. соч., с. 90.
126. Там же, с. 96–97.
127. Там же, с. 97.
128. Там же, с. 98–99.
129. Там же, с. 104.
130. Ford, цит. соч., с. 102.
131. Там же, с. 101.
132. Matthies, цит. соч., с. 109.
133. Ford, цит. соч., с. 112.
134. Matthies, цит. соч., с. 119.
135. Там же, с. 123.
136. Там же.
137. Ford, цит. соч., с. 116.
138. Там же, с. 117.
139. Matthies, цит. соч., с. 127.
140. Arnold, цит. соч., с. 120–121.
141. Там же, с. 121.
142. Stejneger, цит. соч., с. 323.
143. Цит. в: Ford, цит. соч., с. 130.
144. Цит. в: Matthies, цит. соч., с. 135.
145. Цит. в: Ford, цит. соч., с. 133.
146. Sebald, цит. соч., с. 57.
147. Matthies, цит. соч., с. 140.
148. Steller Georg Wilhelm. De Bestiis Marinis, Ausführliche Beschreibung sonderbarer Meerestiere. Halle: Verlag Carl Christian Hümmel, 1753. Переизд.: Brême: Salzwasser Verlag, 2009.
149. Matthies, цит. соч., с. 42.
150. Arnold, цит. соч., с. 138.
151. Steller, цит. соч., с. 155.
152. Там же, с. 159–160.
153. Там же, с. 198.
154. Там же, с. 199.
155. Подробнее об охоте на тюленей и их истреблении: Saul N. A Diplomatic Failure and an Ecological Disaster: the United States, Russia and the North Pacific Fur Seals // Русское открытие Америки. М.: РОССПЭН, 2002, с. 255–266.
156. Там же, с. 203–204.
157. Rothauscher Hans. Die Stellersche Seekuh. Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2008, с. 27.
158. Там же, с. 38.
159. Steller, с. 96–97.
160. Там же, с. 101.
161. Там же, [русский текст цит. по: Век млекопитающих: https://age-of-mammals.ucoz.ru] – прим. переводчика.
162. Steller, с. 100.
163. Там же, с. 103–104. [русский текст цит. по: Вахрин С. И. Встречь Солнцу. Петропавловск-Камчатский: Камшат, 1996. 350 с.]
164. Steller, с. 69.
165. Там же, с. 92.
166. Experts issue a warning on extinctions in oceans // New York Times, 16 января 2015, с. 1, 4.
167. Steller, цит. соч., с. 98.
168. Matthies, цит. соч., с. 151.
169. Stejneger, цит. соч., с. 414.
170. Там же, с. 413.
171. Там же, с. 432.
172. Gmelin Johann Georg. Reise durch Sibirien. Göttingen: 1751, переизд.: Die Grosse nordische Expedition. Munich: Verlag C. H. Beck, 1990, с. 120.
173. Панфилов А.М. Невозвращенец // Наука из первых рук. 2007а, № 6, с. 26.
174. Панфилов А.М. Охота моя к услужению обществу… // Наука из первых рук. 2007б, № 6, с. 67.
175. Панфилов, цит. соч., 2007а, с. 29.
176. Там же, с. 30.
177. Панфилов, цит. соч., 2007б, с. 69.
178. Engel Samuel. Mémoires et observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux, de l'Asie et de l'Amérique. Lausanne: Antoine Chapuis, 1765, с. 5.
179. Pulver P. Samuel Engel. Ein Berner Patrizier aus dem Zeitalter der Aufklärung. Berne: Paul Haupt, 1937, с. 17.
180. Pulver, цит. соч., с. 225.
181. Engel, цит. соч., с. 17.
182. Klöti Th. Der Berner Beitrag zur Entdeckung der nordostpassage-Geographischen Grillen oder die Hirngespinste müssiger und eingebildeter Stubengelehrter? // Der Weltensammler, catalogue d'exposition. Berne: 1998, с. 41.
183. Engel, цит. соч., с. 18.
184. Там же, с. 20.
185. Engel, цит. соч., с. 42.
186. Там же, с. 260.
187. Klöti, цит. соч., с. 43.
188. Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям. СПб.: Лениздат, 2014, с. 237.
189. Engel, цит. соч., с. 259–265; Ломоносов, цит. соч., с. 228–237.
190. Ломоносов, цит. соч., с. 232.
191. Там же, с. 146.
Третья часть
1. Дивин В.А. Русская Тихоокеанская эпопея. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1979, с. 288.
2. Давыдов Г.И. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. Ч. 2. СПб.: Морская типография, 1812, с. 155.
3. Vinkovetsky I. Russian America. An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804–1867. New York: Oxford University Press, 2011, с. 29.
4. Берх В.Н. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны. Ч. 1. СПб.: Военная тип. Главного Штаба Его Императорского Величества, 1821; Ч. 2. СПб.: Императорская АН, 1823.
5. Ford C. Where the Sea breaks its Back. The Epic Story of Early Naturalist Georg Steller and the Russian Exploration of Alaska. Boston: Little, Brown & Company, 1966; пе-реизд. Portland: First Alaska Northwest Books, 1992, с. 191.
6. Записки капитана Шмалёва (Болховитинов Н.Н. История Российской Америки. М.: Международные отношения, 1997, т. 1, с. 71).
7. Вениаминов И. Записки об островах Уналашкинского отдела. СПб.: Тип. Императорской АН, 1870 (Болховитинов, цит. соч., с. 86).
8. Там же.
9. Matthews O. Glorious Misadventures: Nikolai Rezanov and the Dream of a Russian America. London – New Delhi – New-Yоrk – Sydvney: Bloomsbury, 2013, р. 59.
10. Matthews, цит. соч., с. 62.
11. Болховитинов, цит. соч., с. 110.
12. Шахеров В.П. Иркутск купеческий. История города в лицах и судьбах. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2006, с. 78.
13. Артёмов В.В. Русская Америка. М.: Рубежи XXI, 2009, с. 58–62.
14. Окунь С.Б. Российско-Американская компания. Л.: Соцэзгиз, 1939, с. 23.
15. Болховитинов, цит. соч., с. 116.
16. Дивин, цит. соч., с. 293.
17. Black Lydia T. Russians in Alaska. Fairbanks: University of Alaska Press, 2004, p. 276.
18. Подлекарь экспедиции сержант Мирон Бритюков (Артемов, цит. соч., с. 72).
19. Слова Бритюкова (Болховитинов, цит. соч., с. 123).
20. Авдеева-Полевая Е.А. Записки и замечания о Сибири // Сост. М.Д. Сергеев. Иркутск: Вост. – Сиб. кн. изд-во, 1990. (Black, цит. соч., с. 111).
21. Там же, с. 110.
22. Шмаков А. Неизвестные письма «Колумбу Российскому» // Сибирь, 1980, № 2, с. 117.
23. Olson Wallace M. Through Spanish eyes: The Spanish voyages to Alaska, 1774–1792. Auke Bay: Heritage Research, 2002, p. 288–289.
24. Black, цит. соч., с. 108.
25. Замечания императрицы Екатерины II на доклад Комиссии о коммерции, о плавании и торговле в Тихом океане, апрель – август 1788 (Артемов, цит. соч., с. 92).
26. Гринёв А.В. Роль государства в образовании Российско-американской компании // Русское открытие Америки. М.: РОССПЭН, 2002, с. 443.
27. Замечания императрицы Екатерины II на доклад Комиссии о коммерции, о плавании и торговле в Тихом океане, апрель – август 1788 (Шахеров, цит. соч., с. 75–73).
28. А.В. Храповицкий (Артёмов, цит. соч., с. 95)
29. Там же, с. 23–24.
30. Matthews, цит. соч., с. 100.
31. Ему приписывается до 34 официальных постов (там же, с. 51).
32. Об этом эпизоде и его возможных интерпретациях: Болховитинов, цит. соч., с. 255–256, 307–314; Артёмов, цит. соч., с. 89–90.
33. Matthews, цит. соч., с. 113, 115.
34. Vinkovetsky, цит. соч., с. 75.
35. Semyonov I. Die Eroberung Sibiriens. Ein Epos menschlicher Leidenschaften. Der Roman eines Landes. Berlin: Ullstein, 1937. Англ. пер. E.W. Dickes под названием «The Conquest of Siberia». London: Routledge & Sons, 1944, p. 191.
36. На эту тему есть подробный и тщательный анализ А.В. Гринёва, цит. соч., с. 437–450.
37. Письмо Ивану Дмитриеву (по Matthews, цит. соч., с. 136).
38. Там же, с. 137.
39. Ходатайство адмирала Н.Ф. Головина императрице Анне от 12 октября 1732 (Болховитинов, цит. соч., с. 85).
40. Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света в 1803–1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». СПб.: Морская тип., 1809, с. 12.
41. Там же, с. 13.
42. Там же, с. 25, 28–29.
43. Сообщение 10 июля 1803 года Н.П. Румянцева Н.П. Резанову (Болховитинов, цит. соч., с. 90).
44. Там же, с. 95.
45. The First Russian Voyage around the World. The Journal of Hermann Ludwig von Löwenstern (1803–1806). Traduit par Victoria Joan Moessner. Fairbanks: University of Alaska Press, 2003, p. 38.
46. Matthews, цит. соч., с. 140.
47. The First Russian Voyage…, цит. соч., с. 69, 73.
48. Barratt G.R. The Russian Discovery of Hawaii. Honolulu: Editions Limited, 1987, p. 25.
49. Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева». М.: Дрофа, 2008, с. 126 (Barratt, цит. соч., с. 57).
50. Письмо Н. Резанова командующему фортом Камчатка Кошелеву (Болховитинов, цит. соч., с. 95–96).
51. Болховитинов, цит. соч., с. 114.
52. The First Russian Voyage…, цит. соч., с. 120.
53. Matthews, цит. соч., с. 85.
54. Там же, с. 193.
55. Langsdorff G.H. Voyages and Travels in Various Parts of the World during the years 1803–1807. London: H. Colburn, 1813, p. 309.
56. The First Russian Voyage…, цит. соч., с. 189.
57. Langsdorff, цит. соч., с. 312.
58. Matthews, цит. соч., с. 205.
59. Там же, с. 261.
60. Langsdorff, цит. соч., с. 153.
61. Свидетельство сестры Винсентии Сальгадо полностью приводится в книге: Iversen E. The Romance of Nikolaï Rezanov and Concepciо́n Argüello. Fairbanks: University of Alaska Press, 1998, p. 74.
62. Из письма Резанова Румянцеву от 17 июня 1806 года (Болховитинов, цит. соч., с. 103–104).
63. Semyonov, цит. соч., с. 199.
64. Langsdorff, цит. соч., с. 180.
65. Iversen, цит. соч., с. 151.
66. Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени. СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1861. Ч. 2, с. 266.
67. Болховитинов, цит. соч., с. 102.
68. Matthews, цит. соч., с. 285.
69. Там же, с. 288.
70. Там же.
71. Из письма Резанова М.М. Булдакову от 24 и 26 января 1807 года (Болховитинов, цит. соч., с. 110).
72. Рукописи, хранящиеся в Российской государственной библиотеке (РГБ) (Там же, с. 109).
73. Там же.
74. Там же, из письма Резанова М.М. Булдакову.
75. На эту тему есть увлекательное исследование: Истомин А.А. Два варианта письма Н.П. Резанова графу Н.П. Румянцеву от 17/29 июня 1806 года. Сравнительно-текстологический анализ и легенда о великой любви // Русское открытие Америки, цит. соч., с. 388–401.
76. Selvin D.F. The Other San Francisco. New York: Seabury Press, 1969, p. 32–33.
77. Болховитинов, цит. соч., с. 102.
78. Барсуков И.П. Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. M.: Синодальная тип., 1891, с. 169.
79. Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири. СПб.: Тип. Второго отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1872. Цит. по: Матханова Н.П. (сост.) Граф Н.Н. Муравьёв-Амурский в воспоминаниях современников. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998, с. 41–42.
80. Матханова, цит. соч., с. 43.
81. Шиндялов Н.А. Основатели Благовещенска. Благовещенск: ОАО «Амурская ярмарка», 2006, с. 9.
82. Цитируется Игорем Шумейко (Ближний Дальний Восток. M.: Вече, 2012, с. 75).
83. Струве Б.В. Воспоминания о Сибири // Русский вестник, 1888, № 6.
84. Римский-Корсаков В.А. Балтика – Амур. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1980, с. 204.
85. Барсуков, цит. соч., с. 172.
86. Перцева Т.А. Декабристы и генерал-губернаторы Восточной Сибири: столкновение имперских, региональных и личностных интересов // Сибирское общество в контексте мировой и российской истории (XIX–XX вв.): материалы Всерос. научн. конф., посвящённой 200-летию ген.-губ. Вост. Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского. Иркутск: Оттиск, 2010, с. 126.
87. Lovell J. The Opium War. Drugs, dreams and the making of China. Basingstoke/Oxford: Picador, 2011.
88. По этому поводу, например, донесения Н.Н. Муравьёва министру финансов Ф.П. Вронченко (Барсуков, цит. соч., с. 183), и его же оригинальную записку Вронченко, приведенную в расширенном виде в: Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам: (материалы для биографии), т. 2. M.: Синодальная тип., 1891, с. 27–28.
89. Шиндялов, цит. соч., с. 8.
90. Stephan J.J. The Russian Far East. A History. Stanford: Stanford University Press, 1994, p. 41.
91. Cochrane J. Récit d'un voyage à pied à travers la Russie et la Sibérie tartare, des frontières de Chine à la mer Gelée et au Kamtchatka. Paris: Gingko, 2002, p. 38.
92. Выписка из письма к министру внутренних дел, 14 сентября 1848 (Барсуков, цит. соч., т. 2, с. 35).
93. Там же.
94. Махтанова, цит. соч., с. 80 (цитата из М.С. Корсакова).
95. Там же, с. 35 (Выписка).
96. Баласогло А.П. Восточная Сибирь. Записка о командировке на остров Сахалин капитан-лейтенанта Подушкина. Сообщил В.Н. Баснин // Чтения в Имп. обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те. М.: 1875, кн. 2. стлб. 187–188 (Ремнёв А.В. Россия Дальнего Востока. Омск: Омский гос. ун-т, 2004, с. 130).
97. Vend V. L'Amiral Nevelskoï et la conquête définitive du fleuve Amour. Paris: Librairie de la Nouvelle Revue, 1894, p. 30.
98. Stephan, цит. соч., с. 45.
99. Кузнецов А.С. Сибирская программа царизма 1852 г. // Очерки истории Сибири, вып. 2. Иркутск: 1971, с. 10 (по: Marks S.G. Road to Power: The TransSiberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1991, p. 49).
100. Bassin M. Imperial Visions, Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999–2006, p. 142.
101. Ремнёв, цит. соч., с. 172.
102. Шиндялов, цит. соч., с. 15.
103. Vend, цит. соч., с. 20–21.
104. Там же, с. 34–35.
105. Там же, с. 29.
106. Там же, с. 58.
107. Там же, с. 59.
108. Там же, с. 62.
109. Бакунин М.А. Полное собрание сочинений, т. 4. М.: Изд-во Всесоюзного общ-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1935, с. 309 (Ремнёв, цит. соч., с. 180).
110. Барсуков, цит. соч., с. 273.
111. Там же, с. 225.
112. Там же, с. 325.
113. Матханова, цит. соч., с. 204 (воспоминания М.И. Венюкова).
114. Vend, цит. соч., с. 76 (Дневник адмирала Г. Невельского).
115. Там же, с. 75.
116. Там же, с. 78.
117. Струве, цит. соч., с. 106.
118. Vend, цит. соч., с. 88.
119. Барсуков, цит. соч., с. 234.
120. Шиндялов, цит. соч., с. 27.
121. Барсуков, цит. соч., с. 368.
122. Vend, цит. соч., с. 204–205 (свидетельство М. Свербеева).
123. Ravenstein E.G. The Russians on The Amur. London: Trübner and Co., 1861, p. 119.
124. Vend, цит. соч., с. 207.
125. Ravenstein, цит. соч., с. 123.
126. Там же, с. 128.
127. Там же, с. 130.
128. Там же, с. 127.
129. Там же, с. 134.
130. Письмо Н.Н. Муравьёва М.С. Корсакову, июль 1856 г. (Шиндялов, цит. соч., с. 44).
131. 1857–1861: Переписка Императора Александра II с Великим князем Константином Николаевичем. Дневник Великого князя Константина Николаевича. М.: Терра, 1994, с. 73 (Ремнёв, цит. соч., с. 182).
132. Письмо Н.Н. Муравьёва М.С. Корсакову, 14 декабря г. (Шиндялов, цит. соч.)
133. Stephan, цит. соч., с. 64–65.
134. Rieber A.J. The Politics of Autocracy. Letters of Alexander II to Prince A.I. Bariatinskii. Études sur l'histoire, l'économie et la sociologie des pays slaves. Paris: Mouton & Cie, 1966, p. 122.
135. Милютин (Bassin, цит. соч., с. 141).
136. Кропоткин П.А. Записки революционера. М.: Мысль, 1990, с. 142.
137. Романов Д.И. Присоединение Амура к России // Русское слово, 1859, № 4, 6–8, апрель – август (Шиндялов, цит. соч., с. 75 и след.).
138. Там же, с. 76.
139. Там же, с. 78.
140. Шиндялов, цит. соч., с. 53.
141. Романов, цит. соч. (Bassin, цит. соч., с. 144).
143. Bassin, цит. соч., с. 165.
144. MacDonough Collins P. Siberian Journey: Down the Amur to the Pacific 1856–1857. Madison: University of Wisconsin Press, 1962, p. 28.
145. Герцен А.И. (Искандер), Колокол, 1858 (Bassin, цит. соч., с. 166).
146. Письма об Амурском крае // Русский архив, 1895, т. 1, с. 385.
147. Письмо Н.Н. Муравьёва М.С. Корсакову, 9 марта 1857 г. (Барсуков, цит. соч., с. 486).
148. Воспоминания Б. Милютина // Матханова, цит. соч., с. 217.
149. Слова Александра II (Шиндялов, цит. соч., с. 62).
150. Stephan, цит. соч., с. 84.
151. Bassin, цит. соч., с. 168.
152. Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее нужды. СПб.: Изд-во А.Ф. Девриена, 1908, с. 292.
153. Герцен А.И. Письмо к Джузеппе Мадзини о современном положении в России // Полное собрание сочинений, т. 12. М.: Наука, 1957, с. 350.
154. Чехов А. Письмо М.П. Чеховой от 26 июня 1890 г. // L'Amour est une région bien intéressante [Амур – чрезвычайно интересный край]. Paris: Cent Pages, 1989, p. 95–96.
155. Чехов А. Письмо А.С. Суворину от 27 июня 1890 г. // Там же, с. 9.
156. Tchekhov А. L'Île de Sakhaline [Остров Сахалин]. Paris: Gallimard, 2001, p. 32.
157. Bassin, цит. соч., с. 170.
158. Там же, с. 168.
159. Кропоткин, цит. соч., с. 161.
160. Письмо М. Бакунина П. Кропоткину от 7 ноября 1860 г. (Bassin, цит. соч., с. 169).
161. MacDonough Collins P. Lecture before the Traveler's Club and Other Societies, 1865.
162. MacDonough Collins, 1962, цит. соч., с. 45.
163. Dwyer J.B. To Wire the World: Perry M. Collins and the North Pacific Telegraph Expedition. Westport: Praeger, 2001, p. 5.
164. MacDonough Collins, 1962, цит. соч., p. 90.
165. Там же, с. 53.
166. Tupper H. To the Great Ocean. Toronto – Boston: Little, Brown & Co, 1965, p. 61.
167. Журнал Сибирского комитета от 22 апреля 1857 г., с. 17–18.
168. Там же, с. 62.
169. Statement of the origin, organization and progress of the Russian-American Telegraph, Western Union extension, Collins' overland line via Behring Strait and Asiatic Russia to Europe, collated and prepared from official documents on file in the “Russian Bureau” of the Western Union Telegraph Company. Rochester: Western Union Company, 1866, p. 145–170 (Tupper, цит. соч., с. 64).
171. Secretary of State William H. Seward to Baylard Taylor, 23.12.1863 (Travis F.F. George Kennan and American-Russian Relationship 1865–1924. Athens: Ohio University Press, 1990, p. 10).
172. Dwyer, цит. соч., с. 28–29.
173. Travis, цит. соч., с. 13.
174. Dwyer, цит. соч., с. 148.
175. Bush R. Reindeer, Dogs and Snowshoes. A Journal of Siberian Travel and Explorations. New York: Harper and brothers, 1871, p. 448.
176. Dwyer, цит. соч., с. 119.
177. Там же, с. 117.
178. Kennan G. Tent Life in Siberia, and adventures among the Koraks and other tribes in Kamtchatka and Northern Asia. New York: G.P. Putnam & sons; London: S. Low, son & Marston, 1870; Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1986, p. 422.
179. Tupper, цит. соч., с. 64–65.
180. Телеграмма И.М. Толстого Дж. Уэйду 17 февраля 1867 г.
181. Reid James D. The Telegraph in America. New York: Printed for the author by J. Polhemus, 1886, p. 516–517.
182. Кропоткин П.А. Дневники. М. – Пг.: Государственное изд-во, 1923, с. 46.
183. Сибирская газета (Faust W. Russlands Goldener Boden. Der sibirische Regionalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Köln: Bohlau, 1980, p. 30).
184. Письмо А. Герцена Н. Кетчеру и Н. Сазонову, 18 июля 1835 г.
185. Калашников И. Записки иркутского жителя // Русская старина, июль 1905, с. 238.
186. Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина, 2014, № 3, с. 130.
187. Герсеванов Н.Б. Замечания о торговых отношениях Сибири и России // Отечественные записки, 1841, т. XIV.
188. Ламин В. Что делать с Сибирью? Ч. 2. // Родина, 2014, № 6, с. 6.
189. Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов. Красноярск: Тип. Енисейского губернского союза кооперативов, 1919, с. 66.
190. Watrous Stephen D. Russia's Land of the Future: Regionalism and the Awakening of Siberia 1819–1894. Ph.D. diss., University of Washington, 1970, p. 262.
191. Ядринцев Н.М. Автобиография // Сибирский сборник, 1895 (Watrous, цит. соч., с. 265).
192. Ядринцев Н.М. Воспоминания о Томской гимназии // Сибирский сборник, 1888 (Watrous, цит. соч., с. 269).
193. Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Восточное обозрение, 1884, № 6, 26, 33–34.
194. Там же (Watrous, цит. соч., с. 276).
195. Попов И.И. Памяти Н.М. Ядринцева и А.В. Потаниной // Изв. Вост.-Сиб. отд. ИРГО, 1894. Т. 25, № 1, с. 1–28 (Watrous, цит. соч., с. 282).
196. Ядринцев Н.М. Воспоминания о Томской гимназии (К 50-летнему юбилею Томской гимназии посвящает ученик ее). Иркутск: Тип. газ. «Вост. обозрение», 1888, с. 28.
197. Ядринцев Н.М. Студенческие воспоминания // Восточное обозрение, 1884, № 26.
198. Faust, цит. соч., с. 143–144.
199. Ядринцев Н.М. Сибирь в первое января 1865 г. // Томские губернские ведомости, 1 января 1865 г.
200. Ремнёв, цит. соч., с. 61.
201. Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1974, с. 73.
202. Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль, 1904, № 6, с. 67.
203. Faust, цит. соч. с. 189.
204. Колокол, № 204, 15 сентября 1865 г.
205. Сесюнина, цит. соч., с. 73.
206. Faust, цит. соч., с. 231.
207. Эту точку зрения в особенности отстаивает Вольфганг Фауст, цит. соч.
208. Попов И.И. К 80-летию Г.Н. Потанина // Голос минувшего, 1915, с. 296.
209. Кошелев Я.Р. Новое о Ядринцеве // Из истории культуры Сибири, вып. 1. Томск, 1966, с. 85.
210. История Русской Америки. В 3 тт. // Под ред. Н.Н. Болховитинова. Т. 1. М.: Международные отношения, 1999, с. 428.
211. Памятная книжка Александра II за 1886 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд 678, оп. 1, дело 320, л. 120.
212. Краббе Н.К. Записка № 26 (секретная) А.М. Горчакову от 7 декабря 1866 г. (Болховитинов Н.Н. Русско-Американские отношения и продажа Аляски, М.: Наука, 1990, с. 187).
213. Там же, с. 189.
214. П.С. Костромитинов – Э.А. Стёклю, 18 апреля 1854 г. // Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ) (Болховитинов, 1999, цит. соч., с. 372).
215. Черновик доклада А.М. Горчакова, декабрь 1866 г. // АВПРИ (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 194).
216. Рапорт инженера Андреева (Там же, с. 201).
217. Там же.
218. Окунь, цит. соч., с. 232.
219. Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 189.
220. Болховитинов, 1999, цит. соч., с. 434.
221. Pierce Richard A. Russian America. A Biographical Dictionary. Fairbanks: University of Alaska Press, 1990, p. 487–488.
222. Струве Б.В. Воспоминания о Сибири 1848–1854 гг. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1889, с. 154–155.
223. Письмо К.Н. Романова А.М. Горчакову, 22 марта 1857 г. (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 105).
224. Там же.
225. Болховитинов, 1999, цит. соч., с. 386.
226. Там же, с. 389.
227. Там же.
228. Black, цит. соч., с. 276.
229. Письмо П.Н. Головина своим сестре и матери, 17 декабря 1860 г. (Black, цит. соч., с. 279–280).
230. Э.А. Стёкль – А.М. Горчакову, 18 марта 1867 г. // АВПРИ, фонд 1867 (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 206).
231. Э.А. Стёкль – А.М. Горчакову, 25 марта 1867 г. Получено в Петербурге 26 марта (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 212–213). Полный текст договора: Dmytryshin B. The Russian American Colonies, A Documentary Record, t. 3, 1798–1867. Portland: Oregon Historical Society, 1989, p. 544–548.
232. Черновик телеграммы А.М. Горчакова Э.А. Стёклю от 28 марта 1867 г. (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 214).
233. Seward Frederick W., Seward William H. An Autobiography. New York: Derby and Miller, 1891, vol. 3, p. 348 (Bolkhovitinov N.N. Russian-American Relations and the Sale of Alaska. Fairbanks: University of Alaska, 1996, p. 218; Русское издание: Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 214–215).
234. Poniatowski M. Histoire de la Russie d'Amérique et de l'Alaska. Paris: Horizons de France, 1958, p. 244.
235. New York Herald, 9.04.1867.
236. Bolkhovitinov, 1996, цит. соч., p. 240.
237. Э.А. Стёкль – А.М. Горчакову, 19 апреля 1867 г. (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 225).
238. New York Herald, 9.04.1867.
239. Dwyer, цит. соч., с. 14.
240. Dwyer, цит. соч. с. 163 (слова Charles S. Bulkley).
241. Beamon Memorandum // University of Rochester, Rush Rhees Library, Ch. Sumner Papers (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 238).
242. В конце концов импичмент провалился 16 мая 1868 г.: Сенат счел президента виновным в нарушениях, которые ему вменялись, 37 голосами против 19. До необходимых двух третей не хватило всего одного голоса!
243. Э.А. Стёкль – А.М. Горчакову, 15 июля 1868 г. (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 295).
244. Dunning William A. Paying for Alaska // Political Science Quarterly, 27.09.1912, p. 385–398 (Poniatowski, цит. соч., p. 251; русский перевод цитаты: Болховитинов, 1990, с. 307–308).
245. Brodie Fawn M. Thaddeus Stevens: Scourge of the South. New York: W.W. Norton & Company, 1959, p. 359.
246. Существует детальная реконструкция этих выплат (Болховитинов, 1999, цит. соч., с. 485).
247. Journal de Saint-Pétersbourg, 4.04.1867.
248. Голос, СПб., 4 апреля 1867 г.
249. Там же, 6 апреля 1867 г.
250. Доклад Ховарда секретарю казначейства (министру финансов) США, Ситка, 18 августа 1867 г. (Black, цит. соч., с. 286).
251. Генерал Руссо, рапорт от 5 декабря 1867 г. (Болховитинов, 1990, цит. соч., с. 277).
252. Saul N. A Diplomatic Failure and an Ecological Disaster: the United States, Russia and the Nord Pacific Fur Seals // Русское открытие Америки. М.: РОССПЭН, 2002, с. 255–266.
Четрвертая часть
1. Стогов Д. Крестный отец Союза русского народа//Русская линия. https://rusk.ru/st.php?idar=103635, 2005. Дата обращения 14.11.2019.
2. Предписание министра внутренних дел от 15 января 1866 г. № 378 чиновнику особых поручений, полковнику Богдановичу// Материалы к истории вопроса о Сибирской железной дороге: приложение к журналу «Железнодорожное дело». СПб: Тип. бр. Пантелеевых, 1891, № 16, с. 2.
3. Телеграмма полковника Богдановича министру внутренних дел из Екатеринбурга 23 марта 1866 года // Там же, с. 50
4. Michie A. The Siberia Overland Road. Londres: John Murray, 1864, p. 317.
5. Коптеков В. Тюмень – Транссиб // Родина, 2011, № 6, с. 63.
6. Schenk Frithjof B. Russlands Fahrt in die Moderne, Mobilität und sozialer Raum im Eisenbahnzeitalter. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014, p. 44.
7. Koulomzine A. N. Le Transsibérien. Paris: Hachette, 1904, p. 4
8. Vinokourov M., Soukhodolov A. L'Économie de la Sibérie 1900–1928. Lormont: Le Bord de l'eau, 2014, p. 252–253.
9. Schenk, цит. соч., с. 97.
10. Адрес купечества, торгующего на Нижегородской ярмарке, министру путей сообщения от 30 октября 1874// Материалы…, с. 28.
11. О направлении сибирской железной дороги: Публ. прения в Обществе для содействия русской промышленности и торговле. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1870, с. 19.
12. Письмо Е.В. Богдановича министру путей сообщения от 10 июня 1872 // Материалы…, с. 17.
13. Bogdanovitch E. Exposé de la question relative au chemin de fer de la Sibérie et de l'Asie centrale. Paris: impr. Dupont, 1875.
14. Les discours de Bogdanovitch et de Lesseps // Paris-journal, 6 августа 1875. Беседа отражена также в Le Figaro, La République française, Journal des débats или Le Soir.
15. Предсмертное завещание бывшего генерал-губернатора Западной Сибири А.П. Хрущёва // Голос, 21 августа 1880, № 230.
16. Tupper H. To the Great Ocean. Boston: Little, Brown & Company, 1965, p. 71.
17. Шинкарёв Л. Сибирь, откуда она пошла и куда она идет. М.: Советская Россия, 1978, с. 80; Koulomzine, цит. соч., с. 20.
18. Богданович Е. Новые родители о Сибирской железной дороге, письмо к издате-лю//Московские ведомости, 1876, № 246.
19. Расчет сделан на основе первой переписи населения, проведенной спустя несколько лет: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб: Издано Центр. Стат. комитетом М-ва вн. дел; Под ред. Н.А. Тройницкого, 1897–1905.
20. Канун десятилетия Высочайше утвержденной Сибирской железной дороги и агитации против нее. Казань: Тип. В.М. Ключникова, 1884. 12 с.
21. Речь министра путей сообщения о железной дороге, 10 сентября 1888.
22. Высочайше утвержденная магистральная линия Сибирской железной дороги: записка, составленная уполномоченными Казанского земства, Думы и Биржи г. Казани. Казань: Типо-лит. В.М. Ключникова, 1883. 58 с.
23. Сибирская дорога – злоба дня // Новое Время, 17 декабря 1884.
24. Там же.
25. Санкт-Петербургские ведомости, 3 декабря 1884.
26. Бугульминский Н. Сибирская железная дорога с точки зрения государственно-экономической купца Милютина. Казань: Тип. В.М. Ключникова, 1884, с. 20.
27. Там же, с. 19.
28. Восточное обозрение, 1890, № 30, цит. по: Marks S.G. Road to Power: The TransSiberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917. Ithaca (N. Y.): Cornell Univ. Press, 1991, p. 88.
29. Выражение принадлежит Вольфгангу Фаусту. Faust W. Russlands Goldener Boden. Köln: Böhlau, 1980, с. 565.
30. Koulomzine, цит. соч., с. 30.
31. Times, 25 июня 1887.
32. Там же, с. 39.
33. Письмо императрицы Марии Фёдоровны // Мартов С. Сергей Витте. Первый премьер-министр. Большой исторический словарь. М.: АСТ-пресс, 2014, с. 6.
34. Письмо цесаревича Николая своему дяде, Великому князю Сергею Александровичу от 25 октября 1888 г.//Schenk, цит. соч., с. 323.
35. Еженедельная газета, 23 октября 1888, № 43 // Schenk, цит. соч., с. 318.
36. Письмо императрицы Марии Фёдоровны // Мартов, цит. соч., с. 6.
37. Витте С.Ю. Воспоминания. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960, том 1, с. 192.
38. Там же, с. 193.
39. Там же, с. 194.
40. Ковалевский В.И. Воспоминания // Мартов, цит. соч., с. 7.
41. Витте, цит. соч., т. 1, с. 65.
42. Там же, с. 68.
43. Там же, с. 250–251.
44. Витте С. О положении нашей промышленности // Schenk, цит. соч., с. 78.
45. Витте С. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. 3-е изд. СПб.: Скл. изд.: Акц. о-во Брокгауз-Ефрон, 1910, с. 128.
46. Ильин С. Витте. 2-е изд. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2012, с. 94.
47. Wcislo Francis W. Tales of Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 156.
48. Ильин, цит. соч., с. 95.
49. Wcislo, цит. соч., с. 130.
50. Витте С. Воспоминания, т. 1, с. 188.
51. Там же, с. 432–433.
52. Цитируется Теодором фон Лауэ в: Schenk, цит. соч., с. 7.
53. Мартов, цит. соч., с. 1.
54. Там же.
55. Witte S. Vorlesungen ueber Volks– und Staatwirtschaft / Von Graf S.J. Witte. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe. Übers. und eingel. von Josef Melnik. Bd.1–2. Stuttgart– Berlin: Deutsche Verl.-Anstalt, 1913, цит. по: Marks, цит. соч., с. 126.
56. Там же, с. 67, цит. по: Schenk, цит. соч., с. 79.
57. Marks, цит. соч., с. 130.
58. Письмо С.Ю. Витте Д.С. Сипягину // Красный архив, 1926, № 18.
59. Биткина С. Подстаканник // Родина, 2016, № 10, с. 82.
60. Koulomzine A. N. Le Transsibérien. Paris: Hachette, 1904, p. 43.
61. Ильин, цит. соч., с. 97–98.
62. Marks, цит. соч., с. 107–111 и 128–129.
63. Paris-Moscou. Un siècle d'échanges, catalogue de l'exposition Paris-Moscou. Paris: Editions des Archives de la ville de Paris, 1999, с. 90–103.
64. Пушкин А.С. Евгений Онегин, гл. 7, XXXIII.
65. Атлас Азиатской России. М.: Феория, 2012, с. 152.
66. Cotteau E. De Paris au Japon à travers la Sibérie. Paris: Hachette, 1883, с. 166.
67. Koulomzine, цит. соч., с. 299.
68. Tupper, цит. соч., с. 79.
69. Стальной пояс России//Родина, 2011, № 5, с. 60.
70. Lincoln B. The Conquest of a Continent. New York: Random House, 1994, p. 232; Marks, цит. соч., с. 152.
71. Например, Fraser John F. The Real Siberia. London: Cassel Company, 1902, p. 61.
72. Schenk, цит. соч., с. 122.
73. Krausse A. Russia in Asia. New York: Harper & Row, 1899, p. 200.
74. Например: Shoemaker M.M. The Great Siberian Railway. London – New York: Putnam's Sons, 1903, p. 67; Fraser, цит. соч., p. 59; Lynch G. The Path of Empire. London: Duckworth, 1903, p. 188–189.
75. Koulomzine, цит. соч., c. 108.
76. О сооружении Сибирской железной дороги. СПб.: Министерство путей сообщения, технический отдел, 16 апреля 1892 г., с. 26–27.
77. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге // Под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова и А.Ф. Здзярского. CПб.: изд. Мин-ва путей сообщения, 1900, с. 291–292.
78. О способе исполнения Сибирской железной дороги. СПб.: Паров. типо-лит. Муллер и Богельман, 1890, с. 2.
79. Министерство путей сообщения, Департамент железных дорог, № 5052, 18 апрель 1892.
80. О способе…, цит. соч., с. 3.
81. Koulomzine, цит. соч., с. 67; Стальной пояс…, цит. соч., с. 58–61.
82. О способе, цит. соч., с. 5.
83. Bates L. The Russian Road to China. Boston-New York: Houghton Mifflin Company, 1910, p. 55; Lincoln, цит. соч., p. 231.
84. Tupper, цит. соч., с. 245.
85. Marks, цит. соч., с. 92.
86. Krausse, цит. соч., с. 210.
87. О способе, цит. соч., с. 5.
88. Koulomzine, цит. соч., с. 175.
89. Борзунов В.Ф. К вопросу об экономическом значении Сибирской железной дороги/ Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1961, с. 102.
90. Clark Francis E. The Great Siberian Railway. Londres: Partridge, 1903, p. 135–136.
91. Lynch, цит. соч., c. 203.
92. Fraser, цит. соч., c. 137.
93. Там же, c. 193.
94. Clark, цит. соч., c. 38.
95. Turner S. Siberia Travel and Exploration. London: T. Fisher, 1905, p. 43.
96. Коптелов В. Тюмень – Транссиб // Родина, 2011, № 6, с. 63.
97. Haywood Richard M. Russia enters the Railway Age. New York: Columbia University Press, 1998, p. 226.
98. Fraser, цит. соч., c. 12.
99. Turner, цит. соч., с. 40.
100. Lynch, цит. соч., с. 197.
101. Tupper, цит. соч., с. 275.
102. Fraser, цит. соч., с. 14.
103. Clark, цит. соч., с. 178.
104. Там же, с. 126.
105. Tupper, цит. соч., с. 360.
106. Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина, 2014, № 6, с. 129.
107. Там же, с. 130.
108. Koulomzine, цит. соч., c. 186.
109. Журнал Комитета Сибирской железной дороги, 10 и 24 февраля 1893 г., по: Marks, цит. соч., c. 154.
110. Переселение и поселения в связи с постройкой Сибирской железной дороги, СПб., 1892, c. 4.
111. С. Витте, Воспоминания, указ. соч., c. 441.
112. Переселение и поселения, указ. соч., c. 1.
113. Владимир Лямин: Родина, 2014, № 6, указ. соч., c. 9.
114. Koulomzine, цит. соч., c. 213.
115. Переселение и поселения, цит. соч., с. 1.
116. Fraser, цит. соч., с. 128.
117. Переселение и поселения, цит. соч., с. 13.
118. Журнал Комитета Сибирской железной дороги, 1898, цит. по: Marks, цит. соч., с. 166.
119. Marks, цит. соч., с. 39.
120. Koulomzine, цит. соч., с. 29, 33.
121. Путеводитель…, цит. соч., с. 69.
122. Витте С. Конспект лекции о народном и государственном хозяйстве // Урал, 1997, с. 186, цит. по: Schenk, цит. соч., с. 116.
123. Marks, цит. соч., с. 43.
124. Витте, Воспоминания, цит. соч., с. 45–46.
125. Путеводитель…, цит. соч., с. 52.
126. Максимова Т. Дороги, без которых нам не жить // Родина, 2009, № 11, с. 107.
127. Wcislo, цит. соч., с. 176.
128. Витте, Воспоминания, цит. соч., с. 53.
129. Там же, с. 52.
130. Там же, с. 54.
131. Витте, Воспоминания, цит. соч., с. 69.
132. Koulomzine, цит. соч., с. 147.
133. Там же, с. 148.
134. Dahlmann D. Sibirien, Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München – Vienne – Zurich: Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2009, p. 187.
135. Китайская Восточная железная дорога. Исторический очерк. СПб.: Канцелярия КВЖД, т. 1, 1914, с. 15–16.
136. Tupper, цит. соч., с. 321.
137. Marks, цит. соч., с. 200.
138. Fraser, цит. соч., с. 222.
139. Ильин, цит. соч, с. 220.
140. Витте, цит. соч, т. 2, с. 133.
141. Там же.
142. Там же.
143. Там же, с. 134.
144. Там же, с. 136.
145. Там же.
146. Там же, с. 113–114.
147. Там же, с. 6.
148. Там же.
149. Там же, с. 142.
150. Там же, с. 143.
151. Koulomzine, цит. соч., с. 152.
152. Кудрявцева Т. Китай-царь // Родина, 2014, № 2, с. 126.
153. Tupper, цит. соч., с. 331.
154. Там же, с. 330.
155. Tupper, цит. соч., с. 332.
156. Путеводитель…, цит. соч., с. 556.
157. Guide Baedeker Russie. Leipzig, 1912.
158. Wcislo, цит. соч., c. 184.
159. Ильин, цит. соч., с. 220.
160. Всеподданнейший доклад министра финансов о поездке на Дальний Восток, 1902 // Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. Т. 1. Кн. 2. Ч. I. M.: Наука, 2004, с. 364.
161. Koulomzine, цит. соч., с. 316
162. Lynch, цит. соч., с. 53.
163. Shoemaker, цит. соч., с. 169.
164. Lynch, цит. соч., с. 66.
165. Там же, с. 68.
166. Shoemaker, цит. соч., с. 172.
167. Lynch, цит. соч., с. 68.
168. Shoemaker, цит. соч., с. 173.
169. Clark, цит. соч., с. 6.
170. Shoemaker, цит. соч., с. 174.
171. Золото пряжки Стального пояса России // Родина, 2011, № 6, с. 63.
172. Marks, цит. соч., с. 202–203.
173. Schenk, цит. соч., с. 367.
Пятая часть
1. Письмо Николая I брату Константину Павловичу от 14 декабря 1825 г. // Эйдельман Н.Я. Обреченный полк. М.: Советский писатель, 1987, с. 85.
2. Анненкова П.Е. Записки жены декабриста // Русская старина, 1888; переизд.: М.: Прометей, 1915, с. 37–39.
3. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб.: Синодальная типография, 1901, с. 445. Воспоминания С.Г. Волконского обрываются как раз на сцене допроса у царя, на фразе: «Государь мне сказал: Я…». Вскоре автор скончался. Перед публикацией воспоминаний его сын дополнил их свидетельствами современников.
4. Великий князь Михаил Павлович. Воспоминания о событиях 14 декабря 1825 г. // Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. Подг. Сыроечковский Б.Е. М.—Л.: Гос. изд-во, 1926, с. 60.
5. Эйдельман, цит. соч., с. 269.
6. Там же, c. 273.
7. Анненкова, цит. соч., с. 52–53.
8. Записки княгини Марии Николаевны Волконской. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1904, с. 13.
9. Dahlmann D. Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2009 (рус. пер.: Дальман Д. Сибирь. С XVI в. по настоящее время. М.: РОССПЭН, 2015, с. 157).
10. Dostoïevski F. Souvenirs de la maison des morts / Фёдор Достоевский. Записки из мертвого дома. / Пер. André Markowicz. Arles: Babel, Actes Sud, 1999, с. 49.
11. Lincoln B. The Conquest of a Continent. New York: Random House, 1994, p. 166.
12. Bobrick B. East of the Sun. New York: Holt & Co, 1993, p. 282.
13. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб: типография А. Моригеровского, 1872, с. 100.
14. Dostoïevski, цит. соч., с. 357–358.
15. Шабалина И. Берёзов. СПб.: АИО, 2001.
16. Например: Dahlmann, цит. соч., с. 155; Bobrick, цит. соч., с. 272.
17. Dostoïevski, цит. соч., с. 76.
18. Там же, c. 116.
19. Там же, c. 123.
20. de Lanoye F. La Sibérie d'après les voyageurs les plus récents. Paris: Hachette, 1865, с. 394–395.
21. Там же, c. 413.
22. Записки Волконского, цит. соч, с. 327.
23. Беспалая Е. Без тебя я, как без жизни… // Родина, 2008, № 5, с. 118.
24. Экштут С. Пять сражений генерала Раевского // Родина, 2016, № 9, с. 45.
25. Записки Волконской, цит. соч., с. 15.
26. Третьяков С.Г. История Нерчинского горного округа. Неопубликованная рукопись. Чита, 2015, с. 6.
27. Третьяков С.Г. Нерчинская каторга. Неопубликованная рукопись. Чита, 2015, с. 1.
28. Там же, c. 37, 39.
29. Письмо Марии Николаевны Волконской мужу от 17 декабря 1826 г. // Беспалая, цит. соч., с. 119.
30. Там же.
31. Записки Волконской, цит. соч., с. 19.
32. Нерчинский Завод / Гл. ред. К.К. Ильковский. Чита: ЗабГУ, 2015, с. 468. Рудник, вошедший в состав комбината им. 50-летия СССР, был закрыт только в 1993 году.
33. Записки Волконской, цит. соч., приложение XIII, с. 141.
34. Там же, с. 45–47.
35. Записки Волконской, цит. соч., с. 83.
36. Некрасов Н. Русские женщины// Отечественные записки, 1872–1873.
37. Анненкова, цит. соч., с. 87–88.
38. Записки Волконской, цит. соч., с. 73.
39. Stendhal. Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Paris: Flammarion, 1994.
40. de Custine A. La Russie en 1839. Paris: Amyot, 1843, с. 153.
41. Dumas A. Le Maître d'armes. Paris: Syrtes, 2002.
42. de Lanoye, цит. соч., с. 424.
43. Анненкова, цит. соч., с. 137.
44. Там же, с. 129.
45. Dostoïevski, цит. соч., с. 496–497.
46. Беспалая, цит. соч., с. 121.
47. Dumas А. Voyage en Russie. Paris: Hermann, 2002, с. 480.
48. Travis Frederick F. George Kennan and the American-Russian Relationship 1865–1924. Athens: Ohio University Press, 1990, с. 115.
49. Travis, цит. соч., с. 39 (Kennan G. Scrapbook of Early Lectures Notices)
50. Там же.
51. Travis, цит. соч., с. 111 (Письмо Джорджа Кеннана Анне Л. Доус от 15 декабря 1886 г.).
52. Travis, цит. соч., с. 95.
53. Kennan G. Siberia and the Exile System. London: James R. Osgood, McIlvaine & Co, 1891, переиздание: New York: Russell & Russell, 1970, t. 2, p. 142, французское издание вышло в 1890.
54. Кеннан Дж. Сибирь и ссылка / Пер. с англ. И. Н. Кашинцева; вступ. ст. Ф. Волховского. СПб.: Издание Вл. Распопова, 1906, с. 112.
55. Kennan, цит. соч., т. 1, с. 86.
56. Кеннан, цит. соч., с. 172.
57. Kennan, цит. соч., т. 1, с. 89.
58. Там же, с. 90.
59. Там же, с. 91.
60. Кеннан, цит. соч., с. 179–180.
61. Там же, с. 172–173.
62. Там же, с. 174.
63. Там же, с. 174.
64. Travis, цит. соч., с. 127 (Письмо Росуэллу Смиту от 25 октября).
65. Кеннан, цит. соч., с. 25.
66. Кеннан, письмо семье, 4 сентября 1885 г.
67. Кеннан, цит. соч., с. 160.
68. Бабушка Е.К. Брешко-Брешковская о самой себе. Пг.: Народная власть, 1917, с. 8.
69. Брешко-Брешковская Е.К. Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 336 с. The Little Grandmother of the Russian Revolution, Reminiscences and Letters of Catherine Brechkovski. Ed. Blackwell A.S. Boston: Little, Brown, and Co., 1919.
70. Бабушка…, цит. соч., с. 8.
71. Travis, цит. соч., с. 136 (Volkhovski F. George Kennan in Tomsk. Free Russia, January 1st, 1984.
72. Там же, с. 326.
73. Travis, цит. соч., с. 154 (Письмо Росуэлла Смита Джорджу Кеннану от 13 октября 1887).
74. Лазарев Е. Джордж Кеннан//Воля России, июнь 1923, № 11, с. 34.
75. Кеннан, цит. соч., с. 160.
76. Бабушка…, цит. соч., с. 16.
77. The Little Grandmother…, цит. соч., с. 311.
78. Там же, с. 154–155 (Письмо Екатерины Брешко-Брешковской Джорджу Кеннану от 29 декабря 1910).
79. Впервые издано в Париже в 1973 г.
80. Travis, цит. соч., с. 174.
81. Там же, с. 178.
82. Там же.
83. Там же, с. 157–172 (подробное описание приемов, к которым прибегал Кеннан).
84. Ла Фибер У. The Turn of the Russian-American Relations, 1880–1905 // Русское открытие Америки. М.: РОССПЭН, 2002. с. 280–191.
85. Hoesli É. À la conquête du Caucase. Paris: Syrtes, 2006. Ч. 6.
86. Kennan, цит. соч., т. 1, с. 400–411.
87. Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб.: тип. А. Траншеля, 1871, с. 5.
88. Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев. СПб.: Издание редакции газеты «Восточное обозрение»: Типо-лит. «Герольд», 1904, с. 16 (рассказ об этом вечере и встрече Ядринцева с Максимовым).
89. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб.: Тип. А. Моригеров-ского, 1872, с. 1.
90. Там же, c.146.
91. Там же, c. 96.
92. Там же, c.147, 148, 152.
93. Там же, c. 150.
94. Там же, c. 97.
95. Там же, c. 97–98.
96. Там же, c. 82.
97. Faust W. Russlands Goldener Boden. Der sibirische Regionalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Köln: Bohlau, 1980, с. 546.
98. Лемке, цит. соч., с. 185.
99. Письмо Ивана Марманова, бывшего заключенного стройки 501, Вадиму Гриценко, Надым, 2015.
100. Интервью с Александром Альбертовичем Сновским (Гриценко В.Н. Стройка 501. История и современное состояние. Надым: Память Севера, 2015).
101. Гриценко В. История Ямальского Севера. Тюмень: Тюменский дом печати, 2010, с. 74.
102. Все эти детали содержатся в интервью Александра Сновского (Гриценко, цит. соч.).
103. Постановление Совета Министров СССР от 17 мая 1952 года № 2342-896, посвященное планам научных исследований и разработке проекта развития транспорта на Крайнем Севере.
104. Постановление Совета Министров СССР от 4 февраля 1947 года № 298–104 «О производстве проектно-изыскательских работ по выбору места для строительства порта, судоремонтного завода с жилым поселком в районе Обской губы и железной дороги от Северо-Печорской магистрали до порта» // Сталинские стройки ГУЛАГа 1930–1953 / Сост. А.И. Кокурин, Ю.Н. Моруков. М.: Междунар. фонд «Демократия»: ООО Издат. фирма «Материк», 2005, с. 301.
105. Постановление Совета Министров СССР от 22 апреля 1947 № 1255-331 (Сталинские стройки…, цит. соч., с. 303).
106. Инструкции начальнику ГУЛАГа МВД СССР В.Г. Наседкину от 4 февраля 1947 г.
107. Кондратьев А.Н. Воспоминания о 501-й стройке // Гриценко, 2010, цит. соч., с. 119–125.
108. Письмо С.Н. Круглова И.В. Сталину от 7 ноября 1947 г. // Сталинские стройки…, цит. соч., с. 309–310.
109. Гриценко В., Калинин В. История «мертвой дороги». Екатеринбург: Баско, 2010, с. 36.
110. Вергасов Ф. Сталинские железные дороги // www.pseudology.org/gazprom/501502503.
111. Гриценко, 2010, цит. соч., с. 33.
112. Побожий А. Мертвая дорога // Новый мир, 1964, № 8, с. 113.
113. Доклад 27 июня 1947 года С.Н. Круглова И.В. Сталину и Л.П. Берии // Сталинские стройки…, цит. соч., с. 306.
114. Гриценко, Калинин, цит. соч., с. 90.
115. Гриценко, 2010, цит. соч., с. 80.
116. Зима В.Ф. Голод в СССР 1946–1947 гг. Происхождение и последствия. М.: Ин-т Рос. Истории, 1996. 265 с.
117. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Под ред. Н. Верт и С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 2004, с. 84.
118. Там же.
119. Там же, с. 85.
120. Строительство 501–503, Чум – Салехард – Игарка. Салехард: Департамент по культуре, искусству и кинематографии Ямало-Ненецкого автономного округа, ГУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского». 2006, с. 11 (статья Н.А. Кукушкиной).
121. Вергасов, цит. соч., с. 10.
122. Гриценко, Калинин, цит. соч., с. 94.
123. Bährens K. Zur Geschichte die deutschen Kriegsgenfangene, Deutsche in Straflagern und Gefangnissen der Sowjetunion. Munich: 1965, t. 2, p. 149. Три тома этой истории заключенных, военнопленных немцев, составленной на основе тысяч свидетельств вернувшихся домой, несомненно, одни из самых документированных и богатых свидетельств жизни ГУЛАГа до появления книги Солженицына и открытия архивов. Тем не менее этот источник часто игнорируется в трудах западных исследователей данной темы.
124. Вергасов, цит. соч., с. 5 (свидетельство Натальи Даниловой).
125. Протокол Второй Партконференции обского ИТЛ Строительства 501, 2–4 июня 1951, Салехард (Гриценко, 2010, цит. соч., с. 82).
126. Свидетельство Ф.М. Редлева (Гриценко, Калинин, цит. соч., с. 92).
127. Справка Квартирно-эксплуатационного отдела ГУЛАГа о недостатках в снабжении заключенных одеждой и обувью, 7 августа 1947 (История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Том 4. Население ГУЛАГа: численность и условия содержания/ Сост. А.Б. Безбородов, В.М. Хрусталёв. М.: РОССПЭН, 2004, документ 222, с. 414–415).
128. Например: Nivat G. Le monastère-prison des îles Solovk // Les Sites de la mémoire russe, t.1: Géographie de la mémoire russe. Paris: Fayard, 2007 p. 509–513; Волков О. Погружение во тьму. Париж: Atheneum, 1987; Florensky P. Lettres de Solovki. Lausanne: L'Age d'Homme, 2012; Соловецкое море, Архангельск, 2007, № 6; Chiriaev B. La Veilleuse des Solovki. Paris: Syrtes, 2005; Wilk M. Journal d'un loup. Lausanne: Libretto, Noir sur Blanc, 1999; Чумичева О.В. Соловецкое восстание. М.: ОГИ, 2009; Tchirkov Y. C'était ainsi… Un adolescent au GOULAG. Paris: Syrtes, 2009; Malsagov S., Kisselev-Gromov N. Aux origines du GOULAG. Récits des îles Solovki. Paris, Francois Bourin, 2011; Robson Roy R. Solovki. London: Yale University Press, 2004.
129. Applebaum A. GULAG, a History of the Soviet Camps. London: Allen Lane, 2003. Французский перевод: GOULAG, une histoire. Paris: Grasset, 2005, p. 68–73.
130. История сталинского ГУЛАГа, т. 4, цит. соч., с. 35.
131. Например, исследование, ставшее классикой историографии ГУЛАГа: Dallin David J., Nikolaievsky Boris I. Forced Labor in Soviet Russia. London: Yale University Press, 1947.
132. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Paris: Ymca Press, 1973 / Пер. с фр.: L'Archipel du GOULAG. Paris: Seuil, 1974. Несмотря на важность стройки 501/503, Солженицын посвятил ей всего лишь несколько страниц.
133. Шаламов В. Колымские рассказы. Paris: Ymca Press, 1982 / Пер. с фр.: Récits de Kolyma. Paris: La Découverte, Fayard, 1986.
134. История сталинского ГУЛАГа, т. 4, цит. соч., с. 33, 34.
135. Там же, с. 34–40.
136. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960. Справочник. М.: Звенья, 1998, с. 525.
137. Там же, с. 38, 39; История сталинского ГУЛАГа…, т. 1, цит. соч., с. 58.
138. История сталинского ГУЛАГа…, т. 1, цит. соч., с. 30.
139. История сталинского Гулага, т. 4, цит. соч., с. 35.
140. Mochoulski F. GULAG Boss, a Soviet Memoir. Oxford: Oxford University Press, 2011, с. 49.
141. История сталинского ГУЛАГа…, цит. соч., т. 1, с. 39; т. 4, с. 54–55.
142. Гриценко, Калинин, цит. соч., с. 120–123.
143. Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры. М.: Свободная мысль, 2000, с. 112–119.
144. Побожий, цит. соч., с. 142.
145. Там же, с. 178.
146. Там же, с. 174.
147. Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова о сравнительной стоимости строительных работ, выполняемых МВД СССР, 9 октября 1950//История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-хгодов. Собрание документов в 7 томах. Т. 3. Экономика ГУЛАГа / Отв. ред. и сост. О.В. Хвельнюк. М.: РОССПЭН, 2004, с. 271–274.
148. Тимошенко М. Нам бы только за бережок Аляски зацепиться… // Родина, 2015, № 3, с. 42–49.
149. Например, Побожий, цит. соч., с. 180–181, Гриценко, цит. соч., с. 114–115.
150. История сталинского ГУЛАГа, цит. соч., т. 3, с. 37; Гриценко, 2010, цит. соч., с. 195–196.
151. Ламин В.А. Ключи к двум океанам. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1981, с. 215.
152. Липатова Л.Ф. И каждый раз на век прощайтесь? Воспоминания О. Кочубей. Салехард: Северные Просторы, 2006, с. 98.
153. Гриценко, Калинин, цит. соч., с. 199.
154. Енисейский энциклопедический словарь / Ред. Н.И. Дроздов. Красноярск: Красноярская общественная организация Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998, с. 577–578.
155. Интервью Н.Н. Урванцева А.Л. Львову «Никто не посмел их разлучить. Ничто не разлучило. А это единственное, что их чуть-чуть пугало» // О времени, о Норильске, о себе… Воспоминания. Кн. 10 / Ред. – сост. Г.И. Касабова. М.: ПолиМЕдиа, 2008, с. 121.
156. Синюков В.В. Александр Васильевич Колчак, от исследователя Арктики до Верховного правителя России. М.: КноРус, 2004. 528 с.
157. Долгов В.И. И при этом Николай Николаевич Урванцев так и остался для меня загадочным человеком…//О времени…, цит. соч., с. 159.
158. Урванцев Н.Н. Таймыр – край мой северный. М.: Мысль, 1978.
159. Там же.
160. Львов А.Л. Черные дни Урванцева после звездного часа…// О времени…, цит. соч., с. 74–78.
161. Там же, с. 80.
162. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960: [Документы] / Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров; науч. ред.: В. Н. Шостаковский. М.: Фонд «Демократия», 2000, с. 747 и след.
163. Bährens, цит. соч., с. 163.
164. Долгов, цит. соч., с. 159.
165. История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Т. 6. Бунты и забастовки заключенных / Отв. ред. и сост. В.А. Козлов, сост. О.В. Лавинская. М.: РОССПЭН, 2004, с. 44.
166. Там же, с. 56.
167. Подробнее в энциклопедии русской криминальной татуировки, составленной бывшим лагерным охранником Данцигом Балдаевым: Russian Criminal Tattoo, t. 1, 2, London: Fuel, 2003–2009. Балдаев является также составителем сборника зарисовок, иллюстрирующих жизнь в лагерях, в частности изъятия имущества охранниками и уголовниками. Эту книгу не стоит читать людям впечатлительным: Baldaev D. Drawings from the GULAG. London: Fuel, 2010. Французское изд.: Gardien de camp: tatouages et dessins du GOULAG. Genève: Syrtes, 2013.
168. Замечательный очерк Жака Росси, также бывшего заключенного: Rossi J. Manuel du GOULAG. Paris: Le Cherche-midi, 1997. 332 с. Русское издание: Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. М.: Просвет, 1991. 269 с.
169. История Сталинского ГУЛАГа, т. 6, цит. соч., с. 68 (ГАРФ, фонд Р-9414).
170. Там же.
171. Scholmer J. La Grève de Vorkouta. Paris: Amiot-Dumont, 1954, p. 157.
172. История Сталинского ГУЛАГа, т. 6, цит. соч., с. 240–241 (Из докладной записки исполняющего обязанности начальника ГУЛАГа Кобулова министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову о массовых беспорядках и убийстве заключенных, 4 февраля 1952).
173. Там же, с. 75.
174. Макарова А. Норильское восстание. Недатированная рукопись. Фонд Сахарова, Москва.
175. Bährens, цит. соч., с. 166.
176. История Сталинского ГУЛАГа, т. 6, цит. соч., с.84 (С.Н. Круглов, ГАРФ, фонд Р-9401, дело 213).
177. Свидетельство Эмми Гольдакер (Emmy Goldacker), записанное автором в октябре 2013, а также Goldacker E. La Valise en bois. Paris: La Table Ronde, 1976.
178. Bährens, цит. соч., с. 200–201.
179. История Сталинского ГУЛАГа, т. 6, цит. соч., с. 322 (Докладная записка начальника тюремного управления МВД СССР об обстановке в Горном лагере).
180. Там же, с. 88–89.
181. Макарова, цит. соч.
182. Bährens, цит. соч., с. 201.
183. Там же.
184. Макарова, цит. соч.
185. Там же.
186. История Сталинского ГУЛАГа, т. 6, цит. соч., док. 150, с. 349–353 (Обращение заключенных Горного лагеря МВД СССР к Советскому правительству, Норильск, 27 июня 1953).
187. Макарова, цит. соч.
Шестая часть
1. Armstrong T. The Northern Sea Route, Soviet Exploitation of the North-East Passage. Cambridge: Scott Polar Research Institute-Cambridge University Press, 1952, p. 13.
2. Сибиряков А. К вопросу о внешних рынках Сибири. Тобольск: Тип. Губ. правл., 1894, с. 11.
3. Королев В. Радетель севера // Водный транспорт, 26 ноября 1983.
4. Визе В.Ю. Моря советской Арктики. М.-Л.: изд-во Главсевморпути, 1948; Пере-изд.: Моря российской Арктики. М.: Паулсен, 2008, с. 207.
5. Там же.
6. Потанин Г. Нужды Сибири// Сибирь, ее современное состояние и нужды: сборник статей / Под ред. И.С. Мельника. СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1908, с. 272–273.
7. «Дело о развитии торговых сношений с Сибирью морским путем по реке Енисею», Архив Красноярской губернии, 1880. Цит. в: Krypton C. The Northern Sea Route, Its Place in Russian Economic History before 1917. New York: Research Program on the USSR, 1953, с. 39.
8. Комарицын С. Романтик Севера. Красноярск, 2013, www.gornovosti.ru/tema/history/romantik-severa35693.htm
9. Там же.
10. Фрейдин И.Л. Михаил Константинович Сидоров // Летопись Севера. Т. 5. М.: Мысль, 1971, с. 253.
11. Богданов И. Неутомимый поборник севера // Петербургская фамилия: Латки-ны. СПб.: Искусство-СПб, 2002, с. 50
12. Голинская О.А., Минина Е.Л. Промышленники и меценаты Сибири // Природа, 2008, № 6, с. 90 (Архив АН России, фонд 279, опись 3, № 11).
13. Королёв, цит. соч.
14. Студитский Ф. История открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до Берингова пролива. Т. 1. СПб.: Тип. Д.И. Шеметкина, 1883, с. 43.
15. Сидоров М.К. Север России. СПб.: в тип. Почтового Департамента, 1870, с. 76.
16. Nordenskjold A. E. The Voyage of the Vega round Asia and Europe, vol. 1. London: MacMillan, 1881, p. 373; Переизд. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
17. Фрейдин, цит. соч., с. 257.
18. Голинская и Минина, цит. соч., с. 93.
19. Визе, цит. соч., с. 210.
20. Фрейдин, цит. соч., с. 262–263 (архив АН, фонд 270).
21. См. подробнее в: Шахеров В.П. Иркутск купеческий. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2006, с. 17–43.
22. Там же.
23. Дикун А.С. Династия Сибиряковых и ее роль в развитии экономической, общественной и культурной жизни восточной Сибири в XVIII – начале XIX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. ИГУ, 2013, с. 135.
24. Дикун, цит. соч., приложение 9, с. 228.
25. Голос, № 314, Санкт-Петербург, 13 ноября 1875.
26. Nordenskjold, цит. соч., т. 1, с. 13.
27. Nordenskjold, цит. соч., с. 462.
28. Там же, том 2, с. 67.
29. Иннокентий Сибиряков, цит. в: Шрохова Т. Иркутянин-святогорец Иннокентий. Иркутск: Репроцентр А1, 2014, с. 72.
30. Борисов А.А. У Самоедов. От Пинеги до Карского моря. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1907; Переизд.: М.: Паулсен, 2013, с. 1.
31. Там же.
32. Там же, с. 2.
33. Власов Р. В. Александр Борисов, художник, исследователь севера, инженер // Вехи истории, 2006, № 1 (61), с. 30–32.
34. Боцяновский В. Художник вечных льдов / Борисов Н.П. Художник вечных льдов. Л.: Художник РСФСР, 1983, с. 185.
35. Там же, с. 192.
36. Боярский П. По следам художника А.А. Борисова. М.: Паулсен, 2013, с. 292.
37. Там же.
38. Полный рассказ об этом происшествии см.: Борисов, цит. соч., с. 17–35.
39. Ламин В.А. Ключи к двум океанам. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1981, с. 82.
40. Там же.
41. Ламин, цит. соч., с. 101.
42. Ленин В.И. Собрание сочинений. М.: Политиздат, 1965–1969. Том 38, с.13.
43. Боцяновский, цит. соч., с. 202.
44. Воблый В.М., Борисов А.А. Великий северный путь. Великий Устюг: Издание Губплана, 1929.
45. Ламин, цит. соч., с. 113 (Архивы ГАХК, фонд 937, оп. 1, д. 2, I. 212)
46. Муров М.С. Записки полярника. Л.: Лениздат, 1971, с. 24–25 (воспоминания Георгия Шашковского).
47. Кренкель Э. RAEM – мои позывные. М.: Советская Россия, 1973, с. 149.
48. Шноль С.Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. М.: Либроком, 2012, с. 294 (из: Чижевский А.Л. Вся жизнь. Годы и люди. М.: Советская Россия, 1974).
49. Там же, с. 166.
50. Ермолаев А.М., Дибнер В.Д. Михаил Михайлович Ермолаев. Жизнь исследователя и ученого. СПб.: Эпиграф, 2005, с. 113.
51. Трагическая судьба этого выдающегося ученого описана в исключительно интересной книге Оливье Ролена: Rolin O. Le Météorologue. Paris: Seuil-Paulsen, 2014.
52. Поход Челюскина. Т. 1. М.: Изд. редакции «Правды», 1934, с. 9.
53. Horensma P. The Soviet Arctic. Londres & New York: Routledge, 1991, с. 35.
54. Корякин В.С. Рудольф Лазаревич Самойлович. М.: Наука, 2007, с. 129.
55. Каневский З. Директор Арктики. М.: Изд-во политической литературы, 1977, с. 31.
56. Пахтусов П.К., Моисеев С.А. Дневные записки. М.: Географгиз, 1956, с. 51.
57. MacCannon J. Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union 1932–1939. New York: Oxford University Press, 1998, с. 46.
58. Шноль, цит. соч., с. 154.
59. Ширшова М.П. Петр Петрович Ширшов. М.: Ин-т океанологии РАН, 2005, с. 12.
60. Поход «Челюскина», цит. соч., с. 18.
61. Шевелев М.И. Арктика – судьба моя. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999 (по: Корякин В.С. Челюскинская эпопея. М.: Вече, 2011а, с. 34–36).
62. Там же.
63. Свидетельство М.И. Шевелева (Ларьков С., Романенко Ф. Законвоированные зимовщики // «Враги народа» за полярным кругом. М.: Паулсен, 2010, с. 297).
64. Корякин, 2007, цит. соч., с. 180.
65. Белов М.И. Научное и хозяйственное освоение советского севера 1933–1945 годы. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1969, с. 109 (Письмо О. Шмидта В. Воронину).
66. Белов М.И., цит. соч., с. 111.
67. Ширшова, цит. соч., с. 12.
68. Белов, цит. соч., с. 111.
69. Ширшова, цит. соч., с. 13.
70. Ларьков С.А. Челюскинская эпопея, историческая мифология и объективность истории // «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 256.
71. Поход Челюскина, цит. соч., с. 65.
72. Там же, с. 96.
73. Там же, с. 293–321.
74. Там же, с. 306.
75. Там же, с. 121.
76. Там же, с. 38.
77. Там же, с. 159.
78. Корякин, 2011а, цит. соч., с. 70.
79. Там же, с. 71.
80. Телеграмма от 24 января 1934 года, адресованная А.Н. Бобровым М.И. Калинину в Кремль (Ларьков, цит. соч., с. 254).
81. Поход Челюскина, цит. соч., с. 172.
82. Кренкель, цит. соч., с. 193.
83. Поход Челюскина, цит. соч., с. 285.
84. Там же, с. 297.
85. Ширшова, цит. соч., с. 15.
86. Поход Челюскина, цит. соч., с. 328–329. Кадры кораблекрушения дошли до нас в хорошем качестве.
87. Там же, с. 43.
88. Хмызников П., Ширшов П. На Челюскине. Л.: изд-во Главсевморпути, 1936, с. 136.
89. Ларьков, цит. соч., с. 261.
90. Поход Челюскина. Т.2. М.: Изд. редакции «Правды», 1934, с. 130.
91. Корякин, 2011а, цит. соч., с. 130.
92. Волков И.А. 40 лет Челюскинской эпопее//Известия Всесоюзного географического общества, 1974, т. 106, вып. 6, с. 505.
93. Как мы спасали челюскинцев. М.: Изд. редакции «Правды», 1934, с. 102–103.
94. Horensma, цит. соч., с. 57.
95. Ларьков, цит. соч., с. 247.
96. Ларьков, цит. соч., с. 257 (телеграмма новгородского оперсектора ОГПУ в Москву от 9 июня 1934 г.).
97. Письмо героев Советского Союза И.В. Сталину от 18 июня 1934 года, Свердловск. Архив музея Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург.
98. Интервью с автором, сентябрь 2015 года.
99. Бронтман Л.К. На вершине мира. М.: Гослитиздат, 1938, с. 138.
100. MacCannon, цит. соч., с. 72.
101. Там же, с. 34–39.
102. Там же, с. 37.
103. Корякин, 2007, цит. соч., с. 185.
104. MacCannon, цит. соч., с. 44.
105. Совещание хозяйственных работников системы Главсевморпуть, январь 1936, с. 23, 24, 181 (Корякин, 2007, цит. соч., с. 185–186).
106. Schlögel K. Terror und Traum, Moskau, 1937. Munich: Carl Hanser Verlag, 2008, с. 193. Фундаментальный труд Карла Шлёгеля содержит широкое полотно эпохи и интереснейший анализ этого периода.
107. Ларьков С. Ледяное дыхание триумфа // «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 340.
108. Бурлаков Ю. Папанинская четверка. Взлеты и падения. М.: Паулсен, 2007, с. 98.
109. Там же, с. 116 (Ответы на анкету «Комсомольской правды»).
110. Ширшова, цит. соч., с. 16.
111. Федоров Е.К. Полярные дневники. Л.: Гидрометеоиздат, 1979, с. 50.
112. Тихомиров Г.С. К истории экспедиции Папанина. М.: Мысль, 1980, с. 107.
113. Schlögel, цит. соч., с. 396.
114. Папанин И.Д. Жизнь на льдине. М.: Мысль, 1977, с. 94.
115. Ларьков, цит. соч., с. 342.
116. Корякин В.С. Отто Шмидт. М.: Вече, 2011b, с. 297–298.
117. Легендарная палатка является частью экспозиции санкт-петербургского Музея Арктики и Антарктики.
118. Бурлаков, цит. соч., с. 93.
119. Папанин, цит. соч., с. 197.
120. Корякин, 2011b, цит. соч., с. 301.
121. Бурлаков, цит. соч., с. 191 (дневник И.Д. Папанина).
122. Ширшова, цит. соч., с. 165 (дневник П.П. Ширшова).
123. Корякин, 2011b, цит. соч., с. 307.
124. Кренкель Э.Т. Четыре товарища. М.—Л.: Издательство Главсевморпути, 1940, с. 258.
125. Папанин, цит. соч., с. 248.
126. Борис Дзердзеевский (Корякин, цит. соч., с. 325).
127. В некоторых источниках этот пароход ошибочно фигурирует под названием «Муром» (например: Ермолаев, Дибнер, цит. соч., с. 229 и след.)
128. Корякин, цит. соч., с. 327 (радиотелеграмма Папанина Шмидту от 1 февраля 1938 г.).
129. Среди них такой свидетель событий, как Михаил Ермолаев, а также историки Сергей Ларьков и Владислав Корякин.
130. Ларьков, цит. соч., с. 343.
131. Корякин, 2011b, цит. соч., с. 309.
132. Ларьков С.А. Челюскинская эпопея: историческая мифология и объективность истории // «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 273.
133. Там же, с. 275.
134. Ларьков С. Ледяное дыхание триумфа// «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 348.
135. MacCannon, цит. соч., с. 160.
136. Ларьков С. «Враги народа» за полярным кругом // «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 21–163.
137. Водолазов А. Там, за далью непогоды//Голоса Сибири: литературный альманах. Вып. 4. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006, с. 283–334.
138. Ларьков С. Ледяное дыхание триумфа// «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 345.
139. Шевелев М.И. Арктика – судьба моя. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999, с. 69.
140. Корякин, 2007, цит. соч., с. 251.
141. Кожухов (Ермолаев, Дибнер, цит. соч., с. 233–234).
142. Ермолаев, Дибнер, цит. соч., с. 236 (газеты «Правда» и «Известия» от 5 мая 1938).
143. Там же, с. 252.
144. Ларьков С. Судьбы участников знаменитой экспедиции // «Враги народа» за полярным кругом, цит. соч., с. 220–221.
145. Ермолаев, Дибнер, цит. соч., с. 303.
146. Репрессированные геологи. М.-Спб.: ВСЕГЕИ, 1999, 452 с.
147. Ширшова, цит. соч., с. 236.
Седьмая часть
1. Речь товарища И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы // Правда, № 35, 10 февраля 1946 г.
2. Славкина М.В. Байбаков. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2010, c. 63.
3. Там же.
4. Обращение к Главному Военному совету 13 января 1941 г. // Москаленко К.С. На юго-западном направлении. Воспоминания командарма. Кн. I. М.: Наука, 1969, c. 5.
5. Славкина М.В., цит. соч., с. 122.
6. Там же, c. 129.
7. Из общего количества 9971 постановлений. Там же, с. 172.
8. Базунов Б. «Ту-104» развивает рекордную скорость // Комсомольская правда, 1957, № 217. Цит. по Славкина М.В., цит. соч., с. 229.
9. Славкина М.В. Российская добыча. М.: Родина МЕДИА, 2014, с. 227.
10. Кострин К.В. Первые известия о нефтеносности Сибири // Летопись Севера. Т. 5. М.: Мысль, 1971, с. 194–195.
11. Там же, с. 196.
12. Там же, с. 202.
13. Шедченко А., Балмышева Н., Потапов С.С. История геологического поиска. К 50-летию открытия западносибирской нефтегазоносной провинции /Под ред. В.И. Карасева. М.: Пента, 2003, c. 33.
14. Там же, с. 39.
15. Интервью академика Губкина «О новых данных о богатейших запасах нефти на востоке». Правда, 12 июня 1932 г. // Нефть и газ Тюмени в документах. 1901–1965. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1971, с. 9.
16. Телеграмма геолога В.Г. Васильева в редакцию газеты «Советский Север» от 20 июля 1934 г. // Там же, с. 26.
17. Долгая дорога к нефти / Ред. Н.Я. Медведев. Сургут: ОАО «Сургутнефтегаз», 2002, с. 23.
18. Иголкин А.А. Нефтяная политика СССР в 1928–1940 годах. М.: Ин-т российской истории РАН, 2005, с. 104.
19. Комгорт М.В. Западно-Сибирская нефтегазовая провинция: история открытия. Тюмень: Вектор Бук, 2008, с. 64.
20. Там же.
21. В 1953 году в Сибири было пробурено 55 скважин, а всего за период с 1940 по 1954 годы – 235 (Карпов В. Авария, ставшая открытием // Родина, 2008, № 10, с. 71).
22. Петрушин А. Нефть есть везде, где ее ищут // Родина, 2008, № 10, с. 73.
23. Из беседы автора с Валентиной Ивановной Ахтямовой, Берёзово, 12 июня 2010 г.
24. Приказ № 433-а по Союзному Сибирскому геофизическому тресту, Ханты-Мансийск, Архив центральной комплексной геофизической экспедиции НТГУ, 23 июля 1953 г. // Нефть и газ Сибири в документах, с. 94–95.
25. История геологического поиска, с. 54.
26. Свидетельство В.В. Толкачева // Там же, с. 54.
27. Эрвье Ю.Г. Сибирские горизонты. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное изд-во, 1999, с. 42.
28. Из беседы автора с Валентиной Ивановной Ахтямовой. Берёзово, 12 июня 2010 г.
29. Из беседы автора с группой пожилых жителей Берёзова, 12 июня 2010 г.
30. Карпов В., цит. соч., с. 70–71.
31. Славкина, 2014, цит. соч., с. 244. Монография Марии Славкиной, к сожалению, не переведенная на иностранные языки, – русский аналог знаменитой книги Дэниэла Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» (Yergin D. H. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster, 1991), в которой современная история рассматривается сквозь призму интересов нефтедобычи. Впечатляющее исследование российской исследовательницы истории энергетики удачно дополняет труд ее американского коллеги.
32. Западная Сибирь – крупнейшая нефтегазоносная провинция. Этапы открытия и освоения. Материалы юбилейной конференции. Тюмень, 2000, с. 101.
33. Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956–1960 гг. // Нефть и газ Тюмени в документах, с. 125–126.
34. Хрущёв С.Н. Реформатор. Т. 3: На закате власти. М.: Вече, 2017, с. 455.
35. Эрвье, цит. соч., с. 139.
36. Там же.
37. В 1950–1980-е годы под влиянием идей хрущевской «оттепели» возникла целая литературная школа, известная под названием «деревенской прозы», в которую входили такие знаменитые писатели, как Распутин и Астафьев. См. также: Gillespie D.A Paradise Lost? Siberia and Its Writers, 1960 to 1990 // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture / Eds. Galya Diment, Yuri Slezkine. New York: St. Martin's Press, 1993, с. 255 и далее.
38. Воспоминания академика А.А. Трофимука // Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват. учреждений. Т. 3. Новосибирск, ИНФОЛИО-пресс, 1999, с. 260.
39. Некрасов В.Л., Стафеев О.Н., Хромов Е.А. Нефтегазовый комплекс СССР (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.): экономические и институциональные аспекты развития. [Электронный ресурс]. Сургут: РИО Сургутский гос. пед. ун-т, 2012, с. 93.
40. Карпов В., Колева Г. Трудный старт Сибири // Родина, 2013, № 6, с. 25.
41. Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда идет. М.: Советская Россия, 1978, с. 232.
42. Переплеткин Ю. Фарман неукротимый // Родина, № 10, 2008, с. 93.
43. Неменова Л.М. Главный геолог. М.: Советская Россия, 1975, с. 156.
44. Баранов Н.Н. и др. Древний город на Оби. История Сургута. Екатеринбург: Тезис, 1994, с. 293–294.
45. Салманов Ф.К. Сибирь – судьба моя. М.: Молодая гвардия, 1988. 318 с.
46. Эрвье, цит соч., с. 147. Известно почти такое же описание этой сцены с точностью до нескольких слов (Зубарев А. Сургутские тетради. Сургут – Екатеринбург: Баско, 2009, с. 33–34).
47. Радиограмма начальника Шаимской нефтеразведочной экспедиции М.В. Шалавина начальнику геологического управления Ю.Г. Эрвье от 21 июня 1960 г. // Нефть и газ Тюмени в документах, цит. соч., документ 122, с. 190.
48. Эрвье, цит соч., с. 93.
49. Интервью академика А.А. Трофимука корреспонденту газеты «Тюменская правда» «О значении открытия Шаимского месторождения промышленной нефти, Тюмень», 23 июня 1960 г. //Нефть и газ Тюмени в документах, цит. соч., с. 191.
50. Салманов Ф.К. Я – политик. М.: РТК-регион, 2006, с. 87.
51. Там же.
52. Славкина, 2014, цит. соч., с. 247.
53. Салманов Ф. Разведчик недр без права на ошибку // Элита-Region. 2004, № 3, с. 18.
54. Переплеткин, цит. соч., с. 94.
55. Зубарев, цит. соч., с. 38.
56. Конторович А.Э. Фарман Салманов // Наука из первых рук, 2007, № 3, с. 27.
57. Салманов, 2004, цит. соч., с. 16.
58. Wood A. Russia's Frozen Frontier. London: Bloomsbury, 2011, с. 227.
59. Высоцкий В. Тюменская нефть. Первая запись 1972 г.
60. Переплеткин, цит. соч., с. 96.
61. Славкина М. История принятия решения о промышленном освоении Западной Сибири // Экономическая история. Обозрение. Вып. 10. М.: Изд-во МГУ, 2005, с. 147.
62. Карпов, Колева, цит. соч., с. 25.
63. Специализация производства требует глубокого знания экономики. Беседа товарища Хрущёва с работниками колхоза «Авангард» // Правда, Август 1964 г., № 224.
64. Хрущёв С.Н., цит. соч., с. 400.
65. Выступление Гришина перед Президиумом ЦК КПСС 12 октября 1964 г. // Хрущёв, цит. соч., с. 436.
66. Млечин Л. Как Брежнев сменил Хрущёва. М.: Центрполиграф, 2015, с. 285.
67. Там же.
68. Трапезников А. Звездный час Виктора Муравленко // Родина, 2008, № 10, с. 86.
69. Там же, с. 267.
70. XXIII Съезд КПСС. Стенографический отчет. Том 3. М.: Политиздат, 1966, с. 334.
71. Исупов, Кузнецов, цит. соч., с. 262.
72. Долгая дорога к нефти, цит. соч., с. 66.
73. Баталин Ю.П. Воспоминания об эпохе. М.: Славица, 2014, с. 57.
74. Исупов, Кузнецов, цит. соч., с. 263.
75. Там же, с. 264.
76. Славкина, 2014, цит. соч., с. 268; Исупов, Кузнецов, цит. соч., с. 264.
77. В 1955 году всего 8 % населения СССР были подключены к газовым сетям (Славкина М. Газовая революция// Родина. 2009, № 10, с. 47).
78. Подшибякин В.Т. Ямальский каравай// Энергия Ямала. Сб. документов и материалов/Сост. В. Битюков, А. Брехунцов. Тюмень, 2002, с. 407.
79. Карпов В. От таких цифр и голова может лопнуть // Родина, 2009, № 10, с. 56–57.
80. Гольдберг Р. «Блямбы на карте» Василия Подшибякина // Родина, 2009, № 10, с. 58–59.
81. Карпов В. Анатомия тюменского подвига // Родина, 2012, № 8, с. 21.
82. Лагунов К. Нефть и люди // Новый мир, 1966, № 7, с. 104.
83. Лагунов К. После нас… // Наш современник, 1989, № 5, с. 100.
84. Карпов, 2009, цит. соч., с. 22.
85. Там же, с. 21.
86. Баранов и др., цит. соч., с. 314.
87. Карпов В., Ганопольский М. За туманом и за запахом тайги? // Родина. 2013, № 2, с. 74–76.
88. Карпов, Ганопольский, цит. соч., с. 74; Карпов В. Снятся людям иногда нефтяные города//Родина, 2015, № 1, с. 18.
89. Баранов и др., цит. соч., с. 311.
90. Например, Гольдберг Р. Улица Доры Семеновны // Родина, 2008, № 10, с. 98–99.
91. Юрасова М.К., Юрасова Г.М. Нефтяник. М.: Советская Россия, 1981, с. 126.
92. Баранов и др., цит. соч., с. 312.
93. Mote V. Environmental Constraints to the Economic Development in Siberia // Soviet Natural Resources in the World Economy. Chicago: Chicago Press, 1983. По вопросу о затратах, связанных с холодом, также Hill F., Gaddy С. The Siberian Curse. Brookings Institution, 2003. Американские авторы вводят показатель TPC (temperature per capita, температура на душу населения), на основании которого сравнивают пороговые затраты на строительство городов в Сибири и в Канаде и делают вывод об абсолютной экономической необоснованности большей части сибирских городов.
94. Список дефицитных продуктов ОРС (Карпов, 2015, цит. соч., с. 18).
95. Баранов и др., цит. соч., с. 313.
96. А я еду за туманом. Песня. Слова и музыка Юрия Кукина. 1964.
97. Постановление правительства СССР от 29 января 1965 года // Карпов, 2012, цит. соч., с. 21.
98. Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной Сибири (1964–1985 гг.). Тюмень, 2002, с. 67.
99. Косторниченко В. Газ – трубы // Родина, 2009, № 10, с. 51.
100. Там же.
101. http://www.pseudology.org/gazprom/Nefteprovody.htm.
102. Славкина, 2014, цит. соч., с. 282.
103. За вычетом экспорта в страны соцлагеря, по оценкам Марии Славкиной, в западные страны было продано 63,6 млн тонн.
104. Славкина, 2014, цит. соч., с. 282.
105. Там же, с. 257.
106. Г.А. Арбатов. Человек системы. Москва, 2002, с. 313.
107. Славкина, 2010, цит. соч., с. 146.
108. Славкина, 2014, цит. соч., с. 284.
109. РГАНИ. Ф. 89, Оп. 42, Д. 66, Л. 6 (Славкина М. Острые грани черного золота// Родина, 2016, № 4, с. 132).
110. Вахитов Г.Г. Нефтяная промышленность России: вчера, сегодня, завтра. М.: ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ), 2008, с. 279.
111. Славкина, 2014, цит. соч., с. 292, 297.
112. Там же, с. 294.
113. Schweitzer P. Victory. New York: Atlantic Monthly Press, 1994; Laurent É. La face cachée du pétrole. Paris: Plon, 2006; Goldman M. Petrostate. Putin, Power and the New Russia. New York: Oxford University Press, 2008, в т. ч. с. 43–54.
114. Славкина, 2014, цит. соч., с. 306.
115. Гайдар Е. Гибель империи. М.: РОССПЭН, 2006, с. 224–231.
116. М.С. Горбачёв. Жизнь и реформы. Кн. 1. М.: Новости, 1995, с. 284.
117. Славкина, 2014, цит. соч., с. 296.
118. USA and USSR: Facts and Figures. Washington, D.C.: US Department of Commerce and State Commitee on Statistics ot the USSR, Bureau of the Census, 1991.
119. Российская нефтяная промышленность. Москва, Нефтяная добыча, 2016.
Хронология
1582–1584
Экспедиция Ермака Тимофеевича, захват Искера, столицы хана Кучума.
1586
Основание острога (крепости) Тюмень на реке Тура.
1587
Основание острога Тобольск.
1593
Основание острога Берёзово.
1594
Основание острога Сургут.
1595
Основание острога Обдорск (нынешний Салехард).
1598
Основание острога Верхотурье, первого крупного налогового и таможенного центра на дороге между Сибирью и европейской частью России.
1601
Основание острога Мангазея.
1604
Основание острога Томск.
1619
Основание острога Енисейск.
1628
Основание острога Красноярск.
1632
Основание острога Якутск.
1633
Казаки спускаются по Лене к берегам Северного Ледовитого океана.
1638–1639
Иван Москвитин и около 30 казаков прибывают на берега Тихого океана в Охотское море.
1639
Казачья экспедиция (Посник Иванов) до реки Индигирка.
1643
Экспедиция Курбата Иванова из Якутска на Байкал.
1643–1646
Экспедиция Василия Пояркова на Амур.
1644
Основание Нижнеколымского зимовья.
1648
Семён Дежнёв, Морская экспедиция.
1649
Основание Анадырского острога Дежнёвым и его людьми.
1649–1653
Экспедиция Ерофея Хабарова на Амур.
1658
Основание Нерчинского острога.
1661
Основание острога Иркутск.
1689
Нерчинский договор между Китаем и Россией. Россия отказывается от всех претензий на бассейн Амура.
1697–1699
Экспедиция Владимира Атласова и его отряда на Камчатку.
1704
Основание Нижнекамчатского острога.
1704
Строительство первого серебролитейного завода в Нерчинске в Забайкалье.
1711
Открытие северных Курильских островов.
1716
Основание крепости Омск.
1725–1727
Первая камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга.
1727
Кяхтинский договор между Китаем и Россией. Граница идет от реки Аргуни к Тихому океану.
1729
Первое литейное и медное производство на Алтае, основанное семьей Демидовых.
1733–1743
Вторая Камчатская экспедиция (также известная как Великая Северная экспедиция) во главе с Витусом Берингом. Она состоит из академического отряда и шести морских отрядов с отдельными картографическими задачами.
1733
Создание почтовой службы от Москвы до Тобольска.
1740–1760
Начало строительства тракта, главной трассы, соединяющей европейскую Россию с Сибирью.
1787
Передача Нерчинских шахт и заводов от государственной администрации Личному кабинету Ее Величества.
1799
Создание «Российско-Американской Компании».
1819–1821
Господин М. Сперанский – генерал-губернатор Сибири.
1822
Сибирские реформы Сперанского.
1826–1856
Депортация приговоренных к каторге и ссылке декабристов в Сибирь и их жизнь там.
1830
Начало добычи золота в Сибири.
1849–1855
Экспедиция Геннадия Невельского на Амур.
1850-е годы
Рождение и развитие сибирского регионалистского и автономистского движения.
1858
Айгунский договор между Россией и Китаем. Россия получает левый берег великой реки до ее устья.
1860
Пекинский договор между Россией и Китаем. Россия получает Дальневосточную провинцию и новый сегмент тихоокеанского побережья.
1860
Основание Владивостока.
1867
Продажа Аляски США.
1875
Санкт-Петербургский договор между Японией и Россией. Россия уступает Курильский архипелаг в обмен на отказ Японии от любых претензий на остров Сахалин.
1888
Открытие Томского университета.
1889
Новый закон, разрешающий крестьянскую колонизацию Сибири.
1891–1904
Строительство Транссибирской магистрали.
1893
Основание Ново-Николаевска (ныне Новосибирск).
1905
Падение Порт-Артура и поражение русских в русско-японской войне. Портсмутский договор (США) между Японией и Россией. Россия теряет южную половину острова Сахалин, Порт-Артур и Маньчжурию, а также южную часть Трансманчжурии (Порт-Артур – Харбин).
1905
Массовые забастовки и крестьянские беспорядки в Сибири (как и на остальной территории России).
1917 (октябрь)
Съезд сибирских регионалистов в Томске. Выборы исполкома во главе с Г. Потаниным. Принято решение о созыве Учредительного собрания, ответственного за принятие Конституции Сибири.
1918 (май)
Большевики захватывают власть в нескольких сибирских городах.
1918 (ноябрь)
Адмирал Колчак становится главой белого правительства со штаб-квартирой в Омске. Гражданская война опустошает Сибирь до 1922 года. Колчак схвачен и расстрелян красными в Иркутске в феврале 1920 года.
1932
Торжественное открытие гигантского Кузнецкого металлургического комплекса.
1933
Начало развертывания лагерей ГУЛАГ и «Дальстроя» по всей стране. Самые крупные комплексы сибирских лагерей расположены в Норильске, в бассейне Колымы «Дальстрой», на северо-западе Байкала, а затем, после войны, между Полярным Уралом и Игаркой (участки 501–502–503).
1943
Образование Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске. В 1957 году он переехал в научный город Академгородок, недалеко от Новосибирска.
1944
Народная Республика Тува вошла в состав СССР как Тувинская автономная область (с 1961 года – Тувинская АССР).
1953
Первый газовый фонтан в Берёзове.
1954
В Якутии начинается добыча алмазов.
1958
Завершение строительства Иркутской ГЭС, изменение водного режима Ангары.
1960
Первые фонтаны нефти у села Шаим в Западной Сибири.
1966
Ввод в эксплуатацию Братской ГЭС с гигантской плотиной.
1971
Ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС, тогда самой мощной в мире.
1973
Первый нефтепровод Самотлор – Тюмень – Уфа – Альметьевск, который позволяет поставлять сибирскую нефть в европейскую Россию и за ее пределы.
1974
Первый газ из Ямало-Ненецкого округа пришел в Москву.
1983
Завершение строительства газопровода «Дружба», который будет поставлять газ в Восточную Европу, затем в Австрию и Германию.
1984
Завершение строительства последнего участка БАМа (Байкало-Амурская магистраль), второй Транссибирской магистрали.
1989
Ввод в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной в России.
1991
Распад СССР. Его 15 республик становятся такими же независимыми государствами.
1992–1999
Экономический коллапс в Сибири, как и во всей стране. Крупные забастовки шахтеров с требованием вернуть им недополученную заработную плату. Падение цен на газ и нефть. Приватизация крупных компаний. Замедление работы крупных промышленных центров. Общий исход населения из Арктики и с Крайнего Севера, брошенных государством.
Благодарности
Эта книга – результат моих собственных исследований, которые я вел добрых 10 лет. Это результат долгих часов, проведенных в библиотеках по всему миру, а также, и прежде всего, результат многочисленных поездок в Сибирь и на Крайний Север России. Пользуясь любыми возможностями или создавая таковые, я старался посетить большую часть мест, упомянутых в этом повествовании. Я, конечно, прежде всего хотел прикоснуться к событиям прошлого, попытаться найти следы истории: и социальная, и физическая география, которую часто сегодня игнорируют, оставляют эти следы, влияя на ход событий. Все это лучше понимаешь, когда ты находишься в движении и имеешь возможность наблюдать. Мне было интересно услышать, что местные жители или эксперты могли сказать мне об этом более или менее отдаленном прошлом. Их советы и комментарии помогли мне изменить подходы или избавиться от неизбежных предрассудков, которые у нас всегда имеются. Также частенько им случалось отправлять меня чуть дальше по дороге, в другие места, к своим друзьям или коллегам, которые утоляли мою жажду истории и историй. Сбор информации для этой книги был похож на длинный роман с продолжением, годами державший меня в напряжении, добавляя при каждой встрече, на каждом месте новый эпизод и готовя к следующему. Эти открытия – источник счастья, которое я испытывал во время путешествий. И я в бесконечном долгу перед всеми теми, кто в течение этого периода открывал мне двери, делился своими знаниями или помогал тем или иным образом продвинуться вперед. Пусть они знают, что моя благодарность им огромна и что я только надеюсь не разочаровать их. Этих людей так много, что я не смогу всех перечислить! Тем не менее я хотел бы связать некоторые имена с этой книгой, соавторами которой они все, каждый по-своему, являются, но я, естественно, принимаю на себя любые толкования или ошибки, которые могут заключаться в ней.
Итак, в порядке появления, спасибо Михаилу Краснопёрову, эксперту и ветерану-полярнику из Ленинграда, другу, открывшему мне Север, доверившему мне свою историю и заразившему увлечением. Спасибо Альбине Бьекли-Кардановой за ее неизменную поддержку моих проектов, в том числе самых безумных. Наталье Москвиной из администрации Тобольска, раздобывшей для меня так жизненно необходимый мне внедорожник, на котором я двинулся по стопам Ермака. Елене Васильевой, Евгению Синтинскому, открывшим мне двери библиотеки Томского университета в выходные дни, библиографам Татьяне Ивановой и Татьяне Водолазовой, которые не пожалели для меня своего свободное время. Спасибо Виктору Боярскому, директору музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, Марии Дукальской, Александру Андрееву и его коллегам из архива. Наташе Бережной из исследовательской службы букинистов компании ozon.ru, предоставившей мне большие возможности. Галине Парамановой, рядовому работнику полярной базы «Барнео», благодаря которой всем нам становилось тепло и весело. Томоко Кая в Токио, который перерыл все библиотеки, чтобы найти японские свидетельства о битве при Порт-Артуре. Лене и Василию Нелюбиным, моим верным друзьям из Красноярска, всегда оправдывающим мои ожидания. Фабриции Жирардо в Сен-Пре и Кристиану де Марлиаву, самому удивительному и скромному из французских полярных экспертов. Эммануэлю Дюрану в Москве, который выявил столько неизвестных героев полярной истории. Саше Бородину из Кембриджа и Рафаэлю Гильманову из Казани, которым я обязан документами и источниками, которые я бы наверняка пропустил. Елене и Геннадию Тимченко в Москве, без которых, я уверен, узнать историю открытия нефтяных месторождений из архивов Сургута было бы намного сложнее. Любови Кашлатовой, которая приняла меня в Берёзове и посвятила меня в его секреты. Римме Путицкой, Марине Селяниной, Татьяне Исаевой из Сургута, чей энтузиазм восхитил меня. Марку из Полярного исследовательского института Скотта в Кембридже за его время и мудрые советы. Виталию Трошину, бывшему градостроителю Воркуты, чья работа по сохранению памяти заслуживает огромного уважения. Людмиле Липатовой, этнологу и историку Салехарда. Анне-Элизабет и Виланду Хинче в Галле, в которых я обрел соратников и исследователей, возможно, еще более помешанных на истории Сибири, чем я. Полярному историку Светлане Долговой из Калининграда, которую я мог бы слушать целыми днями. Юрию Ильину из Санкт-Петербурга, который сопровождал меня в моем погружении в архив железных дорог. Вадиму Шахерову, Раисе Подгаиченко и Вере Пешковой, историку, директору и эксперту Иркутской библиотеки – я не забуду часы, проведенные вместе за фотокопированием. Антонине Ипатовой, Ксении Мацегоре из музеев Борисова в Красноборске и Архангельске, и Майе Миткевич, их руководителю, которые дали мне возможность проникнуть в мир великого художника Севера. Алексею Буглаку, историку, за те перспективные направления, которые он мне показал. Ольге Клышевой из Архангельского университета, чья любознательность и заразительный энтузиазм привели меня к Ломоносову. Вадиму Янину, министру здравоохранения Красноярского края. Карине Васильевой из Санкт-Петербурга, маленькой девочке, рожденной на «Челюскине», которая приняла меня, чтобы поделиться со мной семейными воспоминаниями. Сергею Фролову из института Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга, который дал мне воспользоваться своими необыкновенными знаниями. Сергею и Анастасии Еремеевым на Байкале, с которыми меня связала нерасторжимая дружба и у которых я всегда встречал редкие доверие и гостеприимство. Алексею Тиваненко, историку из Улан-Удэ, который несколько дней ездил со мной по дорогам бывшей царской каторги и страдал, чтобы удовлетворить мое любопытство на руинах Кяхты. Спасибо Франсуа Жекье, профессору истории в Гранво, за дружеские раскопки в его личных архивах. Вадиму Гриценко, историку из Надыма, за дни, проведенные вместе на биваке в тайге на трассе стройки 501. Сергею Астахову из центра АКТРУ Алтая и Томского университета за руку, которую он протягивал мне на самых крутых склонах в горах. Юрию Сальникову, исследователю и режиссеру, специалисту по полярной истории из Москвы за его помощь. Марии Славкиной, историку в области добычи нефти из Московского университета, чьи впечатляющие труды принесли мне чудесные часы открытий. Ольге Шадриной из Норильска, за ее талант честно и сострадательно рассказывать о трудной истории своего города и ее усилия помочь мне найти следы этой истории. Моим коллегам Изабель Югли и Ксении Татарченко, моей помощнице Анник Валло, Изабель Руф и Паскалю Бюйару, которые помогли мне при вычитке. Сержу де Палену, который никогда не переставал верить, что у меня все получится. Леони Шлоссер, картографу, для которой это было собственным завоеванием Сибири. Олимпии Верже и Изабель Паран, моим редакторам за то, что они вложили в наше сотрудничество столько же дружбы, сколько и профессионализма.
Эта книга не существовала бы ни по-французски, ни по-русски без помощи и дружбы Раисы Неягловой-Колосовой, участницы и героини эпопеи ее издания. Моя огромная благодарность переводчикам Елизавете Бабаевой и Яне Линковой, а также замечательному научному редактору Федору Романенко и всей команде издательства «Паулсен» в Москве. Благодаря их скрупулезной работе русская версия получилась даже лучше французской.
Наконец, я выражаю особую благодарность Фредерику Паулсену, чья дружба и общие увлечения позволили мне открыть для себя множество мест, которые иначе остались бы недоступными, и чья упрямая энергия подтолкнула меня к преодолению препятствий. Александру Минкину из Москвы, с которым у нас было так много общего.
Что касается моей семьи, моих детей Матьё, Мари и Марейки, они терпели мои сибирские навязчивые идеи все эти годы. Эдит, моя жена, даже помогала всему этому, находя время, когда это было необходимо, чтобы погрузиться в этот эпос вместе со мной и вновь обрести меня. Я столь многим им обязан!
Примечания
1
Российские историки по-разному интерпретируют просьбу Строгановых и щедрость Ивана Грозного. Споры, не утихающие и сейчас, отражают неоднозначные представления об исторической ответственности за инициативы, которые привели к завоеванию Сибири. Были ли они специальным планом Строгановых или же их вынудил действовать Иван Грозный? В различные эпохи историки склонялись к различным версиям – в зависимости от той или иной идеологии. В советское время предпочтение отдавалось второй версии, поскольку важнее было признать ведущую историческую роль государства, а не олигархов. Исследования последнего времени (в частности, Руслана Скрынникова) показывают, что не стоит преуменьшать роль Строгановых в истории конца XVI века в целом и в истории освоения Сибири в частности. – Прим. ред.
(обратно)2
Верность этого предположения доказывается тем, что два века спустя именно так все и произошло в случае с завоеванием Россией Аляски. Вместо того, чтобы самому управлять новой колонией, российское правительство доверило эту функцию частной «Российско-американской компании». Raymond F. Fisher, The Voyage of Semen Dezhnev in 1648. Bering's Precursor with Selected Documents, Londres, The Hakluyt Society, 1981, c. 145.
(обратно)3
Джованни Кабото был гражданином Венеции, когда он решил вступить в торговые отношения с Англией. Однако о его происхождении ничего доподлинно неизвестно: предполагают, что он родился либо в провинции Генуя, в Лигурии, либо в провинции Латина (область Лацио) – в Гаэте. Во время первого путешествия 1497 года он проплыл вдоль американского побережья, неподалеку от Лабрадора, Ньюфаундленда и острова Мэн, оставшись в уверенности, что побывал в Азии. По возвращении Кабото сообщил, что в тех водах плавают гигантские косяки рыбы. Не удивительно, что после этого сообщения в Северную Америку было отправлено множество рыболовных судов. В следующем (1498) году Кабо-то отплыл в экспедицию из пяти кораблей, но ни один из них не вернулся..
(обратно)4
Себастьян Кабот, или Себастьяно Кабото, (1477–1557) руководил несколькими экспедициями. Во время одной из них в поисках Северо-Западного прохода он пересек пролив и оказался в водах, которые принял за Тихий океан. Возможно, речь шла о Гудзоновом заливе.
(обратно)5
Это соперничество выросло еще из конфликта в Нидерландах – развивающиеся провинции восстали против Испании при поддержке Англии. Несколькими годами позже конфликт найдет свое выражение в столкновениях на море и приведет к поражению непобедимой испанской Армады.
(обратно)6
Прилагательное «немецкий» связано этимологически с прилагательным «немой» и указывает на то, как трудно было русским понимать речь иностранцев. Немцами могли называться любые иностранцы, просто среди них чаще всего встречались носители германских языков, в частности, говорившие по-голландски. В эту же эпоху в Москве также строится Немецкая слобода, где селятся иностранцы – временно или на постоянной основе.
(обратно)7
Именно в этом квартале возник первый кинотеатр. Последние его жители покинули квартал и город в 1919 году после высадки европейских войск интервентов, прибывших на помощь белым, и последовавшей затем победы Красной Армии (Юрий Барашков, Вы сказали: Архангельск? Архангельск, 2011, с. 140 и след.).
(обратно)8
Так называемая Голландская война шла с 1672 по 1678 год.
(обратно)9
Автор знаменитых карт, составленных в цилиндрической проекции Меркатора, особенно распространенной в 1570 по 1590-е годы и часто используемой и в наше время.
(обратно)10
Андрей (Андриес) Виниус (1641–1716), сын купца-эмигранта, стал одним из виднейших деятелей при царском дворе. Он возглавлял Почтовое ведомство, Аптекарский и даже Сибирский приказы. Переводчик и сподвижник Петра I с его молодых лет, Виниус немало способствовал упрочению позиций Голландии, служившей для русского царя образцом. Петр I подолгу жил в Нидерландах, где вербовал специалистов. Свою новую столицу Санкт-Петербург Петр I строил по модели Амстердама и даже использовал национальные цвета Голландии (хоть и в обратном порядке) для нового бело-сине-красного флага России.
(обратно)11
Российские историки датируют этот документ, недавно ставший предметом подробного исследования, периодом между маем и октябрем 1613 года.
(обратно)12
В те времена ненцы, в соответствии со своим мировоззрением, никогда не спасали тонущих. Более того, они плохо относились к случайно избегнувшим этой участи. – Прим. ред.
(обратно)13
Во время дискуссии в Академии, длившейся с 3 по 6 июня 1748 года, некоторые академики предпочли преуменьшить заслуги Ермака. Подобные «смягчения» или «исправления» деятельности Ермака вызвали возражения академиков Ломоносова и Тредиаковского, которые предупреждали, что такая позиция чревата политическими осложнениями и может оскорбить русских читателей. По их мнению, в таком случае лучше вообще не упоминать имени Ермака. См.: Введенский, Дом Строгановых в XVI–XVII веках, Москва, 1962.
(обратно)14
Матвей Мещеряк, Яков Михайлов, Богдан Брязга, Черкас Александров и разыскиваемые «преступники» Иван Кольцо, Никита Пан и Савва Болдырь – это имена, названные в Ремезовской летописи, составленной несколькими десятилетиями спустя на основе свидетельств товарищей Ермака, оставшихся в живых.
(обратно)15
Четыре летописи были найдены и опубликованы между 1907 и 1910 годами императорской Археографической комиссией. Самая старая из них, парадоксальным образом называющаяся Новой летописью, датируется, по всей видимости, рубежом XVI и XVII веков. Есиповская летопись – это свидетельства тех, кто вернулся из экспедиции, записанные епископом тобольским с целью собрать воедино картину всех событий и составить синодик, то есть мартиролог всех погибших участников. Затем идет Строгановская летопись, в которой отражены некоторые дополнительные источники, находившиеся в семейном архиве, и, наконец, Ремезовская летопись, более поздняя, составленная около 1700 года Семёном Ремезовым, удивительным человеком, историком российской Сибири и автором атласов, которыми позже будут пользоваться европейские картографы.
(обратно)16
См., например, работы Скрынникова, Кузнецова и Гавлина. Андреев занимает промежуточную позицию. Алексей Бычков предполагает, что приезд растянулся: Ермак во главе первой группы казаков прибыл в 1578 или 1581 годах, а позже к нему присоединился Иван Кольцо, чтобы вместе выступить в поход против Кучума (см. Алексей Бычков, Исконно российская земля Сибирь, Москва, Олимп АСТ, 2006).
(обратно)17
Одним из аргументов в пользу этого стало открытие в XX веке в палатах Строгановых в Санкт-Петербурге затинной пищали с вылитой на стволе ее надписью: «Дарю я, Максим Яковлев сын Строганов, атаману Ермаку лета 1582». А.А. Введенский, Дом Строгановых в XVI–XVII веках, Москва, 1962, с. 97.
(обратно)18
Название Югра, заимствованное из языков хантов и манси, все чаще и чаще звучит в современной Сибири и даже вошло в официальное название Ханты-Мансийского автономного округа. Он входит в Тюменскую область, но является отдельным субъектом Российской Федерации.
(обратно)19
Согласно легенде, которую пересказывает Миллер в 1750-м году, Ермак прибегал к хитрости: лодки плыли с чучелами на борту, тогда как казаки атаковали на берегу; см.: Terence Armstrong.Yermak's Campaign in Siberia. Londres, Routledge. 1975, p. 132.
(обратно)20
На протяжении нескольких веков, включая советское время, жители Соликамска устраивали процессию в знак памяти об этом дне (Введенский, цит. соч., с. 100).
(обратно)21
В 1711 году историк Ремезов, автор летописи, которая носит его имя, посетил место, где раньше находилась татарская столица. Города уже не существовало, однако еще сохранялись следы укреплений и в центре – несколько строений. Когда же Миллер, в свою очередь, побывал там (Герхард Ф. Миллер, История Сибири, Москва – Ленинград, 1937, с. 12) через 20 лет, все следы практически исчезли. В середине XIX века русский историк Небольсин по пути из Тобольска в Омск отправился туда и сумел отыскать несколько фрагментов стен и рвов. В 2008 году автор этой книги также побывал на месте города Ку-чума, расположенного в 17 км от Тобольска. Туда можно было добраться только на вездеходе. Дорога пролегала метрах в пятнадцати над Иртышом. Береговую террасу разрушает эрозия. Единственные следы города – несколько небольших бугров, по всей вероятности, на месте стен. В 1915 и в 1988 годах здесь проводились раскопки. Они позволили определить границы города, который был сравнительно небольшим, не имевшим ничего общего с роскошными восточными городами. Укрепления тянулись вдоль реки на протяжении примерно пятисот метров, продолжаясь еще 630 м глубокой долиной ручья. с третьей стороны город защищали земляной вал и несколько рвов. Археологи обнаружили четыре культурных слоя, указывающие на то, что люди жили там в разные времена, начиная с XIV века (Верхотуров, Покорение Сибири. Мифы и реальность, Москва, 2005, с. 116).
(обратно)22
Согласно некоторым источникам, Маметкул был родным братом Кучума. Захваченный в плен несколькими месяцами позже, он был отправлен к царю и, получив дворянское звание, как это было принято по отношению к представителям элиты народов, входивших в русскую империю, стал одним из воевод русской армии. По всей вероятности, именно он и был тем собеседником, с которым разговаривал в Москве английский купец, и сообщил о таинственном чужеземном корабле, якобы проплывшем по Оби, который так заинтересовал англичан.
(обратно)23
В Женеве живут две сестры Кучумовы: одна из них – известный журналист, другая – актриса.
(обратно)24
М. Белов предположил, что Дежнёв принял эти «башни из китовых останков» за навигационные знаки, необходимые на берегах, для которых очень характерны туманы.
(обратно)25
Последнее слово (лат.).
(обратно)26
Заморские академики, обычно не знавшие ни слова по-русски и выучившие его впоследствии из рук вон плохо, порой писали на очень странной смеси немецкого, русского и французского, что не облегчает работу архивистов. См.: Leonard Stejneger, Georg Wilhelm Steller, Harvard University Press, Cambridge (États-Unis, Massachusetts), 1936, с. 73.
(обратно)27
К счастью, в небольшом Верхоленском остроге южнее Якутска, служившем местом ссылки, отыскался экземпляр труда Питтона де Турнефора. Им владел сосланный туда итальянец, граф Санти, бывавший при дворе, но павший жертвой интриг. Он одолжил книгу Гмелину, чтобы тот мог использовать ее, пока из Санкт-Петербурга не был прислан новый экземпляр. См.: Stejneger, цит. соч., с. 113.
(обратно)28
Петропавловск-Камчатский – административный центр Камчатского края. Один из базовых портов Тихоокеанского флота.
(обратно)29
Речь идет о корабле, построенном Берингом десятью годами ранее для первой экспедиции и приведенном в порядок для второй экспедиции.
(обратно)30
Некоторые историки полагают, что Беринг, волнуясь за свое здоровье, позаботился о том, чтобы на борту оказался человек его же веры – на всякий случай… (Ford Corey. Where the Sea breaks its Back. The Epic Story of Early Naturalist Georg Steller and the Russian Exploration of Alaska. Boston: Little, Brown & Company, 1966, с. 46).
(обратно)31
Современный Бад-Виндсхайм.
(обратно)32
Буквально – «ребенок воскресенья», иначе говоря – счастливчик.
(обратно)33
Гора Святого Ильи, вторая по высоте в Северной Америке, находится на границе Канады и Аляски.
(обратно)34
Речь идет о современном острове Бейкер в составе архипелага Александра, к юго-востоку от Аляски.
(обратно)35
Некоторые отмечают, что индейцы никогда не видели белых, и поэтому у них не было никаких причин нападать на них, и появление лодок как раз свидетельствует об их невиновности. Другие, наоборот, предполагают, что тлинклиты, впоследствии оказавшие сильное сопротивление колонизаторам, были в курсе тех бесчинств, которые творили испанцы на южном калифорнийском побережье, и что нежелание подойти поближе к «Святому Павлу» свидетельствовало об их страхе и чувстве вины (Дивин В.А. Русская Тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979, с.164).
(обратно)36
Несчастного астронома похоронят на небольшой высоте над портом Петропавловска.
(обратно)37
Для сравнения: шевелюра человека в среднем состоит примерно из 100 000 волосков.
(обратно)38
В музеях натуральной истории Хельсинки (скелет одной особи!), Никольского (остров Беринга), Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Киева, Харькова, Львова, Вены, Дрездена, Брауншвейга, Стокгольма, Гетеборга, Лунда, Парижа, Лиона, Кембриджа, Эдинбурга и Вашингтона. Еще три скелета морской коровы с июня 1882 года покоятся на дне Красного моря – на месте гибели парохода «Москва», который вез их в Санкт-Петербург. См.: Hans Rothauscher, Die Stellersche Seekuh, Norderstedt, Books on Demand GmbH, 2008, p. 22.
(обратно)39
Челюсть, последняя реликвия путешествия Стеллера, выставлена в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.
(обратно)40
«Плот „Медузы“» – картина французского художника Теодора Жерико, поводом для создания которой послужила морская катастрофа, произошедшая в июле 1816 года с пассажирами и членами команды фрегата «Медуза», пытавшимися спастись на плоту. – Прим. ред.
(обратно)41
Согласно некоторым источникам, 14 ноября.
(обратно)42
Существование Земли Франца-Иосифа и острова Врангеля, если называть только самые известные архипелаги, будет доказано только во второй половине XIX века.
(обратно)43
В последнее десятилетие XIX века, исходя из таких же соображений, норвежец Фритьоф Нансен на борту «Фрама», следуя этому предполагаемому течению, вморозив судно во льды, подтвердит теорию Ломоносова, выдвинутую за полтора века до него.
(обратно)44
Сорок – единица счета звериных шкурок (применялась до XIX в.).
(обратно)45
Широта современного крайнего юго-восточного пункта Аляски.
(обратно)46
В Петропавловске-Камчатском установлен памятник Чарльзу Клерку.
(обратно)47
12 февраля по новому стилю, и на этот день приходится соборный праздник православной церкви Собор вселенских учителей и святителей, посвященный памяти отцов церкви Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.
(обратно)48
…и он был немедленно уволен Григорием Шелиховым.
(обратно)49
Которая давала право на внеочередное получение лошадей на каждой почтовой станции.
(обратно)50
Где его еще можно увидеть.
(обратно)51
Ныне граница между американскими штатами Вашингтон и Орегон.
(обратно)52
Ныне город Ситка, Аляска.
(обратно)53
Фёдор Иванович Толстой, вернувшись в столицу, заявит о себе, написав рассказ о своих подвигах и выходках на светских вечерах под псевдонимом «Толстой Американец». Он живет на широкую ногу и со скандалом женится на цыганской танцовщице, позже отличится героизмом во время сражений против Великой армии Наполеона, вторгшейся в Россию. Толстой, несомненно, был самым известным в то время участником экспедиции. Пушкин вдохновится им при создании одного из персонажей «Евгения Онегина» (Зарецкий). Племянник «Американца», писатель Лев Толстой, для одного из важных персонажей «Войны и мира» (Долохова) позаимствует у дяди черты характера, внешность, имя и отчество (Метьюз О. Грандиозные авантюры. Николай Резанов и мечта о русской Америке. Лондон: Блумсбери, 2013, с. 313).
(обратно)54
Уйдя в отставку после 29 лет на службе в Компании, Александр Баранов построил себе дом в Ново-Архангельске, где рассчитывал провести остаток жизни. Однако отправившись к сыну-метису, который учится в Санкт-Петербурге, он заболел во время остановки на острове Ява и умер в пути от осложнений (1819). Его тело похоронено в море в Зондском проливе.
(обратно)55
Для торговли с китайцами существовал другой закрытый квартал, расположившийся неподалеку от Дэдзимы и больший по площади.
(обратно)56
Японией в те годы правил Токугава Иэнари.
(обратно)57
Русские воспользовались услугами японских рыбаков, потерпевших крушение у русских берегов и поселившихся в Иркутске, которых в знак расположения взяли с собой в экспедицию. Их речь, вне всякого сомнения, весьма отличалась от изысканной речи сёгуна. Японцы долго делали вид, что отказывают им в праве на возвращение, что побудило одного из рыбаков совершить харакири.
(обратно)58
На месте крепости сегодня находится американский город Ситка.
(обратно)59
Дом наш в северной стране, которая называется Россия.
(обратно)60
Современный штат Калифорния и Нижняя Калифорния, сегодня принадлежащая Мексике.
(обратно)61
История любви Николая Резанова и Кончиты Аргуэльо легла в основу нескольких романов, первый из которых принадлежит Гертруде Этертон. Его издание было приурочено к столетию посещения Калифорнии русской экспедицией (Atherton G. Rezanov. New York: Authors and Newspapers Association, 1906). Самый известный роман был написан Гектором Шевиньи (Chevigny H. Lost Empire. The Life and the Adventures of Nicolai Petrovitch Rezanov. New-York: MacMillan, 1943). Калифорнийская история послужила сюжетом для советской рок-оперы «Юнона и Авось», поставленной Марком Захаровым в 1981 году по поэме А. Вознесенского «Авось» 1970 года. Может показаться странным, но Голливуд, несмотря на близость к месту событий, так и не снял по их мотивам кино.
(обратно)62
Сам монастырь поменял расположение в 1966 году, но доминиканское кладбище сохранилось.
(обратно)63
Важные персоны, шишки – фр. – Прим. переводчика.
(обратно)64
Тогдашний генерал-губернатор Западной Сибири – Прим. переводчика.
(обратно)65
Полное название: «Опыт возможности приблизительного уравнения состояний и уничтожение крепостного права в Русском царстве, без потрясений в государстве», 1846 год. – Прим. переводчика.
(обратно)66
Это здание, ныне занимаемое библиотекой Иркутского государственного университета, – одна из городских достопримечательностей. В нем также происходит заключительная сцена романа Жюля Верна «Михаил Строгов».
(обратно)67
Осада Ахульго на Западном Кавказе – одно из самых долгих и кровавых сражений между русской армией и повстанцами имама Шамиля. Сама битва произошла в 1839 году, то есть почти за 10 лет до прибытия Муравьёва в Иркутск.
(обратно)68
В Царском Селе, летней резиденции царя под Петербургом, располагалось самое престижное учебное заведение, Царскосельский лицей.
(обратно)69
Н.Н. Муравьёв впервые посетил Камчатку уже в июле 1849 года. – Прим. переводчика.
(обратно)70
Михаил Сергеевич Лунин, объединивший свои сочинения прошлых лет в сборниках «Письма из Сибири» и «Взгляд на польские дела», был признан преступником-рецидивистом, арестован в 1841 году и заключен в Акатуйский острог, условия которого отличались особой суровостью, где и скончался в 1845 году.
(обратно)71
По словам М.В. Венюкова, входившего в окружение Н. Муравьёва, вслед за этим царь якобы следующим образом пояснил свою реакцию в присутствии шефа жандармов Бенкендорфа: «Наконец-то нашелся человек, который понял меня. Который понял, что я не ищу личной мести этим людям, а уступаю нуждам государства. Удалив их отсюда, я вовсе не хочу отравлять их участь там».
(обратно)72
Ханьцы по-прежнему оставались главной этнической группой китайского общества. Таким образом, Маньчжурская династия, происходившая из периферийного региона и этнического меньшинства, в течение двух столетий царствовала над ханьскими подданными, составлявшими огромное большинство населения.
(обратно)73
«Россия – государство холодное и дальнее: если б я послал свои войска, то все померзли бы, и хотя бы чем-нибудь и завладели, то какая в том прибыль? А наша сторона жаркая, и если императорское величество пошлет против меня свои войска, то могут напрасно помереть, потому что к жару непривычны, и хотя бы и завладели чем-нибудь – невеликая прибыль, потому что в обоих государствах земли множество» (Соловьёв С.М. Сочинения. Т. VI. М.: Мысль, 1990, с. 339).
(обратно)74
В 20 раз больше бассейна Роны и в два с половиной раза – бассейна Дуная.
(обратно)75
Полное название Комитета – Особый комитет для подготовки правительственных решений по Амурскому вопросу – Прим. переводчика.
(обратно)76
И в наши дни Амур остается рекой, плавание по которой сопряжено с особым риском. Песчаные мели, преграждающие его течение и устье, вынуждают суда то и дело менять курс. Это одна из причин, объясняющая, почему на огромной водной артерии судоходство развито довольно слабо.
(обратно)77
Политическая полиция царской России.
(обратно)78
Имеется в виду Албазинская икона Божьей Матери – святыня русского Приамурья. – Прим. переводчика.
(обратно)79
Эта и три последующие экспедиции именовались «сплавами», и в исторической литературе принято говорить об «Амурских сплавах». – Прим. переводчика.
(обратно)80
Около 540 км.
(обратно)81
Севастополь падет 11 сентября 1855 года, что ознаменует поражение России и положит конец Крымской войне.
(обратно)82
Офицера по особым поручениям при генерал-губернаторе. – Прим. переводчика.
(обратно)83
После смерти губернатора, окончившего свои дни на чужбине, была объявлена всероссийская подписка по сбору средств на установку памятника герою Амура. Бронзовую статую Муравьёва-Амурского установили на берегу Амура в Хабаровске в 1891 году. В 1925 году большевики снесли ее и отправили на переплавку. В 1992 году точная копия памятника вновь появилась на том же самом месте. Останки генерал-губернатора Муравьёва-Амурского торжественно перевезли из Парижа во Владивосток в декабре 1992 года.
(обратно)84
Он видоизменил свою родовую фамилию Bryner, добавив вторую букву «n». – Прим. переводчика.
(обратно)85
Современное название – Светланская, в просторечии Светланка.
(обратно)86
Своего рода (лат.). – Прим. переводчика.
(обратно)87
Во-первых – лат.
(обратно)88
Во-вторых – лат.
(обратно)89
В-третьих – лат.
(обратно)90
Ныне в составе агломерации Большого Ванкувера.
(обратно)91
Около 2500 экземпляров в начале 1860-х годов, когда журнал находился на пике популярности.
(обратно)92
Повсюду в Сибири имя Пестеля, сын которого стал одним из руководителей декабристского восстания и окончил жизнь на эшафоте, долгое время ассоциировалось с угнетением, произволом и колониальным высокомерием; ему приписывается крылатое выражение того времени: «Сибирь? Жить там холодно, да служить жарко».
(обратно)93
В то время Исландия находилась под суверенитетом Дании.
(обратно)94
Имеется в виду иркутский генерал-губернатор Горемыкин, занимавший свой пост в 1889–1900 годах.
(обратно)95
Иначе «блажь, причуда, каприз Сьюарда», англ. Seward's folly. – Прим. переводчика.
(обратно)96
англ. Andrew Johnson's polar bear garden. – Прим. переводчика.
(обратно)97
англ. Seward's Icebox. – Прим. переводчика.
(обратно)98
Этот эпизод не прошел даром для физического состояния царя: шесть лет спустя именно последствиями катастрофы лейб-медик государя объяснит его безвременную кончину (Александру не было и пятидесяти) в одном из залов ялтинского дворца, который впоследствии станет известен на весь мир благодаря проведенным там переговорам между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в 1945 году.
(обратно)99
Согласно историкам этого периода, комиссия по расследованию инцидента (известного как Тилигульская катастрофа 1875 года) не установила вины Витте и других подозреваемых инженеров. Однако общественное мнение жаждало отмщения. В результате Витте и один из его сослуживцев были приговорены к четырем месяцам заключения, которое царь «по-отечески» вскоре заменил на домашний арест. Витте отбывал наказание, работая днем и ночуя на гауптвахте в Петербурге – городе, где он получил место в одной из железнодорожных компаний (Wcislo F.W. Tales of Imperial Russia. Oxford (New York): Oxford University Press, 2011, с. 80).
(обратно)100
Ныне Тбилиси, столица Грузии.
(обратно)101
Будучи вторым сыном царя Александра II, юный Александр воспитывался в тени своего старшего брата Николая, пока неожиданная смерть последнего в 1865 году не сделала его наследником престола. Убийство отца народовольцами в 1881 году привело его на трон.
(обратно)102
В правление Александра III царская семья проводила основную часть времени в этой резиденции с великолепным парком, подальше от столицы. Поговаривали, что Александр III не любил воспоминаний, связанных с Зимним дворцом на берегу Невы, где жил в детстве вместе со своим отцом Александром II. Императрица, супруга Александра III, также предпочитала уединенную жизнь в надежде избежать покушений, постоянно угрожавших царской семье.
(обратно)103
В их числе вокзал Орсе, ныне функционирующий как художественный музей под тем же названием, Лионский вокзал, Малый и Большой дворцы.
(обратно)104
Для сравнения: Всемирная выставка в Милане в 2015 году приняла 20 млн посетителей.
(обратно)105
24 килограмма на погонный метр вместо 35–45 килограмм, как это было принято тогда в Европе.
(обратно)106
Согласно устойчивой легенде, эта разница колеи была вызвана стремлением России защитить свою железнодорожную сеть на случай вражеского вторжения. Данное объяснение ошибочно: русский стандарт был задан первой дорогой, проложенной в 1839 году между Петербургом и императорской резиденцией в Царском Селе, что было принято на всех последующих стройках. Это убедительно показал Ф.Б. Шенк, отметивший, что Россия долгое время сохраняла дорогу между Австро-Венгрией и принадлежавшей тогда России Варшавой, построенную ранее по западноевропейским стандартам.
(обратно)107
Название Порт-Артур происходит от имени британского капитана Уильяма Артура, первым показавшего эту великолепную гавань Жёлтого моря на европейских картах. Прекрасная естественная бухта на побережье Ляодунского полуострова была идеальным укрытием для океанского флота благодаря нескольким глубоководным гаваням под защитой высоких лесистых холмов вокруг них. Узкий пролив соединял его с океаном, позволяя легко достичь соседней Кореи, торговых портов на китайском побережье, а далее на восток – также и портов Японского архипелага.
(обратно)108
В 1898 году, по настоянию Николая II, правительство все же уступило требованиям военных моряков, выделив 6 млн рублей чрезвычайных ассигнований для строительства флота на Тихом океане. Однако Тихоокеанский флот не успел достаточно окрепнуть до русско-японской войны 1905 году, приведшей к его почти полному уничтожению (Wcislo F. W. Tales of Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press, 2011, с. 182).
(обратно)109
Эти инженеры, официально находясь в отпусках, с октября 1895 года проводили в Маньчжурии изыскания возможной трассы пути. Их очень радужные отчеты были вручены Хилкову, который положил их в основу доклада для правительства (Ильин С. Витте. М.: Молодая гвардия, 2012, стр. 216–217).
(обратно)110
Так в орфографии «Воспоминаний» Витте; также сохранена пунктуация указанного источника – Примеч. пер.
(обратно)111
Так в орфографии «Воспоминаний» Витте – Примеч. пер.
(обратно)112
Согласно новейшим исследованиям, Ходынская трагедия унесла жизни 1 389 человек.
(обратно)113
В своих «Воспоминаниях» период, когда влияние клики Безобразова стало определяющим, Витте обозначил уничижительным словом «безобразовщина», удачно обыграв этимологию фамилии Безобразов.
(обратно)114
Хунхузы были хорошо организованы и давно уже контролировали местную торговлю. Одним из их излюбленных методов было принуждение торговцев покупать себе защиту и безопасность от них, обращаясь в отделения «страховых обществ», существовавшие в маньчжурских городах. Внесшие «страховой взнос» вывешивали затем разноцветные флаги, что в принципе ограждало их от вооруженных нападений.
(обратно)115
Так в тексте «Воспоминаний» Витте. Имеется в виду г. Циндао. – Примеч. пер.
(обратно)116
Так в тексте «Воспоминаний» Витте. Имеется в виду г. Далянь. – Примеч. пер.
(обратно)117
Любопытно, что в официальном путеводителе по Транссибу, изданном в начале 1900 года для Всемирной выставки, разделы, посвященные продолжению магистрали на территории Китая, были набраны шрифтом, отличным от остального текста. Возможно, неурядицы тех лет вынудили авторов внести ряд изменений в самый последний момент (Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова и инж. А. Ф. Здзярского. СПб.: издание Министерства путей сообщения, 1900, с. 556).
(обратно)118
Этот исторический эпизод лег в основу фильма «55 дней в Пекине» с Авой Гарднер и Чарлтоном Хестоном в главных ролях (1963). Потрясающая версия, раскрывающая роль иностранных держав и их карательной экспедиции в самом сердце Китая.
(обратно)119
Ныне столица китайской провинции Хэйлунцзян с населением более 38 млн человек (по данным на 2010 год).
(обратно)120
По мнению некоторых историков, он был незаконнорожденным сыном царя Александра II.
(обратно)121
В 1924 году, предложив сначала китайцам вернуть им без всяких условий железнодорожный путь, концессию и территории, находившиеся под управлением ОКВЖД, большевистская власть договорилась с китайским правительством об эксплуатации магистрали на паритетных началах. В 1929 году маньчжурский отрезок Транссиба стал яблоком раздора между китайскими полевыми командирами, в том числе союзниками Чан Кайши, которые на короткое время поставили его под свой контроль. В конце 1929 года линия вновь оказалась в руках русских, а в 1935 году Общество Китайско-Восточной железной дороги было продано японцам, установившим протекторат над государством Маньчжоу-го, созданным ими в этой части Китая после вторжения Японии в 1931 году. По окончании Второй мировой войны СССР вернул контроль над КВЖД и Порт-Артуром до 1954 года. Тогда старая магистраль Желтороссии, военно-морская база в Порт-Артуре и все территории, контролируемые подразделениями Красной армии, были безвозмездно переданы вновь образованной Китайской Народной Республике. Трансмонгольская магистраль, соединившая Транссиб с Пекином через Улан-Батор и ныне пользующаяся популярностью среди туристов, была построена в 1949–1956 годах для развития сотрудничества между двумя коммунистическими гигантами в послевоенный период.
(обратно)122
Вплоть до 1975 года, когда был построен второй мост через Амур в Комсомольске-на-Амуре, мост Транссиба в Хабаровске оставался единственным на этой великой реке.
(обратно)123
Муравьёвы и Муравьёвы-Апостолы – семьи, участвовавшие в заговоре декабристов, – ветви одного рода, близкие к той, к которой спустя 30 лет принадлежал губернатор Восточной Сибири. Его роль описана в предыдущих главах. Имя Муравьёва так и осталось тесно связанным с бунтом и изменой в руководящих кругах России.
(обратно)124
Позже он писал, что на собрании заговорщиков 12 декабря выступал против немедленного восстания, указывая, что не сможет отвечать за настроения в кавалергардском полку, где служил.
(обратно)125
Басков. Суд коронованного палача. Москва: Советская Россия, 1980. С. 96–109.
(обратно)126
Исход староверов в Сибирь происходил в течение нескольких веков, сначала при царях, а позже при Советской власти. До сегодняшнего дня сохранились многочисленные старообрядческие общины со своей организацией, отрицающие Русскую православную церковь. Адептов старой веры особенно много на Алтае, в Забайкалье и в Красноярском крае. Некоторые из этих общин покинули страну и осели на Аляске, на северо-западе США, в Бразилии или в Аргентине. Порой группы верующих, избегая контактов с цивилизацией и государством, которое в их глазах представляло Антихриста, скрывались в тайге и вели обособленный образ жизни, вплоть до полного разрыва связей с внешним миром. На эту тему можно прочитать удивительный рассказ Василия Пескова: Ermite dans la Taïga [Таежный отшельник]. Arles: Actes Sud, 1992, или опубликованную в том же издательстве книгу того же автора: Des nouvelles d'Agafia (2009) [Новости Агафьи]. По-русски: Песков В.М. Таежный тупик. М.: Комсомольская правда, 1983, и др. издания.
(обратно)127
Клеймение каторжников было отменено только в 1864 году.
(обратно)128
Действительно, маленький Николай умер в январе 1828 года в возрасте двух лет.
(обратно)129
Екатерина Трубецкая, 26 лет; Мария Волконская, 20 лет; Прасковья (Полина) Анненкова, 26 лет; Александра Давыдова, 24 года; Камилла Ивашева, 18 лет; Александра Муравьёва, 22 года; Елизавета Нарышкина, 24 года; Анна Розен, 29 лет; Наталья Фонвизина, 23 года; Мария Юшневская, 36 лет; Александра Ентальцева, 43 года.
(обратно)130
Мария Волконская умерла 10 августа 1863 года в возрасте 56 лет. Сергея Волконского не стало 28 ноября 1865 года. Прасковья (Полина) Анненкова скончалась 14 сентября 1876 года, а ее муж Иван 27 января 1878 года.
(обратно)131
В 1875 году Особое присутствие Правительствующего Сената разбирало дело нескольких сотен политических, арестованных за пропаганду и участие в заговорах, которые по большей части являлись участниками «хождения в народ». Был организован показательный процесс. Следствие длилось три года, и осенью 1878 года 193 обвиняемых предстали перед судом. Не меньше сотни человек умерло в тюрьме, не дождавшись суда, кто-то покончил с собой, кто-то помешался в уме. Около половины обвиняемых были приговорены к каторге, ссылке или тюремному заключению. Другие были оправданы или освобождены, поскольку им зачли пребывание в предварительном заключении. Ни один не подал прошения о помиловании. Екатерина Брешковская была приговорена к пяти годам каторги.
(обратно)132
В начале XX века Лазарев уехал в Швейцарию, в пригород Монтрё, откуда он координировал действия своей партии в России и где он организовал поддержку Екатерины Брешковской. После прихода к власти большевиков Лазарев эмигрировал во Францию, а потом перебрался в Прагу, где и умер.
(обратно)133
Тираж во время публикации очерков Кеннана ни разу не опустился ниже 200 тысяч экземпляров.
(обратно)134
В этом качестве он встречался в 1919 году с «бабушкой революции», Екатериной Брешко-Брешковской, прибывшей в Нью-Йорк в поисках финансовой поддержки для своего антибольшевистского движения. Встреча с Кеннаном стала для постаревшей революционерки полной неожиданностью. В свою первую поездку в США в 1905 году, в один из редких периодов нахождения на свободе, Екатерина Брешко-Брешковская разминулась с Кеннаном, работавшим тогда на Дальнем Востоке на фронтах Русско-японской войны. После встречи в Селенгинске их общение носило эпизодический и эпистолярный характер. В одном из документов из архива Кеннана приводится описание их встречи. Когда он вошел в комнату, где сидела эта пожилая дама, она вскочила с радостным криком и в слезах упала в его объятия. Сообщается, что присутствовавшие встали и зааплодировали. (Travis Frederick F. George Kennan and the American-Russian Relationship 1865–1924. Athens: Ohio University Press, 1990, с. 363).
(обратно)135
Джордж Форст Кеннан, родившийся в тот же день на 59 лет позже своего тезки, дедушка которого приходился ему родственником, по поразительной воле случая носил имя обоих участников путешествия в Сибирь 1885 года. На свой лад и в свое время он продолжил дело своего предшественника, с которым он встречался лишь один раз, но имя и слава первого Кеннана наложили отпечаток на его жизнь. Великий дипломат писал о нем: «Мы оба посвятили большую часть своей сознательной жизни России и ее проблемам, и нас обоих изгоняли из этой страны в сходные периоды нашей жизни. Мы оба стали основателями обществ помощи жертвам российского деспотизма. Мы оба были авторами множества текстов и лекций. Мы оба играли на гитаре. Мы оба имели и любили парусные лодки одного типа…» (Gaddis John L. George F. Kennan, An American Life. New York: Penguin Press, 2011, с. 11).
(обратно)136
В своей книге Кеннан постоянно обращается к цифрам, статистическим документам, описаниям нравов и традиций мира каторги и тюрьмы, почерпнутым, зачастую буквально, из русских источников. Иногда это целые абзацы, а то и страницы (часто написанные от первого лица), заимствованные, в частности, у Сергея Максимова или Николая Ядринцева. Некоторые критические работы, посвященные творчеству Кеннана (например, биография Тревиса), отмечают явные «заимствования» у Максимова. Но некоторые из них, по-видимому, остались незамеченными, и на сегодняшний день, насколько нам известно, не существует систематического описания источников, использованных Кеннаном. В предисловии к своей книге Джордж Кеннан отмечает, что пользовался в работе материалами, предоставленными ссыльными или представителями администрации Российской империи, имена которых он не смеет упоминать, чтобы они не стали объектом подозрения или надзора со стороны правительства. Этот аргумент кажется по меньшей мере удивительным, так как обсуждаемые отрывки заимствованы из работ, опубликованных в России в 1871 и 1872 годах, их авторы были широко известны и имели достойную репутацию.
(обратно)137
Чум – это традиционное название для крытого оленьими шкурами жилища автохтонных кочевников Северной Сибири. Здесь – название железнодорожной станции на основном ходу дороги Москва-Воркута.
(обратно)138
Триста грамм составляли рацион питания, если заключенный не вырабатывал дневную норму. Баланда – это очень жидкий, но горячий суп, который давали заключенным вместе с хлебом, который часто был непропеченным (Rossi J. Manuel du GOULAG. Paris: Le Cherche Midi, 1997, c. 158).
(обратно)139
В 58 статье уголовного кодекса РСФСР были собраны все преступления, связанные с контрреволюционной деятельностью. Эта статья стала синонимом преступлений против строя. Поэтому все, кто попал в лагерь «по 58-ой статье», были политическими заключенными.
(обратно)140
СССР не ратифицировал Женевскую конвенцию 1929 г. об обращении с военнопленными, и Германия не признавала за советскими солдатами статуса военнопленных. Они часто голодали в немецких лагерях и умирали там в устрашающем количестве.
(обратно)141
Она будет действовать до начала 1990-х годов и рухнет вместе с СССР, после того, как новое государство перестанет ее поддерживать, как, впрочем, и многие другие объекты на Крайнем Севере.
(обратно)142
Сейчас только в одном бараке в теплое время года живет семья енисейских рыбаков и охотников. Все остальное медленно гниет среди деревьев и зарослей кустарников.
(обратно)143
В 2014 году компания «Норильский никель» добывала 95 % российских кобальта и никеля.
(обратно)144
Энн Эпплбаум рассказывает, как один заключенный предложил купить на сэкономленные средства венок (Applebaum A. GOULAG: une histoire. Paris: Grasset, 2005, с. 524).
(обратно)145
Шведское название города Хельсинки.
(обратно)146
Примерно 11 км/ч.
(обратно)147
Примерно 200 км.
(обратно)148
Борисов стал наставником первого ненецкого художника Тыко Вылки, который станет очень известным в советское время.
(обратно)149
После революции картины были рассеяны по миру. Те же, что находились в квартире жены Борисова в Берлине, погибли во время бомбардировки города союзниками в апреле 1945 года. Произведения Александра Борисова можно увидеть главным образом в двух посвященных ему музеях: один из них находится в Архангельске, другой – в музее художника в Красноборске, стоящем на берегу Северной Двины. Эти коллекции – плод невероятных усилий директора архангельского музея Майи Владимировны Миткевич и ее сотрудников, которые на протяжении многих лет ездили по стране, практически не имея на то средств, чтобы собрать и показать людям произведения Борисова. Низкий им поклон.
(обратно)150
Город сначала назывался Романов-на-Мурмане. Современное название появилось после революции. В настоящее время это самый крупный город за Северным полярным кругом (на 2019 год– 292 465 человек).
(обратно)151
Восстановить картину развития событий довольно сложно. Согласно некоторым источникам, Воблый был обвинен в шпионаже и приговорен к расстрелу. Но ему удалось избежать смертной казни, в 1930-е годы он работал консультантом при железнодорожном отделе НКВД, с началом войны эвакуирован в Томск, где умер 6 января 1942 года. (Гронская Л.А. Наброски по памяти. М.: Архивы Центра Сахарова, 2004, с. 64–65; http://bsk.nios. ru/enciklodediya/, дата обращения – 16 февраля 2020 год).
(обратно)152
В его усадьбе разместился детский санаторий для больных туберкулезом, а картины были розданы в областные музеи по всему Советскому Союзу. А его имя забыли на десятилетия.
(обратно)153
Среди первых 11 стран, поставивших подписи под Парижским договором, были Норвегия, Швеция, Дания, Великобритания, Франция, Италия, Соединенные Штаты, Япония, Австралия. Соглашение предлагало оригинальное решение в области международного права, поскольку отдавало архипелаг в ведение Норвегии, которая, однако, должна была делегировать другим странам, подписавшим его, такие же экономические права, которыми обладала на Шпицбергене сама Норвегия. Гражданам государств-подписантов, таким образом, предоставлялись права на экономическую деятельность и добывающие концессии. СССР подпишет соглашение в 1924 году, а Германия, другая держава, изначально не представленная в документе, в 1925-м. Затем к Парижскому договору присоединилось более 40 стран.
(обратно)154
«Робинзоны» с острова Врангеля собирались продержаться там год, но были плохо подготовлены к этому. Началась настоящий ад. Спасти их мешали тяжелые льды. Трое молодых колонистов решили не дожидаться помощи, а попытаться пройти до берега Сибири пешком по замерзшему океану. Больше их никто не видел. Четвертый умер от цинги и истощения на острове, и только молодая эскимоска Ада Блэк-Джек выжила (Niven J. Ada Black Jack. Paris: Paulsen, 2009).
(обратно)155
Первую открыли в 1923 году в проливе Маточкин Шар на Северном острове Новой Земли.
(обратно)156
Впоследствии многие сцены, снятые Трояновским во время экспедиции на «Сибирякове», войдут в известный советский фильм 1933 года «Два океана» (реж. В. Шнейдеров, Я. Купер; Межрабпомфильм).
(обратно)157
Недавнее изучение архивов показало, что на самом деле Шмидт даже не пытался найти другого капитана, надеясь убедить своего товарища (Ларьков С., Романенко Ф. «Враги народа» за Полярным кругом. М.: Паулсен, 2010, с. 249).
(обратно)158
Огромное количество рассказов, правдивость которых на протяжении долгого времени нельзя было проверить, исходило от конвойных, которые сопровождали заключенных в нечеловеческих условиях из портов Тихого океана до мест назначения – в частности, на Колыме. В некоторых говорилось о том, как заключенных бросали без помощи на суднах, зажатых льдами, или же специально затопленных палачами. Синтез этих рассказов опубликован (Bollinger Martin J. Stalin's Slave Ships, Kolyma, the Gulag Fleet and the Role of the West. Annapolis: Naval Institute Press, 2003). Недавние исследования российских историков, работавших в архивах, в частности, замечательные работы С. Ларькова и Ф. Романенко, позволили отделить реальные факты от слухов.
(обратно)159
Многочисленные пассажиры и больные с кораблей Дальстроя обязаны своим спасением не только «Литке», но еще и пилоту-полярнику Фёдору Куканову. На единственном самолете, который был в его распоряжении, он совершил десятки полетов в совершенно незнакомой местности в крайне сложных погодных условиях. Ему удалось вывезти в ближайшее поселение более 90 наиболее изможденных человек, а оставшихся – спасти от голода (Ларьков, Романенко, цит. соч., с. 310 и след.).
(обратно)160
Ответ придет на «Челюскин» 27 января 1934 года: «Семья крайне удивлена телеграммой на имя Калинина тчк Дома все здоровы шлют привет тчк Дальнейшем радируйте через наши рации». Последняя фраза породила различные интерпретации (Ларьков, Романенко, цит. соч., с. 255).
(обратно)161
Возлюбленной Шмидта стала одна из буфетчиц «Челюскина». Ей было 23 года. Шмидт признал сына, родившегося вне брака, и заботился о нем не меньше, чем о своих законных детях.
(обратно)162
Когда Германия напала на СССР, советское правительство поручило Шмидту как вице-президенту Академии наук СССР участвовать в переговорах с Соединенными Штатами о помощи.
(обратно)163
Эта цифра относится к 1937 году.
(обратно)164
Вадим Козин, знаменитый русский шансонье, популярный и в наше время, был одним из самых известных певцов 1930–1940-х годов. С его песнями солдаты Красной Армии шли на фронт. Козин был арестован в 1944 году и отправлен на Колыму. После освобождения он до самой смерти в 1994 году жил в Магадане. Многие его композиции, как, например, «Магаданские бульвары», легкий намек на «Парижские бульвары» Ива Монтана, посвящены Магадану, столице лагерей «Дальстроя», ставшему родным для певца.
(обратно)165
Можно назвать, например, Пушкинскую площадь и Пушкинскую улицу в Москве, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, мемориальную квартиру Пушкина на Мойке. Царское Село под Ленинградом было переименовано в Пушкин.
(обратно)166
Оба кандидата настолько ожесточенно боролись за звание первого человека, побывавшего на Северном полюсе, что американскому Конгрессу пришлось рассматривать их заявки по отдельности. Сейчас большинство экспертов сомневается, что они действительно достигли 90° северной широты.
(обратно)167
С.А. Ларьков приводит один из таких эпизодов, который сам же считает недостоверным («апокрифичным»): как-то раз Кренкель, которому надоела привычка начальника станции все время разбирать и собирать свой наган в часы досуга, тихонько спрятал какую-то деталь. Папанин, обнаружив, что наган не собирался, встал в такой ступор, что радисту пришлось во всем признаться. Разъяренный Папанин носился с этим же наганом за Кренкелем по льдине, и Ширшову и Фёдорову понадобилось много времени, чтобы его успокоить (Ларьков, Романенко, цит. соч., с. 341).
(обратно)168
В августе 1938 года ледокол «Ермак» высвободил суда «Садко» и «Малыгин». «Седову», рулевое управление которого было повреждено, пришлось ждать до 1940-го года, когда он смог наконец выйти на свободную воду и добраться до порта. После «Фрама» Нансена это второй по длительности дрейф через Атлантику в истории. «Седов» прославился благодаря своему героическому дрейфу и научным исследованиям, которые велись на нем в течение этих месяцев.
(обратно)169
В 1947 году благодаря посредничеству коллеги Ширшов вроде бы отыскал следы Евгении в одном из колымских лагерей (Бурлаков Ю.К. Папанинская четверка. Взлеты и падения. М.: Паулсен, 2007, с. 207). Но осенью 1948 года она покончила с собой в заключении в лагере в поселке Омчак Магаданской области.
(обратно)170
О его кончине ходили разные слухи. В том числе упоминалась роковая хирургическая операция, в ходе которой врачи якобы забыли инструмент в брюшной полости пациента.
(обратно)171
Сообщая об этом эпизоде, историк Мария Славкина приводит объяснение близких Ростовцева. Они считали, что благополучное завершение истории объясняется исключительно удачей (Славкина М. Российская добыча. М.: Родина МЕДИА, 2014, с. 242).
(обратно)172
Были предложены две разные версии проекта: одна предполагала строительство плотины высотой 42 м и создание водохранилища площадью 140 тысяч кв. км; другая, соответственно, 37 м и 110 тысяч кв. км (Славкина, цит. соч., с. 253).
(обратно)173
Хрущёв решил вернуть контроль за экономикой на местный уровень. Поэтому с 1957 года территория СССР была поделена на совнархозы, хозяйственные округа, которыми управляли местные советы. Они отвечали за всю хозяйственную деятельность на подведомственных территориях. Такая резкая децентрализация экономики шла вразрез со сложившейся отраслевой структурой управления, в результате чего большинство центральных министерств были попросту ликвидированы. Хрущёв был уверен, что такая советизация и децентрализация сделает экономику ближе к народу, но во многих отраслях это привело к сбоям в сложившихся цепях снабжения.
(обратно)174
«Сибириада» – название фильма Андрея Кончаловского, саги о трех поколениях одной семьи из маленького сибирского села.
(обратно)175
Поразительный контраст с современным Сургутом. Конечно, город, насчитывавший в 2010 году свыше 300 тысяч жителей, сохранил старые районы и их названия (район Геологов, район Энергетиков и т. д.), но градостроители переработали его план, создав новые зеленые пространства и задним числом сформировав центр города с музеями, концертными залами, театрами и так далее. Город еще так молод, что жители могут рассказать историю практически каждого здания, выросшего на вечной мерзлоте.
(обратно)176
Поправка была предложена в 1974 году Г. Джексоном и Ч. Вэником, депутатами от Демократической партии. Согласно ей, торговые связи со странами коммунистического блока, к которым впоследствии добавились и другие государства, где было зафиксировано нарушение прав человека, ограничивались и подлежали особому контролю Конгресса. Поправка не была отменена сразу после развала СССР. Лишь в 2012 году администрация Обамы заменила ее на закон Магнитского, который ввел новые санкции, направленные против ряда высокопоставленных российских чиновников.
(обратно)177
Эти цифры включают как сырую нефть, так и нефтепродукты в пересчете на сырую нефть.
(обратно)178
Крупный приток денежных средств определяет стоимость национальной валюты и ставит в невыгодное положение другие отрасли, он приводит к росту импорта и способствует инфляции. Есть и менее очевидные последствия: он притягивает таланты и творческую энергию в привилегированную отрасль, где доступны легкие деньги, и, следовательно, тормозит развитие инновационной экономики. Это явление наблюдается почти во всех крупных нефтепроизводящих странах: Саудовская Аравия, Кувейт, Нигерия, Мексика, Иран, Ирак, Венесуэла и другие подобные страны не смогли построить процветающую экономику, основанную на чем-либо, кроме эксплуатации основного ресурса. Напротив, многие страны, лишенные природных ресурсов, обладают высокой производительностью труда и развитой экономикой.
(обратно)179
Производство нефти в Саудовской Аравии снизилось с 500 млн тонн в 1980 году до 172 млн тонн в 1985 году. За тот же период доходы от продажи нефти упали со 119 до 26 млрд долларов.
(обратно)180
Международная напряженность достигла пика летом 1983 года. Советский газопровод через Чехословакию был введен в эксплуатацию в августе. Во многих странах Западной Европы проходили гигантские демонстрации против ракет с ядерными боеголовками, которые США хотели разместить в Европе. На повестке дня была операция «американский космический щит». В сентябре южнокорейский Боинг-747 был сбит советским истребителем при невыясненных обстоятельствах. В такой обстановке крайней напряженности, осложнявшейся предсмертным состоянием генсека КПСС Андропова, произошло ложное срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении, на которое, к счастью, советский дежурный офицер предпочел не отвечать.
(обратно)