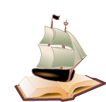| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Гавел (fb2)
 - Гавел [litres] (пер. Инна Геннадьевна Безрукова) 2562K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Михаэл Жантовский
- Гавел [litres] (пер. Инна Геннадьевна Безрукова) 2562K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Михаэл ЖантовскийМихаэл Жантовский
Гавел
Давиду, Эстер, Йонашу и Ребекке
Всю свою жизнь я думаю так: что произошло, остается навсегда, так что, в сущности, все имеет свое продолжение. Просто у бытия есть память. Поэтому и моя малость – ребенок из буржуазной семьи, лаборант, солдат, рабочий сцены, драматург, диссидент, заключенный, президент, публичный феномен и отшельник, мнимый герой и тайный трус – останется здесь навсегда. Или, быть может, не здесь, а где-то. Но не где-то в другом месте. Где-то тут.
Вацлав Гавел
© Argo, 2014
© Михаэл Жантовский, 2014
© Безрукова И., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Политическая энциклопедия», 2021

Предисловие к чешскому изданию
Эта книга порождена скорбью и благодарностью. В декабре 2011 года несколько недель я не мог смириться со смертью Гавела. Через месяц я пришел к выводу, что должен по меньшей мере написать о нем книгу. Проведя много лет за границей, я осознал также, что хотя за пределами нашей родины Гавел и остается концепцией в кругах интеллектуалов и политиков, он уже не очень известен широкой общественности (особенно младшему поколению) спустя более двадцати лет, прошедших с 1989 года. Существующие публикации о нем на английском и других языках или фрагментарны, или неточны, или и то, и другое. Конечно, я не думал, что одна книга изменит положение дел или что мне самому наверняка удастся избежать неточности, но мной двигала мысль, что, написав ее, я смогу хотя бы в малой степени оплатить долг, который я чувствую за собой по отношению к Гавелу.
Я привожу здесь эти доводы для того, чтобы немного объяснить чешскому читателю, почему я местами чересчур детально освещаю чешские реалии, которые ему хорошо знакомы, и наоборот, почему в других случаях не углубляюсь в подробности некоторых наших знаменитых внутренних споров и стычек, которые, вероятно, будут не слишком интересны другим. Многим читателям будет недоставать более широкого фона тех или иных событий и движений, например, связанных с «Хартией-77» и демократической оппозицией, или полной панорамы политической и партийной жизни в послереволюционной Чехословакии и Чешской Республике. Биография любого человека всегда информирует в первую очередь о нем самом, но это не значит, что другие личности и обстоятельства не играли в ходе событий данной эпохи столь же важную, а в какие-то моменты и более важную роль. Эта болезненная дилемма не имеет простого решения. И без того объем книги оказался почти в полтора раза больше, чем первоначально предполагалось.
Чешское издание представляет собой – более чем на 90 % – не оригинальный текст, а перевод с английского, который, правда, сделал я сам. И хотя значительную часть своей жизни я занимался переводами, это первый случай, когда мне пришлось переводить самого себя. После этого опыта я пришел к выводу, который, может быть, окажется полезен также иным авторам-переводчикам: гораздо лучше переводить других.
Заканчивая работу над английским и чешским текстами, я также понял, как кардинально изменился в последнее десятилетие характер литературной и книгоиздательской продукции. Текст я дописал в ноябре 2013-го, перечитал в конце того же года, в марте вносил в него правку в сотрудничестве с редакторами и еще корректировал в конце мая 2014-го. Окончательный вариант чешского текста был готов в августе. Все это время я с ужасом обнаруживал, что постоянно появляются все новые факты и материалы, которые дополняют или изменяют взгляд на те или иные эпизоды и события в жизни Гавела. Некоторые из них я успел, пусть коротко, упомянуть в тексте, но в конце концов смирился, придя к заключению, что в эпоху Интернета и электронных СМИ понятие «окончательный текст» не существует и существовать не может. Поэтому я прошу читателя снисходительно принять хотя бы то, что у меня получилось.
Пролог
Прежде чем очередная роща падет жертвой чьего-либо желания написать книгу, ее будущему автору следует хотя бы мысленно задать себе три вопроса и попытаться на них ответить. Интересует ли эта тема еще кого-то, кроме него самого? Написано ли уже на эту тему что-то другое, что могло бы удовлетворить такой интерес? И тот ли он человек, которому стоит браться за эту тему?
Вацлав Гавел принадлежал к числу наиболее примечательных политиков прошлого столетия. Рассуждая о Гавеле, прошедшем уникальный жизненный путь – ребенок известных родителей, изгой, мировая знаменитость, – трудно избежать разного рода упрощений. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что он сыграл важнейшую роль в деле ликвидации одной из самых соблазнительных утопий всех времен и стоял во главе одного из самых драматических общественных преобразований в современной чешской и европейской истории.
Неожиданному, почти сказочному превращению Гавела в главу государства удивлялись многие, включая его самого, но на самом деле в этом не было ничего чудесного или случайного. Автор данной книги постарается показать, что стремление исцелять мир присутствовало в жизни Гавела еще с тех пор, как в десятилетнем возрасте он придумал фабрику по производству добра. Благодаря исключительному чувству ответственности, побуждавшему его отстаивать свои взгляды перед лицом любых испытаний, и его не слишком заметной, но тем более действенной самодисциплине и упорству при решении стоящих перед ним задач, он в ноябре 1989 года оказался не только самым логичным, но и единственно возможным претендентом на роль лидера революции.
Личность Гавела, однако, неверно сводить лишь к образу диссидента или политика. Он был также незаурядным мыслителем и стремился последовательно применять результаты своих размышлений и лежащие в их основе этические принципы в политической практике. Можно с сомнением относиться к оценке Гавела как оригинального мыслителя мирового масштаба. Как бы он ни был начитан, ему недоставало регулярного образования, широты эрудиции и систематического самоотречения истинного ученого. Да он и сам иной раз напоминал читателям и слушателям об этих своих недостатках. Нравственная философия Гавела укладывается в три принципа, неразрывно связанные с его именем. Первый – это «сила бессильных», давший заглавие наиболее известному из его эссе; своей простотой он производит впечатление чуть ли не слогана. Казалось бы, этот эффектный лозунг трудно применить к большинству ситуаций повседневной жизни, где сильные всесильны, а бессильные всецело оправдывают такую свою характеристику. Парадоксальным образом этот принцип оказывается еще менее применимым в ситуации, когда бессильные вдруг встают у руля власти. И все же эта идея наложила неизгладимый отпечаток на революцию – одну из немногих в истории, не потребовавшую человеческих жертв. Второй принцип, «жизнь в правде», звучит почти мессиански, заставляя подозревать его автора в прожектерстве, лицемерии и дешевом популизме. К тому же, если следовать привычной трактовке слова «правда», приходится признать, что Гавел иногда сам изменял собственному учению. Однако вряд ли можно упрекнуть его в нехватке решимости руководствоваться этим принципом со всей искренностью, на какую он был способен. Триаду замыкает принцип «ответственности», источником которой является «память бытия». Все остальное, как говорится, только комментарий.
Гавел не оставил после себя ни обобщающих трудов, ни стройной философской системы. В ряде своих метафизических размышлений, относящихся в основном к периоду его президентства, он опасно заигрывает с идеями популярной философии Нью-эйдж. Однако в целом мышление Гавела отличается кристальной нравственной ясностью и последовательностью.
Гавел был не только диссидентом, политиком и мыслителем, но еще и блестящим писателем, остроумным и оригинальным. Своим успехом на этом поприще он не был обязан ни общественному признанию, ни достижениям в сфере политики. Как драматург он прославился задолго до того, как стал самым известным чехословацким узником совести, а тем более президентом. Напротив, можно сказать, что литературная ипостась Гавела страдала от его общественной деятельности. Вершиной его творчества принято считать произведения середины шестидесятых годов – пьесы «Праздник в саду» (1964) и «Уведомление» (1965). Хотя коммунистические комиссары от культуры всегда относились к нему в лучшем случае настороженно, в этот период он пользовался значительной творческой свободой и реализовал немало шансов. Красноречивым напоминанием об авторском потенциале Гавела была его последняя пьеса «Уход» (2008), которую он начал писать еще до избрания его президентом, а закончил уже после выхода в отставку. Семидесятые и восьмидесятые годы ознаменовались появлением нескольких маленьких жемчужин: одноактных пьес «Аудиенция» и «Вернисаж» (обе 1975), впечатляющей нравственной драмы «Искушение» (1985), примечательных пьес «Опера нищих» (1972) и Largo Desolato (1984), а также менее успешных опытов «Заговорщики» (1971) и «Гостиница в горах» (1976). Об уникальной способности Гавела к самоанализу и его всесокрушающем юморе свидетельствуют обе его автобиографии – «Заочный допрос» (1986) и «Пожалуйста, коротко» (2006), – написанные в форме интервью с Карелом Гвиждялой. К периоду президентства относятся «Летние размышления» (1991), задуманные как своего рода политический манифест, а также десятки речей и выступлений. Гавел неизменно писал их сам, но хотя они как небо и земля отличаются от привычных образцов политической риторики, сам этот жанр, безусловно, не позволял глубоко раскрыть тему или добиться художественной цельности. Тексты Гавела диссидентской поры, в том числе некоторые из его наиболее памятных эссе, как и необычная эпистолярная подборка «Письма Ольге» (1983), представляют собой сплав беллетристической прозы, философских размышлений и политической полемики. Их достоинства были особенно заметны в контексте периода, когда они писались; тем не менее некоторые из них, несомненно, выдержали испытание временем и новыми обстоятельствами.
И, наконец, существовал еще Гавел-человек, авторитет которого был таким же исключительным, как и его жизнь. Уже с юных лет он был лидером, формулировал программу, шел впереди и указывал путь. Он не был одержим собой, как это случается с идеологами; напротив, его отличали скромность, доброжелательность и такая неукоснительная, а порой и неуместная вежливость, что Гавел сам вышучивал ее в некоторых своих пьесах. Эти черты дополнялись у него всепроникающим чувством юмора, доходящего даже до абсурда, как правило, добродушного, порой едкого, но ни в коем случае не жестокого. Он ценил общество, становился душой любой компании, легко заводил друзей и щедро воздавал за дружбу. A lovely man, как сказали бы англичане.
Но существовал и другой Гавел, «тайный трус»[1], подавленный, больной, злящийся из-за своей беспомощности, склонный к алкоголю, лекарствам, хворям, а иной раз и к безрассудным любовным приключениям. Он не испытывал недостатка уверенности в себе в ноябре 1989 года, готовый во главе миллионов лицом к лицу противостоять возможному введению танков, окруживших Прагу, но как президент со всеми атрибутами власти он постоянно сомневался, что эта ноша ему по силам. По его собственному признанию, он стал подозрителен сам себе. Стараясь «жить в правде», он прилагал к себе – но не к остальным – это невероятно строгое мерило и крайне редко соответствовал собственным требованиям. «Человек сомневающийся» – как, впрочем, и все мы.
Для того чтобы объяснить и понять исключительную и неизменную популярность и значимость Гавела, следует оценить не только конкретные области его поразительно плодотворной деятельности и изучить отдельные стороны его многогранной личности, но также выяснить, каким образом эти разрозненные элементы соединялись, усиливая друг друга, в спаянное и устойчивое, хотя и парадоксальное целое, которое не равнялось простой сумме слагаемых. Гавел действительно был таким, каким казался на первый взгляд: естественным, настоящим, подлинным в той мере, какая может только сниться большей части людей и какой тщетно пытается достичь большинство политиков. Даже его ошибки были настоящими – не чета странностям каких-нибудь медийных карикатур, слывущих знаменитостями.
На чешском, английском и других языках существует целый ряд биографических книг о Гавеле, написанных с самых разных углов и точек зрения[2]. Все они представляют собой интересные опыты приближения читателю тех или иных сторон его жизни, деятельности и личности. Однако почти все они возникли при жизни Гавела и уже поэтому в самом тривиальном смысле неполны. К тому же их создатели концентрируются на отдельных аспектах «мифа о Гавеле», будь то уготованная ему судьба изгоя и бунтаря, его двойственное отношение к политике вообще и к своему президентству в частности, его нравственная философия, литературное творчество или беспорядочный образ жизни. При этом, отдавая себе отчет в том, что окончательную биографию кого бы то ни было написать невозможно, автор данной книги сознает, что и ей суждено стать лишь одним из источников для познания настоящего Вацлава Гавела.
И напоследок – почему именно я?[3] Хотя я и был близок к Вацлаву Гавелу, вместе с тем не могу сказать, что стоял к нему ближе других или знал его дольше всех. Две трети его жизни я был наслышан о нем, но знал лично только в течение последней трети. Значительную часть этого времени мы общались очень тесно, но из-за капризов истории, которую он помогал создавать, и обязательств, какие это налагало на нас обоих, случалось, что мы подолгу не виделись. В разные периоды находились другие, которые оказывались так же близко к нему и даже ближе, чем я. Одной из загадок Гавела, на которую эта книга лишь отчасти может пролить свет, остается вопрос, кто был ему ближе всех. Кроме обеих его жен, брата Ивана и, может быть, Зденека Урбанека, который осциллировал между гавеловскими alter ego и super ego, был еще целый ряд близких ему людей, но ни один из них не мог утверждать, что именно он – ближайший друг Гавела: остальные не согласились бы с такой оценкой. В Гавеле – наряду с теплотой и дружелюбием – была и некоторая отстраненность, какое-то неприступное внутреннее ядро, к которому можно было приблизиться, иногда чуть ли не дотронуться, но не проникнуть внутрь.
Этот факт объясняет и некоторую асимметрию личных отношений Гавела, включая отношения между нами. Как бы ни были важны для него те или иные люди в разные периоды его жизни, всегда оставалось ощущение, что они нуждались в нем больше, чем он в них. Насколько я могу судить, с его стороны это не было обусловлено сознательным стремлением к превосходству или желанием возвысить себя над остальными. Наоборот, с друзьями он был преувеличенно скромен, ироничен по отношению к себе и даже на вид покладист, но тем не менее каким-то загадочным образом доминировал. В этом, по моему мнению, и заключалась тайна его уникального и эффективного лидерского стиля, к чему я еще вернусь в другом месте.
Как бы то ни было, можно не сомневаться, что вместе нам было неплохо и что мы вдвоем пережили немало и веселых, и грустных минут, пропустили сколько-то рюмок и поделились рассказами о кое-каких невероятных приключениях и в то время, когда он еще не был президентом, а потом стал им, и после того, как он покинул этот пост. Но пик моей разделенной с ним славы пришелся не на тот момент, когда мы «совместно» выступали на заседании обеих палат американского Конгресса, или когда он представил меня британской королеве, а на 17 мая 1989 года, день, когда он, вынырнув из боковых дверей тюрьмы на Панкраце, где отбывал свое последнее наказание, разрешил мне отнести его пакет с вещами домой.
В течение первых двух из четырех его президентских сроков я проводил с Вацлавом Гавелом, вероятно, больше времени, чем кто-либо другой, включая его жену. Дело было не столько в важности моей персоны, сколько в характере моей работы: как пресс-секретарь я должен был участвовать во всех его зарубежных поездках, во всех бесплодных заседаниях, в каждом незначительном событии, чтобы затем сообщить о них средствам массовой информации вместо президента, которому внимание СМИ было не очень по душе.
Я безмерно восхищался его идеями, его неизменной доброжелательностью, его подлинностью и мужеством. Это не означало, что я был с ним во всем согласен, шла ли речь о практических решениях, которые ему приходилось принимать как президенту, или о философии, которой они диктовались. В мои обязанности входило также выступать в качестве advocatus diaboli и настаивать на том, чтобы какие-то вещи делались иначе или чтобы вместо них делалось что-то другое, а некоторые вещи не делались вовсе. Иногда, хотя и не слишком часто, мне удавалось его убедить, что привело к назначению меня еще и политическим координатором канцелярии президента. Это было довольно сомнительное продвижение по службе, так как за ним не стояли какие-либо конкретные полномочия, а пиетет к самой этой новой должности нельзя было внушить людям из команды, состоявшей сплошь из друзей.
Со временем наши разногласия усилились – не в том, что касалось наших целей, видения мира и нашей роли в нем, а в плане практического осуществления им функций президента. Прав я был или нет, но мне казалось, что чем дальше, тем труднее ему будет влиять на ход политического и социального развития страны, если он не организует значительное число своих сторонников и поклонников в действенную политическую силу или не даст им возможность самоорганизоваться. Гавел принял этот довод к сведению и с анализом ситуации был в принципе согласен, но в итоге предпочел нести издержки продолжения своей деятельности без организованной политической силы, не вступая на путь партийной политики. Это, в свою очередь, пришлось принять к сведению и мне, и это была одна из главных причин, почему в конце второго президентского срока Гавела я ушел из канцелярии президента, хотя он желал, чтобы я остался. Весной 1992 года за бокалом вина Гавел великодушно объявил, что понимает, почему я хочу уйти, и всем своим авторитетом поддержал мой следующий карьерный шаг: назначение на должность посла в Вашингтоне, в другой части света. Несмотря на разделявшее нас расстояние, он не изменил дружеского расположения ко мне и щедро делился своим временем всегда, когда для этого предоставлялась возможность.
Мое отношение к Гавелу лучше всего можно охарактеризовать словом, которое я употребляю здесь лишь скрепя сердце. Но если «любить» значит не только с теплотой относиться к другому человеку и радоваться общению с ним, но и заботиться о нем, тревожиться за него, мысленно быть с ним рядом даже на значительном расстоянии и в течение длительного времени нуждаться в его одобрении и в том, чтобы он отвечал на дружбу взаимностью, то это была любовь. Думаю, я был не единственным человеком в ближайшем окружении Гавела, кто мог бы описать свое отношение к нему аналогичным образом. В этом и заключалась связь, которая держала нас вместе и позволила выстоять в те сумасшедшие первые недели и месяцы демократических перемен в Чехословакии.
Любовь к герою своего рассказа не обязательно является лучшим условием его написания: она таит в себе опасность подхалимства, утраты здравого смысла и искажения действительности. Хотя я не уверен, что моя попытка избежать этих подводных камней окажется успешной, в этом мне по крайней мере может помочь моя первоначальная профессия клинического психолога. Одну из ее не слишком радостных, но необходимых сторон представляет собой «клинический взгляд», то есть способность наблюдать за поведением других людей (включая самых близких), которые борются, побеждают, проигрывают, страдают и умирают, и все это время вести бесстрастные записи. Результат я выношу на суд читателей.
18 декабря 2011 года, мрачный холодный день
Он растворился в холоде зимы: ручей замерз, аэропорты пустовали, снег сильно повлиял на вид знакомых статуй, и градусник тонул во рту истекших суток. День этой смерти был, согласно показаньям приборов, мрачным и холодным днем.
Уистен Хью Оден. Памяти Йейтса(перевод И. Бродского)
Прага просыпалась морозным утром в последнее воскресенье перед рождественскими праздниками. В головах у людей только и было, что предстоящее заворачивание рождественских подарков и, может быть, еще надежда немного отдохнуть. Прошедший год был не из самых счастливых. Хотя Чешская Республика переживала европейский долговой кризис не так тяжело, как большинство других стран, экономический рост остановился, и начинал сказываться режим экономии.
Распространившееся вначале в социальных сетях, а затем и в ведущих средствах массовой информации сообщение о смерти Гавела было воспринято как гром среди ясного неба – при том что особых причин для удивления не существовало. Весь народ знал, что экс-президент болен, и его друзьям еще с весны было известно, насколько серьезно его состояние. Это было не просто обострение какой-то болезни, а прогрессирующий общий износ организма в результате внезапной утраты воли и боевого духа, присущих ему в течение большей части его жизни.
Если общество не так уж регулярно интересовалось состоянием Гавела и у его загородного дома не караулили репортеры, ожидая его кончины, то это, возможно, объяснялось тем, что экс-президент многим представлялся человеком прошлого, которому уже нечего сказать в связи с актуальными событиями и проблемами. Благодаря его недавним на тот момент начинаниям в художественной сфере некоторое внимание ему уделяли ведущие культурных и литературных обозрений; иногда имя Гавела мелькало рядом с фамилией жены в разделах новостей, пишущих о знаменитостях. Дом в Градечке, где он провел последние месяцы, находился в 140 километрах от Праги. К нему вела плохая проселочная дорога, и во всей округе не было приличного жилья или заведения общественного питания. Ищейкам-репортерам скорее всего казалось, что поездка туда не стоила бы таких жертв.
Премьер Нечас, который как раз выступал в передаче «Вопросы Вацлава Моравца», отреагировал на новость первым: «Его уход – большая потеря», – сказал он с почтением. Но пока еще ничто не предвещало большего, нежели пара дней подобающего траура по исторической личности.
Вскоре после полудня люди начали приносить в Град цветы и свечи, оставляя их зажженными у наружной стены. Цветы и свечи появились и у дома в Градечке. Какая-то добрая душа принесла две бутылки пива из трутновской пивоварни, вдохновившей Гавела на создание пьесы «Аудиенция».
В два часа пополудни выступил преемник Гавела. «Вацлав Гавел стал символом современного чешского государства»[4], – заявил Вацлав Клаус. Никто не ожидал, что в такую минуту он поведет себя невеликодушно, но все равно в этом панегирике человека, который выказывал несогласие с Гавелом в стольких повседневных моментах чешской политики, было что-то знаменательное.
У статуи святого Вацлава, где проходили демонстрации 1989 года, начали собираться люди – и так же, как тогда, в ноябре, звенели ключами. Шествие двинулось к реке по тому же маршруту, что и памятная студенческая манифестация 17 ноября, только в противоположном направлении. Люди останавливались у мемориальной доски на Национальном проспекте, напоминающей об этой дате чешской истории. Некоторые оставляли под ней пачки сигарет.
Случаи публичного выражения скорби были редки. Никто не рвал на себе одежды и не бился в припадке истерии. Когда два с половиной месяца спустя сэр Том Стоппард, отдавая дань уважения Гавелу, процитировал хвалебные строки британского историка Джона Мотли о Вильгельме Оранском «Пока жил, он был путеводной звездой всего храброго народа, а когда умер, плакали и малые дети на улицах»[5], он сам признал, что это – «сентиментальное преувеличение»[6]. Тон общего переживания задавали скорее воспоминания, и да, он был торжественным. Аналогичные акции проходили и в других – малых и более крупных – городах.
Трудно было удержаться от сравнения с иным проявлением скорби на другом конце света. Днем раньше умер Ким Чен Ир, Любимый Вождь Северной Кореи. К нему как нельзя более подходили строки того же Мотли в переложении Одена: «Когда он смеялся, от смеха сенат заходился, / А когда плакал, умирали на улицах малые дети»[7]. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи распространяло фотографии огромных толп людей, плачущих в едином порыве. Многие из 200 000 политзаключенных в этой стране, без сомнения, тоже пролили слезы, но – слезы радости. Был объявлен двенадцатидневный государственный траур, в течение которого запрещались любая музыка и все увеселения. В то же самое время в Праге Ассоциация владельцев казино заявила, что никакой закон не требует отмены азартных игр на период государственного траура, и лишь рекомендовала своим членам ограничить их деятельность в эти дни[8]. Под этим, видимо, подразумевалась необходимость снизить ставки.
Соболезнования стали поступать и из-за границы: как официальные, от глав государств и правительств, так и личные – от бывших диссидентов и писателей. «Вацлав Гавел был одним из первых, кто начал говорить собственным голосом, и это были слова человека, преданного правде и свободе», написал его друг и соратник Адам Михник[9]. Российское государственное телевидение выступило со своим некрологом: «Гавел был главным двигателем процесса демократизации и вместе с тем ликвидатором развитой чешской оружейной промышленности, что стало одной из причин распада Чехословакии»[10]. Поистине взвешенная оценка – словно из «Праздника в саду». Представитель Ассоциации чешских туристических агентств попытался взглянуть на вещи с положительной стороны. «Такого, чтобы Чешская Республика была настолько заметна во всем мире, уже долго не случалось, – сказал Томио Окамура, который спустя несколько недель выдвинул собственную кандидатуру на пост президента. – Зимой люди решают, где провести отпуск в главный туристический сезон, и, как ни печально это звучит, смерть Гавела послужит для Чехии хорошей рекламой»[11].
В понедельник вдова Гавела Дагмар распорядилась перевезти его тело в простом гробу в Прагу и выставить в «Пражском перекрестке» – бывшем готическом храме, который, по инициативе Гавела и ее, восстановили и превратили в культурный центр и место международных встреч. Следующие двое суток, даже по ночам, люди стояли в очереди, чтобы отдать дань памяти покойному. В Чехии был объявлен государственный траур. Правительство Словацкой Республики – страны, которая одно время демонстрировала не слишком благожелательное отношение к Гавелу, – сделало то же.
В среду траурные церемонии организовывало государство. Гроб в сопровождении тысяч людей пересек Влтаву и проследовал наверх, в Град. В казармах караула Града его установили на лафет, который использовался для той же цели во время похорон первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика, и перевезли во Владиславский зал, где проводились королевские коронации и где Гавел впервые был избран президентом. Действующий президент Вацлав Клаус вновь оказался на высоте: «С его именем навсегда останутся связанными наша “Бархатная революция” и эпоха восстановления свободы и демократии, – сказал он. – Как ни у кого иного, велик его вклад в укрепление международного положения, престижа и авторитета Чешской Республики в мире. Писатель и драматург, он верил в способность слова изменить мир»[12].
Пятница 23 декабря была к тому же последним рабочим днем перед Рождеством. Несмотря на трудности с графиком из-за приближающихся праздников, с утра в пражском аэропорту Рузине[13] приземлялись один за другим правительственные самолеты. В казавшейся бесконечной череде лимузинов их пассажиры, восемнадцать глав государств и правительств, в том числе президент Саркози и премьер Кэмерон, Хиллари и Билл Клинтоны, Мадлен Олбрайт, Лех Валенса, Джон Мейджор и иорданский принц Хасан, ехали в кафедральный собор святого Вита, чтобы присоединиться к двум тысячам представителей чешского правительства и общественных деятелей, друзей и членов семьи Гавела.
Тем временем я разрывался между потребностью горевать по другу так, чтобы мне никто не мешал, и своими обязанностями посла при дворе святого Иакова, которые требовали от меня стоять на летном поле, встречая нынешнего и бывшего премьер-министров Великобритании. Я понимал, что в собор на церемонию мне ни за что не попасть, так как самолет опоздал, и колонна автомобилей отправилась туда прямо с летного поля, тогда как моя машина была запаркована в полукилометре от аэропорта. Если бы я решил поехать на ней без полицейского эскорта, выделенного автоколонне, церемония закончилась бы раньше, чем я прошел проверку безопасности. Женщина-офицер, которая была начальницей охраны, холодно отклонила мою просьбу разрешить мне примкнуть к колонне. Пытаясь представить себе, что сделал бы в подобном случае Гавел, я запрыгнул в тронувшийся с места лимузин Шон Маклеод, моей британской коллеги в Праге, прежде чем начальница охраны успела сказать что-либо себе в рукав. С первыми звуками траурной музыки я опустился на стул в соборе.
Как первое избрание Гавела (верующего человека, не принадлежащего к какой-либо конфессии) президентом сопровождала торжественная месса Te Deum, так и теперь за упокой его души служили католическую мессу под звуки Реквиема Дворжака. Йозеф Абргам, исполнявщий роль начальника канцелярии Ригера в фильме «Уход», произнес слова Dies Irae[14], которые точно передавали образ мыслей самого Гавела:
«О, каков будет трепет, когда придет Судия, который все строго рассудит! Трубы чудесный звук разнесется по могилам всех стран, созывая всех к престолу. Смерти не будет, застынет природа, когда восстанет вся тварь, дабы держать ответ перед Судящим. Будет вынесена написанная книга, в которой содержится все, и по ней мир будет судим».
Гавел умер не как верующий католик и перед смертью не причастился, но заупокойная месса, которую служил его товарищ по тюремному заключению кардинал Дука, как и предшествовавшее ей действо, ему – ценителю театрального действа и церемоний – были бы по душе. С некоторым смущением он радовался бы и похвалам друзей, Мадлен Олбрайт, епископа Вацлава Малого и Карела Шварценберга.
Третью речь произнес президент Вацлав Клаус – на сей раз о духовном наследии Гавела, выражающемся в его убеждениях и высказываниях: «свобода – это та ценность, ради которой стоит приносить жертвы»; «свободу легко потерять, если мы недостаточно ее отстаиваем»; «человеческое существование имеет трансцендентальное измерение, с сознанием которого мы должны жить»; «свобода есть универсальный принцип, и если где-либо ее у кого-либо отнимают, это угрожает и нашей свободе»; «слово обладает исключительной силой, оно может и убить, и излечить, может навредить и помочь и способно изменить мир»; «надо говорить и неприятную правду» и «мнение меньшинства не обязательно неправильное»[15]. В тот день было сказано немало хвалебных слов, но эти, может быть, значили больше любых прочих – именно потому, что прозвучали они из уст президента Вацлава Клауса.
Пока главы государств и зарубежные официальные лица принимали участие в приеме, который устроил чешский президент, родные и друзья ехали через весь город в траурный зал Страшницкого крематория на последнее прощание с покойным. Выступления здесь, в отличие от речей в кафедральном соборе, были многочисленные, импровизированные и неизменно от души, хотя и не все такие, что их хотелось бы запомнить. Некоторые из ближайших друзей не произнесли ни слова. Для собравшихся это была возможность не только проститься с тем, кто их покинул, но и разделить свою печаль с остальными и поприветствовать друг друга. Потом занавес опустился.
Но за этим последовало третье действие – музыкальный вечер в «Люцерне» с выступлениями в честь Гавела-интеллектуала – выходца из богемы, любителя рок-н-ролла и вождя индейского племени, коим он был провозглашен несколько лет тому назад на рок-фестивале под открытым небом в Трутнове. Последними выступили Plastic People of the Universe.
Это была незабываемая неделя скорби о великой утрате и праздника по случаю великого открытия – или, точнее, второго рождения. Люди выходили из «клеток самих себя»[16], на какое-то время забывая о надвигающейся зиме, тысяче непременных атрибутов Рождества в семейном кругу и о неясном будущем. Объединенные ритуалом почтительного траура, они были приветливы с соотечественниками и благожелательно говорили о своих врагах. В этой странной смеси печали с радостью перевешивала как будто все же радость от встречи с великим. Это слово не понравилось бы Гавелу. Происходящее привело бы его в замешательство, и его реакцией было бы скромное чувство удовольствия, смешанное с мягкой иронией и восхищенным изумлением народом, о котором сам Гавел когда-то сказал, что он способен демонстрировать невероятное достоинство, солидарность и мужество, хотя и всего пару недель раз в двадцать лет.
Рожденный в неподходящее время
Он никогда не был одинок
Ему никогда не лгали
Ему не приходилось драться в страхе.
Пол Саймон. Рожденный в подходящее время
В мифах что-то есть… При ретроспективном взгляде кажется вовсе не случайным, что первенец состоятельной пражской семьи, которая словно воплощала в миниатюре достижения вновь обретшего независимость народа со стародавней историей, был наречен в честь национального чешского святого. Точно так же не кажется случайностью то, что по праву первородства и благодаря своему имени он стал наследником династии. Как преемниками святого Вацлава были три его тезки-короля, так и предприимчивый сын мельника, в свободное время увлекавшийся спиритизмом, Вацслав Гавел дал своему сыну имена Вацлав Мария, а тот 5 октября 1936 года назвал тем же именем своего сына, будущего президента. Но на этом мифы не кончаются, поскольку легендарный образ исторического святого Вацлава находит прямое соответствие в легендах о короле Артуре, причем, вероятно, имеет с ними общие корни. Недалеко от Праги находится гора Бланик, по-видимому, родственница холмов с кельтскими по происхождению названиями Планиг в Рейнской области, Бланьи близ Дижона и Блиньи в окрестностях Парижа. По преданию, в недрах этой горы спят чешские рыцари в ожидании того времени, когда чешскому народу будет совсем плохо, чтобы во главе со святым Вацлавом прийти ему на помощь. Тот, кто в третий раз на протяжении трех поколений использовал это имя, должно быть, высоко метил.
Для подобного честолюбия у него, впрочем, имелись основания. Начав со скромного проекта устройства канализации в городе Ломнице-над-Попелкоу, Вацслав Гавел-старший в итоге создал крупное предприятие, занимавшееся строительством и недвижимостью, одним из объектов которой был помпезный доходный дом на берегу Влтавы, где он жил со своей семьей. Однако высшим его достижением стал огромный торгово-развлекательный комплекс близ площади, которая как нельзя более кстати именовалась Вацлавской. Тогда это первое железобетонное здание с магазинами, ресторанами, танцевальным залом, кинотеатром, музыкальным клубом и офисными помещениями слыло дворцом; в наши дни его скорее всего назвали бы «центром». Прага не так велика, как Нью-Йорк или Лондон, но это и не маленький город, поэтому регулярность, с какой эти места и символы вновь и вновь появлялись в жизни Вацлава Гавела, примечательна.
Сыновья Вацслава тоже были не из лентяев. Вацлав Мария пошел по стопам отца и развивал дело, связанное со строительством и недвижимостью, хотя и потерпел серьезные убытки во время большого кризиса в начале тридцатых годов. Воодушевившись в молодости поездкой в Калифорнию, он развернул строительство фешенебельного района вилл на Баррандовской возвышенности над Влтавой. Он обратился к лучшим из современных архитекторов, чтобы те спроектировали в Баррандове дома в соответствии с принципами функционализма, которые можно было с первого взгляда отличить от типичных пражских домов с двускатными крышами, и присовокупил к ним ресторан с баром в американском стиле – вольное подражание Клифф-Хаусу в Сан-Франциско[17].
Второго сына Вацслава, Милоша, тоже вдохновляла Калифорния – правда, скорее ее «фабрика грез», чем проекты застройщиков. На свободном земельном участке рядом с районом вилл он основал крупнейшую на европейском континенте киностудию, став тем самым одним из создателей чешской киноиндустрии. Сходство с голливудскими холмами казалось настолько разительным, что чуть ли не ожидаемой была здесь большая, издали заметная надпись под вершиной. И действительно, еще в 1884 году пражскую скалу украсила пятиметровая стальная мемориальная доска с фамилией Барранд – так звали французского палеонтолога, который проводил здесь исследования. Этот знак опережает голливудский на сорок лет.
Оба брата походили друг на друга, но каждый был в своем роде. Вацлав Мария – серьезный, практичный отец семейства, воплощение буржуазных добродетелей (включая и одну или двух любовниц, которых он втайне содержал на стороне). В делах коммерции им двигала не «капиталистическая жажда наживы <…>, а чистая предприим– чивость – стремление что-то создавать»[18]. Один из столпов общества, он был членом Ротари-клуба, «вольным каменщиком» и входил еще в целый ряд других клубов и обществ. Будучи просвещенным патриотом, он и сыновей своих воспитывал «в идейной атмосфере масариковского гуманизма»[19], имел связи в политических кругах, хотя сам не занимался политической деятельностью, ценил культуру, дружил с видными чешскими писателями и журналистами, собрал большую библиотеку. Он был хорошим мужем и «замечательным, добрым отцом»[20]. Судя по тому, как он обращался с подчиненными, а в еще большей степени – по тому, с каким тихим достоинством он переносил превратности судьбы и свою изоляцию в обществе в последние тридцать лет жизни, это был также глубоко порядочный и скромный человек.
Киномагнат Милош, напротив, являл собой богемную личность с гомосексуальной ориентацией. Он вел роскошную жизнь, устраивал модные вечеринки и предпочитал компанию музыкантов и кинозвезд обществу банкиров и политиков. Милош обретался в среде, которая в Чехословакии тридцатых годов была «сливками общества». По-видимому, он был безмерно предан своей киностудии и верен своим звездам, что втянуло его в некоторые сомнительные предприятия и вынудило пойти на еще более сомнительные уступки после того, как в марте 1939 года нацисты оккупировали Чехословакию и сделали «Баррандов» частью своего военно-пропагандистского механизма.
В семье столь ярких личностей мать Вацлава, Божена, определенно не оставалась на вторых ролях. Это была архетипическая пражская матрона, точно так же, как ее муж был архетипическим джентльменом, а деверь – архетипическим бонвиваном. Она обустраивала семейную жизнь, с помощью нескольких нянек и служанок следила за воспитанием и образованием сыновей, организовывала светские мероприятия, а также интересовалась музыкой, искусствами и наукой. Ее отец Гуго Вавречка, силезский инженер, журналист, публицист и дипломат, ранний провидец центрально-европейской интеграции и в течение нескольких месяцев даже министр в чехословацком правительстве, являл собой еще одно достопримечательное творение чешского национального возрождения.
Хотя Божена, судя по всему, была хорошей и ответственной матерью, старавшейся развивать у сыновей всевозможные интеллектуальные интересы – от химии и вообще науки до литературных опытов и домашнего кукольного театра, – она, по-видимому, не проявляла особо горячей родительской любви – по крайней мере к своему первенцу. Его младшего брата Ивана она, наоборот, обожала, оставляла Вацлава присматривать за ним, даже когда тому не очень хотелось, и бранила, если что-то случалось. Такое, впрочем, часто выпадает на долю старшего из детей[21].
При всем том это было детство привилегированное, благополучное и счастливое, и Вацлав рос привилегированным, благополучным и счастливым ребенком. На ранних фотографиях мы видим улыбчивого светловолосого мальчугана, чуть ли не ангелочка, окруженного любовью и заботой. Единственным камнем преткновения для ребенка, родившегося в 1936 году, было то, что этот рай не мог быть долговечным.
Его матери, скрупулезной документалистке, мы обязаны, быть может, лучшей иллюстрацией антиномий, из каких состояла его жизнь. Семейный альбом 1938 года, который она любовно украсила собственными рисунками, открывает панорамный снимок Баррандовских террас с подписью «Веноушково»[22], продиктованный понятной, хотя, как оказалось, ошибочной мыслью, что однажды они будут принадлежать ее первенцу.
На десятках фотографий с матерью, отцом, родными, друзьями и с братом Иваном Гавел предстает образцовым ребенком, у которого ни в чем нет недостатка. Ухоженный, одетый, как маленький принц, он уверенно улыбается в объектив. Должно быть, робость и смущение развились у него позже. На одном из первых фото с младшим братом Вацлав тычет Ивана пальцем в нос, «чтобы убедиться, что оба они в самом деле существуют»[23]. В четыре года он уже высказывал своеобразные суждения. Так, у доктора Вала, друга семьи, который был лыс, он спросил, почему у него нет волос. Когда же тот, желая развлечь ребенка, ответил, что волосы у него растут внутрь, Вацлав педантично заметил: «А ты знаешь, дядя, что они у тебя и наружу уже растут – из носа?»[24]
Однако врываются сюда и мрачные ноты, которые Божена не преминула отразить в альбоме. Речь о катастрофах. Им посвящено несколько страниц, озаглавленных, без различения степени важности событий, «Корь», «Мобилизация» и «Война». За неделю до второго дня рождения Вацлава Чехословакия объявила мобилизацию, чтобы защитить себя от угроз Гитлера, а затем капитулировала перед лицом «мирного» мюнхенского диктата. В соответствии с мюнхенскими договоренностями Чехословакия лишалась судетских областей, населенных преимущественно немцами, в обмен на гарантии территориальной целостности оставшейся части страны. Через пять месяцев вермахт оккупировал Прагу, и Гитлер установил над Чехией и Моравией «протекторат», тогда как Словакия стала независимым государством, связанным тесными узами с нацистской Германией. Спустя еще одиннадцать месяцев началась Вторая мировая война, смерч которой разрушил значительную часть Европы, изменил до неузнаваемости ее политическую карту и положил конец благополучию и уверенности в завтрашнем дне миллионов семей, в том числе семьи Гавела.
Впрочем, в ее случае последствия скорого взрыва сказались далеко не сразу. В то время как дядя Милош, пытаясь спасти свою обожаемую киностудию, скользил по очень тонкому льду сосуществования с немцами, его брат, никогда не любивший публичного внимания к своей персоне, удалился от общественных дел и перебрался с семьей в относительно безопасное и удобное для жизни место – в их загородный дом в Гавлове, в живописной местности на Чешско-Моравской возвышенности. Там, в атмосфере, отчасти напоминающей Комбре у Пруста, оба мальчика, опекаемые гувернанткой, служанкой и кухаркой под бдительным присмотром своей матери, по-прежнему могли наслаждаться идиллическим детством среди шума сосен, позывных сигналов кукушек и запахов темперных красок пани Божены. Даже вода из колодца сладостно благоухала[25]. Ничто в семейной корреспонденции и детских рисунках тех лет не напоминает о том, что вокруг шла война. Среди главных происшествий военной поры и первых послевоенных лет, согласно письмам Божены и ее сыновей, были такие, как болезнь маленького Вацлава, который в гостях у бабушки и дедушки в Злине заразился корью, бегство от нападающих гусей и «насморк, как слон» (с иллюстрирующим это рисунком, изображающим слона)[26]. Иные события, о которых Вацлав писал бабушке с дедушкой, покажутся существенными только с точки зрения десятилетнего мальчика: «После обеда я должен был в наказание много писать, потому что мы плохо вели себя на прогулке. Мы ходили в лес за ветками и убежали от пани учительницы»[27]. Уже в этом возрасте Гавел добивался драматического эффекта: «Сегодня мы были в кино. Оно называлось “Табу”. Было интересно, только один дед все испортил.
Он был очень старый и противный и любил молоденьких девушек»[28]. Важным мероприятием, которому он посвятил целых три письма, был выезд Рези (кухарка), Марженки (служанка) и Барышни (гувернантка) на бал. Гавел замечает, что на танцах им, должно быть, понравилось, раз они вернулись только в четыре утра. Мама Божена не спала всю ночь[29].
С фотографий, сделанных на Рождество 1941 года, на нас смотрят два довольных мальчугана: уверенный в себе Вацлав и милый кудрявый Иван, которого мать ласкательно называла Иванек или даже Ивечек. На других снимках мы видим семью за обедом на лоне природы в Гавлове. Поскольку мальчики, ходившие по грибы, вернулись из леса с пустой корзинкой, мама помогла им, подрисовав на фото несколько красивых боровичков. В Злине Вацлав подолгу играл с домашней овчаркой, и привязанность к собакам осталась у него на всю жизнь. Летом в Гавлове мальчики купались в ближнем пруду, а зимой катались на коньках по его замерзшей поверхности. Вацлав явно чувствовал себя более спортивным, чем его младший брат: «Полчаса я резал лед коньками, как черт. Иван часто падал»[30].
Одаренная мать поддерживала в Вацлаве охоту рисовать. Выбор им сюжетов может показаться знаменательным, хотя для мальчика его возраста в нем не было ничего необычного. На его рисунках мы видим королей и королев, замки и короны; он даже нарисовал «орден святого Вацлава»[31] в блаженном неведении о том, что награду с подобным названием, «Святовацлавская орлица», получали в те годы нацистские пособники. Охотно рисовал он солдат в историческом обмундировании, чаще всего с усами, какие позже носил сам, или с бородой. Изображения птиц и грибов у него были цветные и стилизованные. Иван между тем был ближе к действительности; в частности, он пытался нарисовать Адольфа Гитлера.
Обоих мальчиков восхищали механизмы, сложная техника и фабрики. «Дедушка, пожалуйста, ты не мог бы нарисовать мне, как устроен пылесос, что там внутри проходит ток, и он сосет пыль и сор. Жду с нетерпением»[32]. Дед Вавречка с радостью выполнил эту просьбу. При этом любознательность у юного Вацлава сочеталась с сочувствием и с элементами совестливости. Как-то раз, когда его спросили, какая температура воздуха в комнате, он к удивлению всех ответил: «Шестнадцать градусов Реомюра». После чего пояснил: «Мне так его, бедняжку, жалко, все больше любят Цельсия, поэтому я над ним сжалился»[33].
Во время войны оба мальчика начали ходить в местную школу в Гавлове. Об ее уровне мы можем лишь догадываться, но по крайней мере дважды Вацлав похвастался бабушке с дедушкой сплошными пятерками в табеле, причем не преминул отметить, что Иван получил четверки по пению и чистописанию[34].
Итак, мы видим смышленого, способного, уверенного в себе, хотя, может быть, иногда слишком умничающего ребенка. Так, когда из Злина в гости к Гавелам должна была приехать бабушка, мать Вацлава ее заранее предостерегла: «Веноушек наверняка будет зачитывать тебе политические передовицы, с ходу снабжая их своими комментариями»[35]. Гавел был с самого начала аристотелевским zoon politikon (общественным существом).
Несмотря на столь завидные условия, сам Гавел не вспоминал свои детские годы как особенно счастливую пору. Он объяснял это «социальным барьером»[36], о который он, будучи привилегированным ребенком, спотыкался в провинциальной, преимущественно крестьянской и пролетарской, среде. У него было ощущение, будто он наталкивается на «невидимую стену»[37], за которой он в большей степени, чем остальные дети, чувствовал себя «одиноким, неполноценным, потерянным, осмеиваемым» и «униженным своим превосходством»[38].
Это чувство отчуждения и изоляции, как и незаслуженной привилегированности, у Гавела сохранялось в течение всей жизни. В его восприятии именно благодаря этому чувству он всю жизнь смотрел на мир «снизу» и «снаружи»[39]. Проблемы, которые в том возрасте еще не могли быть определены им как экзистенциальные, он относил за счет «невольно ущемляющей» заботы своих родителей[40].
Но, в отличие от Франца Кафки, одного из своих великих образцов, Гавел никогда не считал себя жертвой разрушительных безликих сил, над которыми он не имел никакой власти. Очевидно, не что иное, как внутреннее упорство и мужество позволяли ему вновь и вновь противиться таким силам, бороться с ними на равных и иногда побеждать – вопреки, а может быть, как раз благодаря осознанию собственной хрупкости. Именно этот дух сопротивления предопределил ему роль скорее изгоя, чем жертвы. Его взгляд на мир всегда был в большей степени взглядом «снаружи», нежели «снизу».
Тем не менее, возможно, Гавел переоценивал исключительность своих ощущений. Большинство подростков естественным образом чувствует отчуждение от сверстников, семьи и своей социальной среды. Гавел и сам вспоминал, что чувство отторженности в нем усиливало и то, что он был «откормленный толстячок»[41], что в таком возрасте не кажется чем-то особенным.
Но, несомненно, не все объясняется только этим. В воспоминаниях и интервью Гавела там, где речь идет о детстве, много «белых пятен». Не надо быть психологом, чтобы заметить, что, в отличие от отца, дяди, брата и дедушки с бабушкой, в его мемуарах почти не фигурирует мать. Это тем более странно, что Божена, пойдя в отца, проявляла артистические и интеллектуальные наклонности в большей степени, чем ее муж, владела несколькими языками и была талантливой художницей. Кроме того, она напрямую участвовала в воспитании своих детей. Хотя в семье была гувернантка, Божена Гавлова сама учила сыновей алфавиту и даже нарисовала для них крупные буквы, которые прикрепила к стене[42]. Она развивала в Вацлаве художественные дарования и поддерживала его интерес к наукам. Несмотря на это, Гавел очень редко упоминал ее, и большей частью того, что мы о ней знаем, мы обязаны его брату Ивану.
Разное отношение к обоим родителям хорошо иллюстрируют два письма, которые Вацлав послал домой из школы-интерната в Подебрадах в 1948 году, как раз когда в ЧСР пришли к власти коммунисты. 31 мая он пишет матери: «Я случайно не забыл дома авторучку? Чем кончились выборы в Праге и в стране? В остальном у меня все хорошо. С почтением В. Гавел»[43]. Тогда как отцу 28 сентября, в день святого Вацлава: «Дорогой папа! Желаю тебе в день твоих именин всего наилучшего, чего только может желать сердце и чего не выразить словами, то есть, чтобы следующие твои именины ты отмечал при лучших обстоятельствах. Твой сын Вацлав Гавел»[44].
Одно дело – показать, что отношение Гавела к матери нельзя было назвать теплым, и совсем другое – попытаться объяснить, почему так случилось. На первый взгляд кажется, что все было в порядке. Божена неограниченно распоряжалась домом, следила за воспитанием детей, вместе с мужем принимала гостей, и ее в ответ тоже приглашали в гости; к изменам же мужа она относилась терпимо. У них был хороший прочный брак, несмотря на то, что Вацлав Мария был женат вторично, а Божена была на шестнадцать лет моложе его. Своих сыновей она охраняла и поддерживала, ей были важны их успехи. Но, по-видимому, ее воспитание неким образом вызвало глубоко амбивалентное отношение к противоположному полу, каковое ее старший сын пронес через всю жизнь. Гавел внутренне нуждался в женском обществе, в нежности и радости, которые была способна дать ему женщина, но также – в ее руководстве и порядке, которые она могла ему обеспечить. Всю жизнь он инстинктивно искал общества сильных женщин-лидеров, способных помочь ему преодолеть чувство беспомощности и неуверенности. И, хотя это звучит как довольно-таки банальное клише, все они так или иначе напоминали его мать.
Вместе с тем Гавел часто восставал против авторитета женщин в своей жизни и упорно старался от него освободиться. Хотя размышлениям о сложности отношений между мужчиной и женщиной он посвятил немало часов, что отразилось и в его литературном творчестве, бо́льшую часть времени он проводил в обществе мужчин, где, как правило, лидером был он сам. И несмотря на то, что он придавал огромное значение более острому инстинкту женщин и их способности приобщаться к глубинным тайнам жизни, в целом – за некоторыми важными исключениями – он не очень высоко ценил их интеллектуальные возможности. Например, в «Письмах Ольге» заметен его несколько насмешливый взгляд на присущие его жене манеру письма и образ мыслей.
Это противоречивое отношение к женщинам у Гавела отчетливо проявилось и в период его президентства. С одной стороны, он окружал себя представительницами другого пола и даже пошел на риск, что его будут сравнивать с Муамаром Каддафи, когда пригласил двух молодых женщин в свою службу охраны. С другой – он обычно не выдвигал женщин на ответственные посты. Среди сотни с лишним министров, которых он как президент назначал (хотя в последние годы его влияние на такие назначения и было ограниченным), не набралось бы и пяти женщин. Двум женщинам, принадлежавшим к узкому кругу первых сотрудников его президентской канцелярии, Эве Крисеовой, своей давней подруге и замечательной писательнице, а также семикратной олимпийской чемпионке гимнастке Вере Чаславской, он доверил работу с письмами в своей канцелярии и ведение дел, связанных с социальным обеспечением. В дальнейшем, будучи уже чешским президентом, он отводил женщинам исключительно роли ассистенток и секретарш. Единственными заметными профессионалками в его команде были адвокаты, представлявшие его интересы – как частные, так и служебные, – и Анна Фрейманова, заботившаяся о его авторских правах. Все-таки когда речь шла о его личном благополучии и личных интересах, он в конечном итоге полагался на женщин.
Всякий, кто решится попробовать охарактеризовать – вплоть до тонких нюансов – личность Гавела, неизбежно столкнется с этой глубокой двузначностью, проявлявшейся в нем уже с ранних лет, и не только по отношению к женщинам. Неловкость склонного к полноте робкого ребенка у него с самого детства сочеталась с естественной самоуверенностью исключительно одаренного и бесконечно любознательного мальчика с интеллектуальными запросами, значительно превосходящими его возраст. В дальнейшем при каждом повороте и кульбите богатой событиями жизни отчетливо сказывались обе эти стороны его характера. Его уверенность в себе парадоксальным образом росла пропорционально невзгодам и препонам, на которые он наталкивался, и наоборот, неизменными спутниками величайших его триумфов были сомнения. Такая душевная организация не обязательно предвещает легкую судьбу, зато основательно вооружает ее обладателя для борьбы с превратностями жизни.
Портрет художника в юности
Он был один. Один – юный, дерзновенный, неистовый.
Джеймс Джойс. Портрет художника в юности(перевод М.П. Богословской-Бобровой)
В год окончания войны Гавелу еще не было и девяти, но, постоянно прислушиваясь к разговорам взрослых, он не мог не понимать, что мир коренным образом изменился. На смену мертвящим тискам нацистской оккупации пришли две армии с разными намерениями. Армия с востока, занявшая теперь бо́льшую часть территории республики, включая столицу, не появлялась в этих краях со времен сражения под Аустерлицем. На сей раз эта армия пришла под красным знаменем со звездой, серпом и молотом. Вторая, под звездно-полосатым флагом, до тех пор не продвигалась в Европе дальше Франции. Это произошло в конце войны, которая должна была покончить со всеми войнами, и пришла эта армия по приказу президента Вильсона, сыгравшего ключевую роль в послевоенном устройстве Европы вообще и в создании Чехословакии в частности. Язык страны, откуда явились солдаты первой из этих армий, был сходен с чешским, ее классическая литература, отмеченная французским влиянием, имела немало читателей в среде чешской интеллигенции, но население этой страны во многом отличалось от чехов. Другая, лежащая далеко за Атлантическим океаном, до XX века была известна местным жителям в основном лишь как прибежище для массы «измученных бедняков»[45], голодных, преследуемых и предприимчивых, большинство которых уже никогда не вернулось на родину. Основатель Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, проживший последний год Первой мировой войны в Соединенных Штатах и женатый на американке, отождествлял себя со страной за океаном настолько, что даже взял себе фамилию жены, поставив ее перед своей собственной, а независимость Чехословакии провозгласил именно в Вашингтоне. Несмотря на свои симпатии к России как стране близкого славянского народа, он питал глубокое недоверие к ней в ее самодержавно-клерикальном обличии – точно так же, как и к недемократической большевистской революции. Его преемник Эдвард Бенеш, дипломат до мозга костей, играл в Большую игру довольно искусно, но не обладал необходимой для успеха силой, а к концу Второй мировой уже настолько зависел от Советского Союза, что, хотя сам он вместе с правительством в изгнании провел бо́льшую часть войны в Лондоне, новая послевоенная власть формировалась в Москве.
Тем не менее в 1945 году Чехословакия еще, казалось, могла выбрать одну из двух возможностей либо по крайней мере попытаться сбалансировать – в той или иной степени – влияние обеих сторон. Были восстановлены, пусть с существенными ограничениями, демократические институты, и в интеллектуальных кругах вновь развернулась дискуссия (хотя чем далее, тем более ожесточенная) между растущим числом последователей коммунистической веры и приверженцами либеральных гуманистических традиций государства, основанного Масариком.
На первый послевоенный период пришлась также волна праведного гнева и актов возмездия – осуществляемых подчас неправедными людьми – нацистским активистам и сочувствующим, а также коллаборантам из числа чехов. В действительности возмездие обрушилось на немцев в целом. Три миллиона граждан Чехословакии – этнических немцев – были выдворены за пределы страны, и тысячи, если не десятки тысяч, были убиты «революционными гвардейцами» или растерзаны разъяренной толпой. В захлестнувшей общество волне ненависти ко всем, кто провел годы войны в относительном достатке и пережил ее без больших потерь, тень подозрения пала и на обоих братьев Гавелов. В свою защиту им удалось раздобыть весьма условное подтверждение собственной безупречности за подписью члена «совещательной комиссии» при национальном комитете района Прага-Глубочепы: «Настоящим заявляем, что в настоящий момент нам не известно что-либо и мы не располагаем какими-либо обвинительными материалами против братьев Гавелов, владельцев предприятий ресторанного обслуживания в Баррандове»[46]. В отношении Милоша Гавела позднее велось следствие по делу о связях с нацистами и сотрудничестве с германской киноиндустрией, и хотя обвинение с него было снято, его признали морально непригодным для дальнейшей работы в кинематографе – может быть, не только из-за поведения во время войны, но еще и по причине его гомосексуальных наклонностей. То, что он был богат, послужило отягчающим обстоятельством. Его студию, AB, поглотила волна национализации крупных промышленных предприятий и фирм. В 1949 году, после безуспешной попытки бежать на Запад, он получил двухлетний тюремный срок, а с 1952 года, когда побег наконец удался, обосновался в Мюнхене. «Люцерну» и недвижимость Вацлава Марии Гавела новые власти до поры не трогали, хотя пора эта была недолгой.
Кроме нескольких рисунков, сохранился только один документ, иллюстрирующий направление мыслей и развития Вацлава Гавела в то время. Фантазия «Фабрика добра» не датирована, но орфография Гавела, грамматика и общий контекст позволяют считать, что она написана после окончания войны, скорее всего в канун или вскоре после наступления нового 1946 года[47]. В ее создании с воодушевлением участвовал и Иван. Как пишет в ней сам Гавел, главной его целью было стать знаменитым Исследователем и Профессором, что отвечало его интересам в тот период. В частности, он тогда «решыл[48] достать экипировку, чтобы отправиться на полюс»[49]. Сделаться миллионером казалось тоже важным, но это было лишь средством для осуществления грандиозного проекта «Добровки» – фабрики на 90 000 рабочих мест с филиалами в каждом городе, где имелись филиалы фирмы «Батя». Уже само название фабрики вместе с расчетами на последней странице, написанными рукой кого-то из старших (возможно, это был Гуго Вавречка), говорит о том, что текст создавался частично в Злине, центре империи Бати. Иван вспоминал[50], что фабрика получила имя «Добровка» – по контрасту с названием гиганта автомобилестроения «Шкода»; но еще вероятнее предположение, что за этим стояла игра с названием города Злин[51]. Не очень понятно, что должна была производить эта фабрика, судя по всему, добро. Она должна была снискать своему основателю необычайную популярность, что следует из изображения «Венды, как мы его называли», восседающего на «золотом престоле» и прославляемого ликующей толпой[52]. Эта невинная детская фантазия словно предвещала, что ее автор, даже в собственных глазах, предназначен для великих свершений. Вскоре, однако, ему пришлось учиться умерять свое честолюбие.
Летом 1947 года, когда будущее страны предопределил навязанный Сталиным отказ от плана Маршалла[53], пришло время задуматься о систематическом образовании Вацлава. Родители, старавшиеся дать своим сыновьям все самое лучшее, отправили вначале его, а двумя годами позже и Ивана в уникальную школу для мальчиков в Подебрадском замке. Коллегия имени короля Иржи из Подебрад была одновременно эксклюзивной и государственной, элитной и благотворительной, сочетавшей консервативный дух, как в британском Итоне, с передовыми либеральными идеями, и словно воплощала в себе дилеммы родителей. Ученики школы были самого разного социального происхождения: одни происходили из семей сельских врачей – коллег соучредителя школы (кардиолога), другие – из видных пражских семей. Некоторые, как, например, дети направленных на работу за границей дипломатов, являлись своего рода заложниками в стране, быстро учившейся подозрительности к собственным эмиссарам, к ветеранам войны и ко всем, кто имел какие-то контакты с внешним миром; некоторые же были сиротами, потерявшими родителей в годы войны. Для приема в школу требовалось сдать вступительные экзамены. По любым меркам здесь удалось собрать целый ряд исключительно одаренных детей. В один год с Вацлавом сюда поступили будущий председатель чешского Олимпийского комитета врач Милан Ирасек, будущий секретарь не запрещенной при коммунистах Чехословацкой социалистической партии Ян Шкода и сын мученика антигитлеровского сопротивления и будущий борец антикоммунистического подполья Йозеф Машин, для одних – герой, а для других – убийца[54]. «Куратором» комнаты, где жил Вацлав, был его старший однокашник Милош Форман, будущий кинорежиссер, автор фильмов «Черный Петр» и «Амадей». В этой же школе учился еще один будущий голливудский режиссер, Иван Пассер.
Помещения школы, располагавшейся в замке, история которого восходила к XIII веку, были хотя и роскошные, но не такие уж удобные. В комнатах с высокими потолками имелось только печное отопление, зимой там было холодно, и ученикам приходилось то и дело выстраиваться цепочкой, чтобы поднять уголь из подвала в отведенную классу Гавела спальню на пятом этаже. Одиннадцатилетний Вацлав каждый вечер читал в кровати. Держался он большей частью особняком. Ближайшим его товарищем был Лойза Стрнад[55]. Поскольку Прага была недалеко, Вацлаву разрешалось ездить через выходные домой. Иногда он звал с собой кого-то из мальчиков, у которых такой возможности не было.
Правила в школе были весьма строгие. Ребятам вменялось в обязанность поддерживать порядок в спальнях и личных вещах, причем тут действовала балльная система поощрений и наказаний, которой все боялись. Гавел, по натуре склонный к порядку, был, по всей видимости, не очень ловок, поэтому баллов набирал не слишком много. Милан Ирасек, который время от времени ездил с Вацлавом в Прагу, вспоминает, как вечно придирчивая мать Гавела Божена укоряла его: «Почему ты не можешь быть таким же примерным, как Ирасек и Черношек?»[56]
Спустя шестьдесят лет память тех, которые еще живы, избирательна и фрагментарна, однако же никто из них не вспоминает, чтобы Гавел был исключительно выдающимся учеником. Школа, следуя британским образцам, придавала большое значение спортивным достижениям и лидерским качествам. Юному Вацлаву, как кажется, недоставало того и другого. Он даже петь не умел. Форман помнит его как парнишку «с умными глазами, который был такой вежливый и любезный, что сам себе этим вредил»[57]. Только какая-то «внутренняя сила» уберегла его от судьбы «раба» всей комнаты и снискала ему «дружеское уважение» младших соучеников[58]. Как-то раз, когда мальчики учились ездить на подаренном школе велосипеде и один за другим выкатывали на нем из школьного двора на площадь к памятнику короля Иржи и затем сразу же возвращались обратно, Гавел, который не без труда взобрался в седло, вместо того чтобы сделать круг, устремился куда-то вдаль. «Гавел сбегает!» – закричал Форман. Когда же учитель Гофганс догнал его на мотоцикле на полпути к Нимбурку, выяснилось, что Гавел не умел ни развернуться, ни слезть с велосипеда, потому что его короткие ноги не доставали до земли[59].
На уроках Вацлав был послушен, но несколько робел и держался в стороне от других. Чувство отчужденности – результат привилегированного воспитания – в нем тогда, по-видимому, усилилось. Когда учитель Боучек спрашивал у учеников, кто их родители и чем они занимаются, Гавел молчал до последнего, а потом неохотно ответил, что его отец держит ресторан, точнее, два ресторана. «Рестораны? Какие рестораны?» – удивился учитель. «Баррандов и Люцерну», – выдавил из себя Гавел[60].
В феврале 1948 года коммунисты, совершив путч, осуществили захват власти. Министр иностранных дел Ян Масарик, сын Президента-освободителя, был найден мертвым во дворе министерства: якобы он разбился после падения из окна ванной в министерской квартире на пятом этаже, что произошло при обстоятельствах, которые наводили на мысль о грязной игре[61]. Министр юстиции Прокоп Дртина, друг семьи Гавелов, совершил попытку самоубийства, выбросившись из окна своей квартиры, но с тяжелыми увечьями пережил падение, чтобы вскоре после этого быть приговоренным к пятнадцати годам заключения. Еще одного видного политика, также близкого семье Гавелов, социалиста Губерта Рипку, министра внешней торговли, от подобной же судьбы спас только побег за границу. Вацлав Мария Гавел в 1949 году провел три месяца в тюрьме по подозрению в пособничестве группе проводников, помогавших беженцам уйти на Запад.
До нас не дошли никакие документы или свидетельства, за исключением одного-единственного[62], в поддержку утверждения, что в подебрадской школе Гавелу был свойственен конформизм. История о том, как он вступил в Чехословацкий союз молодежи (ЧСМ) и разгуливал по городу в форменной голубой рубашке его членов, которую в 2007 году рассказывал предубежденный против Гавела Йозеф Машин, не внушает доверия[63]. О степени интереса Гавела к политике и его информированности в то время свидетельствует его запись в хронике класса от 30 мая 1948 года: «После выборов не происходило ничего особенного, что было бы достойно упоминания в этой хронике»[64].
Летом 1948 года, наперекор вихрю, который ее вскоре смел, подебрадская школа по-прежнему сохраняла свой исключительный этос и программу. В июле у Качлежского пруда в прекрасной лесистой местности на юго-востоке Чехии был организован ежегодный скаутский лагерь. Гавел входил в отряд «водных скаутов», которому вменялось в обязанность переправлять в лагерь свои палатки и вещи на лодках, что неизбежно приводило к разным происшествиям.
Гавел, чья скаутская кличка (которой он не слишком радовался) была Скарабей[65], уже тогда пользовался репутацией искусного стилиста, «на несколько лет опережающего остальных»[66], поэтому ему поручили вести хронику лагеря. Своим не по годам взрослым, округлым почерком он тщательно записывал все важные события последующих четырех недель. К сожалению, важнейшим событием оказался самый дождливый за последние годы июль, так что значительная часть его записей посвящена сетованиям на погоду и ожиданиям, когда же наконец выйдет солнце, и лишь небольшая часть – играм, стоянию в карауле, завязыванию узлов и торжественным клятвам. Тем не менее в конце хроники мы находим написанную по всей форме благодарность Скарабею от начальника лагеря за образцовое ведение записей. Большинство из них начиналось с того или иного «лозунга дня», который нередко шел вразрез с победной идеологией эпохи. Например, уже тогда Гавел записывает: «И слово способно быть делом». В контексте того времени приводимая им цитата из Масарика «Иисус, не Цезарь» звучит как дерзкий анахронизм[67].
В 1950 году анахронизмом стала сама школа, просуществовавшая всего четыре года. Весной Вацлава и его брата Ивана, поступившего сюда только за полгода до ее закрытия, вместе с другими учениками распустили по домам. Некоторых перевели в обычные школы в Подебрадах. Директора Ягоду отправили работать на угольной шахте.
Серебряный ветер
Серебряный ветер! Блажен лоскут
земли, где первый флаг ты взвеял;
когда ж флаги сникнут и опадут —
спасибо за то, что ты нам веял.
Фаня Шрамек. Писецкая
После возвращения Гавела в Прагу казалось, что ему не получить не только элитного, но и вообще какого бы то ни было образования. В 1950 году на нем уже стояло клеймо «буржуазного элемента», который не заслуживает даже аттестата зрелости. Коммунисты хотя и называли себя атеистами, по-видимому, поклонялись мстительному богу, который наказывает за грехи отцов потомков до третьего и четвертого колена. Сыновей мог очистить только оказывающий благотворное воздействие физический труд при безоговорочном принятии образа жизни и ценностей рабочего класса. Удовлетворяло этому условию место лаборанта в Химико-технологическом институте или нет, но именно там Вацлав с помощью родителей нашел себе пристанище. Он изыскал также способ продолжать обучение в средней школе – пускай не днем, когда его присутствие могло угрожать кристально чистому сознанию учащихся представителей рабочего класса, а в вечерние часы, после смены. В Средней школе трудящейся молодежи на Штепанской улице, неподалеку от «Люцерны», он очутился в компании подобных ему социально ненадежных элементов, с которыми его объединяли не только схожие проблемы, но и общие интересы. В лице Ивана Гартманна, Радима Копецкого и Станды Махачека Гавел обрел друзей, с которыми он мог спорить, дискутировать и философствовать без боязни, что их объявят реакционерами. Впрочем, их таковыми и без того считали[68]. Так возник неформальный дискуссионный клуб, которому Радим Копецкий придумал название «Тридцатишестерочники» – по одинаковому у всех году рождения[69]. Первоначально члены клуба ставили своей задачей совершенствоваться в ведении дискуссий о политике, экономике и философии. А так как их шансы сделать карьеру на любом из этих поприщ были нулевыми, не удивительно, что тематический спектр их дискуссий дополнили области, не столь зависимые от господствующего в обществе вероучения, такие как танец, музыка, фотография и поэзия. Всего за два года существования группа выпустила пять номеров журнала, названного «Диалоги 36», и два альманаха под общим заглавием «Серебряный ветер» (по названию популярного романа Франи Шрамека, воспевавшего молодость).
Копецкий и Гавел быстро выказали себя движущей силой группы. Причиной были отчасти их социальные навыки и независимое оппозиционное мышление, а в случае Гавела еще и то, что у него тогда, как и неоднократно впоследствии, можно было встречаться. В пятидесятые годы большая квартира или собственный дом были в Праге редкостью. Семья же Гавела жила в просторной удобной квартире в центре города, а родители Вацлава умели принимать и охотно принимали гостей.
Хотя шестнадцатилетний в то время Гавел начал пробовать себя в поэзии, себя он видел в первую очередь мыслителем. Трудно удержаться от соблазна усмотреть в этом истоки его позднейших философских опытов, но большей частью это были бы напрасные старания. Гавел сам признавался, что краснеет, вспоминая свои «инфантильные попытки найти во всем какое-то позитивное содержание и смысл»[70].
Вначале он исповедовал некий вариант социалистического гуманизма, в котором отразилось преобладавшее в его семье направление мыслей в сочетании с положениями идеалистической философии Масарика. Этот первый опыт создания общефилософской системы он называл «гуманистическим оптимализмом». В ее основе лежала идея «стандартного универсального оптимума потребностей» каждого индивида, достижимого посредством общественного регулирования. Эта мысль не слишком отличалась от идеи социального государства, которая в недавнем прошлом внедрялась в практику рядом западных обществ. Она прекрасно совмещалась с масариковским гуманизмом и идеей будущей общеевропейской формации, которую разделял дед Вавречка. Сам Гавел был одним из ранних приверженцев и даже в каком-то смысле глашатаев европейской интеграции. «Гляди-ка, – написал он в письме Радиму Копецкому 2 марта 1953 года, – уже рождается Объединенная Европа»[71]. Не так много было людей, особенно среди живших за железным занавесом, которые в то время именно так расценили подписание 10 февраля и 1 марта 1953 года договоров о создании Европейского сообщества угля и стали. Возражая против продвигаемой Копецким концепции «национального социализма», Гавел прозорливо замечал и поддерживал развитие по пути наднациональной интеграции, в которое и он позже внес свой вклад.
Вместе с тем в свои шестнадцать лет Гавел испытал на себе – может быть, даже в большей степени, чем иные из его товарищей-подростков, – влияние ереси и судорожных софизмов господствующей идеологии. В упомянутом выше письме Копецкому он даже сверх положенного отдает дань марксистскому пониманию диалектики, спорит с Радимом, утверждавшим, что политическая практика коммунистов знаменует собой упадок их идеологии, соглашается с тезисом о зависимости общественной «надстройки» от «производства» (все это он через сорок без малого лет будет торжественно опровергать в своей речи в американском Конгрессе) и в целом выказывает одобрение социалистическому мировоззрению. Но это нерешительное, шизофреническое одобрение. «То, что было в квадратных скобках [], говорил я-марксист, не я-я»[72].
К счастью, гуманистический оптимализм не стал конечной точкой в развитии Гавела как философа. Уже в раннем возрасте он с болью осознавал принудительный характер общественного регулирования, особенно в той форме, в какой оно осуществлялось в коммунистических странах, и выступал за свободу самовыражения индивида, насколько это допускала необходимость ограничить его эгоистические инстинкты. При этом Гавел исходил из диалектики и решение усматривал в маловероятном «объединении двух крайностей, монополистического капитализма и марксистского коммунизма». Он ратовал «не за чистый индивидуализм, не за коллективизм, но за <…> индивидуализм с коллективной совестью». В итоге он пришел к еще менее правдоподобному заключению, что «такая система уже постепенно формируется в С.Ш.А. <…> Собственником средств производства не является ни государство, ни отдельный индивид, но те, кто на них работает»[73]. Не исключено, что к такому выводу, в пользу которого Гавел едва ли мог найти аргументы в тогдашней периодике, его привело чтение классиков американской литературы – от Уолта Уитмена до Джона Стейнбека.
Можно посмеяться над философствованиями шестнадцатилетнего юноши, а можно усмотреть в приведенных строчках доказательство того, что он уже тогда, как и позднее, рассуждал как тайный этатист. Но в контексте того времени он предстает отнюдь не радикалом. Даже социал-дарвинист и моральный нигилист Радим Копецкий признавал необходимость национализации крупных отраслей промышленности и – в известной мере – социального планирования. В их дебатах, все более бурных, именно Гавел настаивал на ключевом значении нравственных ценностей, и это убеждение стало константой всей его философии.
При взгляде на эту академию подрастающих изгоев общества, уникальную скорее их искренностью и силой взаимоотношений, чем уровнем творчества, создается прямо-таки трогательное впечатление. Тогда так другие подобные группы тинэйджеров находят драйв в правонарушениях или в употреблении наркотиков, эти кайфовали от Фомы Аквинского, Канта и Гегеля, хотя побудительные мотивы тех и других аналогичны. Гавел в то время выглядит живым, красноречивым, несколько стеснительным юношей, который старается замаскировать свою неуверенность тем, что носит галстук-бабочку и курит трубку. В переписке с членом их группы Иржи Паукертом из Брно и Копецким он предстает довольно властным, склонным настаивать на своем мнении и, как он сам признавался, несколько догматичным.
Эти «грехи», типичные для большинства молодых людей с интеллектуальными устремлениями, в то же время подпитывали любовь Гавела к дискуссиям и превратили его на всю оставшуюся жизнь в неутомимого корреспондента – грозу оппонентов и клад для его будущих биографов. Почти две тысячи писем, хранящихся в Библиотеке Вацлава Гавела, наряду с еще сотнями, если не тысячами, находящимися в других местах, хорошо документируют как константы его мышления и стиля, так и его превращение из заносчивого всезнайки-диалектика молодых лет в постоянно сомневающегося мыслителя-этика периода зрелости.
Самовосприятие Гавела-подростка как «чрезвычайно чувствительного»[74] способствовало изменению его жизненных планов. Если раньше он видел себя в будущем ученым и исследователем, то теперь его музой стала поэзия. Язык поэзии позволял ему излить чувства, слишком сильные или слишком опасные для того, чтобы выразить их в прозе. К тому же поэзия больше подходила к миру полубогемы, притягивавшего его все больше.
Современной чешской поэзии, которая могла увлечь юношу, было вокруг него в избытке. Двадцатые и тридцатые годы прошлого века в Чехословакии ознаменовались небывалым расцветом поэтического творчества. Тогдашние молодые поэты отчасти отдавали дань модернистским веяниям дадаизма, сюрреализма и других мировых течений, отчасти же черпали вдохновение в произведениях чешских поэтов XIX и начала XX столетия. Многие из них, хотя и не все, активно выступали на левом фланге довоенной политической сцены. Десятки поэтов еврейского и нееврейского происхождения были убиты нацистами во время войны; некоторые бежали из страны до ее начала или сразу после ее окончания. Два крупных поэта, Франтишек Галас и Константин Библ, умерли после захвата власти коммунистами в смертельном ужасе перед монстром, которому они помогали явиться на свет.
Тех, кто знает Гавела исключительно как интеллектуального, ироничного и скупого на проявление чувств эссеиста, драматурга и человека, удивило бы, что в молодости он тяготел к изобилующей монументальной образностью поэзии на грани громкой патетики. Возможно, под влиянием таких замечательных поэтов, как Витезслав Незвал (пик его творчества в то время уже был далеко позади, и теперь он славил сталинизм), рано умерший Иржи Волькер, «солдат стиха»[75] Владимир Маяковский или экстатический гуманист Уолт Уитмен, Гавел пришел чуть ли не к воспеванию коллективистской утопии. Тогда он писал о «слиянии с землей, жгучем втягивании в цепь рук…»[76], был убежден, что «стих должен громыхать ритмичным маршем роты равных друг другу солдат, идущих умирать друг за друга»[77]. Правда, на написание строк, которых со временем устыдился бы и менее тонкий человек, его подвигло скорее стремление быть причастным к чему-то большему, чем он сам, нежели осознанное принятие марксистской доктрины. Фразы вроде «Крайний индивидуализм, любование “ночью”, чрезмерная субъективность и внимание к внутренним проблемам – это, по сути дела, болезнь искусства, потому что свои внутренности ощущает только больной»[78], какие он писал в 1953 году, через тридцать лет могла бы с успехом использовать коммунистическая пропаганда для нападок на автора «Писем Ольге».
В то же время убеждение в том, что истинный поэт должен всегда оставаться верным самому себе, «открыть глаза собственного сердца»[79], которое Гавел пронес через всю жизнь, уже в молодости помогало ему отличать искусство от пропаганды. Оно послужило ему также надежным компасом в поисках образцов для подражания. Он сумел преодолеть свою робость и благодаря связям родителей был принят несколькими литературными мэтрами. Вначале он посетил Ярослава Сейферта, лирического поэта обманчивой ясности и тонкой образности, который уже давно излечился от опьянения коммунизмом своих молодых двадцатых годов. Сейферт, поэт по натуре и по профессии, обычно не возглавлял протесты против несправедливости, преследований и культурного варварства, но никогда не отказывался поддержать их, если к нему обращались. За юношеское восхищение Гавела он впоследствии воздал тем, что стал нравственно безупречным сторонником и свидетелем его борьбы. Когда в 1984 году Сейферт первым из чехословацких авторов получил Нобелевскую премию в области литературы, официальный политический и литературный истеблишмент в Чехословакии игнорировал эту награду из-за того, что он подписал «Хартию-77». Двумя годами позже госбезопасность нагло вмешивалась даже в его похороны.
Еще больше подействовал на Гавела первый из нескольких визитов к великому магу чешской поэзии Владимиру Голану, который как поэт сочетал в себе пророческий дар с сюрреалистической образностью (хотя он был также автором оды во славу солдат Красной армии, что пришли освободить Прагу в 1945 году). В то время Голан предавался таинственным медитациям в своей студии на Малой Стране, писал мистические стихи и почти никого не принимал. Встреча с ним дала Гавелу понять, что жизнь в искусстве, а в конце концов и жизнь вообще, быть может, не есть дело нашего выбора, а назначена нам судьбой; позже под влиянием Хайдеггера он называл это «брошенными игральными костями».
Долгие прогулки по Праге и беседы об искусстве и поэзии требовали места, где можно было присесть. «Тридцатишестерочники», еще слишком юные для того, чтобы зайти куда-то на кружку пива, нуждались в относительно спокойной обстановке для дискуссий, и потому они нашли недалеко от дома Гавела (если идти вниз по течению реки) кафе «Славия». Это было первоклассное предвоенное заведение, сопоставимое во всех отношениях с аналогами в Вене и Будапеште, один из центров пражской интеллектуальной жизни. Там они наблюдали, поначалу на почтительном расстоянии, за другой группой интеллектуалов и поэтов постарше, которые дискутировали и спорили так же бурно, как и они сами. Эти люди, хотя и относительно молодые, были преемниками довоенного кружка юных поэтов, наставником которых был Франтишек Галас (самый, может быть, одаренный из них, Иржи Ортен, погиб под колесами немецкой санитарной машины раньше, чем его успели отправить в Терезин или уничтожить в лагере смерти где-то дальше на востоке), и «Группы 42», члены которой во время войны продолжали свою деятельность, публикуясь подпольно или под псевдонимами. Крестным отцом этой группы был блестящий и желчный литературовед и неумолимый критик Вацлав Черный, преследуемый коммунистами за свои неортодоксальные, хотя и социалистические взгляды[80]. Лидером же ее суждено было стать Иржи Коларжу, поэту с пролетарской родословной, который со временем стал настолько не доверять многозначности слов и злоупотреблению ими, что оставил вербальную поэзию и начал самовыражаться посредством коллажей и артефактов, благодаря чему пользовался популярностью и в шестидесятые годы, и позднее, уже в парижской эмиграции. Еще один член общества, собиравшегося за столиком кафе, Зденек Урбанек, переводчик Шекспира, Джойса и других англосаксонских авторов, стал Гавелу другом и советчиком на всю жизнь, хотя был на девятнадцать лет старше его. Тесная дружба связывала Гавела также с Яном Забраной, которого он однажды случайно встретил в гостях у Голана. Забрана был одаренным поэтом и замечательным переводчиком, жизнь которого трагически исковеркало преследование по политическим мотивам и тюремное заключение его родителей. Наряду с другими, такими как автор экспериментальных стихов и переводчик Йозеф Гиршал или художник Камил Лготак, эти люди представляли альтернативный Парнас (подвернувшимся кстати символом которого был находившийся поблизости одноименный ресторан) – по отношению к официальному литературному истеблишменту из штаб-квартиры Союза писателей, расположенной тремя домами дальше. После того как группа «Тридцатишестерочников» распалась, Гавел пересел за стол старших литераторов. «“Славия” – это были мои литературные ясли»[81].
Не менее важно было то, что в «Славии» Гавел познакомился с Ольгой Шплихаловой, молодой актрисой-стажером из пролетарской среды, и вскоре влюбился в нее. Она была на три года старше и поначалу отвергла неловкие ухаживания семнадцатилетнего юнца, но это было не последнее ее слово.
Первого октября 1953 года «Тридцатишестерочники» выпустили первый из «Диалогов 36». Мать Гавела Божена иллюстрировала обложку, а вклад Вацлава составили стихи и эссе «Гамлетовский вопрос» на тему самоубийства, которая неудержимо притягивает подрастающие умы. Гавел так же, как до него Масарик, осуждал самоубийство как отказ от мира естества, частью которого является человек.
Благодаря разветвленной сети семейных контактов Гавел познакомился также со своим первым рецензентом и с двумя видными чешскими философами. Либеральный журналист и писатель Эдуард Валента, прочитав первые поэтические опыты Гавела, поощрил его к дальнейшему творчеству и позволил пользоваться своей обширной библиотекой. Известный ученый-гуманитарий и философ левого толка Й.Л. Фишер, который искренне старался приспособиться к новым условиям, но казался партийным идеологам недостаточно левым и потому быстро терял свой авторитет и влияние, был частым гостем в доме Гавелов. Его дочь Виола Фишерова, тогда начинающая поэтесса, присоединилась к брненской секции «Тридцатишестерочников». Второй мыслитель, Йозеф Шафаржик, попавший в окружение Гавела через семью его деда Вавречки, был во многом прямой противоположностью Фишера. Философ-этик, самоучка, он избегал света прожекторов и бо́льшую часть своей жизни провел в уединении, совершенно сознательно стараясь не допустить того, чтобы повседневная действительность оказывала влияние на его мышление. В этом своем стремлении он зашел так далеко, что позже осудил лидерство Гавела в «Хартии-77» как ошибочное уклонение от долга мыслителя. Но из названных двоих философов именно он повлиял на Гавела в большей степени.
Летом 1954 года родители Гавела пригласили с дюжину «Тридцатишестерочников» погостить неделю в Гавлове. В разгар летних игр и забав один из них, глубоко верующий Иржи Паукерт, который мало-помалу открывал в себе гомосексуальные наклонности, влюбился в шестнадцатилетнего Ивана. Эта интрига, с одной стороны, переросла в прочную дружбу юного поэта с матерью обоих братьев Боженой, которая явно ощущала потребность взять под свою защиту мятущегося молодого человека, а с другой – привела к постепенному охлаждению отношений между «Тридцатишестерочниками». Никто не осуждал Паукерта, но, быть может, многие стали понимать, что такие неординарные и разные личности должны идти каждая своим путем. Однако чувство «безоговорочной»[82] дружбы и взаимной верности, которое их объединяло, они сохранили на всю жизнь. Гавел не терял связи и переписывался с Паукертом, которого он считал своим ближайшим «собратом по литературе»[83], Копецким и Виолой Фишеровой, а кроме того крепко сдружился с примкнувшим к группе позднее Йозефом Тополом, будущим драматургом. Став президентом, Гавел вручил членам группы «Тридцатишестерочников» высокие награды в качестве запоздалой оценки их творчества.
В 1956 году под влиянием речи Ярослава Сейферта на съезде Союза чехословацких писателей двадцатилетний Гавел совершил свою первую вылазку в мир официальной литературы – сначала в статье «Сомнения относительно программы»[84], опубликованной в литературном журнале «Кветен», а затем в выступлении на семинаре молодых писателей в переданном Союзу писателей замке Добржиш (который вполне можно назвать характерным для той эпохи символом обрастания литературного истеблишмента атрибутами барственности) Гавел, как до него Сейферт, просил принять изгнанных писателей, среди которых многие были завсегдатаями «Славии», обратно в Союз чехословацких писателей. Однако его слова упали на неподходящую почву.
Но не все эскапады Гавела в середине пятидесятых годов имели интеллектуальный характер. К большому неудовольствию своей матери, он пристрастился к ночной жизни и начал шататься по барам и пабам с друзьями, разделявшими это пристрастие, каким был, например, довольно темный тип, скандалист и денди Владимир Вишек, впоследствии более известный как писатель Теодор Вилден[85]. Гавел, видимо, сам пытался разыгрывать аналогичную роль, носил «кок» – нечто наподобие нынешнего «ирокеза», галстук в крапинку с большим узлом, туфли с задранным острым носом, которые назывались «мадьярами», полосатые носки, брюки с сужающимися книзу штанинами до щиколоток, чтобы видны были носки, и пиджак с разрезами[86]. На языке того времени – стиляга да и только! Он ходил в танцклуб, что прочно ассоциировалось с буржуазным воспитанием, и там пытался, поначалу без успеха, сблизиться с представительницами противоположного пола.
Позднейшее творчество Гавела заметно отличается от его ранних опытов периода «Тридцатишестерочников». Сравнив себя с более яркими поэтическими дарованиями, такими как Иржи Паукерт или Виола Фишерова, он со временем отказался от дерзаний на поприще поэзии. Отверг он как в корне неверные и свои ранние философские опыты. Путь к высшему образованию в области искусств или философии ему преграждало не то происхождение. Но это было не самое главное. Благодаря «Тридцатишестерочникам», столу в «Славии» и своим собственным усилиям Гавел сделался неотъемлемой частью пражского интеллектуального мира, точнее – его теневого, инакомыслящего, богемного «подполья». И он, чем бы ни занимался в будущем, всегда оставался верен ему.
Бравый солдат Гавел
Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторяю, господа!
Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны
Осенью 1957 года Гавел написал примечательный документ на семи страницах под пугающим названием «Распоряжения моим близким»[87]. Его содержание, отнюдь не столь драматичное, как заглавие, характеризует Гавела как исключительно аккуратного и ответственного, даже чуть педантичного молодого человека. Эти качества остались у него на всю жизнь. «Распоряжения» – прежде всего перечень взятых у него и не отданных книг – могут служить исследователям-«гавеловедам» ценным источником, позволяющим воссоздать круг его чтения, а также круг друзей и знакомых. Среди авторов, чьи имена старательно подчеркнуты волнистой линией, поэты Иван Блатный, Владимир Голан, граф де Лотреамон, Анна Ахматова, Эдгар Аллан По, Шарль Бодлер, Рихард Вайнер, Иржи Ортен и прозаики Луи-Фердинанд Селин, Синклер Льюис, Лев Николаевич Толстой и Эгон Гостовский. В списке должников – «тридцатишестерочники» Иржина Шульцова, Виола Фишерова, Петр Вурм, Владимир Вишек, Иржи Паукерт и Иван Гартманн, писатели Ян Забрана, Иржи Коларж и Ян Гроссман, однокашник и товарищ по школе в Подебрадах Милош Форман, Ольга Шплихалова, которая в итоге стала-таки его подругой, и некто по имени Карл Маркс. Так же тщательно Гавел записал собственные долги перед друзьями и библиотеками. Третья часть под скромным названием «Мои сочинения» содержит указания, как хранить и распространять пока еще поддающийся измерению объем рукописных стихотворений и эссе Гавела. В четвертой части он просит дядю Милоша по возможности прислать ему из Мюнхена, из эмиграции, «1) полупальто, 2) штаны техасы и 3) швейцарский атлас кинозвезд и кинорежиссеров…»[88] В пятой части Гавел поручает своим близким (под каковыми, вероятно, подразумевается семья и, в частности, его мать Божена, которая, как видно из ее пометок от руки на полях документа, большинство из этих указаний выполнила) либо продать его мокасины, либо отдать их в починку[89].
Уже из этих двух частей «Распоряжений» ясно, что Гавел не страдал ни от какого серьезного заболевания и не помышлял о самоубийстве. Последняя часть, в которой он велит семье «мою берлогу сохранить в том виде, в каком я приготовил ее к двухлетней спячке»[90], проливает окончательный свет на то, о чем идет речь. В пору литературных дебютов и увлечения философией экзистенциализма у Гавела были и подлинные экзистенциальные проблемы. Окончив школу, он несколько раз пытался поступить в университет по специальности, связанной с гуманитарными знаниями или искусством, но из-за буржуазного происхождения его никуда не брали. Однако главной и вместе с тем недостижимой – несмотря на советы и помощь молодого преподавателя сценарного мастерства Милана Кундеры[91] – целью было попасть на факультет кинематографии Академии искусств, где уже учились его старшие однокашники по Подебрадам Иван Пассер и Милош Форман.
Поскольку грозившая перспектива отправиться на два года в армию была ему не по душе, Гавел «от отчаяния»[92] подал заявление в Высшую экономическую школу на отделение экономики транспорта, куда «брали всех»[93] и куда юного интеллектуала, интересовавшегося экономикой столь же мало, как и транспортом, все же приняли. Но такие предметы, как «гравий», были ему до смерти скучны, и когда, как и следовало ожидать, окончилась неудачей очередная попытка перейти с гравия на кинематографию, он ушел из института и все равно попал в армию.
Произошло это не без борьбы. После того как заявление о переводе на факультет кинематографии Академии искусств было отклонено и Гавел тем самым потерял право на отсрочку от военной службы, он попытался симулировать перед призывной комиссией «депрессивную психопатию»[94], которой при обычных обстоятельствах хватило бы для «белого билета». Однако продемонстрированное им актерское мастерство не произвело на комиссию ни малейшего впечатления. Армейский политрук заявил, что «Гавел пойдет в армию, даже если у него не будет одной ноги»[95]. Через месяц его и вправду призвали.
Тем же утром в конце октября 1958 года с пражского Главного вокзала уезжал в армию рослый молодой человек по имени Андрей Кроб. «В проходе я встал у одного окна, Вацлав, которого я не знал, у другого <…>, а перед его окном стояла такая красавица, что просто глаз не оторвешь, и вот я глянул, чья же это такая красавица, а там стоял такой пухлый медвежонок, и я подумал: почему этот мир такой несправедливый?»[96]
Хотя их дружба началась только после возвращения из армии, Кроб не мог не заметить Гавела в Пятнадцатом саперном полку из-за его «образцовой, строго по уставу, формы»[97]. Впоследствии они и Ольга (это и была та красавица) стали неразлучными друзьями, соседями и коллегами по работе.
Если Кроб был в целом готов принять то, что его ждет, Гавел переносил военную службу с трудом. Будучи человеком с исключительно устойчивыми привычками, он страдал от того, что внезапно лишился друзей, книг и времяпрепровождения в кафе. «Мне грустно, и я несчастлив», – написал он Паукерту, едва очутившись в армии[98]. Кроме того, призыв на военную службу он расценивал как свой жизненный проигрыш, что можно понять только в контексте «постоянных упреков», которые ему приходилось выслушивать дома, упреков, что он «неудачник»[99]. Гавел не сообщает, от кого исходили эти упреки, но можно с уверенностью предполагать, что не от отца. Вместе с тем перед лицом превратностей судьбы он демонстрировал упрямство, оптимизм и стойкость – качества, которые очень пригодились ему во множестве ожидавших его жизненных испытаний. «Признаю, что на некотором этапе своей жизни я в каком-то смысле проиграл, но, во-первых, не надо напоминать мне об этом по тридцать раз на дню, а во-вторых, я не считаю, что проиграл всю свою жизнь. Это смешно!»[100]
Служба в чехословацкой армии в пятидесятые годы прошлого века ни для кого не была медом, а для сына классового врага – уж тем более. Несмотря на это, Гавелу в целом повезло. Тремя годами раньше его отправили бы в один из вспомогательных технических батальонов, которые были созданы специально для капиталистического отребья и прочих нежелательных элементов, таких как священники или цыгане, где он служил бы без оружия и терпел всевозможные унижения. В 1957 году с ним обошлись уже несколько лучше и прикомандировали к саперному полку, который, впрочем, рассматривался как одна из первых жертв ожидавшегося ядерного пожара. Повезло ему и в том, что здесь он нашел родственную душу в лице Карела Брынды, вместе с которым основал в казармах любительский театр. Жизнь кого бы то ни было представляется более осмысленной при ретроспективном взгляде, чем когда она разворачивается от начала к концу. Некоторые из биографов Гавела считают его театральный дебют в армии органичной составной частью его творческого роста. Но сам Гавел отрицал это, утверждая, что причины, побудившие его заняться театром во время службы в армии, были куда прозаичнее. Он ненавидел однообразие и тупость воинской муштры, и особенно несносно ему было таскать вверенный его попечению тяжелый гранатомет. Конечно, он понимал, что поддерживаемая армейским начальством культработа призвана повысить уровень идейного самосознания рядовых срочной службы и укрепить их дух для грядущих битв, что, безусловно, не входило в его намерения. Но он готов был пойти на что угодно, лишь бы спастись от скуки.
Поэтому он прибегнул к классической чешской уловке, увековеченной Ярославом Гашеком в романе о бравом солдате Швейке, который обводит вокруг пальца всю махину австро-венгерской армии, восторженно изображая, будто он святее папы римского, и выполняя каждый бессмысленный приказ или поставленную задачу с таким энтузиазмом и горячностью, что в самой армии его признают негодным к строевой службе по причине идиотизма.
С таким же энтузиазмом и горячностью Гавел и Брында занялись постановкой пьесы «Сентябрьские ночи» видного молодого коммунистического драматурга Павла Когоута. Интрига этой драмы напоминает телесериал. Хорошо зарекомендовавший себя молодой офицер совершает вполне объяснимый, но не извинительный проступок, отправившись без увольнительной в город, чтобы навестить в роддоме свою беременную жену. Но, хотя честолюбивый и бескомпромиссный политрук докладывает о его проступке и осуждает его, офицер в конце концов избегает наказания благодаря своевременному заступничеству по-отечески расположенного к нему командира. Примечательным во всем этом действе было то, что режиссер Гавел сам сыграл роль не размышляющего амбициозного фанатика. Судя по всему, этот отрицательный персонаж получился у него таким убедительным, что его настоящий командир, по-видимому, не отличавший Dichtung от Wahrheit[101], в наказание лишил его почетной должности гранатометчика. Для Гавела же это было неожиданное поощрение.
Сомнительный успех этой постановки и избранной тактики настолько воодушевил обоих начинающих театральных деятелей, что они сели сочинять собственную драму. Хотя Гавел нигде открыто не говорит об этом, вероятно, они пришли к выводу, что если такую чушь может написать признанный мастер, то им это тоже по плечу. В их пьесе «Жизнь впереди»[102] встретились бравый солдат Швейк и «Монти Пайтон». В ней на полном серьезе описывается, как молодой солдат уснул во время караула, а другой по ошибке застрелил нарушителя из его оружия. Уснувшего солдата после этого чествуют и награждают как героя. Перед ним открываются блестящие перспективы, но он не может смириться с мыслью, что поступил бесчестно ради своей выгоды, и в итоге признается в своем проступке.
Находятся такие, кто усматривает в этой нелепой интриге ранний зародыш будущей «жизни в правде»[103]. Будь оно действительно так, это был бы единственный случай применения такого принципа в драматургии Гавела, где «правду» неизменно поджидают повороты, на которых она предстает куда более сложной и менее однозначной. Скорее это было просто «ловкачество»[104]. Сам Гавел называл эту пьесу «полуколлаборантской»[105]. Сравнивать «Жизнь впереди» с «Праздником в саду» и «Уведомлением», отыскивая в них «черты сходства» и «борьбу за тождество личности»[106], представляется некоторым преувеличением.
Швейковская история не могла закончиться иначе как фарсом. Пьеса о «настоящей» солдатской жизни, написанная «настоящими» солдатами, пользовалась изрядным успехом на ежегодном Смотре армейского творчества молодежи и попала на общенациональный смотр в Марианских Лазнях прежде, чем кто-то обратил внимание на сомнительные персональные данные обоих авторов и заподозрил, «что мы издеваемся»[107].
Сюжет «Жизни впереди» повторило последовавшее дисциплинарное разбирательство. Армейское начальство не могло открыто осудить пьесу об уснувшем на посту часовом как пародию, написанную двумя злонамеренными враждебно настроенными вредителями, так как этим она изобличила бы сама себя в том, что уснула на посту. В итоге было найдено идеологически правильное решение – объявить, что этот добросовестный в остальном драматический опыт грешит недостатком достоверности: немыслимо, чтобы истинно социалистический солдат, каким был главный герой, уснул на своем посту! Пьесу осудили как «антиармейскую», но более суровому взысканию авторов не подвергли. Гавел и Брында не без удовольствия провели неделю в элегантных Марианских Лазнях, разглядывая красивых девушек.
Но ни тогда, ни потом никто не обратил внимания на ироническую нотку уже в самом названии пьесы. Нарушитель, deus ex machina, который невольно привел в действие всю эту «комедию ошибок», мертв. Для него никакой «жизни впереди» уже нет.
Как ясно из «Распоряжений моим близким», мечтой и целью Гавела в те годы по-прежнему было пойти по стопам своего дяди и прославиться в кино. Может быть, затем, чтобы его документы перед очередными приемными экзаменами на факультет кинематографии Академии искусств выглядели лучше, он написал, опять-таки в соавторстве с Брындой, сценарий для среднеметражного фильма под названием «Такая служба»[108]. В отличие от «Жизни впереди» это вполне традиционная любовная история солдата-срочника, который заводит в гарнизонном городке интрижку с наивной студенткой, не предполагая, что дома за его девушкой тоже приударяет бывший ухажер. Если и есть в этой истории какая-то мораль, то разве только такая: что может делать один, то может делать и другая. Тем не менее к герою, несущему тяготы военной службы, автор явно подходит с более мягкими мерками, что говорит о его некоторой предвзятости в вопросе равенства полов.
Сценарий, кроме прочего, свидетельствует о все более сильной привязанности Гавела к Ольге и о чувстве неуверенности, которое он испытывал в эти два года разлуки. Ее приезды, о которых он упоминает в корреспонденции тех лет, не могли заменить ежедневного общения. Ни одного письма его к ней или ее к нему того периода до нас не дошло. Правда, Ольга ни тогда, ни позже писать не любила, да и мать Вацлава, которая тщательно сохраняла всю его корреспонденцию, возможно, была не столь аккуратна в отношении писем «этой девицы». Гавел, ни на минуту не расстававшийся с Ольгой, когда его раз в год отпускали на побывку, говорит о «бурных протестах», какие это вызывало дома[109]. Тем не менее горячую любовь обеих женщин к молодому бойцу подтверждает их готовность заключать перемирия ради того, чтобы в воскресенье вместе навестить его в казармах.
Как ни восхищало его кино, Гавел в армии начал читать и пьесы. Эдгар Ли Мастерс, Эдгар Аллан По и граф де Лотреамон уступили место Артуру Миллеру, Эжену Ионеско и Сэмюэлю Беккету. Для Гавела было очевидно, что коммунисты рассматривают киноиндустрию (примерно так же, как почту, энергетику и железные дороги) в качестве стратегической отрасли и его шансы поступить на факультет кинематографии ничтожны, и потому решил в следующий раз попытать счастья на театральном. Свой штурм оплота муз он спланировал весьма хитроумно, учитывая все мелочи, как и положено истинному стратегу. Перед экзаменационной комиссией он предстал в парадном обмундировании, как будто специально для того, чтобы профессор Дворжак спросил, почему у него нет значка отличника боевой и политической подготовки. Затем он попытался ошеломить комиссию, демонстрируя знание четырех законов марксистской диалектики на примере разбора пьесы турецкого драматурга Назима Хикмета, который ни о чем подобном скорее всего не имел ни малейшего понятия, и остался доволен впечатлением, какое это произвело на ряд самых твердокаменных товарищей[110]. Но, несмотря ни на то, что экзамены, к которым его готовили признанный литературный критик Ян Гроссман, ученик Вацлава Черного, и Милан Кундера, он сдал хорошо, и несмотря на лихорадочные усилия родителей, даже написавших ходатайство за него на имя самого президента Готвальда, Гавела опять не приняли[111]. Из армии он вышел таким же, каким пришел туда: неудачником без образования и без перспектив – не считая «бурных протестов», ожидавших его дома. Единственным лучом света в темном царстве была для него Ольга, которая, вопреки мрачным предчувствиям из киносценария «Такая служба», все это время оставалась ему верной и ждала его возвращения.
Ольга
Время их обратило в миф, и верность в камне – хоть едва ли они такой себе желали – в их герб посмертный, подтвердив, что голос внутри нас не лжет: нас лишь любовь переживет.
Филип Ларкин. Надгробие Арунделов
Вацлаву Гавелу не было еще и семнадцати, когда он встретил женщину своей жизни. Позднее он полюбил Дагмар Вешкрнову и после смерти Ольги женился на ней. Потом у него было еще несколько любовных романов, и он старался понравиться многим другим женщинам, а они – ему, но Ольга была его «главной опорой»[112], спутницей всей его жизни, его совестью, первым читателем, непоколебимым защитником и строжайшим критиком в течение полувека. Их отношения, пережившие недовольство его матери, беды, кризисы, измены, преследования и тюремное заключение, не поддаются оценке исходя из каких бы то ни было критериев, и в конце концов сделались критерием сами по себе. Влияние, которое Ольга оказывала на Гавела (а он – на нее), было настолько сильным, что трудно даже представить себе, как он мог бы стать тем, кем стал, без нее. Упорство, с каким молодой поэт добивался ее взаимности, несмотря на разницу в возрасте (Ольга была на три года старше), разное социальное происхождение (она выросла в Жижкове, районе Праги, который отличала не столько бедность, сколько гордый пролетарский нрав) и долгую разлуку, говорит о том, что в глубине души он, должно быть, предчувствовал, какой незаменимой она для него станет.
Впервые они встретились в кафе «Славия» – расположенной на берегу Влтавы Мекке богатых вдов, многообещающих актеров и литераторов-нонконформистов (конформисты собирались в Клубе писателей тремя домами дальше, где действовали спецрасценки на еду и выпивку). Обстоятельства их встречи были прозаическими. В лаборатории Гавел подружился с коллегой – лаборанткой Зденой Тихой – и, судя по стихам, на которые она его тогда вдохновила, даже в какой-то степени влюбился в нее. Отношение Здены к Гавелу было, видимо, тоже неоднозначным. Так и не став его девушкой, она познакомила его в «Славии» с двумя своими подругами по театральным курсам, которые она посещала. Одной из этих подруг была Ольга Шплихалова[113].
Гавел сразу же заинтересовался Ольгой, но саму ее он поначалу привлекал не слишком. Он был незрелым, робким, полноватым, тогда как у нее уже имелся серьезный кавалер, стажер театра и студент театрального факультета Академии искусств. Гавел, однако, не сдавался, и спустя три года они начали встречаться. Раньше, похоже, у него ни одной женщины не было. Ольга ему тогда сказала: «Нелегко тебе со мной будет!» – и вскоре поняла, что ей с ним будет еще труднее[114].
Что Гавел нашел в ней? В интеллектуальном отношении Ольга не была ему ровней: просвещал ее главным образом он. Она не вращалась в сколько-нибудь влиятельных кругах и не могла представить его интересным людям и известным деятелям искусств. У нее было красивое, выразительное лицо, обаятельная улыбка и густая, чуть взъерошенная копна темных волос, но по меркам того времени ее нельзя было назвать исключительно привлекательной. Из-за производственной травмы она лишилась кончиков двух пальцев на правой руке и часто прятала ее в перчатке. Не умела кокетничать и льстить и не считала нужным притворяться ради социальных условностей.
Была она прямая как линейка и без колебаний высказывала свое мнение, когда ее об этом просили, а часто и когда не просили. Тех, кто с ней столкнулся впервые, ее резкая прямота порой смущала. Но те, кто узнал ее поближе, понимали, что в этом не было никакой агрессии или стремления ставить себя выше всех либо принижать других – просто ей была присуща какая-то невероятная деловитость, какая мало у кого проявляется так последовательно и откровенно. Еще примечательнее было то, что ее суждения и ощущения, касавшиеся других, как правило, оказывались верными. По-видимому, именно ее бескомпромиссная честность и пренебрежение условностями и привлекали в ней Гавела. Он был в полушаге от того, чтобы сделаться бунтарем, и больше нуждался в такой закаленной подруге, чем в какой-нибудь дебютантке из добропорядочной семьи.
А что нашла в нем она? Возраст, фигура и картавость не делали его идеальным парнем. Если многие считали Ольгу внешне незаурядной, то едва ли кто-то охарактеризовал бы так Вацлава. Его интеллектуальный голод и знания, конечно, не могли не подействовать на собеседницу, однако это были не совсем те качества, которые делали бы его надежным партнером в суровых недрах Жижкова. Но они походили друг на друга тем, что ни в одном из них не было ни капли непостоянства и поверхностности. Точно так же, как Ольга, Гавел в свои девятнадцать лет уже производил на окружающих впечатление (хотя совсем иначе, будучи мягче и обходительнее) тем, что по-настоящему верил в то, что говорил. И к этому еще добавлялась некая непоколебимая идеалистическая надежда, некая простота, граничащая с наивностью, нечто почти детское и легкоранимое, вроде веры, что добро можно изготавливать на фабрике. Ольга могла такое понять: в родной семье ей с детства пришлось заботиться о малышах, и она делала это с врожденным опекунским инстинктом любящей, хотя и строгой матери. Поэтому она должна была сразу же заметить и неуверенность этого юноши, и его слабость, и глубокую душевную потребность быть любимым. Если он выбрал ее как свою ученицу, то она его – как своего воспитанника. Было бы упрощением толковать часто высказывавшееся наблюдение их общих друзей, будто «Ольга состояла при нем скорее в роли матери, чем жены»[115], в духе дешевой психологии популярных глянцевых журналов. На самом деле Гавел ни в коей мере не стремился повторять свои отношения с матерью. Хотя и верно то, что как человек, «выросший в крепких любящих объятиях властной матери», он нуждался в том, чтобы рядом с ним была «энергичная женщина, которую он мог бы все время о чем-то спрашивать и вместе с тем все время ее немного побаиваться»[116]. Но он искал также женщину, готовую уделять ему исключительное внимание и безусловно ему преданную, чего Божена, которая души не чаяла в Иване, дать ему не могла. В каком-то смысле он искал мать, которой у него никогда не было.
Кроме того, они оба были изгоями, причем она, в отличие от него, изгоем добровольным. В окружавшей их социальной реальности не было ничего такого, что привлекало бы их внимание или что они находили бы стоящим их внимания. «Главным опытом своего поколения я считаю то, что мы сполна испытали на себе воплощение коммунистического представления о социализме и выработали принципиальное и, как никогда ранее <…> обдуманное отношение к нему, к сожалению, по большей части негативное»[117]. Их развитому чувству справедливости и честности должны были претить жестокость, чванство и лицемерие господствующей идеологии. И хотя Ольга благодаря своему пролетарскому происхождению не столкнулась бы на пути к высшему образованию с такими препятствиями, как Вацлав, она сама решила не вступать на него. Возможно, она поняла, что такое образование было бы несовместимо с воспитанием, которое она получала за столиком кафе «Славия». В своем сопротивлении внешнему миру они оба научились держаться друг друга, зависеть друг от друга и безоговорочно верить друг другу.
Ширящийся круг друзей Гавела из числа «Тридцатишестерочников» и литераторов, собиравшихся в «Славии», постепенно принял Ольгу и полюбил ее. Не блиставшая в отличие от многих других интеллектуальным остроумием, она тем не менее так прочно стояла ногами на земле, что все питали к ней величайшее уважение и постоянно опасались, что Ольга укажет им их истинное место, а то и изобличит в них шарлатанов.
К Ольге в целом благосклонно отнесся и отец Вацлава. Это был в общем-то простой человек, которого смущало его некогда привилегированное положение в обществе, хотя он и не стыдился прошлого так, как сын, и новая девушка Вацлава его в принципе устраивала. В любом случае он уважал выбор сына. Божена, напротив, была далеко не в восторге. Может, как провинциалка в большом городе, она острее чувствовала потребность держаться за свое положение как за некую надежную опору. Не исключено, что отчасти она была снобом. Ей не нравились простота и прямота Ольги, ее семья, ее пролетарский акцент и необразованность. Наверняка она видела на ее месте девушку «из приличной семьи», какой была, к примеру, прелестная Яна, дочь философа Яна Паточки, весьма почтенного человека, иной раз захаживавшего к Гавелам[118]. Правда, некоторые обмолвки Вацлава дают понять, что в отношении его избранницы у Божены возникали довольно серьезные подозрения: мол, эта честолюбивая авантюристка вначале вылепила из ее неудачника-сына успешного молодого человека, а теперь этим пользуется. Но даже если бы Ольга хотела разделить с ним успех, в котором была и ее заслуга, вряд ли это было достаточным основанием для того, чтобы метать в нее громы и молнии[119].
Божена, несомненно, желала своему сыну добра; возможно, ее огорчало, что у него не было постоянной подруги, особенно после того как Иржи Паукерт безрассудно – впрочем, и безответно – влюбился в ее младшего сына Ивана. Дух дяди Милоша определенно витал в воздухе. Если бы Ольга умела хоть немного обхаживать почтенную матрону, показывая, как высоко она ценит ее расположение и советы, все могло сложиться иначе. Но этого от Ольги никак нельзя было ожидать, хотя она изо всех сил и старалась поддерживать с пани Гавловой хорошие отношения. Однако это давалось нелегко: ведь молодая пара теперь уже большую часть времени проводила в «берлоге» Вацлава в квартире на набережной. Возникла классическая ситуация соперничества между двумя сильными женщинами, матерью и возлюбленной, боровшихся за одного мужчину.
Впрочем, борьба эта с самого начала была неравной. Гавел уважал мать и заметно робел перед ней, но вместе с тем обнаруживал стремление к независимости, которое побуждало его восставать против ее авторитета. А Ольга знаменовала собой апофеоз этого бунта. Как ни опасался он, что своим выбором разочарует мать, еще больше он боялся, что разочарует Ольгу, а больше всего – что изменит самому себе. Женитьба на Ольге была для него проявлением «элементарной человеческой гордости и веры в себя, какой у меня по существу никогда не было»[120]. Когда по его предложению они заключили 9 июля 1964 года гражданский брак, Гавел не уведомил об этом родителей. Спустя пять дней он известил о свершившемся событии отца – письмом, отправленным с безопасного расстояния, из гостиницы «Меран» в Перштейне-над-Огржи близ Карловых Вар, куда новобрачные отправились в свадебное путешествие. Судя по всему, он предоставил отцу и Ивану самим сообщить эту новость матери.
В письме отцу, диаметрально отличающемся от знаменитого письма Кафки полным отсутствием какой-либо горечи и обвинений, Гавел описывает – может быть, больше для самого себя и для матери, чем для адресата, – причины, побудившие его вступить в брак, и свои чувства к Ольге после восьми лет их совместной жизни. Оно напоминает скорее сводку выгод и издержек, нежели страстное воспевание любимого существа, что, однако, говорит также о серьезном и ответственном отношении к принятому решению. Главная причина – это просто констатация факта: «мы с ней понимаем друг друга, и мне с ней хорошо»[121]. Гавел никак не развивает этот тезис; вместо этого он признается в иных мимолетных влюбленностях и «телесной благосклонности других женщин», но это его «никогда не отвлекало от Ольги, а наоборот, всякий раз привлекало к ней: я снова и снова осознавал, как мало значат такие постельные дела в сравнении с настоящим и постоянным взаимопониманием и контактом двоих людей»[122]. Ольга, признает Гавел, «не является и, наверное, никогда не станет профессором в Гарвардовом (так!) университете»[123], но она привносит в их отношения «немалую толику здорового, естественного, нормального человеческого начала <…> немалую толику здорового, непосредственного и неиспорченного понимания жизненных и творческих ценностей, немалую толику изначального и даже неприятно откровенного, естественного разума при оценке всех пропорций окружающего меня мира»[124].
И здесь, и в иных случаях, когда речь идет о противоположном поле, интеллектуальное прикрытие Гавелом своей позиции не слишком убедительно. Он предстает человеком, всецело принадлежащим своему поколению и своей среде, человеком, который диктует условия отношений, не принимая во внимание взгляды и чувства другой стороны. Не приходится сомневаться в том, что Ольга – хотя она и принимала эти условия как, по-видимому, единственный способ удержать при себе мужа – предпочла бы, чтобы чувство Гавела к ней было более глубоким и безраздельным. Однако осуждать Гавела как обычного мужского шовиниста значило бы впасть в дешевое внеисторическое морализаторство. В конце концов отношения лучше всего проверяются по тому, насколько они выдерживают испытание временем; отношения Вацлава и Ольги выдержали целых пятьдесят лет: подобным могут похвастаться лишь немногие.
Обычно в счастливых парах один такой же, как второй; отличительным признаком является именно парность. В то же время двое могут страстно любить друг друга, каждый по-своему и часто с катастрофическими последствиями, но так и не создать пару. Супруги Гавелы, безусловно, были именно парой, пусть в некоторых отношениях и необычной и несовершенной. Их «парность», которую они нередко выказывали при посторонних, вступая друг с другом в ожесточенные споры, в те мгновения, когда они оставались одни и читали каждый свою книгу или занимались каждый своим делом, как будто, казалось бы, не беря в расчет присутствие второго, принимала вид разделяемого обоими тихого покоя. «Ольга!» – просительно звал Гавел, когда какое-либо дело выходило за рамки его возможностей или когда его «теряла» очередная вещь, которую он искал[125]. «Вашек!» – подавала голос Ольга, натыкаясь на очередную гадость в газете «Руде право» или замечая, что поблизости шныряет очередной гебист, изображающий из себя Джеймса Бонда. Когда Гавел в Градечке уединялся в своем кабинете с окнами во двор, Ольга превращалась в неумолимую стражницу, отгонявшую всех непосвященных. Утром же следующего дня она становилась его первой читательницей, и он нервно курил одну сигарету за другой, ожидая жениной похвалы. Какие-то пары не выдерживают страданий, какие-то – успеха, но для Гавелов то и другое было только лишним поводом сплотиться и продемонстрировать миру неприступный защитный вал. Но какими бы прочными ни были их отношения, Ольга всегда оставалась столь же категорически независимой, как он, а может быть, даже в большей степени, чем он. Пока Вацлав находился в тюрьме, Ольга была его верными глазами и ушами, его курьером, менеджером и поставщиком двора, но отказывалась вести себя как печальная вдова, а занималась своими делами в своем собственном кругу. Точно так же, когда Гавел стал президентом, она, как положено, появлялась рядом с ним по торжественным случаям, во время приемов и зарубежных поездок, но ни в коей мере не желала работать «первой леди» на полную ставку и проводить дни в бессодержательных светских беседах, которые были ей так же милы, как волку клетка. А заболев, она не захотела выставлять свою боль и страдание на обозрение всему народу и умирала так же, как жила, в гордом уединении. Это парадоксальным образом вызвало самую большую волну всенародной скорби со времени самосожжения Яна Палаха в 1969 году. Ольга была скалой, и Гавел не мог не понимать этого уже тогда, когда писал письмо своему отцу.
Ученик
Смотри на всякий выход, как на вход куда-то.
Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы
После возвращения из армии Гавел во многих отношениях находился в более выигрышном положении, чем большинство его современников, хотя в ближайшей перспективе великое будущее его не ожидало. У него были цель в жизни, верная подруга, жилье и родители, пусть уже давно не богатые, которые все еще могли его поддерживать. Однако он нуждался в работе, а так как в кинематографе для него места не нашлось, наилучшей альтернативой показался театр. С помощью отца он устроился рабочим сцены в пражский театр ABC, над высококвалифицированной труппой которого возвышалась гигантская фигура Яна Вериха.
Для Вацлава это было естественное прибежище, поскольку Верих воплощал в себе все то, во что верили в семье Гавелов. Ему был присущ просвещенный, умеренно «левый» взгляд на мир, который резко контрастировал с ксенофобными и авторитаристскими тенденциями, ширившимися в предвоенной Европе, а его «Освобожденный театр» был открыт веяниям современного авангарда, прежде всего – немецкого политического кабаре, парижских музыкальных ревю и заокеанского мира джаза и свинга. В своих легендарных импровизациях в просцениуме Восковец с Верихом брали на прицел и подвергали беспощадному осмеянию экономический кризис тридцатых годов, нарастающую угрозу нацизма, неблаговидные делишки и коррупцию отечественных политиков, знаменитостей, снобов и лицемеров. Созданная ими форма служила образцом и источником вдохновения для чешских сатирических театров и тридцать-сорок лет спустя. В войну, находясь в эмиграции в США, Восковец и Верих продолжали обращаться к радиослушателям как голос свободной Чехословакии, но, вернувшись после войны на родину, обнаружили, что простор для политической сатиры резко сжимается. В 1948 году Восковец навсегда покинул страну и заново выстроил свою карьеру в американском театре и кино[126], его партнер остался. Когда Гавел пришел в ABC, Верих уже постепенно превращался в тень своей былой славы, но публика его по-прежнему обожала.
Работа с Верихом позволила молодому Гавелу «припасть к истокам» традиции театра чешского довоенного авангарда, тогда как с большой классической драматургией он соприкоснулся благодаря своему участию в другой постановке в Пражском городском театре. Альфред Радок, когда Гавел с ним познакомился, был на пике своих творческих сил, уже известный как режиссер «Осеннего сада» Лилиан Хеллман, «Женитьбы» Гоголя и «Игры любви и смерти» Роллана. Гавел стал его ассистентом при постановке рассказа Чехова «Шведская спичка». Это положило начало его с Радоком дружбе на всю жизнь и ощущению глубокого внутреннего родства с Чеховым.
Как Гавел несколько раз отмечает в своем разборе работы этого режиссера[127], Радок был неким чешским аналогом Константина Станиславского с его режиссерским методом. Свои постановки он создавал в постоянном, нередко остром диалоге с актерами, призывая их отбросить профессиональные приемы и высвободить свою внутреннюю сущность.
Хотя собственная абсурдистская драматургия Гавела неизбежно подсказывала ему несколько иной стиль постановок и работы с актерами, он был стойким приверженцем идеи театра как ни к чему не сводимой формы жизни, а не просто ее копирования или отражения. Сохранил он и искреннюю привязанность к Радоку, который стал для него отцом в мире литературы и театра. Это отношение хорошо видно по переписке, которую они вели в семидесятые годы прошлого века, после того как Радок, чья карьера в коммунистической Чехословакии представляла собой череду попеременных успехов, запретов и реабилитаций, эмигрировал вместе с семьей в Швецию.
Верих и Радок задавали направление первых шагов Гавела в театре, однако его честолюбие выходило за рамки простого ассистирования режиссерам или перестановки кулис. Обеспечение бесперебойного хода налаженного театра, основой которого были «звездные» актеры, не давало ему достаточного простора для развития. Но все равно театр ABC и работа с Радоком стали важным рубежом в жизни Гавела, так как он бесповоротно «заразился» театром. Тогда он понял, что «театр не обязан являть собой “фабрику спектаклей” или простую сумму пьесы, режиссера, актеров, билетерш и зрителей, но способен на большее: быть неугасимым очагом духовности, местом общественного самоосознания людей, центром силовых линий эпохи и ее сейсмографом, средством человеческого освобождения и прибежищем свободы»[128]. Понял он и то, что такой театр придется искать в другом месте, тем более что Верих уходил из ABC. Когда он в конце сезона прощался с труппой, оркестр театра под управлением Карела Влаха исполнил в честь его и давнего его партнера песню «Верих – осел, а Восковец – старый дурак»[129]. Так закончилась целая эра.
Но новая, к счастью для Гавела, уже рождалась, причем всего в паре домов оттуда. Не в последний раз в его жизни случилось так, что перемену в ней вызвали не литература или театр, а музыка, точнее сказать, рок-н-ролл. Из-за подрывного ритма с акцентом на четные доли, двусмысленных текстов, бесстыдных танцевальных па и облегающих нарядов рок-н-ролл едва ли мог рассчитывать на теплый прием, когда он с некоторым опозданием проник в Чехословакию. Он не только казался антиобщественным, что само по себе было плохо, – он заявился из Америки, что было еще хуже. (Мысль, что антиобщественная направленность могла в какой-то мере оправдывать его американское происхождение, была для комиссаров от культуры слишком сложна.)
«Акорд Клаб», одна из свежевылупившихся рок-н-ролльных групп, выступавшая в музыкальном клубе «Редута» (где более тридцати лет спустя Гавел сопровождал игру Билла Клинтона на саксофоне, в целом попадая в такт), разбавила эту музыкальную контрабанду простенькими сценками и монологами, преподнося все это как музыкальный театр. Это удавалось благодаря двум исключительным талантам: Ивану Выскочилу, специалисту по клинической психологии, который писал или, скорее, импровизировал бо́льшую часть театральных вставок, и художнику Иржи Сухому, который создавал оригинальные, остроумные поэтические тексты на многие из американских мелодий. На волне популярности и восторга зрителей из этого небольшого ядрышка выросли десятки «малых» театров, которые на фоне подобного же расцвета литературы, изобразительного искусства и кино до неузнаваемости изменили культурный ландшафт Чехословакии шестидесятых годов.
Как и при каждом «большом взрыве», период полураспада едва родившихся созвездий был очень короток; они постоянно развивались, преображались и множились. У «Редуты» были два прямых потомка, которые, в свою очередь, дали жизнь целому ряду других начинаний. Иржи Сухий в итоге остановился на музыке и поэзии и вместе со своим новым партнером Иржи Шлитром, юристом, композитором и художником в одном лице, создал звездный дуэт в «Семафоре», театре, которым в Чехословакии шестидесятых годов восхищалась, наверное, вся молодежь. Но до этого Сухий недолго поучаствовал в рождении еще одного театрального проекта.
В ста метрах от оживленной набережной Сметаны находится маленький оазис покоя – неправильной формы площадь, именуемая Анненской по монастырю святой Анны, что располагался когда-то в ансамбле церковных зданий на восточной ее стороне. Церковь, которую, по преданию, построил сам святой Вацлав и которая первоначально была названа в его честь, много раз перестраивалась, на протяжении последних двухсот лет не использовалась и приходила в запустение, пока в 1997–2004 годах Вацлав и Дагмар Гавелы, демонстрируя очередной пример святовацлавской мистики, не превратили ее в «Пражский перекресток»[130]. Именно там, на Анненской площади, в 1958 году, когда Гавел еще тосковал в полку саперов, группа театральных деятелей во главе с Сухим и Выскочилом сумела разместить в доме на ее западной стороне театр, названный «На Забрадли». Сухий вскоре ушел оттуда создавать «Семафор», а театр «На Забрадли» под руководством Выскочила вступил на путь интеллектуального эксперимента. Впрочем, грань между театрами была не слишком значительной, так что они часто и обильно «опыляли» друг друга.
Рабочего сцены, которого молния театрального просвещения поразила еще в ABC, это вторжение варваров завораживало. Не умея пока представить себе, как самому делать такой театр, он с «гордыней молодости»[131] принялся писать в журналы, посвященные культуре и театру, статьи о Верихе и Горничеке, о движении «малых» театров и на другие темы, чем снискал себе репутацию внимательного и благожелательного критика. Попробовал он себя и в драматургии – дебютировал одноактной пьесой «Семейный вечер» (1960), черной комедией в духе Ионеско о раскладывающей пасьянс маразматичке-бабушке, о примитивных супругах, которые перекидываются между собой бессодержательными репликами, о прагматичных дочери и зяте и о попугае, который с самого начала мертв, но никто не дает себе труда похоронить его или выбросить. Уже тогда наметившийся угол зрения Гавела и характерная для него позднее тема безликих персонажей ярко проявляется в конце пьесы, когда приходят рабочие сцены, единственные во всей постановке конструктивно действующие лица, выносят за кулисы реквизит: спящую семью, мертвого попугая и все прочее – и раскланиваются[132]. Одновременно Гавел продолжал писать первый вариант «Уведомления» – пьесы абсурда об искусственном языке птидепе, идея которого принадлежала брату Ивану, собиравшемуся изучать кибернетику в Чешском высшем техническом училище. Иван, который, подобно брату, пытался как-то скрасить однообразие военной службы в городке Гуменне на востоке Словакии, написал свою пьесу целиком на птидепе; Вацлав для «Уведомления» взял оттуда терминологию и имена отдельных действующих лиц[133]. Когда журнал «Культура 60», для которого Гавел написал статью о театрах малых форм, пригласил его побеседовать с их представителями, Выскочил обратил внимание на восторженного молодого адепта, а после того как тот дал ему почитать рукопись «Семейного вечера», предложил ему место в театре «На Забрадли». Безработный «буржуазный интеллектуал» вынужден был опять заделаться рабочим сцены, но на сей раз с обещанием, что он будет участвовать в формировании театра и его репертуара. И хотя в театр он попал «с черного хода», теперь он был неотъемлемой составной частью революции.
Праздник в саду
Будь он обычный интеллектуал – черт с ним, интеллектуалы теперь вроде бы в законе, так нет же, он задумал стать аккурат буржуазным!
Праздник в саду
Работу в театре «На Забрадли» Гавел всегда вспоминал как «прекрасную пору моей жизни»[134]. Возможно, здесь он впервые не чувствовал себя аутсайдером; в атмосфере творческой мастерской, когда театр из месяца в месяц превращался в нечто новое, это слово вообще теряло смысл. Люди приходили и уходили, и на каждую реализованную великую идею приходилось десять так и не нашедших своего воплощения. Молодой рабочий сцены делал все: перемещал и устанавливал кулисы, подменял осветителя, писал сценки, вмешивался в постановку как завлит и даже пробовал себя в режиссуре. Для полуимпровизированного ревю Выскочила «Автостоп» (1961) он написал скетч «Эля, Геля и Стоп»[135] о двух стареющих заядлых автостопщицах, которые дают выход своей фрустрации, ожидая на обочине шоссе, не затормозит ли ради них какая-то из проезжающих машин, которые они даже не пытаются остановить. В другой сценке Гавела для этой постановки под названием «Мотоморфоза»[136], кафковской пьеске о заседании Общества недругов автомобилей, в ходе которого ведущий собрание, как и его слушатели, претерпевают мотоморфозу в машины, впервые появляется фигура Распорядителя, какой предстояло сыграть важную роль в его первой полноценной пьесе. Хотя Гавел был указан как соавтор «Автостопа», Выскочил, который в своих постановках перекраивал и менял текст по собственному усмотрению, не включил «Элю» в окончательный вариант, а «Мотоморфозу» превратил в монолог. Впоследствии он говорил, что все идеи в любом случае были его[137]. Следующим авторским, а отчасти и режиссерским опытом Гавела был музыкальный камбэк одной из звездных певиц «Освобожденного театра» «Лучшие рок-н-роллы пани Германовой» (1962). Хотя Гавел и здесь указан как автор совместно с композитором Милошем Мацоуреком, сам он не считал это произведение настолько важным, чтобы включать его в свою библиографию или в собрание сочинений. Такую же дистанцию он держал по отношению к поэтическому греноблю «Сумасбродная горлица» (1963)[138], в основе которого лежал разговор театрального завлита с автором; вклад в него Гавела составляли три коротких «распорядительских» монолога.
Может быть, более важным являлось то, что это была первая постановка в театре, в качестве сорежиссера которой указан Ян Гроссман. Сезон 1962–1963 годов в театре «На Забрадли» стал периодом «смены караула». Актерская труппа взбунтовалась против вспыльчивого и непредсказуемого Выскочила, и великий театральный визионер ушел. В последующие годы он стоял у колыбели целого ряда столь же оригинальных проектов, в том числе известного под характерным названием «Нетеатр». Гавел жалел об утрате театром того вдохновения, которое воплощал Выскочил, но, конечно, не его командного стиля, и, как он сам говорил, «до последнего стоял за него»[139]. Впрочем, верно и то, что, как он ни восхищался Выскочилом, его собственный художественный темперамент, его вдумчивость, методичность и перфекционизм являли собой полную противоположность качествам Выскочила, для которого сам процесс создания спектакля был всегда важнее результата. Гавел, возможно, и сожалел об уходе Выскочила, но в это время он уже нашел себе нового гуру в лице Гроссмана, тонкого литературного критика, переводчика, режиссера и завлита, появлению которого в театре «На Забрадли» немало способствовал сам Гавел. Он, несомненно, отдавал себе отчет в том, что Гроссман, завсегдатай кафе «Славия», сиживавший за одним столом с писателями и художниками-нонконформистами, привнесет в пестрый творческий котел театра элемент политического протеста.
В театре «На Забрадли» Гавел начал писать пьесу о похождениях молодого человека, который прорубает окно в мир. Идея комедии «о разных связях, знакомствах, протекции и карьере»[140] принадлежала Ивану Выскочилу, и родилась она, как многие другие, во время долгих дискуссий за бокалом вина после спектакля. Выскочил, который, по его собственным словам, «куда охотнее рассказывал, чем писал»»[141], предложил Гавелу развить идею. Возникшая в итоге пьеса, которую многие до сих пор считают лучшей у Гавела, принесла молодому драматургу известность.
В чем-то – и сам Гавел подчеркивал это – сюжет «Праздника в саду» напоминает классическую чешскую сказку о простом парне Гонзе, который неохотно покидает родную деревню, но, пережив различные приключения и преодолев всевозможные препятствия, благодаря своему природному обаянию и здравому смыслу в конце концов приобретает королевство.
Первый из нескольких вариантов пьесы[142], первоначально называвшейся «Его день»[143], представлял собой довольно традиционную «сумасшедшую комедию» о родителях, которые связывают свои надежды на перспективного сына (второго, неперспективного, они объявляют «буржуазным интеллектуалом») с загадочным высокопоставленным благодетелем. Как и «Семейный вечер», пьеса «Его день» сразу же выдавала в авторе бунтаря, причем в этом варианте речь идет о бунте против семьи в той же мере, что и против общества. Нетрудно узнать в Петре, никчемном буржуазном интеллектуале, которому велят спрятаться на чердаке всякий раз, когда семья ожидает влиятельного визитера, общие черты с автором, тогда как рассудочный Гуго напоминает, несколько несправедливо, «славного брата» Ивана (в репликах Гуго коротко упоминается и придуманный Иваном язык птидепе, вокруг которого разворачивается действие «Уведомления»).
Если бы «Его день» был поставлен в таком виде, он скорее всего привлек бы к себе внимание как музыкальная комедия (первый вариант включал целый ряд песен, тексты которых не оставляют сомнений в том, что Гавел поступил правильно, предпочтя поэзии драматургию). Интрига была слабая, как и во всех таких комедиях, но главное – пьесе недоставало четкой структуры и ритма. Самой интересной ее частью было интермеццо, в котором Гавел экспериментировал с нарастающей какофонией все более немыслимых диалогов, так характерной для более поздних его пьес. Именно здесь он с поразительным эффектом использовал свой дар построения абстрактных геометрических конструкций и умение создавать музыкальные вариации. В позднейших вариантах он распространил структурные принципы интермеццо на всю пьесу. Лишил персонажей психологических черт, а сюжет – реальных контуров, сведя его к ряду в сущности бессодержательных, механически сменяющих друг друга формул, которые по очереди произносят актеры. Ожидание важного благодетеля приобрело абстрактный характер ожидания Годо, а бурлескное перевоплощение главного героя Гуго в других персонажей пьесы – экзистенциальные очертания утраты человеческой идентичности как личной трагедии. (Заглавие какого-то из вариантов пьесы Гавел снабдил подзаголовком «трагедия в шести картинах», чем, может быть, невольно подсказал неудачную мысль одному из своих будущих биографов)[144]. Задуманная первоначально как музыкальная комедия пьеса превратилась в настоящую драму абсурда.
Гавел пришел к этому не совсем самостоятельно. Работая над своими текстами, он часто с пользой для дела обращался к коллеге или другу с просьбой выступить в роли критика или «адвоката дьявола». Пьесу «Праздник в саду» он посвятил Яну Гроссману. Тот был не только первым читателем создававшихся один за другим вариантов, но и своего рода нянькой для автора в течение всего процесса. Если первоначальный импульс дал Выскочил, то своим окончательным обликом пьеса в большей степени обязана Гроссману, который сам считал, что из всех пьес Гавела в этой ему принадлежит максимальная доля «авторского» участия[145]. Благодаря тому, что отец Гавела работал экономистом в Чехословацком союзе физического воспитания (что стало в некотором смысле абсурдной вариацией на тему родственных связей, звучащую в самой пьесе), на Пасху 1963 года приятели провели две недели в соседних комнатах центра подготовки профессиональных спортсменов в Гаррахове, где Гавел ночами писал и переписывал текст набело, после чего подсовывал исписанные листы под дверь Гроссмана, чтобы тот утром мог их прочесть. (Между тем Гавел успел еще увлечься молоденькой горничной, которой, пытаясь произвести впечатление, дал почитать взятую у Гроссмана перепечатку «Процесса» Кафки. Результат превзошел все ожидания: горничная хотя и не очень-то поняла содержание, но сказала ухажеру, что пишет он здорово)[146]. Так возник текст, который напоминал скорее геометрическую фигуру или музыкальное произведение, чем пьесу. Это было не случайно: в письме жене Гроссман упоминает о том, что заставил Гавела слушать «Баха, “Гольдберг-вариации” и разные фуги, ракоходный канон и т. д.»[147]. В постановке Гроссман указан завлитом, но его роль была куда более значительной. Стремясь добиться того, чтобы поставить пьесу как можно лучше, а может быть, и стараясь обезопасить ее от возможных нападок, Гавел и Гроссман обратились к ведущему режиссеру Национального театра Отомару Крейче и его коллеге, сценографу Йозефу Свободе, одному из создателей знаменитого театра «Латерна Магика». В то же время оба «штатных» работника театра «На Забрадли» хотели держать постановку под контролем и не собирались отказываться от этого только ради ее формальной «близости к реальности». Когда Крейча после репетиций уходил заниматься другими делами, они не останавливались перед тем, чтобы «дорежиссировать» пьесу самостоятельно, и даже тайно, под покровом ночи, уничтожили часть декораций Свободы, которые им не нравились, хотя они и не решались сказать ему об этом[148]. Так что посвящение пьесы Гроссману было вполне заслуженным.
Ее текст вначале напечатали в журнале «Дивадло» («Театр»), чтобы притупить бдительность цензоров[149]. Публикация была встречена благожелательно, но никто не мог предвидеть, с каким энтузиазмом примет пьесу живая публика. Люди безотчетно смеялись и даже в восторге ревели от смеха, хлопали посреди представления, оставались на своих местах во время антракта, разражаясь все новыми овациями, а в конце заставили актеров раз двенадцать или больше выйти на поклон, невзирая на то, что последняя реплика напрямую их призывала: «А теперь давайте где-то как-то без лишних разговоров расходиться»[150]. Многие молодые люди приходили посмотреть постановку в театре «На Забрадли» по десять раз и больше[151]. Выдаваемые за народную мудрость афоризмы родителей Гуго, такие как «Даже венские гусары без подвязок по лесам не ходят» или «Кто дерется за комариные соты, не пойдет плясать с козой в Подлипках», зрители знали наизусть, и они прочно вошли в лексикон целого поколения.
Все это происходило вопреки тому, что в пьесе было не слишком много смысла, или скорее именно поэтому. Гуго, которого родители посылают на поиски своего благодетеля, приходит на праздник в саду Ликвидационного комитета и, ловко манипулируя словами, создает у присутствующих представителей Распорядительской службы впечатление, что их собираются ликвидировать. Затем он отправляется в штаб-квартиру Распорядительской службы, где опять-таки создает впечатление, будто готовится роспуск Ликвидационного комитета. Что, однако, порождает проблему, поскольку процедуру роспуска кто-то должен будет начать.
ГУГО. Кто? Уполномоченный распорядитель, разумеется.
ДИРЕКТОР. Уполномоченный распорядитель? Но распорядители не могут распоряжаться, раз они подлежат ликвидации!
ГУГО. Естественно! Поэтому распоряжаться должен уполномоченный ликвидатор.
ДИРЕКТОР. Уполномоченный ликвидатор? Но ликвидаторы существуют для того, чтобы ликвидировать, а не распоряжаться![152]
В конце Гуго Плудек, который ничего не понимает в деятельности ликвидаторов и распорядителей и не интересуется ею, становится директором нового учреждения под названием Центральная комиссия по распорядительству и ликвидаторству.
Публика, конечно, распознала в этом пародию на бесконечные внутренние бои и преобразования в учреждениях коммунистического режима, на чистки и судилища с последующими реабилитациями и исправлением ошибок. Люди совершенно естественно смеялись над абсурдностью, с какой спонтанные человеческие порывы – храбрость, способность к самосовершенствованию, творчество – диктовались сверху. «Коллеги из главкультпросвета знают, что делают, готовя циркуляр о новаторстве в искусстве! Он вступит в силу уже во втором квартале!»[153] Зрители, само собой, заходились от смеха, слушая, как те или иные персонажи стараются найти правильные формулировки для обоснования очередной ликвидации или распорядительского начинания, а затем те же формулировки используют для обоснования прямо противоположного. Не могли они также не радоваться высмеиванию «метафизической диалектики»[154] как официального научного и философского метода распространения «правильной» идеологии, с помощью которого можно было при необходимости доказать или опровергнуть что угодно, а часто – доказать и опровергнуть одновременно.
ДИРЕКТОР. Все мы знаем, что Распорядительская служба – это пережиток прошлого! Хотя и нельзя отрицать, что в период борьбы с определенными проявлениями бюрократизма в деятельности Ликвидационного комитета Распорядительская служба стараниями некоторых распорядителей, каковые благодаря применению разумно нестандартного и новаторски динамичного подхода к человеку успешно проторили по целине путь многим ценным мыслям, сыграла безусловно…
ГУГО. …Позитивную роль, но тем не менее мы впали бы…
ДИРЕКТОР. …В либеральный экстремизм, если бы стали рас сматривать эти позитивные, однако отмеченные печатью эпохи черты вне контекста дальнейшей эволюции Распорядительской службы…
ГУГО. …И не рассмотрели за их субъективно позитивной тенденцией…
ДИРЕКТОР. …Явный объективно негативный эффект…
ДИРЕКТОР и ГУГО (вместе). …Вызванный тем, что вследствие нездоровой самоизоляции учреждения была допущена некритическая переоценка некоторых позитивных моментов в деятельности Распорядительской службы и вместе с тем односторонняя абсолютизация отдельных негативных моментов деятельности Ликвидационного комитета, и все это привело в итоге к тому, что в то время… (Директор уже не успевает за Гуго)
ГУГО. …Когда Ликвидационный комитет на волне новой активизации его позитивных сил вновь встал во главе нашей борьбы как несокрушимый и надежный оплот нашего единства, Распорядительская служба, к сожалению, погрязла…
ДИРЕКТОР. …В истеричной атмосфере экстремизма…
ГУГО. …Берущего на вооружение внешне эффектные аргументы из либерального арсенала абстрактно-гуманистических лозунгов, по сути не выходящего за рамки шаблонных методов работы, которые отражает в типической форме, например…
ДИРЕКТОР. …Старо-новый аппарат…
ГУГО. …Псевдофамильярной фразеологии, скрывающей за рутиной профессионального гуманизма глубокий мировоззренческий разброд, в результате чего Распорядительская служба закономерно выродилась в заведение, подрывающее направленные на консолидацию позитивные усилия Ликвидкома, исторически неизбежной вершиной которых явился мудрый акт ее ликвидации!
ДИРЕКТОР. Я полностью согласен![155]
И, конечно, немалое веселье, хотя и не без доли понимания, вызывали у них мучительные раздумья простых людей, какими были родители Гуго Плудека, о том, как защитить свою семью и безопасно проплыть с ней через буруны беспрестанных резких и иррациональных перемен.
ПЛУДЕК. Не надо было Гуго соглашаться на ликвидацию!
ПЛУДКОВА. Если бы он не согласился, Ликвидком бы не ликвидировали и ликвидации шли бы дальше, да только без Гуго… Хорошо, что он не отказался!
ПЛУДЕК. Раз он не отказался, Ликвидком ликвидируют, ликвидации закончатся, и один Гуго будет и дальше ликвидировать! Да его же затаскают!
ПЛУДКОВА. Надо было отказаться!
ПЛУДЕК. Наоборот, надо было не соглашаться!
ПЛУДКОВА. Наоборот: надо было не отказываться!
ПЛУДЕК. Может, надо было одновременно согласиться и не отказываться?
ПЛУДКОВА. Скорее отказаться и не соглашаться!
ПЛУДЕК. Уж тогда лучше не соглашаться, не отказываться, а согласиться и отказаться!
ПЛУДКОВА. А нельзя было одновременно отказываться, не соглашаться, но не отказаться и согласиться?
ПЛУДЕК. Трудно сказать. А вы что скажете?
ГУГО. Я? Ну, я бы сказал, что надо было не соглашаться, не отказываться, а согласиться и отказаться – и вместе с тем отказываться, не соглашаться, но не отказаться и согласиться. Или наоборот[156].
Гавел, однако, не ограничился просто карикатурой на коммунистические порядки. Полная утрата идентичности у Гуго показана в сопряжении с обезличенной и обесчеловеченной системой, которая способна изъясняться лишь бессмысленными и противоречивыми фразами. Чешская публика могла за этим угадывать – и, несомненно, угадывала – тоталитарный коммунистический режим, но с равным успехом это могла быть любая другая всеобъемлющая бюрократия, как, например, анонимный полицейский аппарат в «Процессе» Кафки или военная машина в «Уловке-22» Хеллера. (Дух Кафки, хотя его имя или творчество ни разу не упоминается, действительно словно витает над всей пьесой.) Иначе трудно объяснить успех «Праздника в саду», который ставили на десятках языков по всему миру.
Полная деконструкция центрального персонажа «Праздника в саду» означала со стороны автора и полное отрицание как той социальной среды, из которой он вышел, так и политической обстановки, в какой он вынужден был жить. Та и другая явно отдавали предпочтение безликим, серым, послушным созданиям, каким был Гуго Плудек, а не одаренным, незаурядным, смелым личностям. В тексте пьесы отец Гуго хвалит своего сына, который сам с собой играет в шахматы:
– Видала, Божена? Вместо того чтобы выиграть – так выиграть, а проиграть – так проиграть, он лучше где-то чуток выиграет, а где-то малость проиграет…
– Такой игрок далеко пойдет! – поддакивает мать[157].
Но Гавел привносит в пьесу еще один диалектический поворот. При всей своей посредственности Гуго, человек без каких-либо качеств, антигерой и мировоззренческий антипод Гавела, в конце концов становится тем, кому удается справиться с системой, пусть и ценой утраты собственной идентичности. От произносимой им с некоторой угрозой заключительной вариации на темы монолога Гамлета и у современного зрителя волосы встают дыбом:
ГУГО. Все мы где-то то, что было вчера, и где-то то, что есть сегодня, а где-то мы не то и не это; и вообще все мы всегда где-то мы, а где-то и не мы, кто-то больше мы, кто-то больше не мы, кто-то – только мы, кто-то – мы и только, а кто-то – только не мы, так что каждый из нас не совсем есть, и каждого совсем нет; вопрос лишь в том, когда лучше больше быть и меньше не быть, а когда, наоборот, лучше меньше быть и больше не быть: в конце концов того, кто слишком есть, вскоре вообще может не быть, а тот, кто в определенной ситуации сумеет в нужной мере не быть, в другой ситуации тем легче сможет быть. Я не знаю, хотите ли вы больше быть или больше не быть и когда вы хотите быть, а когда – не быть, но я хочу быть всегда, и потому я всегда должен чуточку не быть – ведь если человека иногда чуточку нет, от него не убудет! И пусть в данный момент я есть всего лишь малость, заверяю вас, что, возможно, скоро я буду куда больше, чем когда-либо был, – и тогда мы вновь можем обо всем этом побеседовать, но уже с других позиций![158]
Пьеса, сотканная из пермутаций чем далее, тем менее осмысленных реплик, действует на публику как своего рода тест Роршаха. Почти каждый может соотнести с ее репликами свое собственное столкновение с пагубными проявлениями бюрократизма. Смех, сопровождающий осознание этого, имеет временный эффект освобождения. Когда зрители уходили из театра, текст Гавела оставлял в них не чувство фрустрации или раздражения, но ощущение счастья.
Да им и уходить-то не хотелось! Небольшой бар в фойе театра был такой же частью представления, как сцена. Там зрители во время антракта и после спектакля делились своей радостью, воспроизводили самые смешные места и встречались с родственными душами. Разделенные театральные впечатления ломали барьеры, воздвигаемые строгими правилами, ограничениями и постоянными скрытыми и явными угрозами со стороны режима. Попозже вечером к зрителям присоединялись и актеры, что еще больше стирало грань между зрительным залом и сценой. Нередко сюда приходил и автор – смешил друзей, знакомился с новыми людьми, флиртовал с девушками (соблюдая осторожность, когда рядом была Ольга) и скромно принимал похвалы. Результатом этого был зародыш сообщества людей с похожим восприятием окружающего, схожими взглядами и – чем далее, тем более – аналогичными целями. Когда это сообщество соединилось с другими ему подобными, развитие стало лавинообразным.
В 1963 году, когда состоялась премьера «Праздника в саду», билеты в зрительный зал, рассчитанный на 140 сидячих мест (и примерно еще на 30 стоячих), было так же трудно достать, как выездную визу для поездки на Запад. С утра двадцать третьего числа каждого месяца, когда в крохотной кассе театра, где иногда сидела и Ольга, начинали продавать билеты, на улице выстраивалась длинная очередь усталых молодых людей, многие из которых простаивали там всю ночь. Счастливчики, которым в 1963–1965 годах, когда драматическая труппа театра «На Забрадли» (аналогичной популярностью пользовалась в то время и пантомима Ладислава Фиалки) шла в авангарде культурной революции со своими постановками комедий Гавела и незабываемым сценическим воплощением пьес Эжена Ионеско («Лысая певица»), Сэмюэля Беккета («В ожидании Годо») и Альфреда Жарри («Король Убю»), удавалось приобрести билеты, могли увидеть в театральном фойе и баре также выставку графических работ, состоящих из знаков, напечатанных на пишущей машинке. Это были «Антикоды» Гавела, гибрид поэзии и изобразительного искусства, иначе называемые типограммами. Импульс им дал Иржи Коларж (которому и была посвящена выставка), экспериментировавший с коллажами из машинописных текстов и с иными способами облечь поэзию в графическую форму. Гавел создавал свои типограммы в течение нескольких лет, часто в перерывах, которые он делал, когда писал какое-либо объемное произведение. Те, кто имел возможность наблюдать за развитием его замысла, знали, что он постоянно что-то рисовал, чертил всевозможные диаграммы, чтобы лучше представить себе структуру своего собственного замысла, текста пьесы – или, много позже, президентской канцелярии.
Однако же смешки, улыбки зрителей и их восторг при виде этих незатейливых графических работ давали понять, что это не просто абстракционистский опыт, а искусство со своей сверхзадачей. Тайный смысл был «закодирован» в самом названии этой подборки, которое можно истолковать как «что-то против кодов», то есть как «декодирование» скрытого значения, или как «кодирование» протеста против чего-то. В действительности речь шла о том и другом одновременно.
«Антикоды» подразделены на несколько тематических частей. Один из разделов, посвященный разным «-измам», представлял, в частности:
ИНДИВИДУАЛИзМ
дуа лизм
ИДЕАЛ изм,
материа ЛИЗМ
Э?К?З?И?С?Т?Е?Н?Ц?И?А?Л?И?З?М[159]
Раздел «Лозунги» содержал пламенные призывы вроде
Паможим ацталым странам!
или
До крови надерем задницу поджигателям войны![160]
А раздел «Слова слова слова» предлагал практический
ОБРАЗЕЦ
За последние годы мы бесспорно добились в нашем немалых успехов. Однако не следует закрывать глаза на то, что у нас все еще имеется ряд частных недостатков. Особенно в области………………………………
……………………. нас еще ждет много работы[161].
Рядовой посетитель этой выставки должен был вынести впечатление, что автор нарывается на крупные неприятности. И они не замедлили последовать.
Шестидесятые
Тут был конец всем перебранкам: людей свело одно начало – жизнь всех и каждого вдруг стала блистательно разбитым банком в игре, где всем нам перепало.
Филип Ларкин. Annus Mirabilis
Превращение сталинского монолита пятидесятых годов в потемкинскую деревню семидесятых, а затем в ходячий труп восьмидесятых не понять, если не знать о сейсмической аномалии шестидесятых. В отличие от предшествовавших и последующих десятилетий, когда мир «реального социализма» большей частью танцевал под свои собственные мелодии, шестидесятые были периодом всеобщего брожения, когда обе стороны холодной войны отплясывали бешеный галоп, обмениваясь идеями, страхами и биологическими жидкостями.
Экзистенциалистская мифология объясняет бунтарский и необузданный характер этого периода очевидной бессмысленностью человеческого существования перед лицом грозящего кошмара ядерной войны. Однако не обязательно смотреть на историю так мрачно. Берлинский кризис 1961-го и кубинский кризис 1962 года подвели обе стороны к самому краю пропасти, но вынудили и отступить от него. Так впервые в ядерную эпоху обнаружилось, что мир, ощерившийся атомным оружием, может трагически прекратить свое существование – но может и выжить. Потому сумасбродство, необузданность и радость шестидесятых годов отражали скорее надежду, чем отчаяние. В любом случае Гавел, который в остальном чрезвычайно внимательно относился ко всему, что угрожает цивилизации, проблему ядерной войны никогда специально не рассматривал.
Он был в равной мере благотворителем своей эры и ее благоприобретателем. Ему принадлежала заметная роль в небывалом расцвете современной чешской культуры вообще и театра в частности, и при этом в свободные часы он усердно впитывал новые интонации, привкусы и запахи эпохи. Некоторые из них были отечественными, многие другие – импортированными.
«Новая волна» чехословацкого кинематографа принесла множество фильмов, которые, отражая восприятие того времени, вместе с тем его создавали. В 1963 году, когда в театре «На Забрадли» был поставлен «Праздник в саду», она громко возвестила о себе кинодиптихом «Конкурс» свежеиспеченного выпускника факультета кинематографии Академии искусств Милоша Формана – куратора комнаты Гавела в Подебрадах. Революционный характер обеих частей диптиха сразу же выдавало отсутствие интереса к сохранению единой сюжетной линии и приглашение на большинство ролей актеров-любителей. Нарушавший целый ряд подобных кинематографических условностей чешский вариант cinema vérité[162] производил впечатление непосредственности, бесхитростности, а главное – подлинности, что резко контрастировало с преобладавшими тогда фильмами о героях социалистического труда и антифашистского сопротивления. Соавтором сценария обеих частей диптиха был указан Иван Пассер, еще один выпускник подебрадской школы. В основу музыкального сопровождения в первой части были положены – впервые на чешском киноэкране – композиции Иржи Шлитра, а во второй – рок-н-ролл, звучащий контрапунктом к традиционному духовому оркестру.
Гавел и Форман, которые остались друзьями и по окончании школы, даже начали разрабатывать идею совместного фильма по роману «Замок» Франца Кафки. Ради этого они отправились в деревню Сиржем с барочным зернохранилищем на холме, возможно, ставшим прообразом замка в романе, в которой больной туберкулезом Кафка провел «лучшие восемь месяцев жизни» у своей сестры Отлы[163]. Предполагалось, что это будет фильм о планах государственного туристического агентства воспользоваться связью Кафки с деревней для развития туризма. С этой целью туда даже была направлена группа землемеров. Властям идея не понравилась, и фильм так и не сняли. Табу, наложенное коммунистическим режимом на знаменитого уроженца Праги[164], однако, нарушила малозначительная, казалось бы, научная конференция о жизни и творчестве Кафки, состоявшаяся в другом чешском замке, Либлице, в 1963 году. Тот факт, что эту конференцию, проведение которой тогда от большинства чехов и словаков просто скрыли, иногда считают первым звеном в цепи событий, приведших к Пражской весне 1968 года, говорит о причудливо книжном характере чешской истории Нового времени. Часто кажется, что в последние два века важнейшие для нас битвы разыгрывались не на полях сражений или в парламенте, а в театрах, лекционных аудиториях и концертных залах.
Форман выступил первым, а вскоре за ним последовала плеяда исключительно одаренных кинематографистов, таких как Иржи Менцель («Поезда особого назначения», премия «Оскар» за лучший иностранный фильм 1967 года), словацко-чешский дуэт Ян Кадар – Элмар Клос («Магазин на площади», «Оскар» за лучший иностранный фильм 1965 года), Ян Немец («О торжестве и о гостях», 1966, с Иваном Выскочилом в главной роли), Вера Хитилова («Маргаритки», 1966), Павел Юрачек («Кариатида», 1963, и «Каждый молодой человек», 1965, с Вацлавом Гавелом в эпизодической роли рядового срочной службы), Иван Пассер («Интимное освещение», 1965, кинолента, в которой ровным счетом ничего не происходит, и тем не менее это, может быть, самый изобретательный фильм данного периода) и ряд других. Форман и сам был впервые номинирован на премию «Оскар» за фильм «Любовные похождения блондинки» (1966), а затем – за «Бал пожарных» (1967).
Подобный расцвет талантов, подкрепленный еще и тем обстоятельством, что публике стали доступны более ранние произведения прежде запрещенных авторов, наблюдался и в литературе. Роман «Малодушные» (1950) Йозефа Шкворецкого о конце Второй мировой войны в чешском провинциальном городке смог выйти лишь в 1958 году, причем и тогда он вызвал скандал. Книги Богумила Грабала («Жемчужинки на дне», 1963; «Пабители», 1964; «Поезда особого назначения», 1965), несомненно, самого популярного автора своего времени, впервые были допущены к публикации, когда Грабалу было почти пятьдесят. К этим изгоям присоединялись писатели-коммунисты, такие как Павел Когоут («Третья сестра», 1960) и Людвик Вацулик («Топор», 1966), которые быстро перерастали свои правоверные партийные дебюты. Сборник рассказов Милана Кундеры «Смешные любови»» (1963) и два его продолжения (1965, 1969) снискали ему популярность у массового читателя, а роман «Шутка» (1967) принес Кундере репутацию большого писателя. К той и другой группам примыкали и авторы-экспериментаторы поколения Гавела, такие как Вера Лингартова («Зона разграничения», 1964), будущий муж Виолы Фишеровой Йозеф Едличка («Где наша жизнь в середине своего пути», 1966), Иван Дивиш и Иржи Груша.
Аналогичное оживление наступило в изобразительном искусстве (скульптор Микулаш Медек, брат будущего управляющего канцелярией Гавела; собутыльник Грабала «нежный варвар» Владимир Боудник; Либор Фара, постоянный сценограф театра «На Забрадли»; завсегдатай застолий в «Славии» Иржи Коларж и другие), в журналистике, в классической и популярной музыке. Прочно укоренившаяся традиция джаза и свинга, которую замечательно отразило творчество Йозефа Шкворецкого, уступала место рок-н-роллу и биту. Первый чешский мюзикл «Старики на уборке хмеля» покончил с табуированием темы подросткового секса для целого поколения нетерпеливой молодежи.
Где-то здесь Восток встречался с Западом. Благодаря одной из множества исторических случайностей поэт-битник Аллен Гинзберг, которого коммунистические режимы любили ничуть не более, нежели американские власти, включившие его в список лиц, угрожающих безопасности[165], в марте и вторично в конце апреля 1965 года, после того как его депортировали с Кубы за выступление в защиту прав гомосексуалов, посетил Прагу. Он прочел «Вопль» перед восторженной публикой в самой большой аудитории Карлова университета, был избран «королем Майалеса»[166], а спустя неделю опять выдворен, якобы за совращение несовершеннолетних мальчиков[167]. Несколько коротких вечеров во время своего визита в Прагу он провел в поэтическом винном баре «Виола», что на Национальном проспекте, излюбленном пристанище молодых поэтов и писателей, где, кроме прочего, встретил и первого переводчика своих стихов на чешский язык Яна Забрану.
Роль Национального проспекта в интеллектуальном возрождении шестидесятых годов минувшего столетия неоценима. Присутствие здесь трех столпов истеблишмента – Национального театра, штаб-квартиры Союза чехословацких писателей и его издательства «Ческословенски списовател» – сполна уравновешивали молодые киношники с факультета кинематографии Академии искусств, стол «про́клятых поэтов» в кафе «Славия», ночные бдения интеллектуалов в «Виоле» и «Монастырском винном погребке», музыкальный клуб «Редута», рисковые и откровенные издатели из «Одеона» и начинающие режиссеры в «Киноклубе». В этих местах, иногда именуемых Бермудским треугольником, имелся и ряд заведений с более сомнительной репутацией, где былые таланты бунтовали против угасающего для них света, постепенно теряя себя в атмосфере алкоголя и отчаяния.
Употребление наркотиков в Чехословакии началось довольно поздно и в течение длительного времени ограничивалось вдыханием паров промышленных химикатов и курением выращиваемой в домашних условиях и не очень действенной марихуаны. Но существовал и черный рынок психотропных лекарственных препаратов, как, например, фенметразин – аноректик, действовавший аналогично амфетамину, в неумеренном и длительном употреблении которого признавался Гавел. Одно из первых указаний на эту его зависимость мы находим в письме Яну Гроссману из добровольного затворничества в летнем доме отдыха писателей в Будиславе, где Гавел работал над «Праздником в саду»: это просьба привезти или прислать некий «витамин F» с припиской: «Нельзя ли организовать спецпайки для драматургов в творческом отпуске?»[168] Диэтиламид лизергиновой кислоты, известный под названием ЛСД, в Чехословакии, в свое время крупнейшей в мире производительнице этого вещества, был не просто легальным, его даже предлагали добровольцам в рамках контролируемых психологических экспериментов. Не обязательно всем было ловить кайф, однако некоторые это делали.
В середине шестидесятых гнетущую серость, в какую режим вырядил древнюю чешскую столицу, уже сменили разноцветные одежды новой эры. Жизнь наступила в общем-то вполне неплохая. Гавел как будто поборол все плюсы и минусы своего происхождения и встал в ряд признанных творцов. «Праздник в саду» шел при неизменно полном зале, но Гавел помог явиться на свет также и другим незабываемым постановкам театра «На Забрадли», таким как «В ожидании Годо» Беккета и «Король Убю» Альфреда Жарри. Слава Гавела перешагнула границы Чехословакии, а после того как отказ выдать ему выездную визу вызвал чуть ли не бунт в театре, невероятное стало явью: Гавелу разрешили выехать за границу, чтобы посмотреть постановки своих пьес в Германии и Австрии. Ему повезло в том, что его открыл и начал пропагандировать способный и верный ему литературный агент из издательства «Ровольт» Клаус Юнкер, ставший ему другом на всю жизнь. Но только человек, который тогда еще не родился и не мог своими глазами увидеть чудо «Праздника в саду» и реакцию на него публики, мог написать, что «если бы в декабре 1963 года к “Празднику в саду” не проявили интерес три западногерманских интеллектуала (Юнкеру посоветовали обратить внимание на Гавела двое других), возможно, чешская история второй половины XX века выглядела бы несколько иначе»[169].
Как многие стремительно восходящие звезды в возрасте между двадцатью и тридцатью годами, Гавел не только усердно работал, но и не менее усердно развлекался. В каком-то смысле он словно наверстывал теперь то, что упустил в силу своей робости и чувства отчуждения. В шестидесятые годы он нашел немало отзывчивых компаньонов для похождений по винным барам и других проказ. Среди них были режиссеры и сценаристы Ян Немец и Павел Юрачек, художники Ян Кобласа и Йозеф Вылетял. Тогда же началась неравная, но сохранившаяся на всю жизнь дружба Гавела с провинциальным актером-самоучкой и будущим драматургом Павлом Ландовским. Это было взаимопритяжение противоположностей. Ландовский являл собой природный раблезианский экземпляр с манерами Гаргантюа. Если Гавел в византийском лабиринте коммунистической системы действовал хитростью и лукавством, то Ландовский прорывался через него с клоунадой, подфарцовкой и сбоем. Закрепившаяся за Гавелом репутация «интеллектуала из кафе» так же неудержимо притягивала Ландовского, как слабость последнего к сомнительным ночным заведениям притягивала несмелого молодого драматурга. Гавел олицетворял в глазах Ландовского мир Праги и «высокого театра», Ландовский же был для Гавела проводником и придверником в царстве светских наслаждений. «Вышибала пропускал меня в “Барбару”, а за спиной у меня всякий раз был Гавел; я проходил со словами: “Этот со мной”»[170]. Однако их взаимная потребность друг в друге, по-видимому, имела более глубокие причины. Ландовский бесконечно восхищался интеллигентностью Гавела, его способностью к абстрактному мышлению и тихой решимостью добиться успеха, тогда как Гавел ценил в Ландовском-актере спонтанность, мужскую сексапильность и смелость, граничащую с безответственностью, чего недоставало ему самому. Нетрудно догадаться, что Ландовский плохо влиял на Гавела, и неприязнь, которую питала к приятелю своего мужа Ольга, несомненно, объяснялась именно этим. Вместе с тем, однако, пренебрежение к авторитетам, какое откровенно выказывал Ландовский, помогло Гавелу закалиться для предстоявших ему жизненных испытаний. При этом под всей присущей Ландовскому театральностью, фарцоватостью и бахвальством скрывался настоящий, преданный и мужественный человек, который терпеть не мог лицемерия и всегда оставался самим собой. Ландовский был рядом с Гавелом не только во время их шатаний по ночной Праге в шестидесятые годы, но и в последующие двадцать лет его дороги в ночи.
Впрочем, пока будущее казалось многообещающим. Впервые в жизни Гавел был популярен и пользовался успехом. Даже в коммунистической газете «Руде право» о нем вышел одобрительный отзыв, автор которого проницательно заметил, что в «Празднике в саду» все говорит о том, что пьеса появилась в стране «Освобожденного театра» и Швейка, и хвалит драматурга за несколько рискованное стремление «докопаться до причин всего механистического, обесчеловеченного и действующего вопреки своему смыслу в нашей жизни»[171]. Перед Гавелом открывался весь мир. Постановки и публикации его пьес за границей неожиданно стали приносить ему неплохой доход. Хотя мало кому из пишущих комедии абсурда для маленьких независимых театров удавалось сильно разбогатеть, но из-за гигантской разницы между заработной платой и гонорарами в Чехословакии и на Западе Гавел вдруг сделался довольно-таки обеспеченным человеком, во всяком случае – по отечественным меркам. У него была прекрасная жена, которая души в нем не чаяла. Так что он мог спокойно почивать на лаврах.
Но не таков был Гавел. Глядя на его разнообразную деятельность в этот период, мы впервые видим перед собой человека, который работает ради чего-то большего и борется за что-то большее, чем его собственный успех. Кроме театральных пьес, он написал ряд эссе и статей на разные темы. Во многих из них он воспользовался своей внезапной известностью для того, чтобы напомнить коллегам и общественности о творчестве и существовании авторов, которым не так повезло и которые были отодвинуты в тень из-за своих взглядов, своего прошлого или просто потому, что не вписывались ни в какие рамки. При втором своем столкновении с литературным истеблишментом в июне 1965 года он обращал внимание собратьев по цеху на долгое вынужденное молчание модернистских поэтов и писателей, таких как Иржи Коларж, Йозеф Гиршал, Ян Гроссман, Ян Владислав, литературоведов Индржиха Халупецкого и Вацлава Черного, на сохраняющийся запрет печатать сочинения Богумила Грабала, Владимира Голана и Йозефа Шкворецкого, а также на неоплаченные долги по отношению к авторам старшего поколения, таким как Рихард Вайнер, Ладислав Клима и Якуб Демл. Но он пошел еще дальше, выступив против контроля официальной номенклатуры над работой писателей. «Главный доклад, который здесь был прочитан, назывался “Задачи литературы и работа Союза чехословацких писателей”, что может создать впечатление, будто функция Союза писателей состоит в том, чтобы ставить или выдвигать перед литературой какие-то задачи. Полагаю, в действительности должно быть наоборот: это литература должна ставить задачи перед Союзом писателей»[172]. Это уже была не критика, а «непростительная дерзость»[173].
Когда Гавел писал о художнике и писателе Йозефе Чапеке, который был убит нацистами в концентрационном лагере, а после смерти обречен коммунистами на забвение, он предложил собственный критерий художественной ценности, которому сам старался соответствовать всю оставшуюся жизнь. Критерий этот заключался в том, чтобы прожить свою «духовную историю»[174]. «Ценность того или иного произведения определяет не столько то, какое место оно занимает в объективном развитии данного жанра, сколько роль, которую оно играет в “драме” авторской индивидуальности. Поэтому подлинное значение Чапека в истории нашей современной артистической и культурной жизни мы сможем понять до конца, только если перешагнем границы отдельных областей творчества и критериев, применяемых к ним специалистами, и попытаемся оценить творца не только по тому, что он сделал, но прежде всего по тому, кем он был»[175].
Под «духовной историей», несомненно, подразумевался поиск смысла жизни в борьбе человека «за жизненную уверенность, за полноценную и справедливую жизнь, за удовлетворение жажды достичь жизненного равновесия и примирения»[176]. Это был высший горизонт, которому подчинялись все остальные, включая политический. В отличие от многих деятелей искусства и большинства политиков Гавел подходил к этой теме смиренно и чуть ли не со священным трепетом: «Можно ли найти ответ на этот основополагающий вопрос? Наука прошлого вновь и вновь старалась ответить на него (в конце концов человек был ее объектом!), но всякий раз неизбежно его аннулировала в силу того, что так или иначе – частично – уже на него ответила. Новое знание парадоксальным образом на этот вопрос отвечает (подтверждая его) так, что не пытается на него ответить, а просто его ставит»[177].
Среди многих талантов, расцветавших в то же время, Гавел был исключительным в силу способности сплетать разнообразные нити своих театральных занятий, литературно-критических текстов и эссеистики в нечто единое, приближавшееся к цельной философии.
Вместе с тем он сознавал, что бунт одного человека – это не революция, а всего лишь скандал. Для того чтобы противостоять официальному литературному истеблишменту и мощи коммунистической партии, на которую тот опирался, ему нужна была трибуна, а также требовались союзники.
Частная школа политики
Это будет опасный для нас малый.
Павел Ауэрсперг[178]
На самом деле это трибуна нуждалась в нем. После болезненных родов 1964 года в интеллектуальном журнале молодых писателей «Тварж»[179] произошла «в некотором роде революция»[180], и это издание принялось искать новых авторов. В 1965 году Гавел вошел в редколлегию журнала, но сам в силу занятости в театре и в других местах поначалу редко в нем публиковался. Однако, будучи уже признанным писателем, он служил полезным прикрытием для дисциплинированного узкого круга интеллектуалов, которые руководили журналом и контролировали его редакционную политику. Для Гавела, в свою очередь, это была «единственная группа», к которой он мог «присоединиться без внутренних преград и сомнений»[181]. По-настоящему же Гавел включился в работу, только когда для журнала наступили трудные времена, в том числе и из-за публикации текстов, авторы которых в глазах коммунистических идеологов были «воинствующими носителями современного клерикализма»[182]. Под ними, очевидно, подразумевалось несколько верующих христиан, которые входили в редколлегию или печатались в журнале, такие как придерживающийся католической ориентации психолог Иржи Немец или, позднее, евангелический философ Ладислав Гейданек. С тем и другим Гавел сблизился в семидесятые годы.
В ходе последовавшего «крестового похода» против журнала Гавел открыто и бескомпромиссно выступил в защиту своих коллег, хотя лично его это дело не особенно касалось. Когда в президиуме Союза писателей задумались об «окончательном решении» проблем с журналом, Гавел организовал петицию в его поддержку и собрал несколько сотен подписей интеллектуалов и писателей, включая кумира своих ранних лет Ярослава Сейферта. Тем не менее Союз писателей продолжал настаивать на освобождении Яна Недведа от должности главного редактора и на выводе Иржи Немеца и Эмануэла Мандлера из редколлегии. Редколлегия этим требованиям не подчинилась и, не желая принять капитуляцию, предпочла прекратить выпуск журнала. Тем не менее сотрудники журнала по-прежнему встречались, собирали и редактировали тексты и вообще вели себя так, как если бы «Тварж» не был предан официальной анафеме. Все это поразительно напоминало стратегию, реализуемую уже многие годы литераторами, собиравшимися в «Славии». В каком-то смысле это стало моделью для будущего. Несколько претившая большинству писателей, живших при более нормальных обстоятельствах, мысль, что создание и сохранение текста важнее его публикации, дала начало распространению художественной литературы в «самиздате», став по сути дела его raison d’être (смыслом существования).
Был в этом и зародыш другой модели. Гавел и позднее вновь и вновь протестовал при виде творящейся несправедливости, невзирая на риск и на то, касалось ли дело его лично. И при этом он вновь и вновь демонстрировал свою едва ли не безграничную способность знакомиться, налаживать контакты и дружеские отношения с множеством в остальном очень разных людей, чтобы придать протесту вес и мощь. Он отнюдь не был эдаким непрактичным интеллектуалом, за какого нередко выдавал себя тогда и впоследствии, чтобы избежать назойливого внимания своих гонителей и почитателей, а был прирожденным лидером.
Эпизод с журналом «Тварж» имел и еще одну, не столь очевидную грань, которая осложняла его (журнала) борьбу с властью и не осталась без последствий в далеком будущем. Хотя в то время Гавел уже был знаком с проблемами и подводными камнями политики, в журнале он впервые столкнулся с коварными минными полями политики малых учреждений и к своему изумлению обнаружил, что они могут таить в себе не меньшую опасность, чем борьба за власть в политбюро. Четверка стражей «внутреннего святилища» журнала (главный редактор Недвед и члены редколлегии Мандлер, Долежал и Лопатка) с удовольствием предоставляла ему сражаться за журнал на заседаниях секций Союза писателей, но отвергала его предложения, касавшиеся стиля и содержания издания. В том, как этот квартет продвигал редакционную линию, Гавел видел своего рода «сектантство»[183], которое ему было абсолютно чуждо. Редколлегии же он казался чересчур амбициозным и властным. Его упрекали в том, что он не посвящает себя полностью журналу и строит свою карьеру популярного писателя где-то еще, совершенно забывая при этом, что пригласили его именно из-за его писательского успеха и популярности. Гавел не смог смириться с тем, что в журнале имеются «свои процессы, свои еретики, своя дисциплина и свои догмы»[184], и потому ушел. На короткое время он вернулся в «Тварж» во время Пражской весны, когда журнал обновился и круг публикующихся в нем пополнили новые авторы, в том числе многообещающий молодой экономист Вацлав Клаус, но в конце концов опять «хлопнул дверью»[185], когда его призвали к порядку за отклонение от правильной линии в выступлении на учредительном съезде Союза чешских писателей в 1969 году.
Оглядываясь сейчас назад, нам трудно понять, что стало причиной раскола внутри небольшой группы близких друг другу интеллектуалов, боровшихся с колоссом коммунистической ортодоксии и ее «антидогматическими» перерожденцами, тем не менее отголоски этого раскола не затихли даже полвека спустя. В «Заочном допросе» Гавел посвящает пятнадцать из двухсот страниц этому эпизоду, который людям несведущим должен был казаться довольно темным. Некоторые из первоначальных членов редколлегии придавали ему еще больше значения. И хотя почти все они в итоге влились в диссидентское движение, кое-кто боролся с Гавелом и «Хартией-77» чуть ли не так же долго, как и с режимом[186]. После падения коммунизма Мандлер и Долежал трансформировали свою существовавшую до ноября 1989 года «Демократическую инициативу» в политическую партию либеральных демократов и стали депутатами парламента, с трибуны которого критиковали действительные или мнимые ошибки Гавела и окружавших его сторонников «правды и любви», а когда завершили политическую карьеру, продолжали в том же духе в качестве комментаторов и публицистов. Сам Гавел вынес из этого эпизода устойчивую антипатию ко всем формам «комитетской политики» и закулисным играм – непременной составляющей жизни парламентских кулуаров, партийных секретариатов и… редакционных коллегий. Вместе с тем он, возможно, так до конца и не понял, в какой большой степени политика зависит от того, что кто-то, пусть и не нарочно, раздавил песочные куличики других мальчиков, которые потом мстят за это своему обидчику.
Гавел сам признается в том, что эпизод с журналом «Тварж» сыграл ключевую роль в его превращении из театрального «узколобого спеца»[187] в политического активиста. Ведя бесконечные дебаты и споры с коммунистическими бюрократами, с функционерами из Союза писателей и с литераторами противоположных взглядов, он не только совершенствовал свою письменную риторику, к которой имел талант от природы, но и овладевал приемами политической тактики и стратегии. Уже в то время он считал самообманом политику постоянных уступок, основанную на принципе принесения в жертву менее значимых ценностей и менее важных людей во имя глобального «добра», называя ее «саморазрушительной политикой»[188]. С самого начала в некоторой степени сектантский образ мыслей коллег по редакции журнала «Тварж» претил его художественному чувству и инстинктивной открытости, и как ни уговаривали его махнуть на это рукой ради сохранения издания, он знал, что это был бы самый верный способ обречь весь проект на погибель.
Еще одной чертой, отличавшей Гавела и «Тварж» от их все более шумных коллег-реформаторов (или, как они сами себя называли, «антидогматиков»), бывших некогда рьяными прислужниками и столпами сталинизма, а теперь превратившихся в открытых критиков командной системы, было несколько парадоксальное нежелание вступать с этой системой в лобовое столкновение в вопросах, касавшихся оценки характера общества и истинного лица господствующей идеологии. С одной стороны, они знали, что при таком столкновении не смогут одержать верх и только дадут власти возможность выплеснуть на них свою ярость. С другой стороны, подобная дискуссия не особенно их интересовала. В отличие от своих коллег-реформаторов, они ни в малейшей мере не были преданы идее исправления социализма «по Марксу», не чувствовали внутренней связи с этой идеей и не стремились внести личный вклад в ее воплощение. В марксизме они видели скорее большую часть существующей проблемы, чем ее решение. Произнести это вслух, однако, означало бы навлечь на себя обвинение в преступном подрыве социалистического строя, что каралось длительными сроками заключения. Поэтому они применяли своего рода партизанскую тактику и вступали в небольшие сражения ради небольших достижений. Некоторые из них они даже выигрывали, как, например, в случае борьбы за прием ранее запрещенных авторов в Союз писателей, за увеличение квот на типографскую бумагу[189] или отстаивание того или иного номера журнала перед цензорами. Для Гавела это была «частная школа политики»[190].
Сделав первый шаг, он уже не мог перестать проявлять активность. Первоначально его пригласили в редколлегию журнала с непременным условием, чтобы он вступил в Союз писателей, так как, будучи успешным драматургом, он имел больше шансов быть принятым туда, чем его не столь известные коллеги. Когда же он наконец вступил, его поразило шизофреническое поведение многих членов Союза, не скрывавших пренебрежительного и просто наплевательского отношения к влиятельным должностям, которых они раньше так добивались. Гавел, наоборот, «до всего докапывался, приходил всегда подготовленным <…> все время критиковал те или иные недостатки и вносил какие-то предложения»[191]. Это, как он обнаружил, прибавило ему работы и новых задач. Беспартийные слои общества в то время уже могли публично заявлять о себе, и Гавел встал во главе Актива молодых авторов («несколько диковинного учреждения»[192]), а в дальнейшем и Круга независимых писателей.
Гавел и его друзья (а впоследствии – противники) по журналу солидарны в том, что их решительная защита этого издания сыграла воспитательную роль и стала примером для более широкого круга официально признанных авторов, которым, тем не менее, претила официальная линия и мешали ограничения, какие она налагала на их творчество. Если даже группа беспартийных хулиганов смогла противостоять могущественному Союзу, а косвенно – и еще более могущественной партии, защищая, казалось бы, сомнительный журнал, может быть, пришло время и им открыто выразить свои взгляды?
Эпизод, связанный с журналом «Тварж», и работа в качестве функционера не только укрепили престиж и авторитет Гавела в интеллектуальных кругах, в особенности среди молодого поколения, но и привлекли к нему внимание властей и внушающей страх Госбезопасности – этого государства в государстве, построенного, как и многие такие учреждения, по образцу советского КГБ. Антикоммунистическая листовка, посланная в театр, вероятно, в порядке провокации (о которой, как о провокации, Гавел заявил в полицию), имела своим следствием кафкианский визит некоего капитана Одварки и еще одного гебиста к Гавелу домой и его дальнейшую постановку на учет в виде кандидата в секретные сотрудники. В этой картотеке оказывались и многие впоследствии уже настоящие секретные сотрудники, и будущие «враждебные элементы», что определялось в зависимости от того, насколько данный человек был готов или способен сопротивляться давлению. Порой один и тот же человек считался тем и другим. Из беседы с Гавелом в тот день посетители извлекли не слишком много полезных для себя сведений; при этом они были не первыми и не последними, на кого произвели впечатление его вежливость и учтивость. В любом случае они, конечно же, должны были догадаться, что прощальные слова Гавела, что он считает их встречу «источником вдохновения для своей литературной деятельности»[193], следует воспринимать не как многообещающее начало, но как фразу «бравого солдата Гавела».
Уведомление
Гросс. С вашего разрешения, пан директор, я привел голый факт…
Балаш. Ну и что же? Мы не намерены раболепствовать перед фактами!
Уведомление
Ничто так не способствует преуспеянию, как успех. Гавел вдруг стал признанным и прославленным автором, пьесы которого единодушно – что было довольно необычно в то время – хвалили и дома, и в капиталистическом зарубежье. Кроме театра «На Забрадли» и прочих чешских и словацких сцен, их ставили в десятках театров Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Югославии, Швеции, Франции, Британии и в других странах. Гавел сделался звездой. У него было немало предложений и возможностей, но начал он с того, что вернулся к своей первой любви – кинематографии. В феврале 1964 года он вместе с подебрадскими однокашниками Милошем Форманом, Иваном Пассером и еще одним сценаристом, Иваном Папоушеком, продал киностудии «Баррандов» идею фильма под названием «Реконструкция»[194]. Гавелу из общей суммы гонорара досталось 500 крон. Тогда же, но на сей раз с Бржетиславом Пояреком, Милошем Мацоуреком и Вацлавом Шашеком, Гавел продал «Баррандову» идею фильма, по-видимому, мультипликационного, «Визит»[195]. «Реконструкцию» Гавел и Форман продвинули до стадии киноповести, за что каждый из них получил 8000 крон – в те времена для чешских авторов очень приличные деньги. Еще до премьеры «Праздника в саду» Гавел продал «Баррандову» за 1800 крон идею одноименного фильма[196]. В мае 1964-го он заключил договор на киноповесть к нему[197] на 12 000 крон, а в июне – договор[198] на уже написанный литературный сценарий[199] этого фильма, еще на 12 500 крон. Фильм так и не был снят – как говорил сам Гавел, к счастью. Его литературная и театральная деятельность тогда и в дальнейшем представляла собой «мелкое производство», в значительной степени зависевшее от сотрудничества с узким кругом его друзей и от их талантов. Несколько причудливым примером этого может служить перевод пьесы Беккета «В ожидании Годо» для постановки в театре «На Забрадли», который Гавел как завлит заказал поэту Иржи Коларжу. Хотя Коларж ранее уже переводил поэзию, он не владел в должной мере ни одним иностранным языком и всецело зависел от подстрочника, сделанного другим переводчиком. Это был не слишком надежный способ добиться верного перевода; позднее, в семидесятые годы, к нему с неудовлетворительным результатом прибегали некоторые прорежимные поэты. Вот и в случае «Годо» этот метод явно не дал ожидаемого эффекта, а так как день премьеры был все ближе, Гавел обратился к «тридцатишестерочнику» Радиму Копецкому, который отлично знал французский, но не особенно разбирался в театре. Чтобы спасти положение, приемлемый перевод в итоге сделала профессиональная переводчица Милена Томашкова. Тем не менее в программке спектакля переводчиками указаны Иржи Коларж и Радим Копецкий[200].
В «Уведомлении» (1965), второй пьесе Гавела, поставленной в театре «На Забрадли», но хронологически – первой его «настоящей» пьесе, автор вернулся к идее, возникшей пять лет назад во время ночного разговора с братом Иваном: сочинить комедию об искусственном языке, который изобретался ради того, чтобы облегчить взаимопонимание людей, а в действительности его только затруднил. Первый вариант пьесы Гавел написал еще в театре ABC, но поскольку Выскочил счел ее слишком рискованной, он вернулся к ней только после невиданного успеха «Праздника в саду». Важная роль и в этом случае принадлежала Яну Гроссману – как другу и коллеге Гавела, а также его критику и на сей раз – режиссеру. По форме и композиции «Уведомление» сложнее «Праздника в саду», но Гавел и здесь остается верным тематике, которую разрабатывал в своей первой поставленной пьесе. Действие «Уведомления», как и «Праздника в саду», происходит в некоем не конкретизированном бюрократическом учреждении, директор которого Гросс неожиданно обнаруживает внутренний документ, написанный на совершенно непонятном ему языке. Гавел посвятил пьесу труппе театре «На Забрадли», позаимствовав для своих персонажей и имена его актеров, в том числе имя подруги жизни Гроссмана Марии Малковой, поэтому маловероятно, что фамилия главного героя была выбрана случайно. Как и в «Празднике в саду», эксперимент, в данном случае языковой, который был начат по инициативе, исходящей откуда-то «сверху», становится орудием интриг заместителя Гросса и его приспешников. Гросса, не почуявшего вовремя опасности и беспомощного против уведомлений, которые он не может ни прочитать, ни попросить перевести без соответствующего разрешения, для чего опять-таки требуется знание птидепе («содержание нашего уведомления мы можем узнать только тогда, когда знаем его»[201]), вначале подсиживает, а потом отстраняет от должности его заместитель с группой последователей искусственной коммуникации. Как и можно было ожидать, эксперимент кончается плохо: новый язык удается освоить лишь горстке людей, причем – и это хуже всего – он засоряется вредными элементами естественного языка. Гросса оправдывают, реабилитируют и восстанавливают в должности – чтобы тут же поручить ему возглавить внедрение очередного искусственного языка, хорукора, который основывается на прямо противоположных принципах по сравнению с птидепе, но имеет ту же цель: устранить путаницу, неоднозначность и раз и навсегда вытравить человеческие черты естественного языка. «Уведомление» было схоже с «Праздником в саду» и в других отношениях.
На сей раз Гавел с Гроссманом перед премьерой, назначенной на 26 июля 1965 года, проверили готовность цензоров выпустить пьесу путем ее публичной читки в Городской библиотеке. Как читка, так и спектакль закончились бурными овациями, причем публика аплодировала стоя. Официальные средства массовой информации снова пели дифирамбы теперь уже международно признанному автору, хотя в «Руде право» хвалебная рецензия появилась только через два месяца[202]. Большинство критиков восприняло эту пьесу, как и ее предшественницу, лишь как сатиру на бюрократическую систему. Это превращало ее в одну из многих подобных пьес – может быть, лучшего качества, но по-прежнему сатиру, какую в середине шестидесятых годов власти терпели и даже поддерживали как часть необходимой социальной гигиены. Только единицы сумели или захотели отметить существенные различия между обеими пьесами и более радикальный замысел автора в «Уведомлении». Нашлись среди них и такие редкие критики, как, например, Индржих Черный, который написал: «Механизм трусости, силы и равнодушия – это не только плод фантазии абсурдистского драматурга»[203].
«Уведомление» отличает более мрачный и разрушительный подтекст, нежели в «Празднике в саду». Директор Гросс – не такой персонаж, как соглашатель Гуго. Это «добропорядочный» человек, он «желает добра», и хотя – в порыве ли смелости или по неосторожности – он «выставляет рожки» и за это наказан, в конце концов Гросс «раскаивается» и приспосабливается в достаточной мере для того, чтобы сохранить свое место и, как он сам себе внушает, возможность предотвратить худшее. Оставаясь «внутри» системы и пренебрегая советом преданной секретарши Марии, которая ему «подыскала место в театре», он становится соучастником зла, которое он же впервые и открыл и против которого первым предостерегал.
В «Уведомлении» Гавел впервые поднял проблему пассивного участия во зле, к которой вновь и вновь возвращался в последующие десятилетия. Тем самым он целил и в нравственный конформизм многих своих друзей и коллег, которые довольствовались критикой и реформаторской риторикой в строго очерченных рамках, не осмеливаясь выйти за границы системы. В 1965 году, когда развитие как будто двигалось в сторону все большей терпимости, свободомыслия и открытости, а предостережение, заложенное в пьесе, казалось относившимся к прошлому – к покорным жертвам коммунистических чисток, кампаний по исправлению ошибок и исправлению исправлений, – ни Гавел, ни его зрители не могли предполагать, что оно придется очень кстати в ближайшем будущем.
Проблема нравственной амбивалентности ярко проявляется в том, что реплики «положительных» и «отрицательных» персонажей оказываются взаимозаменяемыми. К тем же аргументам, которые использует «честный» Гросс, цинично прибегает и его противник Балаш. Публика не понимает (и, по-видимому, не должна понимать), произносится ли та или иная реплика в диалоге всерьез или в насмешку. Этот прием Гавел вновь и вновь применял в последующих пьесах; кроме того, он анализировал данный феномен в ряде своих эссе, особенно в «Слове о слове», приходя к однозначному выводу: слова сами по себе ничего не значат. Аналогично и принципы, которые выражают эти слова, какими бы искренними и неподдельными они ни были, мало что значат без должной решимости руководствоваться ими. В конце концов разница между циничным манипулятором и благодушным слабаком не так уж велика. С манипулятором, пожалуй, дело иметь даже лучше: на его счет человек по крайней мере не может обмануться. Об этом Гроссу, который в критические моменты склонен впадать в жалость к самому себе, напоминает холодный нигилист Балаш:
ГРОСС. Если бы родиться заново! Я бы все делал иначе!
БАЛАШ. Может, сначала и иначе, но закончил бы так же. Так что – все равно![204]
Так Гросс спасает свое директорское кресло, но теряет шанс спасти лицо, а тем самым теряет и возможность настоящих человеческих отношений с окружающими. Их в пьесе олицетворяет фигура «жертвенного агнца» Марии, к которой Гросс тщетно взывает о помощи, когда она сама страдает от последствий его ошибок. Демонстрируя типичный образец самообмана, Гросс пытается сохранить видимость своей прежней личности и порядочности:
ГРОСС. Дорогая Мария! Ты даже не представляешь, с какой радостью я выполнил бы твою просьбу! Скажу больше, меня просто пугает, что фактически не могу сделать для тебя почти ничего, ибо я совершенно потерял самого себя: желание помочь тебе роковым образом сталкивается с ответственностью, которую на меня – желающего спасти здесь последние осколки человечности – возлагает опасность, постоянно угрожающая нашему учреждению со стороны Балаша и его людей, с ответственностью столь важной, что я не могу пойти на открытый конфликт с ними![205]
Как видно из приведенного отрывка и из многих других текстов этого периода, Гавел находился под сильным влиянием философии экзистенциализма с ее понятиями неочевидности, отчуждения, абсурда, социальной изоляции и обезличенности. Но хотя в финале пьесы выплескиваются эмоции, близкие к тем, какие можно найти в произведениях Камю или Беккета, наш автор приходит к ним иным путем. Если у экзистенциалистов в блужданиях героев повинна утрата ими метафизического горизонта или естественная абсурдность человеческой судьбы, то в мире Гавела виной всему общество или, точнее, тоталитарный контроль над обществом, который обрекает человека на изоляцию, полную страха, и заставляет его настороженно относиться к окружающим и избегать их. С этой двоякой перспективой связана и двоякость возможного выхода из экзистенциальной ситуации. В то время как у Беккета и других экзистенциальное человеческое одиночество в его конечном облике предстает неизменной, врожденной и объективной данностью, которую можно преодолеть (как в случае Сизифа у Камю), только приняв ее, в творчестве Гавела оно является следствием десоциализирующих свойств господствующей системы. Иными словами, оно создано людьми и может быть преодолено как таковое людьми же.
Ведь и птидепе в итоге поражает и уничтожает вездесущая «зараза» человечности. И хотя в самой пьесе берет верх система, есть здесь и намек на более благоприятный исход:
БАЛАШ. Что показывает опыт в других учреждениях?
КУНЦ. Неплохие результаты. Но там, где птидепе стали применять в широких масштабах, он механически начал перенимать некоторые свойства естественного языка – эмоциональные оттенки, неточность и многозначность. Правда, Гелена?
ГЕЛЕНА. Да. Я уже слышала от ребят, что чем больше пользуются птидепе, тем больше он засоряется этими элементами[206].
Тем самым внутренний посыл «Уведомления» вполне отвечал духу времени и собственной политике Гавела. С одной стороны, автор показывал, что система не только насквозь развращена, но что она и развращает – по самой своей природе. Что проблема не в отдельных мерах, или в мерах во исправление предыдущих мер, или в последующем исправлении предыдущих исправлений, а в системе как таковой. Что она не просто не работает, но и не может работать. В шестидесятые годы это все еще была точка зрения меньшинства, причем его представители об этом скорее смутно догадывались, чем открыто высказывались.
С другой стороны, если причиной искривлений, извращений и абсурда были не отдельные действия, а сам характер системы, казалось возможным дать бой всему этому одновременно. Чем пытаться безуспешно латать систему в надежде, что после этого она, может быть, станет более терпимой или приемлемой, следовало заменить ее целиком со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Буря на горизонте
До 1967 года чешская «праперестройка» протекала в целом гладко. Пространство творческой и личной свободы расширялось небывалыми темпами, хотя и не всегда последовательно. Повсюду расцветали малые театры, клубы и кафе. Волосы удлинялись, а юбки укорачивались. Сексуальная революция, правда, пришла в Прагу на год-другой позже снятия табу на «Любовника леди Чаттерлей» и появления первого альбома «Битлз»[207], но все же пришла. Возникли десятки рок-групп с названиями типа «Primitives Group» или «Проигранное дело». В журналах и отдельными сборниками выходили – и тиражи бывали всякий раз распроданы – произведения поэтов-битников Лоуренса Ферлингетти, Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Грегори Корсо. На театральных подмостках царили Гарольд Пинтер, Сэмюэль Беккет, Эдвард Олби, Эжен Ионеско и – Вацлав Гавел.
Даже экономика начала подавать признаки жизни. В январе 1965 года ЦК КПЧ поручил директору академического института экономисту Оте Шику разработать программу реформ с целью остановить упадок системы планового народного хозяйства, из-за которой государство с одной из десяти сильнейших до Второй мировой войны экономик Европы стремительно превращалось в отсталую страну. Как это было в случае со всеми реформами шестидесятых годов, поставленная задача отнюдь не давала исполнителю «карт-бланш». Идеологические устои системы, прежде всего руководящая роль коммунистической партии и общественная собственность на средства производства, были неприкосновенны. Ввиду этого реформаторам не оставалось ничего иного, кроме как пытаться решать второстепенные проблемы. Шик и его команда предложили смягчить систему планирования, что позволило бы ослабить ценовые диспропорции и поспособствовало более эффективному распределению ресурсов. В этом не было и намека на переход к рыночной экономике, речь шла лишь о заимствовании некоторых ее элементов, чтобы предотвратить еще более серьезные экономические проблемы. Точно так же рекомендации реформаторов внедрить некоторые стимулы в систему вознаграждения работников не имели ничего общего с открытым рынком труда. Предложения Шика, в сущности, даже не успели хоть как-то проявить себя на практике, но тем не менее они стали одним из пунктов в длинном списке ересей, в которых обвиняли деятелей Пражской весны их противники дома и за рубежом.
Однако в конце концов причиной крайнего обострения ситуации стала не борьба между политиками и экономистами, а дискуссии поэтов и прозаиков. На четвертом съезде Союза чехословацких писателей прозвучали доклады, за которые выступавшим грозили бы десять лет на урановых рудниках, не произноси их виднейшие писатели и партийцы страны. Милан Кундера говорил о том, как чуждая и жесткая сила оторвала культуру и традиции страны от Европы. Павел Когоут зачитал письмо Александра Солженицына съезду Союза советских писателей, которое руководство чехословацкого союза пыталось утаить от своих членов. Но больше всех запомнилась пламенная, бунтарская речь Людвика Вацулика, члена коммунистической партии с безупречной пролетарской родословной: «Наш съезд собрался не тогда, когда это решили члены организации, а когда господин, поразмыслив, дал им свое милостивое согласие. За это он ожидает, по привычке, унаследованной от минувших тысячелетий, что мы воздадим почести его династии. Предлагаю их не воздавать»[208]. Далее он процитировал некоторые полузабытые пассажи из чехословацкой конституции, где гарантировались гражданские права, включая право на свободу слова, собраний и объединений для всех граждан. Даже после того как секретарь центрального комитета по идеологии Иржи Гендрих в негодовании покинул съезд со словами «Вы всё проиграли!»[209], критические выступления не прекратились. Некоторые из них не ограничивались Чехословакией. За два дня до этого, в ответ на поражение арабской коалиции в Шестидневной войне с Израилем, Чехословакия вместе с Советским Союзом и другими коммунистическими странами разорвала дипломатические отношения с еврейским государством. Несколько писателей еврейского и нееврейского происхождения протестовало с трибуны съезда против этого шага.
Режим попытался подавить бунт, запретив печатать еженедельник союза писателей «Литерарни новины» и исключив самых активных смутьянов из партии, но было уже поздно. Многие известнейшие чешские и словацкие писатели публично отказали власти в послушании. Когда нечто подобное происходило в чешской истории ранее, за этим всякий раз следовали еще более серьезные события.
Кто-то, возможно, удивился тому, что Вацлав Гавел, бывший долгое время одним из самых строптивых, на съезде играл довольно скромную роль и не сделал какого-либо важного заявления. В своем выступлении он остался верен тактике пусть малых, но значимых сражений, которые – что самое главное – можно было выиграть. Он призвал возобновить издание журнала «Тварж» и принять в союз писателей-изгоев: его коллег и друзей-некоммунистов Вацлава Черного, Индржиха Халупецкого, Йозефа Паливеца, Богуслава Рейнека, Яна Паточку, Йозефа Шафаржика, Бедржиха Фучика, Зденека Урбанка и других. Дальше этого он не пошел.
На самом деле Гавела явно смутил радикализм некоторых произнесенных ранее речей, и в его выступлении прозвучала предостерегающая нотка:
Если неотъемлемой частью профессии писателя является то, что он более, чем кто-либо еще, вновь и вновь ставит мир под вопрос и проблематизирует его, логично, что он должен вновь и вновь – усерднее, чем кто-либо еще, – завоевывать доверие этого мира. Однако он больше вредит самому себе, если легкомысленно ставит это доверие на карту. И если мир именно к нам – что следует трактовать как своего рода честь – предъявляет требования более жесткие, чем к кому-либо еще, мы, конечно же, не отвертимся от его суда и не убаюкаем его ссылками на психоз и атмосферу; в итоге он всякий раз с каждого из нас спросит, что мы говорили и что после этого делали; соответствовало ли то, что мы делали, тому, что говорили; имели ли мы право говорить то, чего потом не делали; как мы оправдали надежды, которые вначале внушили миру. Если коротко, речь идет о том, действительно ли все мы способны до самого конца нести полную ответственность за свои слова; способны ли все мы по-настоящему и без оговорок отвечать сами за себя; на практике доказать серьезность своих заявлений и никогда, даже руководствуясь лучшими побуждениями, не оказаться в какой-то момент сбитыми с пути своим тщеславием или страхом. Это – призыв не к расчету, а к подлинности[210].
Таким образом, понятие «подлинной ответственности», или, иными словами, «жизни в правде», возникло у Гавела не в последующие диссидентские годы или под влиянием Яна Паточки – которое, конечно, неоспоримо. Оно во всей своей полноте было сформулировано уже здесь, будучи до того опробовано за столом в «Славии» и отшлифовано на неверных тропах институциональной политики литературных учреждений.
Взыскания знаменитым писателям наделали много шума и встретили неодобрение даже у представителей коммунистической элиты. Вдобавок публичные проявления непослушания на съезде дали другим пример для подражания. На октябрьском пленуме центрального комитета партии было нарушено еще одно табу – запрет на публичную критику Большого Брата, первого секретаря компартии и президента республики, а в остальном самого заурядного человека по имени Антонин Новотный. Вдруг стало можно критиковать все: не только его методы руководства экономикой или его хамское отношение к словацким коммунистам с их робкими попытками вспомнить и возродить словацкие национальные традиции и свою историю, но и сосредоточение всей партийной и государственной власти в руках одного человека.
На декабрьском пленуме ЦК страсти разгорелись уже не на шутку, и Новотному было предложено подать в отставку. Он еще сумел оттянуть неотвратимый конец, прервав заседание 23 декабря вошедшей в историю фразой «товарищи женщины должны успеть за покупками», однако 5 января на посту первого секретаря его сменил малоизвестный, но симпатичный аппаратчик из компартии Словакии Александр Дубчек. Пражская весна 1968 года могла стартовать.
Причина, по которой Пражская весна и ее силовая развязка стали одной из икон в истории XX века, была более чем основательной: как динамика движения реформаторов, так и способ, каким оно было разгромлено, нанесли смертельный удар по марксистской идеологии и по претензиям представителей советского блока выдавать себя за истинных носителей исторического прогресса. Хотя сталинизм, сфабрикованные процессы и подавление восстаний в Берлине и Будапеште заставили многих прежних сторонников коммунизма пересмотреть и отвергнуть свою веру, приверженность марксизму-ленинизму в середине шестидесятых годов была чем-то пусть и не достойным восхищения, но еще и не слишком позорным. После 1968 года это слово стало синонимом соглашательства, тупости, а то и чего похуже.
Далеко идущее значение Пражской весны было несколько несоразмерно ограниченному масштабу реальных перемен, происшедших в течение всего-навсего семи месяцев. С институциональной точки зрения реформы были очень скромными – за одним весьма существенным исключением, каким стала отмена цензуры в конце июня. Это, впрочем, означало лишь официальную констатацию состояния, существовавшего уже несколько месяцев. Другие новшества, такие как реабилитация по суду некоторых жертв коммунистического террора и произвола после 1948 года, были обращены в прошлое и представляли собой некие нравственные жесты. Все остальное были лишь слова. Но как же они пьянили! Впервые за двадцать лет – и вообще впервые для тех, кто родился при коммунизме, – можно было обсуждать, подвергать сомнению и критиковать абсолютно все, будь то частная собственность, свобода передвижения, руководящая роль партии, свобода вероисповедания, советский ГУЛАГ, движение хиппи или равенство полов. Обо всем этом велись регламентированные и свободные дискуссии на сотнях организованных и импровизированных встреч, в лекционных залах, на собраниях, в кофейнях и кабачках, в постели и на улице. Как грибы после дождя, с официальным благословением или без него, появлялись новые кружки и клубы. Еженедельник «Литерарни новины», который вновь начал выходить под названием «Литерарни листы», становился с каждым днем радикальнее, но он был все еще довольно умеренным в сравнении с новыми журналами, такими как «Репортер» или «Студент».
Ввиду расхождения между формальными и неформальными процессами и между номинальными и реальными переменами сложились две трактовки истории Пражской весны, которые дают о себе знать и в наши дни. С одной стороны, это в значительной мере мифологический нарратив о «социализме с человеческим лицом», общественном и национальном движении, направленном на реабилитацию и обновление идеала социализма, которое возглавляли просвещенные реформаторы, поддержанные подавляющим большинством населения, и которое было силой подавлено в результате августовского вторжения, начатого Советами под надуманным предлогом прямой угрозы «контрреволюции». С другой стороны, была обстоятельно документирована цепь событий, свидетельствующих о том, что реформаторы отнюдь не стояли во главе этого движения, а наоборот, очень скоро потеряли контроль над ним, вновь и вновь оказывались в хвосте истории и были вынуждены приноравливаться к все новым требованиям все более смелых сограждан. Согласно этой трактовке, Советы парадоксальным образом не ошибались, прогнозируя смену режима, пускай и не насильственную, но их решение растоптать суверенитет страны, чтобы этому помешать, было преступной ошибкой.
Из сказанного не обязательно следует, что обе трактовки абсолютно несовместимы. Искренность и человеческие качества Александра Дубчека снискали ему неподдельную симпатию населения, которая переносилась и на других членов его команды. Люди, истосковавшиеся по более широкому ассортименту потребительских товаров, горячо приветствовали частичное открытие экономики и рынка. Советское вмешательство в августе привело к созданию огромного и единого фронта поддержки Дубчека и его соратников.
Все это, однако, вовсе не означало, что представления и цели коммунистического руководства и населения были идентичными или хотя бы аналогичными. Разумеется, большинство людей приветствовало новые свободы, но, несомненно, воспользоваться ими намеревалось в направлениях, которые выходили за рамки воображения коммунистов. Уже в первые несколько месяцев процесса реформ начали заново формироваться традиционные общественные и политические объединения, такие как движение скаутов, «Сокол» или действовавшие до этого нелегально ячейки социал-демократической партии. Возникли и новые организации: клуб бывших политических заключенных K-231, клуб беспартийных активистов (KAN) или Круг независимых писателей, собравшийся шестого июля в квартире Гавела и избравший его своим председателем.
Однако каждого, кто, зная активность Гавела, предположил бы, что в ходе этих событий он будет играть ведущую роль, ждало бы разочарование. В полном соответствии со своим предубеждением против радикальной риторики он явно держался в тени более заметных интеллектуалов-реформаторов. Хотя он и принял участие в состоявшемся в Славянском доме первом из длинного ряда многолюдных собраний, на которых звучали все более радикальные голоса, его удивляло, что «люди, связанные с господствующей идеологией, здесь после своего двадцатилетнего господства выясняют вещи, которые всем, кроме них, все эти двадцать лет были ясны»[211]. Ему претила «та слегка эстрадная форма, в какой “мужи Января” щеголяли друг перед другом остроумием»[212]. От этого чувства «неумеренного трезвомыслия»[213] он перешел к другой крайности на приеме 11 июля, который устроил председатель правительства Черник, решивший познакомить виднейших писателей с виднейшими реформаторами. Это была единственная личная встреча Гавела с главными действующими лицами Пражской весны. В своем собственном, может быть, не слишком надежном, описании Гавел представляет этот эпизод так, будто, подкрепившись для преодоления робости несколькими рюмками коньяку, он принялся поучать Дубчека, что тому следует и чего не следует делать. «Кажется, я наговорил кучу глупостей»[214]. То, как в ответ представил ситуацию Дубчек, его, правда, не убедило, но готовность выслушать подвыпившего драматурга произвела на него впечатление. Такое двоякое отношение к Дубчеку осталось у Гавела и в дальнейшем: будучи невысокого мнения о Дубчеке как политике, по-человечески он искренне его любил.
Единственным более или менее значительным вкладом Гавела в бурлившую в обществе дискуссию была довольно отстраненная статья «К вопросу об оппозиции», написанная в марте 1968 года и напечатанная в еженедельнике «Литерарни листы»[215]: примечательный текст, производящий впечатление едва ли не консервативного и при этом развивающий идею, выходившую за рамки фантазии даже самых радикальных реформаторов. Старый парадокс Рассела о брадобрее, бреющем всех мужчин в деревне, которые не бреются сами, Гавел сформулировал по-новому, рассмотрев его с точки зрения вопроса, каким стал задаваться ряд мыслителей и журналистов после внезапной отмены цензуры, а именно: совместимы ли демократический социализм и свободная дискуссия с политической системой, основанной на господстве одной партии. Многие предлагавшиеся тогда решения – например, того или иного рода плюрализм внутри коммунистической партии, частичное отделение партии от государства, усиление роли и независимости профсоюзов[216] или включение в выборные списки компартии беспартийных кандидатов – были неудовлетворительными либо приводили к очередным парадоксам. Гавел в своей статье последовательно рассматривает иные пути: позволить общественному мнению играть роль оппозиции по отношению к коммунистической монополии на власть или использовать для создания настоящей политической оппозиции марионеточные остатки прежних демократических партий в структуре контролируемого коммунистами Национального фронта. В итоге он приходит к логически неопровержимому выводу: без конституционных тормозов и гарантий, существующих независимо от правящей партии, любая такая оппозиция окажется нестабильной, и ее легко будет подавить. Наличие же таких тормозов и гарантий неизбежно предполагает существование другой политической партии, которая будет способна играть роль институциональной оппозиции. Не сформулированным в его анализе остался следующий, логически вытекающий из этой констатации вывод, что любая партия, способная играть роль настоящей оппозиции по отношению к правящей партии, способна также сменить правящую партию и стать правящей. Зато этот вывод сделали в Кремле и позже использовали статью как одно из главных доказательств присутствия в Чехословакии «контрреволюционных сил»[217]. Как и каждый образец живой мысли, статья Гавела нашла тогда – и находила впоследствии – своих критиков. Довольно необычным кажется то, что среди них был и сам Гавел. Более десяти лет спустя он высказал ряд претензий к своей собственной статье, в том числе сомнения относительно самого принципа массовых политических партий и убеждение в том, что «предлагать создание партии должен тот, кто действительно готов создавать партию, что, естественно, был не мой случай»[218].
Гавел вспоминал, что защищал свою «трезвомыслящую» позицию на разнообразных многолюдных собраниях, однако в конкуренции с записными ораторами всякий раз «с позором <…> проваливался»[219]. Он подписал ряд петиций и открытых писем, какие тогда появлялись изо дня в день. Но в первую очередь он сосредоточился на практических малых делах, важнейшим из которых было создание Круга независимых писателей – откровенно оппозиционной трибуны в Союзе писателей.
Гавел по-прежнему видел себя прежде всего в роли общественно активного писателя и культурного деятеля. В разгар Пражской весны в театре «На Забрадли» прошла премьера его третьей большой пьесы под названием «Трудно сосредоточиться»[220], которую он посвятил своему наставнику в философии Йозефу Шафаржику. Хотя и этот спектакль встретил благожелательный прием, он, в отличие от предшествующих двух постановок, не стал крупным общественным событием.
В сдержанной реакции публики Гавел был отчасти виноват сам. Этой пьесе, которую он дописывал в стороне от бурных событий, в замке в Бржезнице, где Андрей Кроб, работавший там смотрителем, предоставил им с Ольгой медную двуспальную кровать в библиотеке Палфи[221], недостает четкого авторского замысла, какой был в «Празднике в саду» и «Уведомлении». История изменяющего супруге научного работника Гумла и его столкновения с аналитическим компьютерным роботом по имени Пузук[222] – это, с одной стороны, фарс о человеке, который пытается балансировать между запросами и ожиданиями жены, любовницы и иных потенциальных партнерш, а с другой – критика научных опытов по достижению взаимопонимания и объективный анализ массы зачастую противоречивых и переменчивых мотивов и побуждений, определяющих человеческое поведение. В какой-то степени это еще и личная рефлексия Гавела о внезапной славе человека и множестве требований, которые она налагает на его время и направление мыслей, а также о любовных интрижках, к каким она подталкивает, и вытекающих из этого моральных дилеммах.
Второй причиной слабого отклика на пьесу был не слишком удачный для нее выбор времени. О чем бы ни была эта пьеса, на первый взгляд она никак не соотносилась с бурными событиями за стенами театра и не предлагала зрителю сопоставимые с ними переживания. Вопрос дня заключался не в том, что делать с женой или любовницей, а в том, что делать с коммунизмом, свободой и демократией.
Однако для самого Гавела эта пьеса была, по всей видимости, так же важна, как две ее предшественницы, а может быть, даже важнее. Будучи самой личной из всех трех, она представляет собой продолжение внутреннего диалога Гавела – богемного литератора – и Гавела – философствующего моралиста, – отражая нарастающее напряжение в отношениях между этими двумя его ипостасями. В заключительном монологе пьесы Гумл заявляет: «…ключ к подлинному познанию человеческого “я” лежит не в более или менее ясной комплексности человека как объекта научного познания, но исключительно в его комплексности как субъекта человеческого сближения, потому что бесконечность нашей собственной человечности – это пока то единственное, что помогает нам, пусть не до конца, приблизиться к бесконечности других людей. Иными словами: уникальные, неповторимые отношения между двумя человеческими “я” – единственное, что может открыть тайну этих “я”, хотя бы частично. И такие ценности, как любовь, дружба, участие, сочувствие и ничем не заменимое взаимопонимание или, напротив, конфликты, – вот единственный инструмент общения индивидуумов. Все остальное может в той или иной степени охарактеризовать человека, но никогда не поможет хоть сколько-нибудь глубоко его понять и хоть немного познать. Основной ключ к человеку – не в голове, а в сердце»[223]. Рецензент спектакля, поставленного по этой пьесе в нью-йоркском Lincoln Repertory Theater, усмотрел в последней фразе «банальность, которая заметно ослабляет предшествующую иронию»[224]. Однако здесь мы имеем дело не просто с примиряющим утверждением, а, как сам Гавел пишет в другом месте, с пародией, иронией в квадрате. «Легче всего о некоторых вещах высказываются те, кто в жизни меньше всего руководствуется ими»[225].
Это классический образец приема, к которому Гавел будет прибегать вновь и вновь. Если в «Письмах Ольге» и других эссеистических сочинениях он излагает свои нравственные и философские воззрения методически, основательно и со стопроцентной серьезностью, местами доходя чуть ли не до педантизма, то в своих пьесах он над теми же умозаключениями иронизирует и посмеивается, часто вкладывая их в уста слабых, далеко не идеальных, непутевых персонажей. И скорее всего он это делает не только для того, чтобы показать, какая пропасть лежит между тем, как хотели бы поступать его персонажи, и тем, как они поступают на самом деле. Точкой пересечения этих линий является со всей очевидностью сам автор, который как будто пытается проверить свои убеждения, применяя их к реальным жизненным ситуациям, или же, еще более личностно, пытается примирить собственное поведение на публике со своим внутренним «я». Результаты такого экспериментирования, если это и впрямь были эксперименты, не слишком вдохновляют. Все персонажи Гавела, по большей части похожие скорее на бумажных человечков, чем на настоящих людей, в нравственном смысле оказываются не на высоте, а это говорит кое-что и о взгляде автора на себя самого.
По свидетельству ряда современников, образ жизни Гавела в то время был такой же, как у многих талантливых и успешных деятелей культуры на вершине славы, будь то музыканты, актеры или драматурги. Вставал он поздно, днем немного писал, а с вечера предавался ночной жизни и удовольствиям, какие она предлагала. Он по-прежнему проводил много времени в театре «На Забрадли», но посещал и конкурирующие сцены, такие как театр «За Браноу» и «Чиногерни клуб», которыми руководили близкие ему театральные деятели и в которых играли его друзья Ян Тршиска и Павел Ландовский. В других театрах Гавел, по его собственным воспоминаниям, бывал нечасто; он изо всех сил избегал политики как области, несовместимой с главным долгом писателя «служить правде»[226]. Его ночные похождения в компании Ландовского, которые Ольга терпела с большим трудом, всякий раз начинались после спектакля в винном баре «У Моцарта» или в другом кабачке неподалеку от театра, а продолжались иногда в заведениях с куда более сомнительной репутацией. Гавел вращался в обществе других таких же талантливых своих сверстников с похожим образом жизни; кроме Ландовского и Тршиски, это были кинорежиссеры Милош Форман, Ян Немец и Павел Юрачек. Неизменным атрибутом захватывающих дискуссий об искусстве, политике и актуальных событиях была порция алкоголя. А также женщины.
Гавел не мог не понимать, что публичное отстаивание им высоких нравственных критериев при неспособности самому руководствоваться ими, попахивает фальшью; тем не менее он не был лицемером в обычном смысле этого слова. По-видимому, он полагал, что развеет всякие подозрения в двуличии на свой счет, если первым признается в своих проступках. В этом, вероятно, коренилась сохранившаяся у него на всю жизнь привычка признаваться Ольге в своих изменах и даже искать у нее понимания и совета, как это делает Гумл в пьесе «Трудно сосредоточиться». Скорее всего он пришел к выводу, что нравственное совершенство выше его сил и что лучший выход – искренность со всеми вытекающими из нее последствиями. Невозможность сосредоточиться, о которой в тексте пьесы нет ни слова, кажется своего рода метафорой, описывающей внутреннее состояние души Гавела и его борьбу со своей собственной славой. Этим, по крайней мере отчасти, можно было бы объяснить и то, что он до некоторой степени абстрагировался от судьбоносных событий, происходивших вокруг. В тот момент, когда большинство людей волновала судьба социализма с человеческим лицом, Гавел погрузился в свои личные проблемы.
Может быть, чтобы как-то искупить это, он в то время написал еще две небольшие пьесы, одну для радио, а вторую – для телевидения. Одноактная радиопьеса, нечто среднее между Кафкой и готическим «ужастиком», называлась «Ангел-хранитель»[227], а телевизионная пьеса – «Бабочка на антенне»[228]. В первой из них очень дружелюбный чужак заявляется домой к драматургу Ваваку, задает ему невинные вопросы, обсуждает образ жизни хозяина и в конце концов, ссылаясь на прискорбное отступление от нормы, отрезает ему уши. Вездесущая и всемогущая бюрократия, измышляющая сложные, подробные и на первый взгляд рациональные правила для контроля над подданными, неизбежно ведет к внезапным вспышкам иррационального, самовольного и абсурдного насилия.
«Бабочка на антенне», которая в краткую оттепель во время Пражской весны так и не вышла на телеэкран, – пьеса чуть менее абстрактная и свидетельствующая о довольно скептическом отношении Гавела к событиям, которые переполняли энтузиазмом стольких людей в Чехословакии и за рубежом. Простая чешская семья, типичность которой символизируют имена главных действующих лиц, Еника и Марженки, сидит дома и ведет бессмысленный разговор, а вокруг них прибывает вода; звуки ее капель все это время слышны за сценой. Вода поднимается все выше и выше, пока наконец бабушка – похоже, единственный вменяемый персонаж в пьесе – не закрывает водопроводный кран. Эта вариация «Семейного вечера» отражает разочарованность автора и его недовольство потоком пустых речей в эти головокружительные месяцы упоения свободой, когда над страной уже сгущались мрачные тучи. «Бабочка» – это пьеса о бале на «Титанике».
Отстраненность, столкновение приоритетов и невозможность сосредоточиться сопровождали Гавела в течение всей поздней весны и чуть ли не до конца лета. В мае-июне, когда почти не скрываемые угрозы Москвы и военные учения стран Варшавского договора на чехословацкой территории придали событиям драматическую остроту, Гавел совершил два длительных вояжа на Запад: вначале в Соединенные Штаты, посмотреть постановку «Уведомления» в Нью-Йорке, а потом – ненадолго перед этим вернувшись в Прагу – в Великобританию. Более интересное время для поездок трудно было выбрать. 1968 год был отмечен многими важными событиями, идеями, беспокойством и смутой. В США велась яростная кампания перед президентскими выборами на фоне покушений на Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, антивоенных выступлений, движения хиппи и кайфа от ЛСД. Во Франции студенты возводили баррикады. Многие из них исповедовали еще более радикальный коммунизм, связанный с именами Мао Цзэдуна и Че Гевары.
Присущее Гавелу чувство драматургии и его задатки бунтаря были явно созвучны анархистскому заряду протестного движения. Отторжение ценностей среднего класса, которое подпитывало беспорядки в Соединенных Штатах и во Франции, перекликалось в нем с собственными сомнениями, связанными с его привилегированным происхождением, и укрепляло в нем подозрение, что не только с коммунистическим экспериментом, но и с западным обществом и цивилизацией, из которого оно выросло, дело обстоит как-то не так.
Было бы, впрочем, заблуждением усматривать в Гавеле – как делают некоторые – попутчика протестов против капитализма на Западе, представляя это в качестве свидетельства его левацкой ориентации в течение всей жизни. Гавел, несомненно, симпатизировал тому гигантскому взрыву молодой энергии, который произошел в 1968 году; он, конечно, ценил «внутренний этос – сильный, но не фанатичный»[229] антивоенных демонстраций и на долгие годы сохранил восхищение рок-музыкой и рок-музыкантами. Однако нет ни единого доказательства того, что он тогда или когда-либо был поклонником достижения свободы через насилие, галлюциногенных наркотиков или свободного секса, из-за чего впало в крайность столько молодых американцев и европейцев. Гавел поддерживал их право на демонстрации и протесты, но ему были чужды их бессмысленные акты насилия, агрессивный вандализм и хаос в мыслях. Точно так же его потрясло то, что люди могут мечтать добровольно установить у себя такую же систему тирании, какую он сам и его соотечественники как раз старались тогда ниспровергнуть.
Он не питал иллюзий в отношении того, что «новые левые», выросшие на учении Мао Цзэдуна и философии Герберта Маркузе, смогут тем или иным способом – как они утверждали – избежать ловушек, в которых запутались старые левые. Ни малейшего впечатления не произвели на него отечественные и «импортные» попытки распространить идеологию и задор «новых левых» в Чехословакии через проповеди таких оракулов, как радикальный лидер немецких студентов Руди Дучке и его чешские эпигоны: философ Иван Свитак и авторы некоторых публикаций в журнале «Студент». Совершенно так же не коснулась его и внезапная радикализация некогда правоверных коммунистов из числа коллег-писателей.
Из Гавела на самом деле был плохой кандидат в революционеры, что в какой-то мере могло поспособствовать «бархатному» характеру революции, в которой он принимал непосредственное участие, принесшее ему славу. С революционерами его объединял внутренний пыл, какой дает человеку силы для выдающихся свершений. В то же время его тяга к порядку и гармонии абсолютно не совмещалась с революционной склонностью к хаосу; при его высоком пороге терпимости было крайне маловероятно, чтобы он встал в ряды жаждущих крови штурмовых бригад, а присущие Гавелу исключительная вежливость и порядочность не позволяли ему демонстрировать мстительное лицо революции ее врагам. «Я слишком вежлив, чтобы быть хорошим диссидентом»[230], – написал он много лет спустя. Столь же ярко выраженная у него способность к исследованию и самоанализу всякий раз заставляла его сомневаться в самом себе и в своих собственных мотивах, что служило ему надежной защитой от «закалки», какая необходима для насильственной революции. Но за всем этим скрывался еще более серьезный изъян. У Гавела никогда не существовало и не выработалось понятие Врага. В своей критике коммунистического режима, длившейся десятилетиями, он всегда тяготел к той или иной форме диалога, в ходе которого изо всех сил пытался скорее понять мотивы другой стороны, нежели демонизировать ее, и, насколько это было возможно, дать противнику шанс усомниться в себе. Этот подход стал выглядеть несколько спорным позже, когда он, вначале как лидер Бархатной революции, а впоследствии и как президент, столкнулся с асимметричным характером политических отношений. То, что он не верил в существование врагов, еще не означало, что у него или у революции врагов не было. Из-за такой своей позиции он подвергался нападкам тех, кто считал, что он слишком миндальничает с представителями старого режима либо даже состоит в тайном сговоре с ними. Оглядываясь назад, можно предположить, что кое-какие процессы могли бы протекать успешнее или быстрее, будь Гавел чуть тверже. Вместе с тем отсутствие у него стремления насаждать революционную справедливость, несомненно, помогло чехам и словакам избежать кровопролития, публичных унижений и чудовищных революционных трибуналов наподобие того, что вынес чете Чаушеску в Румынии смертный приговор, приведенный в исполнение расстрельной командой. И тот же «изъян» помог ему сосредоточиться на актуальных проблемах настоящего и будущего в момент, когда многие из его годами покорных сограждан требовали отмщения за свои прежние унижения, словно бальзама на их раны.
Продолжавшаяся полтора месяца поездка в Соединенные Штаты весной 1968 года оставила неизгладимый след в памяти молодого писателя, как и тех, с кем он встречался. Однако из-за обилия происходивших тогда событий возникло множество разнотолков в отношении хода и деталей поездки, которые, пусть сами по себе и не слишком существенные, все же давали пищу для далеко идущих ложных измышлений насчет идейных корней и симпатий Гавела.
Значительную долю ответственности за эту путаницу несет Джон Кин со своей «Трагедией в шести картинах». Его изобилующая деталями реконструкция путешествия Гавела на пяти страницах основывается главным образом на интервью с Павлом Тигридом 1996 года. Тигриду на момент интервью было под восемьдесят, и он был известен своей избирательной, а порой и изобретательной памятью. Не чужды ему были и в меру ехидные розыгрыши охочих до сенсаций любопытных, особенно если они имели обыкновение подписывать свои журналистские опусы псевдонимом «Эрик Блэр»[231]. В данном случае Кин «вписывает» Гавела вместе с Ольгой во время пересадки в Париже по пути в США в драматический контекст всеобщей забастовки во Франции, начавшейся 13 мая. В действительности Гавел тогда уже три недели как находился в Нью-Йорке. Фантастический рассказ о том, как барьер между Востоком и Западом вдруг рухнул, когда к забастовке присоединились полицейские-пограничники и таможенники, представляется историей из разряда non è vero ma ben trovato[232]. Что касается Ольги, то она вообще не покидала Чехословакии и нервировала мужа суровыми письмами о новейших событиях в Праге. С Тигридом же Гавел, как он сам вспоминает, встретился в Париже на обратном пути из Соединенных Штатов в Прагу[233]. В те дни революция в Париже уже пошла на спад. Кроме того, Гавел вернулся из Америки не в конце июня (якобы после остановки в Лондоне), а выехал в Британию после возвращения в Прагу, на этот раз уже в сопровождении Ольги и Веры Лингартовой. И последнее: Гавел у Кина участвует в первомайском шествии на Вацлавской площади, что совершенно исключено с точки зрения как времени, так и места[234].
Предпринятая Гавелом поездка свела его с целым рядом людей, безусловно, значимых для его жизни и образа мыслей, встречи с которыми долго откладывались. В Нью-Йорке он жил недалеко от Центрального парка, на 69-й Западной улице у Иржи – тогда уже Джорджа – Восковца. Он снова встретился со своим однокашником Милошем Форманом, который как раз в это время намеревался перебраться из Чехословакии в Америку. Посетил «нестора» чешской либеральной журналистики Фердинанда Пероутку и записал с ним интервью, впоследствии утраченное. Разговаривал с эмигрантами, в том числе писателями, такими как Эгон Гостовский, и провел много времени в общении с Джозефом Паппом, основателем нью-йоркского «Публичного театра», который и пригласил Гавела на премьеру «Уведомления» в рамках шекспировского фестиваля в здании театра «Флоренс Анспахер»[235] на Лафайетт-стрит.
Все эти встречи, приносившие радость и пищу для ума Гавелу, которому тогда был тридцать один год, позволяют в каком-то приближении представить себе его мысленный и политический настрой в то время. Ни один из друзей, с которыми Гавел тогда встретился или познакомился, ничем даже отдаленно не походил на радикала. Некоторым, например Пероутке, «революция цветов» была откровенно чужда[236]. Все они были представителями просвещенной, критической и пытливой традиции либерального мышления, основанного на таких ценностях, как рациональность, социальная ответственность и разделяемый всеми моральный кодекс, в достаточной мере контрастирующих с иррациональностью, гедонизмом и моральным агностицизмом эпохи.
Столь же важны для понимания этого ключевого момента в сознании как всего поколения, так и в духовном и нравственном космосе Гавела, встречи, которые в ходе его поездки, видимо, не состоялись. Открытки, отправленные из Нью-Йорка Йозефу Шафаржику и Индржиху Халупецкому, он написал не в «Филлмор Ист», этом «храме рок-н-ролла» и Мекке хиппи в нью-йоркской Ист Виллидж, и не на «Фабрике Уорхола» на Юнион-сквер чуть дальше, а в добропорядочной «Русской чайной» и музее современного искусства MoMA неподалеку от Пятой авеню. Ни тогда, ни потом это, безусловно, не были рассадники мировой революции. Несмотря на его позднейшее бесконечное восхищение Лу Ридом и дружбу с ним, нет никаких свидетельств того, что они в то время встречались, хотя из поездки Гавел привез домой первый «банановый» альбом Velvet Underground. Не свиделся Гавел и с покровителем этой группы, поп-арт-художником Энди Уорхолом, американцем в первом поколении из русинской семьи родом из Миковой в Восточной Словакии. Он наслаждался мелодичными песнями Саймона и Гарфункеля, тогда как Боб Дилан был, по-видимому, им не замечен. В «войне поколений» между поклонниками «Битлз» и «Роллинг Стоунз», которая в наши дни потеряла какое-либо значение, Гавел стоял на стороне «Битлз». С пластинки, которую он снова и снова ставил своим друзьям в Градечке в то лето, пока не пришли танки, звучал не «наркогимн» I’m Waiting for the Man группы Velvet, а слащавый любовный Massachussetts группы Bee Gees, не слишком похожий на боевой хорал мировой революции.
Чуть ли не квантовая неопределенность, окружающая первое довольно длительное знакомство Гавела с Западом, сама по себе была бы не так важна, если бы не способствовала появлению более – или менее – лестных стереотипов, создаваемых вокруг него другими (но и он сам, бесспорно, внес в это свой вклад), в которых он представал как дитя шестидесятых годов в целом и 1968 года в частности, как радикальный хиппи с собственным представлением об идеальном мире, олицетворение всеобщего бунта «против авторитетов и условностей и презрения к материализму, типичного для людей, вполне обеспеченных с самого рождения»[237].
Конечно, Гавел, как и любой другой молодой человек того времени, должен был быть полным аутистом, чтобы остаться совсем в стороне от событий, которые разворачивались вокруг. Вместе с тем, однако, он не солидаризировался ни с процессом реформ в рамках Пражской весны у себя на родине, ни с радикальным отрицанием социальных норм, свидетелем которого стал на Западе. Как человек с повышенной эмоциональностью он симпатизировал попыткам придать социализму человеческое лицо и возродить общество потребления, но это была не его битва. На его художественное восприятие оказывал влияние психоделический калейдоскоп музыки, моды и идей, формировавших облик 1968 года, но его мягкой и упорядоченной натуре претили хаос и насилие, которые все это сопровождали. Политические взгляды и философские воззрения Гавела сложились в шестидесятые годы, но он не был их порождением. Корни ключевых для него понятий тождества человеческой личности, правды и ответственности были старше.
Между тем ход событий на родине приближался к кульминации. Провозглашенные только пару месяцев тому назад смелые преобразования уже выглядели всего лишь робкими компромиссами. «Программа действий», обнародованная коммунистической партией в апреле, устаревала с каждым днем. Двадцать седьмого июня газета «Литерарни листы» опубликовала манифест «2000 слов», который по инициативе группы академиков и ученых-гуманитариев написал Людвик Вацулик. Хотя в этом документе декларировалась приверженность объявленным партией задачам и программе реформ, в нем в то же время содержалось обращение к гражданам с призывом создавать комитеты и инициативные группы для продвижения реформ на местах. Еще более дерзкими были призывы разоблачать стукачей и поддерживать мандат, который граждане выдали властям, «пусть даже и с оружием в руках»[238]. Завершала манифест пророческая, хотя в тот момент мало кем замеченная фраза: «Эта весна как раз сейчас закончилась и уже не вернется. Зимой мы всё поймем»[239]. С точки зрения аппаратчиков в Праге и в Кремле это был призыв к контрреволюции.
Со своих позиций Кремль был прав. Логика событий требовала либо подавления процесса возрождения и восстановления монополии коммунистической партии на власть, либо открытия страны реформам, в результате которых системе пришлось бы смириться со своей гибелью. Двадцать лет спустя последний сценарий осуществился в полном объеме с однозначно вытекающими отсюда последствиями для всего Восточного блока и самого Советского Союза. За двадцать лет до того этой логикой объяснялась сдержанность Гавела и дистанцированность большой части чехословацких граждан, для которых весь этот процесс реформ был или салонной игрой, в какую играли между собой партийные товарищи в своих собственных интересах, или по меньшей мере прелюдией настоящих перемен.
Настоящих перемен страна так и не дождалась, а вот советских танков – да. Только тогда нация сплотилась и выступила как один человек в поддержку руководства во главе с Александром Дубчеком. Однако это не означало, что люди защищали процесс реформ или «социализм с человеческим лицом», как думали их лидеры, поддавшись понятному самообману. Они защищали суверенное право народа решать по-своему, даже если бы это подразумевало доведение процесса реформ до логического завершения.
В тот исторический момент, который оставил неизгладимый след в памяти целого поколения в виде ряда символических картин, запечатлевших эмоциональные сообщения о вторжении по радио и телевидению, обступившие советские танки и бронетранспортеры толпы людей, пытающихся объяснить происходящее ничего не понимающим юным солдатам с невинными лицами в люках танков, треск пулеметов, смятые машины и окровавленные тела, клятвы в верности, отчаянно храбрые поступки и слезные признания собственного поражения, Гавел сыграл скромную, но по тем временам смелую и ответственную роль. На сцену он, однако, вышел только после появления танков.
Пока его деятельные коллеги вели дискуссии о предстоявшем осенью съезде коммунистической партии, который должен был институционально закрепить реформы, пока скрытые угрозы извне переходили в открытые, пока весь народ неотрывно следил за переговорами чехословацких руководителей с советскими в вагоне на перевалочной железнодорожной станции городка Черна-над-Тисой[240] и последовавшей за этим встречей в верхах стран-участниц Варшавского договора в Братиславе, которая как будто ослабила напряжение, пока готовившиеся к вторжению армии выдвигались на исходные позиции, Гавел наслаждался летом. С помощью своего товарища по театру «На Забрадли» Андрея Кроба он за год до этого купил для себя и Ольги за 14 000 крон, полученных в качестве гонораров, дом в Градечке близ Влчиц под Трутновом и сейчас старался превратить его в уютную обитель, обихаживая большой сад и принимая там множество друзей, которых ему так недоставало в поездке; среди них были Зденек Урбанек, Либор Фара, Вера Лингартова, Ян и Карла Тршиски. Они устраивали вечеринки, спорили, слушали музыку и новости по радио… В воздухе пахло грозой. «Это лето так прекрасно, что добром оно кончиться не может», – вздохнул как-то Ян Тршиска[241]. Вечером 20 августа Гавел попивал вино в компании Ольги и Яна Тршиски у друзей, супругов Сейфертовых, в Либерце. А потом разверзлись небеса.
Время негодяев
Циклоп наделать дел не хил,
что выше человечьих сил.
В одном был рок к нему суров —
что обойден он даром слов.
Порабощенный им предел
людей унывших, мертвых тел
он топчет, гордо избочась,
а с губ его летит лишь грязь.
Уистен Хью Оден. Август 1968
В чешской истории 21 августа 1968 года имеет двоякое значение. С одной стороны, эта дата символизирует подавление и в конечном итоге поражение реформаторских устремлений Пражской весны после мощнейшего в европейской истории ночного военного вторжения и последовавшее за этим тягостное двадцатилетие «нормализации». С другой – это символ достигшего высшей точки сопротивления народа господствующей идеологии и обнуления каких-либо ее притязаний на легитимность. Только когда стало казаться, что все потеряно, люди по-настоящему объединились и дали выход своим истинным чувствам. Всю следующую неделю было совсем не важно, кто ты – коммунист-реформатор, принципиальный противник коммунизма или негодующий патриот. Когда человека насилуют, он понимает это независимо от своих политических убеждений.
Именно благодаря этому ощущению Гавел вышел из состояния летнего безделья и бросился в водоворот лихорадочной общественной деятельности. Одной из характерных его черт было умение притворяться безучастным и незаинтересованным до тех пор, пока все шло хорошо, но его обостренное чувство ответственности немедленно просыпалось, как только случалась беда.
Гавел и Тршиска, утренний шок которых от вторжения усиливало похмелье после вечеринки накануне, по чисто случайному стечению обстоятельств являли собой очень нужное в данной ситуации сочетание острого пера с известным голосом. Они добровольно включились в работу по оказанию сопротивления в либерецком филиале Чехословацкого радио, принимая участие и в телевещании. Всю следующую неделю неприступные для танков радиоволны представляли собой передовой рубеж обороны в Либерце и по всей стране. Радио– и телестудии перебрались в места, не поддающиеся вычислению, и вещание велось на запасных частотах, на которых его труднее было глушить. Советы в первые дни казались совершенно дезориентированными. Их готовили к ожесточенным битвам и террористическим актам, но не к сопротивлению такого рода. Импровизированное оккупационное радио, вещавшее из Дрездена и именовавшее себя радиостанцией «Влтава», стало предметом всеобщего веселья из-за странного акцента дикторов, их грубых грамматических ошибок и невероятных историй, дававших повод посмеяться, когда в остальном вокруг было мало смешного. «Влтава» не останавливалась и перед душераздирающими мелодраматическими сюжетами, например: «21 августа в сорока километрах от Праги шайка преступников, называющих себя последователями социалистического гуманизма, выставила на пути советского танка группу воспитанников местного детского дома. Танкисты, чтобы не давить наших детей, вместе со своим танком рухнули с высокого обрыва и погибли. Три советских парня без раздумий пожертвовали своими жизнями ради жизней наших детей. Иначе они поступить не могли»[242].
При такой конкуренции Гавелу и Тршиске работалось просто отлично! Впоследствии Гавел довольно неохотно участвовал в популярной мифологизации той августовской недели, но признавал, что особое впечатление на него произвела «сообщность солидарности», находившая выражение в малых и больших проявлениях доброты, заботы и изобретательности, которые он наблюдал.
В своем первом эфире из Либерца, несшем заметную печать эмоциональности и импровизации переживаемого момента сразу же после начала вторжения, Гавел обратился к остальному миру с призывом о помощи. Вполне типично для него (и при этом абсолютно логично) было то, что он не призывал к вмешательству НАТО или американских воинских частей, размещенных в паре сотен километров западнее, а просил своих коллег и друзей – писателей и критиков Гюнтера Грасса, Ханса Магнуса Эрценсбергера, Хельмута Хайсенбюттеля, Кеннета Тайнена, Кингсли Эмиса, Джона Осборна, Арнольда Вескера, Фридриха Дюрренматта, Макса Фриша, Жан-Поля Сартра, Луи Арагона, Мишеля Бютора, Артура Миллера, Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско и Евгения Евтушенко – выразить протест против совершаемого преступления. Странная это была армия для противостояния военной операции бронетанковых частей, однако Гавел, безусловно, имел все основания, когда подчеркивал роль, которую во время Пражской весны сыграли писатели и интеллектуалы. «Они были в числе первых, кто мобилизовал народ на политические действия. Поэтому они, несомненно, будут в числе первых, кого оккупанты начнут преследовать и сажать»[243]. В этом он оказался прав. Точно так же правдой оказалось и то, что большинство писателей, к которым он обратился, возвысило свой голос, протестуя против вторжения.
Единственный раз в жизни Гавел выступил даже от лица компартии. 26 августа в Либерце была распространена подробная инструкция, как действовать в отношении оккупации и оккупантов. Хотя под ней стояла коллективная подпись областного и городского национального комитетов и обкома коммунистической партии Северочешской области, но ее язык однозначно выдает авторство Гавела: «К присутствию иностранных войск относитесь так же, как вы относитесь, например, к стихийному бедствию: не ведите переговоры с этой силой, как вы не ведете их с ливнем, но противоборствуйте ей и избегайте ее так же, как вы противоборствуете дождю и избегаете его; задействуйте свою сообразительность, смекалку и фантазию. Вы увидите, что враг бессилен против этого оружия, как дождь бессилен против зонта. Противодействуйте врагу всевозможными способами, на которые он не рассчитывает: отказывайтесь понимать его, выставляйте в смешном виде, показывайте абсурд его положения. Если вы решите, что в какой-то момент полезнее вести себя как Гус, то ведите себя как Гус, а если, наоборот, решите, что разумнее вести себя как Швейк, то и ведите себя как Швейк»[244].
Чудо «всеобщей солидарности» продлилось немногим больше недели. После того как 29 августа Дубчек и остальные члены коммунистического руководства вернулись из Москвы со слезами на глазах и с подписанной ими капитуляцией, началась новая эра. Это стало ясно не сразу, сопротивление, протесты и солидарность в той или иной мере не стихали еще почти весь следующий год. Но это был год арьергардных боев, бесконечной череды уступок и изнуривших нацию компромиссов, которые были предвестниками последующего отказа от борьбы. «Корабль медленно шел ко дну, но пассажирам было разрешено кричать, что он тонет»[245].
Через месяц наступило разочарование. Это заметно в том числе и по горьким ноткам во второй части типограмм Гавела с датировкой «в печальные дни»[246] сентября 1968 года. Лозунги и надписи на стенах времен Пражской весны выродились в лишенную смысла абракадабру: «ГУМАНИЗМ, СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ПАТРИОТИЗМ, ВЕРНОСТЬ, ЕДИНСТВО», а в конце – «булочки для Дубчека»[247]. В другой типограмме Гавел смиренно перечисляет свои заповеди:
Не произнесу
имени Божьего всуе
не возжелаю
жены ближнего своего
не убью
не украду
и не буду заниматься
в интересах народа
политической публицистикой[248].
Тем не менее он все равно не бездействовал. Все более редеющая группа решительных реформаторов и демократов вела отчаянный арьергардный бой против имеющей огромное численное преимущество круговой поруки советских правителей, стремящихся любой ценой восстановить свое господство, вновь оживившихся чехословацких сталинистов, жаждущих отомстить за свое унижение за год до этого, и оппортунистов всех мастей, почуявших шанс быстро выдвинуться независимо от способностей.
Единый национальный фронт ненасильственного сопротивления мало-помалу стал давать бреши. Из ведущих реформаторов, которых вывезли в Москву и после четырех дней «переговоров» заставили капитулировать, протокол о «временном» размещении советских войск в Чехословакии отказался подписать один только Франтишек Кригель, коммунист с довоенным стажем, ветеран гражданской войны в Испании. Лишь четверо депутатов Федерального собрания не подняли руки за утверждение договора между двумя странами, легализующего оккупацию ex post facto. Среди граждан постепенно росло осознание того, что отныне каждый должен рассчитывать сам на себя. Но, несмотря на это, сопротивление не прекратилось. В ноябре в знак протеста против оккупации и в поддержку продолжения реформ забастовали студенты вузов. В январе 1969 года на Вацлавской площади совершил самосожжение Ян Палах, первокурсник философского факультета Карлова университета в Праге. Его похороны вылились в общенациональную манифестацию. Гавел, подобно многим другим, выразил свои чувства в связи с этим на чехословацком телевидении. Но, в отличие от других, он не поддался эмоциональному порыву минуты, не дал выхода слезам, отчаянию или бессильной ярости, а говорил как политик. Самоубийство Палаха он охарактеризовал как «обдуманный политический акт… как вызов, предостерегающий нас от равнодушия, скепсиса, ощущения безнадежности»[249]. С его точки зрения, Палах этим «дал шанс нам, живым»[250]. Он призывал не к проявлениям скорби или к пустым жестам протеста, а к дальнейшему постоянному сопротивлению. «У нас один путь: проводить свою политическую линию дальше, до самого конца. Смерть Яна Палаха я рассматриваю как предостережение всем нам перед нравственным самоубийством»[251].
В условиях захлестнувшего страну отчаяния это было одно из немногих ясных и взвешенных руководств к действию. В учебных аудиториях, средствах массовой информации и пивных не прекращались дискуссии о тактике и стратегии. Точки зрения разнились: от предложения занять выжидательную позицию через агитацию в пользу тех или иных форм пассивного сопротивления до попыток малочисленных радикальных группировок левых активистов создать эмбрионы подпольных ячеек «прямого действия». В эту дискуссию оказались с неизбежностью вовлечены и два виднейших интеллектуала: романист Милан Кундера и его бывший протеже Вацлав Гавел. В декабрьском сдвоенном номере журнала «Листы» за 1968 год Кундера опубликовал в качестве своего рода рождественского подарка народу статью «Чешская доля», проливая целительный бальзам на его свежие раны и ободряя его на будущее. Кундера был убежден, что «значение чехословацкой осени, возможно, еще больше, чем значение чехословацкой весны»[252]. По его мнению, идея Пражской весны по построению социализма с человеческим лицом являла собой непреходящую ценность, благодаря которой «чехи и словаки впервые с конца Средневековья вновь очутились в центре мировой истории»[253]. Более спорным был тезис Кундеры, что политика Пражской весны «выстояла в этом страшном конфликте. Хотя и дала задний ход, но не развалилась, не рухнула»[254]. Осудив пораженчество, выдаваемое за критичность, Кундера призывал продолжать курс на единение народа в защиту идеи социализма с человеческим лицом. В конце концов, спрашивал он, «разве степень относительной определенности для всех не зависит именно от того, сколько людей осмелится стоять на своем в ситуации полной неопределенности?»[255].
Ответ Гавела спустя месяц ошеломил многих откровенно неодобрительным, едва ли не враждебным тоном, в каком он обрушился на утверждения Кундеры. «Всякий раз, когда чешскому патриоту недостает смелости… взглянуть в лицо суровому, но открытому настоящему, отдать себе отчет во всех его проблематичных аспектах и сделать из этого беспощадно необходимые выводы, хотя бы даже затрагивающие собственные ряды, он обращается к лучшему, но пройденному уже прошлому, когда все были едины…»[256] Для Гавела декларируемое национальное единство под флагом социализма с человеческим лицом было лишь химерой, и не имело никакого смысла защищать свои убеждения, не обладая способностью «продемонстрировать свою позицию в том числе и конкретным и небезопасным действием»[257]. Гавел не разделял тезис о мифической «чешской доле», подчеркивая момент выбора. «Наша судьба зависит от нас. Мир состоит <…> не из глупых больших держав, которые могут все, и умных малых народов, которые не могут ничего»[258].
Самым важным, однако, было то, что он усомнился в ценности самой идеи Пражской весны. Ему казалось «напыщенной иллюзией» считать, что попытка закрепить такие права человека, как свобода слова, то есть «нечто такое, что в большей части цивилизованного мира абсолютно естественно»[259], ставит нацию в центр истории. Если Кундера усматривал в Пражской весне опыт создания чего-то принципиально нового, что никогда ранее не существовало, то Гавел оценивал ее более трезво – как попытку вернуться к нормальному положению дел. В этом он явно опирался на наследие реалистической школы чешской исторической мысли, олицетворяемой Томашем Гарригом Масариком, – в противовес романтическому образу высоконравственного, но преследуемого неудачами малого народа, веками зажатого между сильными соседями. Гавел не был готов провозглашать какую-либо специфически чешскую или чехословацкую долю, видя в ней особое достоинство или проклятие. Он предостерегал от «провинциального мессианизма»[260] и утверждал, что к чешскому народу следует подходить с теми же мерками, что и ко всему остальному цивилизованному миру. Как для Масарика, так и для него «чешский вопрос – это либо вопрос глобальный, либо вовсе не вопрос»[261].
Противоборству между этими двумя трактовками событий 1968 года, с одной стороны, как благородного опыта исправления изъянов коммунизма и построения в корне иного типа социализма, а с другой – как неудавшейся попытки демонтировать неработающую систему, первая из которых искала опору в «лучшем, но уже оставшемся позади прошлом», а вторая обращалась к «суровому, но открытому настоящему», суждено было продлиться следующие два десятилетия, пока вопрос не был наконец разрешен в пользу Гавела в ходе Бархатной революции. Кундера прекратил дискуссию на десять лет раньше.
Но, как ни важно было расхождение во взглядах этих двоих близких друг другу – интеллектуально, а одно время и по социальной позиции – деятелей, оно не позволяет до конца объяснить ожесточенность обмена мнениями между ними, особенно в случае таких обычно вежливых и мягких людей, как Гавел и Кундера. За этим должно было стоять нечто большее, будь то нравственный протест Гавела, усиленный жертвенной гибелью Палаха, сохранявшиеся у него сомнения в мужестве старшего коллеги, возникшие после отказа Кундеры подписать петицию в защиту журнала «Тварж», или сомнения в его решимости и стойкости. Когда Кундера в 1972-м отказался также подписать петицию с требованием освободить политических заключенных, подписи под которой собирал среди коллег Гавел, и в тот же год, когда Гавел писал свое письмо Гусаку, в конце концов покинул Чехословакию, чтобы продолжать без помех писать романы и скорбеть о гибели культуры в Центральной Европе[262], у Гавела могло появиться вполне простительное чувство, что его сомнения были небеспочвенны. Особенно ему претил «часто повторяемый тезис о здешнем кладбище культуры: каковы бы мы ни были, мертвецами мы себя не считаем»[263]. Вместе с тем Кундера из своей парижской перспективы имел больше шансов заметить, что гибель культуры в традиционном смысле слова можно было точно так же отнести на счет культурного варварства тоталитарного режима, как и на счет упадка ее роли на свободном Западе. Гавел это открытие сделал лишь много времени спустя. Так или иначе, но спор между ними привел к размолвке, которая была ощутима и через двадцать лет. По-видимому, более глубокую обиду затаил Кундера, тогда как Гавел, в свойственной ему манере, предпочел не возвращаться к этому эпизоду. Он сделал несколько отчасти успешных попыток восстановить прежние отношения и – что, вероятно, было важнее – после 1989 года старался помочь теперь уже мировой знаменитости восстановить отношения с его родиной. Когда Кундера стал объектом публичного разбирательства в связи с подозрением, что он якобы донес в Корпус национальной безопасности на эмигранта, нелегально прибывшего в Чехословакию в качестве американского агента[264], Гавел без колебаний так же публично вступился за коллегу[265].
Однако в начале 1969 года у него были другие проблемы. 21 января он сообщил в органы безопасности, что случайно обнаружил на потолке в своей квартире подслушивающее устройство, обслуживание которого и его мониторинг велись с чердака. Ничуть не удивительно, что расследование этого дела ни к чему не привело. Стараясь вызвать как можно более громкий общественный резонанс, Гавел заставил Союз писателей и нескольких членов Федерального собрания, которые тогда еще демонстрировали какую-то независимость, подать заявление на имя генерального прокурора с протестом против этих незаконных методов, и ему даже удалось получить уклончивое признание министерства внутренних дел, что прослушка действительно имела место. Сам Гавел в красках живописал случившееся[266]. При этом, хотя подслушивающее устройство было настоящее, он, конечно, умолчал о том, что инсценировал свое шокирующее открытие, так как на самом деле узнал о нем раньше от одного из друзей, а тот – от симпатизирующего им офицера госбезопасности[267].
Вскоре после этого Гавел уединился в Градечке, который стал его излюбленным местом работы и отдыха. Ему недоставало друзей. Радок принял предложение занять место режиссера в Гётеборге, вначале на один сезон, а потом – на всю оставшуюся жизнь. Милош Форман решил попытать счастья в качестве кинорежиссера в Америке. Даже брат Иван отбыл в докторантуру университета Беркли в Калифорнии. В январе 1969 года и Вацлав собирался воспользоваться стипендией фонда Форда, чтобы провести с Ольгой полгода в США, но из «сумасбродного убеждения», что дома без него никак не обойтись, перенес свои планы на сентябрь. К этому времени, однако, его уже лишили заграничного паспорта. Точно так же он потерял работу, уйдя из театра «На Забрадли» раньше, чем его успели уволить.
С приближением первой годовщины даты, оставившей скорбный след в истории, Гавел написал письмо Дубчеку, который в то время уже был не руководителем компартии, а декоративным главой тогдашнего марионеточного парламента – Федерального собрания. Поскольку Гавел не без оснований опасался, что близок тот день, когда компартия Чехословакии примет оправдывающую вооруженное вмешательство советскую интерпретацию Пражской весны как попытки контрреволюционного переворота, он призвал бывшего лидера не скреплять этот позорный акт своим согласием – ведь этим он отказался и отрекся бы от всего, на чем стоял. Гавел не питал ни малейших иллюзий насчет того, что несогласие Дубчека могло помешать такому акту, но был убежден, что это единственный способ, который позволит сохранить самоуважение не только Дубчеку, но и всему народу. Впервые – но далеко не в последний раз – он вспомнил в этой связи позор мюнхенского диктата и последовавшую за ним капитуляцию президента Бенеша и его правительства. В отличие от многих реформаторов, которые объясняли сдачу позиций и все более серьезные уступки стремлением спасти хотя бы что-то от реформ, Гавел недвусмысленно заявил: «Чехословацкий опыт реформы потерпел поражение. Тем более нельзя допустить, чтобы поражение потерпела правда этого опыта, его идея»[268].
Вера Гавела в очищающую, энергетическую роль чисто нравственной личной позиции может казаться несколько наивной. Но эта убежденность и позже вдохновляла его и – как он сам понял семнадцать лет спустя, когда наткнулся на это письмо, – также и других: «Там, где я пишу, что и чисто нравственный поступок, неспособный претендовать на немедленный и заметный политический эффект, может со временем и косвенно получить политическую оценку, я к собственному удивлению нашел ту же мысль, которая <…> стояла у истоков “Хартии-77”»[269]. Прочел Дубчек письмо драматурга, которого до того видел только раз в жизни, да и то в подпитии, или нет, но он нашел в себе силы не признаваться в ереси и защищать политику Пражской весны как честную и продиктованную самыми искренними побуждениями попытку придать социализму человеческое лицо. Из партии его вскоре исключили, и – после неожиданного назначения на короткое время послом в Турцию, куда нормализаторы отправили его, вероятно, в надежде, что он попросит убежища на Западе и тем самым подтвердит свою вину, – следующие двадцать лет провел большей частью в полном уединении под неусыпным надзором органов безопасности.
В годовщину вторжения Гавел присоединился к еще одному протесту, инициатором которого на сей раз был не он. Петицию «Десять пунктов» придумал Людек Пахман, блестящий, хотя и немного эксцентричный гроссмейстер и признанный шахматный теоретик, который в это время переживал трансформацию из радикального коммуниста в верного католика. Окончательную форму ей придал, вопреки «страшному нежеланию»[270], Людвик Вацулик – после речи на съезде писателей и манифеста «2000 слов» известный бунтарь. В петиции осуждалось вторжение как нарушение международного права и выдвигалось требование вывода оккупационных войск. Подвергались критике чистки, проводимые в партии и в государственной администрации, и осуждалось восстановление цензуры. Но что самое важное, в ней содержался отказ от автоматического признания руководящей роли коммунистической партии и утверждалось право на выражение несогласия как «извечное естественное право человека». Гавела, уже довольно давно полагавшего, что «трезвое упорство действеннее, нежели восторженные эмоции»[271], несколько отталкивал радикальный и одновременно легкомысленный тон документа, который ему «тогда даже не очень хотелось подписывать»[272], тем не менее он поставил под ним свою подпись вместе с десятью другими, среди которых были член Чешского национального совета Рудольф Баттек и легендарный олимпийский чемпион Эмил Затопек[273]. Подписанты действовали в строгом соответствии с «правом на петиции», гарантированным чехословацкой конституцией, хотя ожидали, что власти отнесутся к этому иначе. По-видимому, их кто-то выдал, так как за ними следили. Квартира Пахмана находилась под наблюдением уже за несколько дней до 21 августа, когда петиция была вручена. Самого его задержали на следующий день. Через пару недель Гавела и остальных подписантов обвинили в подрывной деятельности против республики.
Следствие продолжалось целый год. Пахман, а также Баттек и историк Ян Тесарж почти все это время провели в заключении. В конце концов всем предъявили обвинение в подрывных действиях против республики в составе организованной группы, за что полагалось до десяти лет тюрьмы. Однако эта туча не пролилась дождем. Городской суд Праги вернул дело в прокуратуру ввиду недостаточности доказательств и назначил слушания, только когда соответствующее решение принял Верховный суд[274]. За день до начала процесса Гавел и остальные получили лаконичное уведомление о том, что процесс откладывается, без указания новой даты и какого-либо разъяснения. Уведомление это подписал председатель Сената суда Антонин Кашпар[275]. Дело «Десяти пунктов» так и не было передано в суд. В последний раз его отложили в 1980 году, когда Гавел отбывал четыре с половиной года за членство в Комитете защиты противоправно преследуемых. Судьей, который вынес приговор по этому делу, был не кто иной, как Антонин Кашпар. Своего виновного он все-таки посадил!
По словам одного из подписантов, Яна Тесаржа, вся эта история с «Десятью пунктами» была самоубийственной акцией. Однако в Гавеле ничто не выдавало самоубийцу: роль героя ему претила так же, как и роль мученика. И на него тоже накатила «всеобщая ментальная усталость (…) ощущение, что все уже сказано, написано, сыграно, снято и выставлено, так что последующее теряет смысл»[276]. Когда сопротивление выдохлось, а чистки пошли полным ходом, он изменил образ жизни. После того как Иван вернулся из Беркли и обосновался с женой Кветой в квартире на набережной, Гавел оставил это «странное временное жилье» и переехал вместе с Ольгой в кооперативную квартиру в новостройке в Малых Дейвицах, чтобы наконец-то «зажить своим домом». Квартиру, которая шесть лет спустя вошла в историю, он так никогда и не полюбил. Время от времени он восставал против мебельного гарнитура, который они с Ольгой купили, в квартире во время своих регулярных поездок в Прагу ночевал, а иногда пускал туда друзей. Но в остальном, подвергаясь нарастающему давлению и остракизму, он удалился с Ольгой во «внутреннюю эмиграцию» в Градечек, где писал, читал, иногда гулял, иногда готовил[277]. Уменьшилась и его семья. Мать Божена Гавлова умерла 11 декабря 1970 года от рака пищевода. В сохранившихся письмах того времени Гавел только один раз упоминает о ее смерти, когда благодарит верного Иржи Кубену-Паукерта за то, что он выступил с прощальным словом на ее похоронах[278]. Гораздо тяжелее перенес смерть Божены ее муж: по совету врачей он провел остаток года в больнице, а потом Вацлав с Ольгой отвезли его в Градечек, где окружили «папочку», как они его любовно называли, максимальной физической и душевной заботой.
Внешний вид Гавела тоже заметно изменился. Если еще за год до этого он, несмотря на длинные волосы и модную одежду, все еще походил на откормленного толстячка, то сейчас он выглядел изрядно похудевшим и каким-то рисковым: отпустил усы и научился придавать лицу несколько бесшабашное выражение. Просто хват! Да он теперь и был хватом, который полагался лишь на самого себя.
Гостиница в горах
Правила проживания в гостинице обязательны для всех.
В апреле 1969 года Гавел, не питавший никаких иллюзий в отношении ближайшего будущего, сделал наблюдение, которое определило его жизнь в последующие пять лет: «Всякий раз, когда у нас возникает ощущение, что терпят крах некие ценности, на которые мы опирались, и что мы теряем возможность влиять на ситуацию вокруг себя и самореализоваться в обществе, мы тут же в большей степени, чем когда-либо до этого, обращаемся к своим друзьям. Тесное “пространство”, очерченное дружбой, всякий раз еще позволяет нам свободно самовыражаться, свободно делиться своими мыслями и плодами своих усилий, сохранять кое-что из своего стиля жизни, свой образ мыслей, свою речь, свой юмор – просто быть самими собой»[279].
Годом позже Чехословакия уже погрузилась в долгую ночь небытия и безнадежности. Людям, не пережившим здесь первую половину семидесятых годов, трудно представить себе уныние и апатию, напоминающие состояние полусна после наркоза. Подавление Пражской весны не имело обличья безудержного террора, как в первые дни повторного взятия Советами Будапешта в 1956 году, и не приняло форму постепенной либерализации, как в той же Венгрии последующих лет. Это было нечто среднее.
Угнетение имело на самом деле гигантский размах, хотя его сила, не считая отдельных исключений, не была смертоносной. Десятки людей были отправлены в тюрьмы. Десятки тысяч покинули страну, часто навсегда, чтобы начать новую жизнь в другом месте. Среди них были и друзья Гавела: Альфред Радок, Милош Форман, Вера Лингартова. Более 300 000 человек исключили из коммунистической партии – даже не столько за то, что они поддерживали либеральные реформы, сколько потому, что они не могли или не хотели признаться в грехах и пройти унизительную процедуру публичного покаяния.
«Нормализация», как эвфемистически именовалась официально эта стратегия, до тошноты восхваляемая средствами массовой информации, которые находились под контролем восстановленной цензуры, создавала впечатление, что жизнь в стране внешне «нормальна». Люди ходили на работу, а вечером смотрели телевизор, дети рождались, поезда ездили более или менее по расписанию.
Под этой кожурой, однако, всякая общественная жизнь замерла. На смену брожению, какое еще два года назад наблюдалось во всех средствах массовой информации, пришла повторяемая до бесконечности отупляющая болтовня. Все независимые организации и общества были распущены, всякая независимая мысль отвергалась. Из учебников изгонялось все, что хоть как-то расходилось с официальной линией или демонстрировало проблески творческого духа и оригинальности, которые отныне считались смертными грехами. Бульдозеры стирали с лица земли исполненные очарования старинные уголки и центральные кварталы малых городов, расчищая место для гигантских микрорайонов, где можно было без особых затрат поселить большое количество людей, следить за ними и заставить их самих следить друг за другом. Поездки за границу были сокращены до минимума и доступны лишь немногим избранным; выездная виза нужна была даже для путешествия в якобы социалистическую Югославию, а для посещения братского Советского Союза требовалось приглашение.
Понятно, что люди старались чем-то заполнить этот вакуум общественной жизни. Показательным симптомом стало повальное увлечение дачами – непреодолимое желание иметь свой дом где-нибудь в деревне, где можно укрыться с семьей и с друзьями и проводить там выходные, занимаясь нелегкой, но – в отличие от текучки будней – осмысленной работой по благоустройству дома и сада. Еще одним симптомом были, например, переполненные пивные и винные бары, где вечерами мужчины и женщины могли попивать дешевое, но при этом отличное пиво или дешевое, но ужасное вино. Характерным признаком времени являлась и изрядная сексуальная свобода, по крайней мере по сравнению с семидесятыми годами на Западе. Различные комбинации этих трех факторов выливались в бесконечные вечеринки и создание неформальных структур, имплицитная цель которых состояла в том, чтобы убивать время настолько бессмысленно и приятно, насколько это было возможно. Имелся ряд хорошо известных распивочных и ночных притонов, таких как, например, пражский «Юниор клуб» вблизи от дома Гавела, где всегда можно было найти себе собутыльника или подцепить девицу. Писатель Иржи Муха, сын художника Альфонса Мухи, при содействии своей любовницы Марты Кадлечиковой содержал у себя дома «салон», куда Гавел время от времени заглядывал. Об этом салоне ходили смачные и в какой-то мере небеспочвенные слухи, будто это место, где устраивают сексуальные оргии и плетут политические интриги. Существовало так называемое Общество под председательством рок-н-ролльного певца Павла Бобека, титулуемого Нано Маджоре Препотенте, в задачи которого входило, с одной стороны, ведение собственной хроники на итальянском языке, хотя никто из пишущих его не знал, а с другой – транспортировка в выходные на дачи членов общества и поселение их друзей с подружками, совокупно именуемыми «вспомогательными сменными женскими кадрами». Существовал Клуб любителей полетов на воздушном шаре, где некоторые действительно летали на воздушных шарах, но гораздо больше в нем было таких (среди них и Вацлав Гавел), кто просто посещал ежегодный бал Клуба. По-видимому, старейшим, наиболее известным и самым хитроумным из этих обществ был клуб художников, кинематографистов и спортсменов под названием «Палитра Родины». В число разнообразных форм его деятельности входили и ежегодный бал с обязательными фраками для мужчин и длинными вечерними платьями для женщин, и содержание собственной хоккейной команды и организуемое раз в год «Ралли Монте Родина». В 1971 году среди участников этих гонок был и некий водитель «мерседеса» с усиками, в темных очках и мексиканском сомбреро, которым при ближайшем рассмотрении оказался Вацлав Гавел.
Было не слишком трудно усвоить этот стиль жизни, превратив его в постоянный способ существования. Некоторые так и сделали – часто с непоправимыми последствиями. Среди таких были и друзья Гавела: кинорежиссер Павел Юрачек и художник Йозеф Вылетял, не дотянувшие и до пятидесяти.
Однако для основной массы людей такое расслабление оставалось самое большее временной мерой, не способной скрасить безнадежную ситуацию, ибо оно не сулило никаких изменений к лучшему. Казалось, что так будет всегда, что люди так и будут ходить с одной вечеринки на другую, напиваться все в той же компании, спать с кем-то совсем чужим, а наутро просыпаться со смешанными чувствами: от тихого безразличия – через вялое отвращение – до глубочайшей тоски.
Платить за такой образ жизни приходилось в валюте уважения к себе и другим, включая старых друзей, и цена была довольно высокой. В конце 1971 года Гавел с Яном Немецем (с которым он написал сценарий к фильму Heartbeat), Юрачеком и Вылетялом принялись устраивать регулярные обходы ночных заведений под придуманным Гавелом названием «свободные четверги». Обернулась эта затея плохо: Немец, которого изрядно выбил из колеи развод с женой Мартой Кубишовой, вместе с Павлом Ландовским украли (или, с их точки зрения, взяли напрокат) дорогой «мерседес» Гавела, после чего несколько дней изводили владельца, отказываясь вернуть ему автомобиль. Весь этот розыгрыш кончился взаимными оскорблениями и пьяными потасовками[280]. В другой раз в салоне Мухи Ландовский, который по-прежнему работал и пользовался успехом у зрителей, обвинил уже запрещенных Гавела и Юрачека в том, что они сами навлекли на себя все беды, а теперь изображают мучеников[281]. Кайзер здесь ссылается на довольно сомнительное свидетельство органов госбезопасности, согласно которому агрессивно повел себя на какой-то вечеринке Юрачек, якобы обвинивший Гавела в эксгибиционизме и в безразличии к тому, как скажется его деятельность на жизни сограждан[282].
В первой половине семидесятых годов Вацлав Гавел находился в идеальной ситуации, будучи одновременно создателем и наблюдателем такого образа жизни. Участвуя в бесчисленных вечеринках, из которых часть проводилась в упомянутых выше местах, а многие другие – в его новом доме в деревне, он, однако, не поддавался саморазрушительной тяге напиваться до потери сознания. Так как гонениям в то время подвергались прежде всего бывшие коммунисты, к которым он никогда не принадлежал, власти – хотя и объявили его врагом социализма, сделали изгоем, часто вели за ним слежку и вызывали на «десятки допросов»[283] – тем не менее его не арестовывали и напрямую не преследовали. При этом, разумеется, ни в одном театре страны не могли идти его пьесы, а сочинения были изъяты из публичных библиотек. Его (в соавторстве с Немецем) киносценарий к мрачной драме Heartbeat[284] о пересадках сердца, которые призваны спасать человеческие жизни, но в безнравственном мире приводят к оргиям со смертельным исходом, написанный на основе их же текстов к книжному изданию комикса[285], по-видимому, предназначался для зарубежных съемок, которым так и не суждено было состояться. Это произведение нельзя назвать шедевром; вклад Гавела читатель может найти в нем лишь местами – в остальном он явно перекрыт совместными мазками обоих сценаристов. Гавел отныне нигде официально не работал, однако благодаря регулярным отчислениям за постановки его пьес за границей от издательства «Ровольт», о которых очень расторопно заботились немецкие литературные агенты, он мог в ближайшем будущем жить вполне комфортно. Переезд в Градечек позволил ему в значительной степени избавиться от докучливого контроля органов безопасности, а также вырваться из тягостной пражской атмосферы. Дом они с Ольгой обустроили (снабдив его такими достижениями прогресса, как горячая вода и центральное отопление), оборудовали там несколько комнат, кабинет для драматурга с видом на небольшой цветник в саду – и затем распахнули его двери перед друзьями и знакомыми. Поступления из-за границы дали Гавелу возможность не только приобрести «мерседес», но и покупать недоступные остальным деликатесы и напитки в «Тузексе»[286], которыми он щедро делился со своими гостями[287]. О достижениях коммунизма многое говорит тот факт, что среди экзотических товаров, которые покупал Гавел, были, например, кетчуп и зубная паста[288]. Часть доходов в валюте он пустил на покупку дорогого музыкального центра, который обеспечивал вечеринки музыкальным сопровождением. Кстати о музыке: вкусы Гавела в те годы – пока он не соприкоснулся с андеграундом – колебались между кантри Джонни Кэша[289] и несколько сентиментальной поп-музыкой Берта Бакарака[290]. Поскольку по политическим причинам его в то время лучше было избегать и многие из его бывших друзей это охотно делали, естественный отбор превратил группу людей, собиравшихся в его доме, в очень сплоченную и верную компанию. И все равно число гостей иногда выходило за рамки приемлемого, и Гавелу приходилось писать друзьям строки, которые трудно было назвать искренними приглашениями: «В каникулы… здесь… ежеминутно какие-то мои пражские друзья, сплошные пьяницы…»[291]
Частые дружеские сборища, кроме прочего, давали Гавелу повод предаваться своему кулинарному хобби. Как и ко всему остальному, он подходил к нему со всей серьезностью и преданностью делу – осваивал приемы, обменивался рецептами и просил уехавших друзей посылать ему из эмиграции недоступные на чешском рынке ингредиенты[292]. В целом Гавел предпочитал испытанным и привычным рецептам эксперименты, иногда с неоднозначными последствиями. Павел Когоут, который разделял кулинарные увлечения Гавела, вспоминает, как в доме Когоута на Сазаве они попытались повторить роскошное блюдо из романа Богумила Грабала «Я обслуживал английского короля» – запеченного верблюда с четверной начинкой. Но поскольку в плохо снабжаемых чешских магазинах верблюда или хотя бы козла было не достать, им пришлось удовольствоваться индюком, начиненным уткой, начиненной цыпленком. Только попробовать свое творение им не довелось: измученные всеми этими начинками, они вышли на улицу покурить, оставив готовое блюдо остывать, а когда вернулись, увидели, что раньше них устроили себе пиршество собаки[293]. Однако наряду с подобными развлечениями Гавел в то время занимался и более серьезными делами. Летом 1970 года вместе с Ладиславом Дворжаком (автором идеи), Зденеком Урбанком, Йозефом Вогризком и Иржи Кубеной он пытался основать постоянно действующий «кружок по переписке» как инструмент коллективной рефлексии в эпоху, которая не давала для такого рода деятельности никаких публичных возможностей[294]. Это начинание, по всей видимости, зачахло на корню.
Более плодотворными были личные встречи. Многие из гостивших в Градечке были собратьями Гавела по перу. С одной стороны, это были давние друзья Гавела пятидесятых и шестидесятых годов, инакомыслящие писатели и поэты Зденек Урбанек, Йозеф Гиршал и Ян Владислав: стол из кафе «Славия» на лето словно переезжал в деревню. Ежегодно паломничество в Градечек совершали и друзья Гавела не из Праги: Йозеф Топол, Иржи Кубена и Йозеф Шафаржик. Другие посетители были из «свежевычищенных» рядов коммунистов-антидогматиков: к таким относились Павел Когоут, Людвик Вацулик, Александр Климент или Иван Клима[295]. Как и все писатели, они тоже нуждались в читателях и потому читали свои произведения друг другу: это была небольшая, но важная компенсация их исключенности из публичной жизни. Красочные, остроумные и трогательные записи в любовно сберегаемых гостевых книгах в Градечке, значительная часть которых пережила обыски и изъятие тайной полицией, но потом, к сожалению, пала жертвой постреволюционной сумятицы, переездов и смены спутниц жизни, свидетельствовали о высоком уровне коллективного духа и высокой концентрации талантов.
Тем не менее семидесятые годы, как характеризовал их Гавел словами Джона Леннона, были «дерьмовые»[296]. Его с друзьями не покидало чувство, что они «в каком-то смысле варились в собственном соку»[297]. «Лично у меня первая половина семидесятых годов сливается в одну бесформенную туманность, и я уже не мог бы сказать, чем отличался, например, 1972 год от 1973-го и что я сам в тот или иной год делал»[298].
Но, чтобы он ни делал, мы знаем, что он продолжал писать, пусть это приносило ему не слишком много радости или удовлетворения. В сущности, Гавел был очень плодовитым писателем, хотя сочинительство никогда не давалось ему легко и безболезненно. Его режим, который он нарушал крайне редко, даже когда Градечек был полон гостей, был таков: после обеда он читал, размышлял, а потом до поздней ночи писал, после чего спал, охраняемый Ольгой, почти до обеда, предоставляя гостям самим о себе позаботиться.
Обычно он писал пьесу несколько недель, иногда всего несколько дней, имея в виду определенный театр, а часто и определенных актеров. Теперь он столкнулся с тем, что годами придумывает, пишет и дорабатывает пьесы, не представляя себе конкретную публику, а то и вообще какую бы то ни было публику. «Пьесу, которая пишется для некоего абстрактного зрителя где угодно и “для вечности”, часто не понимают нигде – и в особенности как раз истории она не интересна»[299]. Утрата контакта с театром и публикой, по-видимому, сыграла существенную роль в том, что его творческий процесс замедлился.
Несмотря на то что Гавел устроил свою обитель так, чтобы там было все необходимое для жизни и для работы, жилось ему в ней непросто. «Мне тяжело работается, тяжело пишется, потому что я просто такой социабельный тип, совершенно не приспособленный к тому, чтобы годами жить в уединении, пускай и относительно обеспеченно. Нет, это не удручает меня настолько, чтобы я бродил вокруг дома, глядя на мир печальными глазами побитой собаки…»[300] И тем не менее! Проблемы с творчеством крылись даже не столько в изоляции автора, сколько в обморочном состоянии общества, которое не могло прийти в себя после шока, вызванного вторжением, и его окончательно добивало то, что за этим последовало. «Скорее уже не смеяться – кричать вдруг хотелось»[301]. Гавел понимал, что нужен другой подход, чтобы описать эту атмосферу. Рискуя, что ситуация поглотит его так же, как многих в его окружении, он пытался отстраниться от нее в своих пьесах. Если «Праздник в саду», «Уведомление» и «Трудно сосредоточиться», несмотря на всю их абстрактность, несли на себе отчетливую печать тогдашнего чехословацкого общества, то действие следующих трех пьес Гавела – «Заговорщики», «Опера нищих» и «Гостиница в горах» – разворачивается на первый взгляд где угодно еще, но только не в Чехословакии.
В пьесе «Заговорщики» – Гавел начал писать ее в 1970-м, переделал в начале 1971-го и завершил в конце того же года – автор ставил перед собой масштабные цели: он явно старался создать метафору развития в человеке подозрительности и мании преследования, которые заставляют направить полумилионную армию, тысячи танков и сотни самолетов на подавление чего-то такого, что было, самое большее, слабой попыткой исправить самые вопиющие изъяны системы, а затем вынуждают многих недавних реформаторов участвовать в чистках и преследовании своих бывших товарищей и сограждан, чтобы спасти свою жизнь в политике. Первоначальная идея, бесспорно, вызвана отталкивающим зрелищем политического монстра, который сам себя пожирает; это зрелище тогда можно было наблюдать по всей стране.
В пьесе выведена группа опытных игроков в стране неокрепшей демократии, только что избавившейся от многолетнего диктатора, которые делятся чувством неуверенности и опасениями, вселяя их друг в друга. Руководствуясь, по всей видимости, лучшими побуждениями, они дискутируют о том, как укрепить молодую демократию и отстоять завоеванную недавно свободу. По мере развития действия каждый из них, однако, начинает сомневаться в отведенной ему роли и проникаться подозрениями относительно роли и мотивов других. Чем тревожнее звучат их речи об угрозах демократической власти и заговорах против нее, тем более заговорщицкими становятся их рассуждения о том, как это предотвратить. Или наоборот: чем более заговорщицкими становятся их рассуждения, тем тревожнее звучат их речи об угрозах и заговорах. В конце концов, обманув и предав друг друга, они в финале обращаются за спасением к единственному из действующих лиц, кто может надежно подавить все угрозы, помешать хаосу и восстановить стабильность, а именно – к бывшему диктатору.
С точки зрения атмосферы эпохи характерно, что, хотя пьеса изобилует кафкианским абсурдом, в ней, в отличие от ее предшественниц, большей частью отсутствует присущий Гавелу абсурдный игривый юмор. Некоторые приемы, к каким Гавел часто прибегал (например, использование булавки в качестве орудия пытки), здесь выглядят механическими и искусственными. Кольцевая композиция пьесы совершенно предсказуема и позволяет угадать финал задолго до развязки пьесы.
У «Заговорщиков» нашлось не слишком много поклонников, да и сам Гавел критически оценивал эту свою пьесу, называя ее «цыпленком, который чересчур долго жарился»[302]. Но причины признаваемой автором неудачи могли быть и несколько иные, нежели просто затянутая интрига. Гавел здесь стремится показать противоречие между декларируемыми политическими целями и методами, используемыми для их достижения, что в конце концов приводит к ситуации plus ça change…[303] Отчасти эта модель могла быть отнесена к событиям 1968 года, но вообще говоря, – к любой попытке осуществить политические изменения сверху. Однако в 1971 году, когда Гавел закончил пьесу, изменения были далеко не первым, что приходило на ум. Чехословакия вступала в период длительного паралича. Изменения, даже максимально неполитические и невинные, толковались как подрывающие устои. До сих пор все пьесы Гавела были так или иначе о неудавшемся бунтарстве, опыте реформ и попытках перемен. Теперь он должен был учиться писать о неизменности.
Как всегда, Гавел одинаково вдумчиво относился к тому, чего он хотел достичь, и к тому, почему это ему не удалось, месяцами пытаясь преодолеть возникшее несоответствие. Зримым отражением такой внутренней борьбы стал сорокастраничный комментарий к «Заговорщикам», написанный в сентябре 1972 года по просьбе из-за границы[304] в качестве руководства для будущих постановщиков («они там от этой пьесы в растерянности, не знают толком, что о ней думать, и кажется, она им не особенно нравится»[305]), но, по всей видимости, это была вместе с тем и попытка автора прояснить для самого себя, чего он, собственно, добивался. Возможно, это было исключительное для Гавела отступление от правила, что произведение должно быть всегда несколько «умнее»[306] сочинителя. В конце концов, скорее именно этот комментарий, а не сама пьеса, проливает свет на развитие политического мышления Гавела и объясняет его неизменное недоверие к политике, которое сопровождало его и на высшем посту. Это в равной степени комментарий к пьесе и некая декларация принципов антиполитики.
Несмотря на то, что первоначальный замысел был навеян событиями Пражской весны и их последствиями, склонность Гавела к абстрактному мышлению подвела его к тому, что он распространил свои выводы на любую политику, включая демократическую. В итоге как пьеса, так и комментарий рассказывают не о том, «что произошло на родине Гавела после отставки Дубчека и прихода к власти Гусака с его программой нормализации»[307], а о том, что происходит с современным человеком, которому угрожает потеря своего «я», как на Востоке, так и на Западе. О процессе «выявления зла»[308] в диалогах персонажей. «Что бы ни говорили наши герои, правы они или ошибаются, верят в то, что говорят, или не верят, их реплики объединяет одно: все они без исключения экзистенциально не обеспечены, выглядят довольно пустыми, дутыми, слишком абстрактными, при всей их кажущейся убедительности и логичности вновь и вновь заставляют задаться вопросом, насколько правдивыми, подлинными, обязывающими они являются»[309].
Общий характер рассуждений Гавела при отсутствии сколько-нибудь заметного соотнесения реальных событий в Чехословакии с интригой пьесы свидетельствует о более сложной авторской сверхзадаче: диагностировать кризис идентичности как главную «метафизическую болезнь»[310] современного человечества и достигнуть этого посредствам деконструкции политического языка:
Присмотримся внимательнее к тем политическим декларациям и дискуссиям, из которых состоит бо́льшая часть диалогов: они не такие глупые, чтобы вызывать неудержимые приступы смеха, так что их едва ли можно считать простой пародией на болтовню политиков. В то же время это и не настолько умные речи, чтобы поразить читателя новизной изрекаемых в них истин… В них говорится о вещах, которые хотя и не лишены рационального зерна, так что нельзя однозначно утверждать, будто они не могут отражать при известных условиях определенные аспекты действительности, но вместе с тем оставляют неизбывное ощущение, что мы их уже тысячекратно слышали – в подходящих и неподходящих обстоятельствах – и что они даже при самом большом желании говорящих не способны нас в чем-либо по-настоящему убедить или чем-то увлечь. Все это «в чем-то правда», но в то же время «в чем-то ложь». В сущности все это порядком банально. А главное, все произносимое может быть правдой, но не обязательно ею является… все это слишком общо… чтобы мы могли с этим однозначно согласиться или не согласиться.
Думаю, после всего сказанного уже более или менее ясно, почему это так: все это истины, которые перестали быть правдой человека, чьей-то правдой, которые не являются результатом подлинного человеческого познания и человеческого опыта, а потому они экзистенциально не обеспечены надежностью и идентичностью их носителей и решимостью последних отстаивать их даже тогда, когда они вступают в противоречие с сиюминутными интересами[311].
Итак, эта пьеса Гавела не оставила заметного следа, а ее постановки были приняты в лучшем случаем вежливыми аплодисментами. Однако сопутствующие политические наблюдения в комментарии к ней стали основополагающими для развития Гавела как политика. Их ядром было определенное недоверие к политике и политикам – всем, включая его самого[312].
Отсутствие широкого отклика на «Заговорщиков» и неудовлетворенность самого Гавела этой пьесой, как уже было сказано, по меньшей мере отчасти проистекали из того факта, что впервые в своей творческой биографии он не мог проверить свой замысел и отшлифовать его в контакте со зрителями. Это, кроме всего прочего, показывает, какую важную роль в его жизни и творчестве играл диалогический метод – применял ли он его в пьесах, в книгах, построенных в форме диалога («Заочный допрос», «Пожалуйста, коротко») либо создававшихся как диалог («Летние размышления»), или же в обширной переписке, которую он часто вел в сложных условиях («Письма Ольге», корреспонденция Гавел – Паукерт/Кубена, Гавел – Радок, Гавел – Яноух и Гавел – Пречан). Это также позволяет объяснить, почему его уверенность в себе и творческие способности отчасти убавлялись, когда он был в значительной степени лишен такого контакта (как в первой половине семидесятых годов) или когда между ним, его друзьями и зрителями возводили барьеры политические органы.
В итоге Гавел с мрачной решимостью взялся сочинять пьесу, в которой не происходит вообще ничего. «Экзистенциалистское дадá»[313] под названием «Гостиница в горах» он писал пять лет и закончил только в 1976 году, перед этим несколько раз откладывая, переписывая, опять откладывая и вновь переписывая пьесу; потом еще пять лет он дожидался, большей частью в тюрьме, ее премьеры в венском «Бургтеатре» и еще десять лет – первой постановки на чешской сцене. Порядка двенадцати действующих лиц в саду некоей фешенебельной гостиницы в горах ведут на протяжении пяти действий непересекающиеся разговоры, вспоминают о событиях и встречах, которых никогда не было, одалживают друг у друга реплики, нарушают верность друг другу, усиленно выясняют отношения, которые никуда не ведут, попрекают друг друга не уточняемыми прошлыми грехами. Все они вынуждены жить под тягостным, хотя и неясным надзором и диктатом сверху. «Правила проживания в гостинице обязательны для всех»[314], – объявляет директор гостиницы Драшар в своей вступительной речи, несмотря на то, что здесь нет никаких правил, которые можно было бы соблюдать или нарушить. Мы даже не можем быть уверены в том, что речь директора на самом деле вступительная. Мы не знаем, как долго постояльцы живут в этой гостинице и как долго еще там пробудут. Некоторые сообщают, что скоро уедут, но и в следующем действии они по-прежнему на сцене. Действие происходит «в наши дни», но ввиду отсутствия какого-либо внешнего контекста невозможно в точности определить ни время, ни скорость, с какой оно течет. В каждом из пяти актов говорится о вчерашнем или завтрашнем праздновании дня рождения директора, но мы не понимаем, происходит ли действие этих актов спустя год или директор просто любит праздновать. В сущности это и неважно: в пьесе нет нарастания действия, нет интриги, нет катарсиса, нет развязки. Каждый «варится в собственном соку». Политическая действительность остается за пределами сцены, однако все равно присутствует как некий вездесущий, грозный и мертвящий deus ex machina.
ОРЛОВ. Можно вас кое о чем спросить?
ПЕХАР. Давайте.
ОРЛОВ. Вы не боитесь иногда?
ПЕХАР. Я? Чего?
ОРЛОВ. Ну, так, вообще…[315]
Вот такое было ощущение. В конечном итоге возник скорее примечательный документ, свидетельствующий об атмосфере эпохи, правдивая картина «бесформенной туманности», нежели захватывающее театральное зрелище. Когда Гавел позднее пересказал эту пьесу одному товарищу по заключению и спросил, что бы он подумал, если бы ему довелось ее увидеть, тот ответил, что «был бы уверен, что я мошенник, который его дурачит…»[316]. Если это была также попытка (как Гавел написал впоследствии) освободиться от «целой области своих навязчивых идей <…> суммаризировать испытанные методы и проверить границы их возможностей»[317], то она определенно не удалась. В другом, однако, Гавел преуспел. Он исследовал границы небытия, бессмысленности и инерции и осознал, что так он жить не может. Если бесформенной туманности суждено было организоваться в нечто более осмысленное и вразумительное, то организовывать ее должен был начать он сам.
Выкатим бочки
Выкатим бочки —
лейся, веселье, рекой!
Выкатим бочки —
разом покончим с тоской!
«Roll out the Barrel», английский текст польки «Напрасная любовь»[318]
Является подтвержденным фактом, что в феврале 1974 года Вацлав Гавел устроился рабочим на пивоваренный завод в Трутнове, приблизительно в десяти километрах от Градечка. Однако не совсем понятно, что подтолкнуло его к такому решению. В конце декабря 1973 года он писал Альфреду Радоку, что у него «кончились деньги»[319]. На финансовые затруднения он грустно жаловался и другим своим друзьям. В «Заочном допросе»[320] Гавел вспоминает, что в 1975 году в беседе с Иржи Ледерером сказал, что пошел работать на пивзавод из-за «финансовых проблем», но вместе с тем, оглядываясь назад, не исключил, что более серьезной причиной была потребность вырваться из удушливой атмосферы «ничегонеделания»[321]. Заработная плата в размере 1700 чехословацких крон была жалким вознаграждением за изнурительный труд в зимние морозы и летний зной, тем более что треть ее он тратил на бензин для своего большого черного «мерседеса», на котором каждый день ездил на работу из Градечка и обратно. Действительно, доход Гавела от постановок его пьес за границей, уменьшился, но когда он спустя девять месяцев по собственной воле ушел с пивзавода, ситуация не слишком улучшилась. То же относится к другой причине, какую он иногда указывал, а именно – к стремлению избежать преследования за «тунеядство» на основании часто применявшегося положения коммунистического законодательства, которое предусматривало наказание для людей, не имевших официального документа о трудоустройстве[322]. Об истинных его мотивах можно судить по тому, что за месяц до этого он пытался поступить на работу в типографию (но ее директор в первый же рабочий день Гавела по указанию сверху расторг с ним трудовое соглашение[323]) и что он мог получить место в Галерее античного искусства в городе Гостинне[324], но отказался от него. Представляется, что ему не столько нужны были деньги, сколько претила роль «видного изгоя», отведенная ему режимом, и обусловленная этим изоляция. Последнюю, как и невозможность увидеть постановки собственных пьес на сцене, он связывал с неудовлетворенностью своей работой и с тем, что ему вообще чем дальше, тем труднее было писать связные тексты. Теплое местечко в музее не решило бы его финансовых проблем и не помогло ни пробить стену отчуждения, ни найти новые источники вдохновения. Свою роль в этом могло сыграть и его неизбывное чувство вины из-за привилегированного происхождения. В итоге он предпочел катать бочки в среде, которая воплощала в себе плебейский характер чешского общества (в действительности задания ему там поручались разные, но перекатывание бочек оставило наиболее яркий след в истории). На выбор рода занятий он, бесспорно, смотрел также глазами драматурга. Как герой «Праздника в саду», так теперь уже и реальный «глупый Гонза» в его лице отправлялся в мир с швейковской поллитровой кружкой пива в руке.
И этот мир его не разочаровал. Гавела поставили на работу в ледяном подвале пивзавода с группой местных ромов, которых тогда еще называли цыганами. Там он вновь выказал свою способность – коренившуюся в его тихой вежливости и полном отсутствии у него высокомерия и заносчивости – хорошо ладить с людьми из самых разных социальных слоев. Ромы, к которым чешское общество и в наши дни сохраняет известное пренебрежение, инстинктивно приняли его как своего – еще одного отверженного среди отверженных.
Нет ни одного достоверного объяснения тому, почему Гавел ушел с пивзавода, но тот факт, что это произошло в конце года, позволяет сделать некоторые предположения. Возможно, ему не улыбалась перспектива провести еще одну зиму в холодном подвале. «Зимой я хочу быть дома и писать»[325], – сообщал он Радоку, упомянув, что в данный момент ему хватает средств на жизнь и что новую работу он будет искать, только когда это станет неизбежным. Любопытные глаза и длинные пальцы госбезопасности настигали Гавела и на пивзаводе, вызывая вокруг него напряженность, которой он хотел избежать. Абсурдный же привкус существования запрещенного интеллектуала на предприятии, производящем «жидкий хлеб», с помощью которого значительная часть населения страны заглушала страх и чувство жизненной пустоты, быть может, уже успел пробудить в нем «творческие соки».
Но не исключено, что у Гавела создалось ощущение, будто задача выполнена. Стена отчуждения была пробита. «Я удостоверился в том, что еще не настолько обленился и в целом без проблем способен выполнять любую работу, какая мне подвернется, и этим кормиться. Осознание этого меня очень успокаивает, поскольку избавляет от всяких нервных размышлений о будущем, так что мне можно не переживать»[326]. Он доказал самому себе, что способен терпеть неудобства и трудности и даже предпочитает их медленному загниванию в атмосфере кажущейся безопасности уютной изоляции. Так как первый вариант письма Густаву Гусаку Гавел написал еще в 1974 году, в период работы на пивзаводе, он, несомненно, и тогда ясно понимал, что именно хочет сделать, и знал, что сделать это должен именно он.
В конечном итоге новое слияние с рабочим классом пошло Гавелу на пользу не только в психологическом плане, но также в творческом и финансовом отношениях. В одноактной пьесе «Аудиенция», основанной на опыте его работы на пивзаводе, которую он написал в начале 1975 года как бы между делом, для развлечения его друзей-писателей, он вернулся на естественную для него почву сатиры. Мрачная экзистенциалистская рефлексия «Заговорщиков» и «Гостиницы в горах» осталась в прошлом. Исчез экзотический, абстрактный антураж. Пивзаводская «Аудиенция» разыгрывается здесь и сейчас. На первом плане – попытки двух действующих лиц, вечно пьяного пивовара Сладека и воспитанного интеллектуала Ванека, тогдашнего и будущего alter ego драматурга, нащупать какой-то modus vivendi, баланс между обязанностями Ванека на рабочем месте и зловещим интересом к нему со стороны госбезопасности. Что касается второго плана, то это пьеса с абсурдной кульминацией, когда еле ворочающий языком Сладек просит Ванека разделить с ним тяжкое бремя и помочь писать отчеты о его, Ванека, поведении, которые от него требует госбезопасность. Когда же Ванек из принципа отказывается доносить на самого себя, переговорам приходит конец и Сладек обвиняет Ванека в том, что тот в силу своего элитарного превосходства заставляет простых людей, таких как он, замараться по уши, «а он, барин, чистеньким останется»[327].
Не обязательно соглашаться с изощренным обвинением Сладека, которым он снимает вину с себя, чтобы понять, что автор написал не просто незатейливую морализаторскую пьеску, но трактует ситуацию как нравственно неоднозначную. Подобное комплексное восприятие, несомненно, является одной из наиболее устойчивых и ценных констант всего творчества Гавела. Хотя сомнений в том, какую позицию занимает и какую точку зрения отстаивает сам автор и не возникает, он все же не перестает предостерегать от появления чувства нравственного превосходства и интеллектуального пренебрежения, которое часто превращает принципиальный поначалу спор в идеологический конфликт или сшибку индивидуальностей. То, что нравственная позиция Ванека, в отличие от позиции его противника, истинная, мы понимаем только потому, что он готов принести ей в жертву преимущества, которые сулит предлагаемая ему работа на складе. Вывод, что правда, для того чтобы быть правдивой, должна быть подкреплена личной гарантией человека, о ней говорящего, Гавел повторяет вновь и вновь.
Однако у пьесы есть еще третий уровень, не столь явный, как другие два. Несмотря на драматичный контраст между грубияном Сладеком, который то угрожает, то уговаривает и просит, и вежливым Ванеком, сохраняющим тихое достоинство, именно последний старается проломить стену социальной отчужденности и отверженности и установить со своим начальником человеческие отношения. Его мир театральных звезд и вечеринок, Карела Готта и Иржины Богдаловой, к которому завистливо отсылает Сладек, так отдален во времени и в пространстве, что воспринимается как нечто нереальное. А мир Сладека – мир собутыльников из пивных, цыган, осведомителей госбезопасности и бесконечных кружек с пивом – существует здесь и сейчас, он так же реален, как мерзостный смрад от давно разлитого пива, который можно чуть ли не обонять между строками пьесы. И вот в последней реплике не кто иной, как ценитель вина Ванек делает первый шаг к тому, чтобы преодолеть барьер между обоими персонажами, на какое-то время усваивая язык Сладека, принимая от него стакан с его любимым напитком и разделяя его взгляд на мир: «А, всё кругом одно дерьмо!»[328]
Когда в конце 1975 года Гавел во время встречи с друзьями-писателями в Градечке прочел им в гостиной свою новую пьесу, она имела огромный успех. Не то чтобы ее даже особо восторженно хвалили – просто смеялись не переставая. Такой же эффект она производила, когда через год ее разыграли Андрей Кроб в роли Сладека и Гавел в роли Ванека на регулярном летнем «празднике в саду» в сарае Кроба, во время десятков ее постановок до 1989-го по всему миру и в Чехословакии после Бархатной революции. Но культовая постановка пьесы обошлась без сцены и без театра. Речь идет об аудиозаписи, сделанной весной 1977 года в простенькой студии Владимира Мерты. Режиссером постановки был Лубош Писториус, в роли Сладека выступил собутыльник Гавела Павел Ландовский, а сам автор, поначалу неохотно, согласился одолжить свой голос – включая картавость – Ванеку. Спустя всего пару месяцев после «Хартии-77» маленькой творческой группе приходилось творить втайне, что в живописном уголке Праги под названием На коцоурках, где Мерта тогда жил и работал, было довольно затруднительно. Приходилось преодолевать частую потерю трудоспособности у Ландовского, склонного слишком рано выпивать слишком много пива, боязнь автора говорить в микрофон и его врожденную неспособность произнести процитированную выше последнюю фразу пьесы, а также отсутствие необходимого оборудования для звуковых эффектов (жена Писториуса Итка имитировала шумное мочеиспускание Сладека в туалете, сливая воду из чайника в металлический таз)[329]. В последующие годы эту аудиозапись, которую два шведских юниора-хоккеиста контрабандой провезли в Швецию, копировали вновь и вновь, так что по своему статусу она приблизилась к оригинальным «подвальным» записям Боба Дилана. Сам Гавел вспоминал, как однажды он – что случалось нередко – остановил машину, чтобы подвезти полузамерзшего человека, голосовавшего на обочине, а тот через пару минут со словами «на свинью вы не похожи» вставил в плеер в машине кассету с «Аудиенцией»[330]. Отчасти и благодаря этой записи Гавел еще несколько лет тому назад полузабытый, приобрел среди своих соотечественников славу национального драматурга, а некоторые реплики из нее («Во как в жизни бывает, а?», «Люди – они большие свиньи! Ой большие!») вошли в повседневную речь даже тех, кто о пьесе и ее авторе никогда не слышали.
В тот год Гавел написал не одну, а сразу две пьесы. В «Вернисаже» добившиеся успеха супруги демонстрируют «лучшему другу» Бедржиху, писателю и интеллектуалу, по уши погрязшему в проблемах[331], свой новый дом, свой роскошный образ жизни, свои сексуальные изыски и полное, безграничное счастье. Одновременно они стараются мягко уговорить его перемениться, привести в порядок свою жизнь и вновь сделать счастливым собственный брак. Ведь он же приличный, интеллигентный человек, и ничто не мешает ему стать таким же счастливым, как они!
Как и во всех пьесах Гавела, в этой также решается проблема неоднозначности. С одной стороны, Бедржих/Ванек послушно восхищается уютным гнездышком Михала и Веры и их полной довольства жизнью. С другой, он не проявляет никакого желания подражать им. Когда же он собирается уйти, как всегда, вежливо и тактично, Михал и Вера возмущены его бессердечием, недостатком эмпатии и черствостью.
Пьеса является простейшей по форме сатирой на пустоту жизни, базирующейся на материальном благосостоянии при полном отсутствии каких-либо ценностей. По сути, Бедржиха/Ванека пригласили только затем, чтобы подтвердить смысл жизни Веры и Михала. Это единственное, что они не могут сделать для себя сами. Но на такое он не способен, как не способны и эти двое распространить на него свое мелкое счастье.
Как и в «Аудиенции», после заключительного конфликта именно Бедржих/Ванек – а не супружеская пара – идет на попятный и покорно соглашается на повторение вернисажа. В этом также проявляется экзистенциальная потребность Гавела разрушить барьер отчуждения, сохранив контакт с окружающими, несмотря на взаимное непонимание. Здесь, как и в других аналогичных случаях, мы можем наблюдать подлинное, глубокое смирение Гавела, благодаря которому он был не просто принципиальным человеком, а кем-то бо́льшим – и в то же время кем-то ме́ньшим. В своем творчестве и в жизни он и в дальнейшем мягко и вежливо упорствовал в том, что обязан оставаться самим собой, сохранить свою идентичность. И вместе с тем он понимал, что без зацепок в бессвязном, запутанном и по самой своей природе многозначном хитросплетении человеческих отношений идентичность ничего не значит.
Когда осенью 1976 года в венском «Бургтеатре» были поставлены обе эти одноактные пьесы (вместе с «Полицией» польского драматурга и сатирика Славомира Мрожека), они вызвали одновременно сенсацию и скандал. Австрийская и немецкая пресса в один голос преподносила эти «вещицы» Гавела как глубоко метафизический портрет «пролетарского рая» и так же единодушно осуждала отказ властей в Праге выдать драматургу выездную визу, чтобы он смог присутствовать на венской премьере. Пражские власти еще больше раздули скандал, обвинив Австрию во «вмешательстве во внутренние дела» и «провокации», выразившейся в том, что она предоставила сцену «сынку миллионера», который не имеет ничего общего с чехословацкой культурой[332]. Благодаря также и этой, явно невольной, рекламе Гавел быстро превращался в cause célèbre[333]. «Его свобода – это и наша свобода», гласил заголовок в «Ди Прессе»[334]. Для Гавела это триумфальное возвращение на мировые сцены имело горький привкус. Альфред Радок, которого он хотел бы видеть режиссером своих постановок, умер в Вене в том же апреле, через несколько часов после того, как гордо написал Гавелу, что как раз согласовал с «Бургтеатром» условия контракта[335]. В итоге обе пьесы поставил еще один режиссер чешской «новой волны» – Войтех Ясный.
Опера нищих
Все в свете есть игра, жизнь самая – ничто.
Так прежде думал я, а ныне знаю то.
Джон Гей. Эпитафия на собственном надгробии(перевод Н. Карамзина)
Жизнь Вацлава Гавела, вероятно, в большей степени, чем жизнь других людей, можно пересказать как цельную, логически связную и наполненную смыслом историю, но это еще не означает, что он сам, живя такой жизнью, так ее видел. Как и многое иное на его жизненном пути, возвращение Гавела в мир спустя пять лет, проведенных в уединении, было наполовину намеренным, наполовину – случайным. Две вещи, которые поначалу представляли собой чисто театральный проект и выражение политической позиции, соединились в грандиозную «комедию ошибок» благодаря как творческим способностям и остроумию их автора, так и троглодитски тупой реакции столпов режима.
Как и все, что он писал в семидесятые годы, это последнее театральное произведение сочинялось тоже не без труда. В письме начала 1972 года он сообщает: «Теперь я пишу нечто иное – это адаптация одной старой пьесы»[336]. Ни название пьесы, ни автора он не указывает, словно опасаясь неприятностей, хотя на сей раз этот аспект не должен был его волновать.
«Опера нищих» Гавела не является оригинальным произведением точно так же, как «Трехгрошовая опера» Брехта и Вейля. Та и другая написаны по мотивам одноименной балладной оперы Джона Гея 1728 года и придерживаются ее сюжетной линии. Даже сам замысел адаптировать ее для драматической сцены исходил первоначально не от Гавела, а от его коллег и бывших конкурентов из популярного театра «Чиногерни клуб» Ярослава Вострого и Яна Качера. Оба они хотели как-то помочь своему запрещенному коллеге, но, обсудив разные экстравагантные варианты (например, сначала выехать с этой пьесой в Швейцарию, а потом привезти ее обратно на родину как образец нонконформистского швейцарского театрального творчества без указания фамилии автора адаптации), отказались от своего предложения раньше, чем автор закончил работу[337]. Они испугались, что реализация этой идеи поставит под угрозу карьеру как их самих, так и актеров. Это трагикомическое переплетение человеколюбивых побуждений и прагматизма перед лицом грозившего официального отлучения от театра само по себе кажется яркой прелюдией к тому, что затем последовало.
Сатирический характер сочинения Гея, который подвергал осмеянию пороки политиков того времени и прежде всего сэра Роберта Уолпола, считающегося первым британским премьер-министром[338], сразу заинтересовала Гавела. У произведения Гея, как и у его обработки, были два «крестных отца»: его современники, сатирики нравов Джонатан Свифт и Александр Поуп. Гавел, развивая тему вездесущей коррупции и нравственного разложения, пошел еще дальше. Он не просто взял на прицел слабости богатых и власть имущих, как это сделал в своей обработке Брехт, но изобразил общество, где понятия правды и справедливости подчинены целесообразности и его представителям, независимо от их положения, которое преходяще и переменчиво, суждена жизнь, полная лицемерия, предательства и взаимного доносительства в ущерб всем. За исключением «честного» и обреченного на гибель вора Филча, между действующими лицами пьесы нет нравственных различий, будь то преступники Пичем и Мэкхит или служители закона, как начальник тюрьмы Локит. Мало того, что служащие правосудию так же – или еще более – продажны, как служащие преступлению: никто не может быть уверен в том, чему именно он в данный момент служит. В истории Гея Гавел нашел точный образ коррумпированного общества, в котором нет невиновных и все волей-неволей соучаствуют в преступлении.
Другой условностью (или, вернее, ее отрицанием), которую Гавел, в отличие от Брехта, перенял у Гея, было использование «изысканного» языка в диалогах представителей даже самого дна, из-за чего интеллектуалы и рафинированные снобы оказываются в одной компании со всеми остальными. Как говорит Нищий в исходной версии Гея, «во всем представлении можно наблюдать такое сходство нравов жизни джентльменов и бедняков, что трудно отличить, подражают ли знатные джентльмены в своих модных пороках грабителям с большой дороги, или грабители с большой дороги подражают джентльменам»[339].
«Оперу нищих», в отличие от «Заговорщиков», Гавел писал с удовольствием, хотя, наверное, сразу понял, что это скорее всего провальный проект. Кроме того, без контакта с театром и композитором ему непросто было работать над музыкальной составляющей пьесы, как это делали Гей и Брехт с Вейлем. Это заставило его с самого начала вплести музыкальные элементы в крайне замысловатую и сложную структуру текста, который, будучи прозаическим, при этом включает тщательно выстроенные арии, дуэты, вариации, речитативы и музыкальный финал. Одновременно с мелодиями Гавел намеренно снял и эмоциональный акцент фабулы, придав ей сухой, почти циничный характер во избежание того, что у Брехта ему представлялось гнетущей германской сентиментальностью. «В теории Брехт отрицает сантимент – как чувство испорченное, мещански выхолощенное – во имя подлинного чувства, на практике же он базирует все воздействие пьесы именно на этом отвергнутом сантименте. Может быть, у меня предвзятый взгляд, и вероятно, я выражаюсь неточно, но меня раздражает его немецкая профессорская сентиментальность; за ней мне мерещится какое-то чиновничье представление о юморе, о приключении, о поэзии»[340]. Отсутствием музыки и неизменной популярностью как «Оперы нищих» Гея, так и «Трехгрошовой оперы» (та и другая исполнялись десятки тысяч раз) можно было бы объяснить, почему минималистическая версия Гавела, хотя в качестве «черной комедии» и весьма впечатляющая и компактная, почти не имела успешных постановок за границей. Или, может быть, причиной тому была неспособность публики на Западе представить себе общество, в котором «кто не знает, что он служит, тот служит лучше всех»[341]. Несмотря на то, что Гавел был удовлетворен результатом[342], возлагал на эту пьесу большие надежды и не раз просил Клауса Юнкера и других друзей найти для нее подходящую сцену, ни один из больших театров не проявил к ней интереса. За границей пьесу впервые поставил в марте 1976 года Teatro Stabile в Триесте.
«Опера нищих» Гавела явно была обречена остаться лишь подстрочным примечанием в анналах театра, однако отомстила за себя, войдя в политическую историю. Показательно абсурдным образом это произошло не по плану, а благодаря стечению обстоятельств, неверному выводу, наивности и изобретательности. Как это часто случалось в чешской истории, все началось с письма.
В марте 1975 года, повторив отложенную им ранее попытку, Гавел написал письмо Густаву Гусаку, который ловко и двурушнически повернул в выгодную для себя сторону кризис периода советского вторжения и его финал, чтобы достичь вершин политической власти в стране. Гусак был по-своему уникален тем, что его терпеть не могли и недруги, и союзники, и значительная часть населения. В прошлом политзаключенный, во времена сталинизма осужденный по обвинению в «словацком буржуазном национализме», он поначалу пользовался лишь ограниченным доверием постсталинистов, которые правили в Кремле. А как оппортунист, выступивший против Дубчека после клятв в верности курсу реформ, он приобрел в глазах многих своих сограждан репутацию предателя.
Непосредственным импульсом к написанию этого письма было не какое-то конкретное событие или годовщина такого события, а скорее патовая ситуация. Было бы неверно считать, что в предыдущие годы Гавел бездействовал: совсем наоборот. Он подписывал письма за освобождение политических заключенных, поддерживал других запрещенных писателей, организовал литературный салон и работал над пятью пьесами, каждая из которых так или иначе критиковала теперешнее положение вещей. Однако, переехав в Градечек, он на время оставил пражскую передовую линию фронта, с ее неусыпной слежкой и атаками госбезопасности. В отличие от многих других интеллектуалов, он не ждал милостей от режима и не искал их. При этом он сознавал, что, если он сам не сделает первый шаг, режим против него не выступит. Такое патовое состояние могло сохраняться долго, и оно больше устраивало власть, которая спокойно могла позволить ему истлевать в Градечке всю оставшуюся жизнь, так как вовсе не собиралась делать из него или кого бы то ни было мученика. Власть хотела только убрать его, бессильного и всеми забытого, со своего пути. Забвение творцы нормализации избрали своим главным методом. Но для активного человека искусства это было равносильно смерти. Поэтому Гавел понимал, что он должен действовать.
Письмо Гусаку, бесспорно, возникло не в результате минутного порыва. При чтении рассудительного, написанного без эмоций текста Гавела видно, что это не крик отчаяния и не бунтарский жест, а формальное объявление войны. В этом не оставляет сомнений уже обращение. Гавел не адресуется к Гусаку «Уважаемый товарищ…» или «Уважаемый господин генеральный секретарь», а использует формулировку «Уважаемый господин доктор», тем самым скрыто отрицая законность закрепления в конституции руководящей роли коммунистической партии и легитимность человека, ее возглавляющего.
По форме это письмо – безупречная реализация конституционного права граждан на петицию. Автор предлагает доктору юриспруденции, человеку, не лишенному интеллекта и – по крайней мере когда-то – пытливости ума, тщательный анализ истинного положения дел в стране, разительно отличающийся от подлакированного изображения, которое изо дня в день преподносили ему наемные писаки и льстецы.
В письме доминирующее психологическое состояние людей оценивается как «страх лишиться средств к существованию, положения в обществе и испортить себе карьеру»[343], причем этот страх не коренится в чем-то конкретном. Его источник – всеобъемлющая система «экзистенциального давления»[344], воплощенного «в вездесущей и всемогущей государственной полиции. Этот чудовищный паук оплел все общество своей невидимой паутиной; это есть та крайняя точка, в которой в конце концов пересекаются все векторы страха, последнее и неопровержимое свидетельство безнадежности любой попытки граждан бороться с государственной властью»[345]. Парализующее влияние постоянного страха приводит к равнодушию, незаинтересованности и приспособленчеству. Человек низведен до уровня «существа, единственная цель которого – простое самосохранение»[346]. И все это совершается во имя революционной идеологии, «центром которой является полное освобождение человека»[347]. Это может вести лишь «к постепенной коррозии всех нравственных норм, к разрушению всех критериев порядочности и всеобъемлющему подрыву доверия к таким ценностям, как правда, принципиальность, искренность, бескорыстие, достоинство и честь»[348].
Гавел отлично понимал, что «уважаемому господину доктору» чертовски мало дела до происходящего с человеком и обществом и именно поэтому он закрутил гайки. Систематическое удушение всего спонтанного, оригинального и уникального в стране может иметь своим следствием только состояние паралича, который поражает как жертв, так и угнетателей. В Чехословакии был порядок, но не было жизни. Кажущееся спокойствие было покоем «как в морге или в могиле»[349].
В результате того, что общество было лишено какого-либо движения, сделалась избыточной и категория времени. В своем письме Гавел, быть может, впервые поднимает тему безвременья, к которой будет возвращаться еще не раз. Безвременье создает вакуум, который должен быть заполнен, «поэтому беспорядок в подлинной истории сменил порядок псевдоистории, творцом которого является, однако, не жизнь общества, а планирующий его чиновник. Вместо событий нам предлагают псевдособытия; мы живем от годовщины к годовщине, от торжества к торжеству, от парада к параду, от единодушно одобряемого всеми съезда к единогласным выборам и от единогласных выборов к единодушно одобряемому всеми съезду, от Дня печати к Дню артиллерии и наоборот»[350].
В качестве метафоры загнивания общества под руководством «господина доктора» Гавел приводит энтропический принцип второго закона термодинамики, одновременно указывая на врожденную способность всего живого сопротивляться энтропии. И хотя в письме не говорится о какой-либо временно́й границе, его автор не оставляет сомнений в том, какая из этих сил в итоге победит. «Губя жизнь, власть губит и себя саму – то есть в конце концов и свою способность губить жизнь… Как нельзя полностью уничтожить жизнь, так нельзя и навсегда остановить ход истории»[351]. Если бы письмо Гавела тогда же прочел Фрэнсис Фукуяма, то он, пожалуй, мог бы воздержаться от преждевременного пророчества, сделанного им через семнадцать лет[352].
При ретроспективном взгляде из сегодняшнего дня смелость формулировок Гавела и их прогностическая мощь просто поражают. Мы говорим о Чехословакии 1975 года. Мятеж подавлен, реформы 1968 года разнесены вдребезги. В едином коммунистическом блоке звучат уже лишь отдельные голоса протеста. Американцы в панике и отчаянии эвакуируются из Сайгона. Хельсинкские договоренности, подписанные пару недель спустя, повторяют с видоизменениями вестфальский мир. Они придают легитимность Советам и их власти над вассалами, гарантируют территориальную неприкосновенность их империи и, как кажется, скрепляют постоянное разделение Европы на Восток и Запад. Подобное стремление к стабильности легко спутать с иллюзией неизменности. В действительности весь миропорядок времен холодной войны рухнет через четырнадцать лет.
Инициатива Гавела была не совсем единичной. Возможно, его вдохновило аналогичное письмо Александра Дубчека (в то время уже находившегося во внутренней эмиграции, в изоляции от общества и под непрерывным наблюдением госбезопасности) Федеральному собранию, написанное 28 октября 1974 года, в годовщину независимости Чехословакии. Между этими двумя письмами и в самом деле есть что-то общее. В том и другом звучит протест против далеко идущего нарушения прав человека, осуждается кошмар всепроникающего надзора госбезопасности над жизнью авторов и всего общества, выражается сожаление в связи с ширящейся атмосферой безразличия, доносительства, подозрительности и страха[353].
Не получив ответа на первое письмо, Дубчек 2 февраля 1975 года отправил еще одно[354], где повторил некоторые свои аргументы и присовокупил к ним новые доказательства незаконной слежки и нападок госбезопасности. Возможно, Гавел, который осенью 1974 года отложил первый набросок своего письма, теперь вновь сел за письменный стол и присоединил свой голос к протесту, зная о втором письме Дубчека.
Однако различия между письмами того и другого не менее важны, чем их сходство. Если Дубчек уделяет много места отстаиванию политики Пражской весны, убеждая своих мучителей вернуться к ней, то горизонт Гавела – в будущем, когда сама жизнь восстанет против парализованных правителей. Если Дубчек добивается реабилитации и возвращения во власть, то Гавел заявляет о своем непримиримом неприятии этой власти. Наконец, если Дубчек посвящает целые страницы жалобам на свою собственную судьбу, то для Гавела на первом месте судьба всего общества.
Что-то, должно быть, носилось в воздухе весной 1975 года в Чехословакии, когда грянуло сразу несколько публичных проявлений протеста и несогласия. Это было письмо Карела Косика Жан-Полю Сартру, где чешский философ возмущается опустошительным обыском у него дома, в ходе которого был конфискован и безвозвратно потерян целый ряд документов, в том числе единственная копия его последнего философского труда объемом в 1500 страниц[355], письмо Людвика Вацулика генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму, в которой этот демон чешской литературы описывает и осуждает подобное же насилие в отношении себя[356], или (менее личного характера) критика в полемическом письме Зденека Млынаржа, одного из ближайших соратников Дубчека в 1968 году, адресованном центральному комитету КПЧ, от 14 апреля 1975 года[357].
Авторам всей этой резко всколыхнувшейся волны протестов, вероятно, дали импульс проходившие в то время в Хельсинки дипломатические переговоры, кульминацией которых стало подписание 1 августа 1975 года Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хотя в целом эти соглашения были попыткой ослабить напряженность, возникшую в результате холодной войны, путем принятия ряда мер по поддержанию взаимного доверия, призванных укрепить чувство безопасности у обеих сторон, в рамках так называемой «третьей корзины» договоренностей западные дипломаты настаивали на том, что в соблюдении прав человека подписавшими документ сторонами заинтересованы все, независимо от границ и различия политических систем, – и советский блок с этим нехотя согласился. Не вызывает сомнений, что коммунистические власти трактовали эту уступку как риторическое принятие всеобщего принципа в обмен на весьма конкретные уступки другой стороны. По-видимому, они и не подозревали, что тем самым вручают своему противнику смертоносное оружие, которое в итоге сыграет ключевую роль в их свержении.
На поток писем режим ответил репрессиями. Допросы и обыски коснулись прежде всего коммунистов-реформаторов и ближайших соратников Дубчека в Праге, Брно и Братиславе. С Гавелом обошлись иначе. Канцелярия Гусака вернула ему письмо непрочитанным с комментарием, в котором его обвиняли в том, что он встал на службу антикоммунистической пропаганды. Его не допрашивали, и обыск у него не проводили. По сути дела его вообще не тронули.
Было бы, однако, ошибкой утверждать, как это делают некоторые[358], будто органы госбезопасности игнорировали Гавела и только со временем зачислили его в ряды оппозиции. Во-первых, они числили его там уже давно, но не преследовали до тех пор, пока он довольствовался размышлениями, писал и устраивал вечеринки в Градечке. А во-вторых, было не в характере госбезопасности игнорировать оскорбления в адрес главы партии и государства, как бы учтиво и логично они ни были высказаны.
На самом деле партийное руководство отнеслось к письму как к событию величайшей важности. 18 апреля 1975 года, через десять дней после того, как письмо было отправлено, президиум центрального комитета партии под председательством самого Гусака собрался, кроме прочего, для обсуждения «антипартийной деятельности Дубчека и других лиц»[359]. Было принято постановление № 150/75, во втором пункте которого двоим самым надежным аппаратчикам, тов. Фойтику и тов. Швестке, поручалось представить секретариату ЦК «предложение о мерах в связи с письмом Гавела»[360]. Можно не сомневаться в том, что оба названные товарища ответственно подошли к поручению. Поскольку публичная реакция была вялой (хотя Швестка являлся главным редактором самой тиражной газеты в стране, органа компартии «Руде право»), предложенные «меры», вероятно, имели иной характер.
Так как даже самые глупые гебисты не могли не понимать, что Гавел их провоцирует, они не захотели идти у него на поводу и наносить прямой удар. Возможно также, что от этого их предостерег секретариат ЦК. Но не приходится сомневаться в том, что летом и осенью 1975 года они готовились проучить драматурга.
У Гавела был сосед и вместе с тем друг, или скорее друг, сделавший Гавела своим соседом. Это был Андрей Кроб, тот самый добродушный великан, что когда-то увидел Ольгу машущей Гавелу на вокзале, откуда они оба отправлялись в армию, а потом снова появился в его жизни как коллега – рабочий сцены и позже заведующий технической частью театра «На Забрадли», где блистала звезда Гавела-драматурга; он-то первым и рассказал Гавелу, что продается участок пана Кулганека по соседству с сельским домом Кроба. В Градечке в один из дней 1973 года, когда у обоих было время, Гавел дал Кробу прочесть рукопись своей «Оперы нищих».
Когда Кроб, чья профессиональная карьера в театре тогда висела на волоске, узнал о том, что пьесе нужны подмостки, он решил, что поставит ее сам. Не обращая внимания на предостережения своего друга, он создал труппу из других рабочих сцены, осветителей, студентов и приятелей по пивной, которая собиралась на читки, а потом и на репетиции под бдительным оком и тактичным руководством самого автора[361]. Гавел был рад, что над его пьесой весной и летом 1975 стали работать, пусть и по-любительски, с репетициями в сарае у Кроба за забором сада Гавела.
Хотя в это время уже начинал рождаться феномен «театра в квартире», его «Опера нищих» была габаритнее гостиной: труппа и в сарае-то еле помещалась. Кроб хотел во что бы то ни стало устроить публичное представление. При этом он успешно опирался на традиции чешского театра, восходящие к временам национального возрождения XIX века, когда сельская интеллигенция разыгрывала патриотические пьесы в пивных и трактирах по всей стране. Выдав себя за представителя любительского театрального коллектива, который хотел бы представить публике современную адаптацию классической «Оперы нищих» (без указания подробностей), Кроб получил разрешение национального комитета исполнить ее в пивном ресторане «У Челиковских» в сонном пражском предместье Долни Почернице. По иронии судьбы ресторан этот прежде назывался «На Бастилии». Там 1 ноября 1975 года и был в итоге сыгран этот спектакль перед тремястами зрителями, по большей части родственниками, друзьями и знакомыми актеров и автора, который по такому случаю надел пиджак и галстук.
В отзывах об этом обросшем легендами представлении все участники, включая автора и актеров, сходятся во мнении, что оно произвело неповторимое впечатление. Большинство зрителей тоже расхваливало спектакль как одно из самых незабываемых театральных событий в их жизни. Сам Гавел не раз называл его одним из своих выдающихся успехов, придавая ему большее значение, чем всем премьерам на величайших мировых сценах. Единственными недовольными были представитель местного национального комитета, который оказался достаточно наблюдательным, чтобы заметить «ощутимо враждебный контекст» пьесы, но и настолько бестолковым, что местом действия счел Францию[362], и сам Кроб: «Для меня это была смесь проколов, ляпов, плохо открывшегося занавеса и испарины на лбу. Но по прошествии времени я понимаю, что важен был не столько сам спектакль, сколько то, что он был сыгран в невероятных условиях»[363].
Сейчас трудно судить о том, ожидали ли все участники той реакции, которая за этим последовала, хотя сам Гавел проблемы предвидел[364]. С одной стороны, они не совершили ничего противозаконного или имевшего откровенно политический характер, и ничем не нарушили условия выданного им разрешения: ведь и входные билеты на представление не продавались. С другой же стороны, почти все они осознавали, что создатель пьесы – не просто запрещенный писатель, но еще и автор недавнего открытого письма «уважаемому доктору» Гусаку, в котором были подвергнуты беспощадному анализу недуги страны под властью нормализаторов и содержался призыв к либеральным реформам. Гавел нарочно дал прочитать им свое письмо, пока они репетировали в Градечке: явно затем, чтобы никто не строил иллюзий насчет того, во что ввязывается. Как уже было сказано, сразу письмо не вызвало никакой реакции, но это, по-видимому, был только вопрос времени. Ждали удобного случая, который теперь подвернулся.
В отношении мотивов и ожиданий другой стороны нет единства мнений. Ввиду участия довольно большого числа людей в репетициях и приготовлениях к спектаклю, как и достаточно массовой публики, трудно поверить в то, что никто из гебистов и множества агентов, ошивавшихся вокруг Гавела, заранее не знал о событии. Более вероятно, что информация у них была, но они не придали ей значения или не сумели оценить в общем контексте. Их чрезмерная последующая реакция была, возможно, попыткой скрыть свое неведение или бездействие на предшествующем этапе. Или, что тоже кажется вполне вероятным, для них это был радостный повод наконец-то свести счеты с непокорным драматургом и его «шпаной». Если так, то они, возможно, знали о предстоящем спектакле и решили его дождаться, сыграв тем самым свой собственный вариант «Оперы нищих».
Госбезопасность тогда, может быть, впервые обнаружила тонкое знание психологии своей жертвы и ловкое, хотя и безнравственное умение им распорядиться. Способ, каким Гавел навлек на себя гнев первого – самого могущественного – лица в стране, вступив с ним в открытое противоборство, показал, что перед ними человек, который не боится или, в лучшем случае, так боится своего страха, что будет невосприимчив к угрозам психологического или физического воздействия. Однако они также могли заметить, что это человек с обостренным чувством ответственности, склонный винить себя в несчастьях других. Поэтому лучшим способом нанести ему чувствительный удар будет ударить по ним.
Это, по-видимому, единственное возможное объяснение того, почему последовавшая реакция была настолько несоразмерной одному показу обработки классической пьесы восторженной, но дисциплинированной публике, которая потом спокойно разошлась по домам, тогда как автор и труппа после спектакля устроили вечер в ресторане «У Медвидеков» на улице На Перштыне, совсем рядом с областным управлением Корпуса национальной безопасности. Через несколько дней, в течение которых проводилась обработка отчетов осведомителей и идентификация отдельных зрителей, гебисты для начала забрали Кроба, подвергнув его двум изнурительным допросам, длившимся в общей сложности восемнадцать часов. Многие вопросы были словно взяты из «Оперы нищих», вспоминал Кроб, что позволяло ему воспользоваться репликами, которые он до этого выучил, готовясь к роли Локита[365]. Затем гебисты принялись вызывать актеров и зрителей и приступили к репрессиям. Хотя даже параноидальная коммунистическая госбезопасность не сумела сфабриковать дело для уголовного преследования, Кроб и еще несколько членов труппы потеряли работу. Другие лишились водительских прав. Был запрещен никак с этим не связанный детский спектакль – только потому, что среди публики оказалось несколько взрослых, которые посмотрели «эту мерзость» в Долних Почерницах[366]. Простое зрительское участие сочли достаточно серьезным проступком для того, чтобы внести в черный список друзей Гавела Яна Гроссмана, Павла Ландовского, Власту Храмостову и Яна Тршиску, обрекая их на безработицу или в лучшем случае на эпизодические роли в провинциальных театрах. В случае Тршиски преследование со стороны органов в конце концов вынудило актера эмигрировать. Перебравшись с семьей в Лос-Анджелес, он заново выстроил успешную, хотя и довольно скромную карьеру в американском кинематографе и театре[367].
Репрессии на этом не закончились. В течение следующих недель власти провели ряд встреч с руководителями театров и собраний театральных коллективов, где работники были проинформированы о «провокации» и предупреждены о серьезных последствиях, которые она будет иметь не только для творческой свободы Гавела, но и для чешского театра вообще.
Именно данное обстоятельство более, чем что-либо еще, подсказывает, что вся эта кампания, возможно, планировалась. Возложив на Гавела, Кроба и их коллег вину за ужесточение надзора над театрами, власти пытались вбить клин между непокорными интеллектуалами и всеми остальными и еще больше изолировать Гавела. Многие средние и некоторые довольно талантливые актеры винили Гавела в том, что он ставит под угрозу то небольшое пространство, какое еще оставалось для творческой свободы и самовыражения. Другие считали Гавела бездушным авантюристом и позером, себе же вменяли в заслугу то, как послушно, не оглядываясь на собственное достоинство, они стараются сохранить, что только можно. Так как они большей частью боялись даже читать пьесы Гавела, до них едва ли могло дойти, что таким образом они произносят на свой лад заключительный мололог Мэкхита:
Послушайте, Локит, я за свою жизнь не цепляюсь, смерти не боюсь и даже готов пожертвовать своей жизнью – однако лишь при условии, что тем самым я укреплю авторитет ценностей, за которые умру, а, следовательно, моя смерть пойдет на пользу жизни других. Что было бы, не прими я это предложение [спасти свою жизнь]? <…> Меня сочли бы самовлюбленным эксгибиционистом, который хотел представить себя совестью мира; я пожертвовал бы собой ради чего-то такого, во что никто, кроме меня, не верит; таким образом, моя смерть осталась бы никем не понятой, не укрепила бы авторитет каких-либо ценностей, никому бы не помогла, а только причинила бы боль нескольким моим близким[368].
По реакции ряда известных актеров и режиссеров, поддавшихся этому заблуждению, иные из которых еще недавно называли себя друзьями Гавела, и по тому, что и настоящие друзья, такие как Ян Тршиска, начали сторониться его, хотя напрямую и не осудили, у органов госбезопасности могло создаться впечатление, что они достигли своей тактической цели. Судя же по событиям, которые за этим последовали, стратегически они стопроцентно проиграли.
Это лишь рок-н-ролл
…Но я его люблю.
The Rolling Stones
Вдохновляющая, заряжающая и мотивирующая сила музыки играла политическую роль на протяжении всей истории, но никогда ранее она не влияла настолько непосредственно на политические изменения, как во второй половине двадцатого столетия. В шестидесятые годы особое место и в Чехословакии, и в других странах принадлежало рок-н-роллу[369]. Благодаря параллельно протекавшей культурной революции в изобразительном искусстве, в кино, литературе и театре его влияние, возможно, становилось еще более важным, оказываясь сопоставимым с влиянием Соединенных Штатов и Великобритании. При этом в Чехословакии еще больше, чем в этих странах, рок-н-ролл – именно в силу того, что оттуда он был родом, – отпугивал власти и привлекал молодых людей. Если на Западе нонконформистский и бунтарский характер рок-н-ролла часто делал его естественным союзником радикальных левых, в Чехословакии он по той же причине воспринимался как антикоммунистический по своей сути, и прежде всего – самими товарищами коммунистами. И по той же причине с началом нормализации ему принялись ставить палки в колеса. Рок-исполнителей сперва вынудили расстаться с их привычным репертуаром, включавшим стандартные англо-американские рок-н-роллы, и с копиями записей знаменитых групп – и петь по-чешски, на языке, который хотя и не лишен поэтического очарования, но не имеет достаточного запаса односложных рифм и с трудом приноравливается к ритму с акцентом на четную долю. Затем рок-н-ролльных музыкантов заставили обрезать волосы, одеваться не так кричаще и проходить прослушивания перед комиссиями бюрократов с каменными лицами, чтобы получить разрешение выступать на публике. Но даже пройдя переквалификацию, бывшие рок-исполнители терпели – иногда вполне радостно – новые унижения: например, должны были выступать на фестивалях политической песни в Соколове или, как Йозеф Лауфер, исполнять оду во славу смелого парня, коммунистического шпиона Минаржика, который проник на радио «Свободная Европа», но провалил попытку взорвать ее изнутри.
Большинство музыкантов нехотя приспособилось или по крайней мере делало вид, что приспособилось, тем самым доказав, что и при коммунистах шоу-бизнес остается шоу-бизнесом. Уровень исполнения, естественно, упал, и молодым рок-фанатам приходилось целые десятилетия слушать «жвачечный» рок и усыпляющую поп-музыку.
Но некоторые музыканты выдержали и, призвав на помощь остроумие и творческую хитрость, продолжали играть если не на телевидении и радио, то хотя бы в клубах, на фестивалях под открытым небом или на днях рождения. Такие группы, как Etc. и ASPM, с потрясающими результатами использовали достижения современной чешской поэзии. Павел Бобек под маской безобидного кантри исполнял песни о правде и порядочности, американские образцы которых были едва закамуфлированы. В окраинных кабачках, таких как «У Тишеров» в пражском районе Ганспаулка, десятки молодых людей учились играть и петь блюз. Чешские последователи Боба Дилана во главе с первопроходцем чешского фолка Карелом Крылом, чей послеоккупационный альбом «Братец, запирай ворота» 1969 года стал источником репертуара, исполняемого на вечеринках и у костра, для всего потерянного поколения следующих двадцати лет, создали несокрушимую школу чешской песни протеста, которая пережила запреты, избиения, вынужденную эмиграцию и внедрение агентов госбезопасности.
Cамые радикальные рок-н-ролльные музыканты даже не особенно старались придумывать способы, как обмануть цензоров, чтобы выступать перед публикой и за счет этого жить. Они хотели только, чтобы их оставили в покое и дали им играть по-своему. Музыку они воспринимали скорее не как профессию, а как образ жизни, в которой они чувствовали себя счастливыми, раскованными и свободными. Рука об руку с этим шел и стиль жизни, где существенную роль играли секс, ограниченный репертуар наркотических средств, в основном отечественных, и большое количество пива. Существовал даже чехословацкий вариант коллективной духовности движения хиппи и Нью-эйдж. Такой стиль жизни был рискованным, чрезвычайно затруднительным, а в нормализующейся быстрыми темпами Праге и других больших городах к тому же нереализуемым. Поэтому в начале семидесятых годов нонконформистская культура ускоренно перебиралась из городов в сельскую местность, сосредоточившись вокруг нескольких поселков, где молодые люди могли полностью отдаться музыке и культивировать свой стиль жизни без особых помех. В связи с этим многие из них бросили школу или потеряли работу, а то и вовсе ее не искали. Со временем их стали преследовать – иногда местные национальные комитеты, а иногда органы общественной безопасности – за различные правонарушения и проступки, такие как тунеядство (под ним подразумевалось отсутствие в удостоверении личности штампа о трудоустройстве), громкая музыка (часто с текстами, содержащими ненормативную лексику) на несогласованных концертах, выращивание и хранение марихуаны. Таким образом, с периферии общества их постепенно загнали в подполье, которое дало также имя этой пестрой культуре, – что произошло благодаря одному из ее теоретиков, историку искусства и поэту Ивану Ироусу по прозвищу Магор, то есть Псих. В его случае это была не кличка, а почетный титул.
Магор стал художественным руководителем ведущей андеграундной группы The Plastic People of the Universe, название которой дала первая композиция одного из самых популярных альбомов Фрэнка Заппы Absolutely Free. Ее текст «Пластиковые люди… О, детка, сейчас – ты такой тормоз!» как нельзя лучше выражал отношение членов группы к властям и вообще к миру. Когда Магора выпустили из тюрьмы, куда его посадили на год за то, что в пивной «У Пловцов» в присутствии отставного майора госбезопасности сожрал обрывок газеты «Руде право», приговаривая, что эта судьба в один прекрасный день ждет большевиков, он начал вместе с «Пластиками» и другими группами единомышленников-музыкантов организовывать фестивали «второй культуры». Жестоко разогнав весной 1974 года концерт в Чешских Будеёвицах, а в сентябре – «первый фестиваль второй культуры» в местечке Поступице близ Бенешова, госбезопасность заинтересовалась существованием подпольного сообщества «волосатиков»[370], но выступить против них решилась только весной 1975-го. Тогда она развернула «операцию Пластики», целью которой было отучить молодое поколение от такой жизни.
Жизненный стиль и образ мыслей Вацлава Гавела были на сотни световых лет далеки от всего этого. Гавел был по-столичному учтивым светским человеком, который привык к лучам рампы (хотя в последнее время купался в них нечасто), Ироус же сознательно вел себя как деревенский мужлан с одинаково грубоватыми манерами и речью. Если Гавел все более политизировался, то Ироус и «Пластики» политики в принципе сторонились и презирали ее. Если главной задачей Гавела было заставить власти признать свои ошибки и исправить несправедливость, то цель Ироуса заключалась в создании «культуры, которая будет совершенно независима от официальных каналов коммуникации, от общественного мнения и иерархии ценностей, находящихся на сегодняшний день в руках исключительно истеблишмента»[371]. Если Гавел с его несколько ограниченным музыкальным кругозором наслаждался Джонни Кэшем и «Массачусетсом», то Ироус увлекся психоделическим роком. И тем не менее, когда госбезопасность решила раз и навсегда покончить с Ироусом и андеграундом, Гавел сразу понял, какими далеко идущими последствиями грозит это последнее наступление на свободу слова, и поспешил – вначале едва ли не в одиночку – на помощь.
Его воспоминания о том, как он впервые узнал об этом деле, читаются как готический роман. «Я был в Градечке один, всюду горы снега, за порогом ночная метель, я что-то писал – и вдруг кто-то колотит в дверь. Иду открыть, а за дверью один мой друг, которого я не буду называть, весь в снегу и замерзший»[372].
Этот друг, историк искусства Франтишек Шмейкал, которого Гавел в «Заочном допросе» называет просто Снеговиком, предложил свести его с Иваном Ироусом, что и осуществилось приблизительно через месяц. Сунув Гавелу для прочтения свой «Отчет о третьем чешском музыкальном возрождении», Ироус «говорил и говорил», при этом к нему все время «приходили и уходили волосатики», но главное – он дал ему послушать «из старого хриплого магнитофона музыку “Пластиков”»[373]. И в этот момент Гавел прозрел.
Спустя несколько недель, в марте 1976 года, госбезопасность провела облаву на «Пластиков», на их художественного руководителя и музыкантов. В общей сложности тогда забрали девятнадцать человек. Как только Гавел в Градечке узнал об арестах, он сразу же отправился в Прагу: «Мне было ясно, что это мое дело»[374]. Эти слова, хотя он их произнес позже, на первый взгляд кажутся ошеломляющими. В них не было никакой политической, общественной, артистической или персональной логики. Гавел всего пару раз встречался с Ироусом и знал его мало, а остальных не знал и вовсе. В отличие от старых друзей-писателей, новых друзей из круга разочаровавшихся в своей «Программе действий» коммунистов или его компании актеров и режиссеров, «волосатики» не обещали стать ни будущими политическими союзниками, ни привлекательным «кейсом» для оппозиции.
Когда после Бархатной революции Гавел был избран президентом, Ироус, несмотря на то, что его сочинения начали печатать, а его стихи, выдававшие в нем скрывающегося под грубоватой оболочкой чуткого поэта, по праву снискали признание критиков, остался таким же нонконформистом и время от времени нападал на Гавела, пока – за месяц до его кончины – не умер из-за чрезмерного употребления алкоголя. Как тогда, так и потом у них было мало общих целей. Гавел мог мечтать о демократическом устройстве общества, но для «Пластиков» оно оказалось таким же чуждым, как и коммунистический режим. «Я нисколько не меньший диссидент в обществе торгашества, торгашества и торгашества, чем был им в обществе социализма, социализма и социализма», – заявил саксофонист «Пластиков» Вратислав Брабенец тридцать лет спустя, снабдив свои слова жутковатой метафорой: «Мы все будто летучие мыши, вслепую летящие сквозь тьму к своему творцу, Богу, который не существует»[375].
Размеренный и аккуратный Вацлав Гавел разделял скорее идею андеграунда, чем его жизненный стиль. И хотя позднее он нашел свой путь к андеграундной музыке, полюбил ее и в качестве хозяина принял участие в нескольких андеграундных концертах в Градечке, это было скорее желанием отдать дань восхищения ее мятежному, нонконформистскому духу, чем свидетельством понимания ее разнообразных истоков и аллюзий, начиная с Mothers of Invention Заппы через Velvet Underground Лу Рида и Джона Кейла до Капитана Бифхарта и групп Pink Floyd и Soft Machine.Тем не менее он безошибочно охарактеризовал гонения на «волосатиков» как «наступление тоталитарной системы на саму жизнь, человеческую свободу и цельность»[376]. Многих – в том числе тех, кто не питал никакой симпатии к режиму, – отталкивали внешний вид «Пластиков» и манера их игры. Эти люди так и не поняли, зачем такой человек, как Гавел, теряет время на подобных шалопаев. Аргумент Гавела (тоже оставшийся непонятым) позже сформулировал его подебрадский однокашник Милош Форман в фильме «Народ против Ларри Флинта» – устами своего антигероя, который говорит: «Если свобода слова будет обеспечена мне, она будет обеспечена всем, потому что я – худший из всех». Конечно, «Пластики» были не самыми худшими, но – отчасти в силу неизбежности, а отчасти по собственному выбору – они стояли на низшей ступеньке социальной лестницы. И Гавел понимал, что борьба должна начаться именно оттуда, снизу. Это всегда отличало его от всеобщего любимца Александра Дубчека и реформаторов 1968 года, которые в середине семидесятых тоже стали подавать признаки жизни, однако, за исключением Зденека Млынаржа, ограничивали свою борьбу реабилитацией Пражской весны и самих себя как ее творцов. В то время как идеологи бесклассового общества защищали свой класс, элитный отпрыск буржуазной семьи взялся за андеграунд.
Медлить было нельзя. Состоящие на службе режима средства массовой информации уже развернули целенаправленную пропагандистскую кампанию, какая обыкновенно предшествовала суровым наказаниям. 8 апреля 1976 года во всех главных чехословацких газетах появились различные варианты статьи, написанной явно по одному шаблону, скорее всего в каком-нибудь партийном секретариате. Молодые музыканты изображались в них как асоциальные типы, хулиганы, алкоголики и наркоманы, враждебные социализму и рабочему классу. «Возможно, на Западе считают искусством и музыкальное соло на рубанке, громыхание по тарелкам связанным женским лифчиком, удары по выхлопной трубе машины, рубку дров и закидывание поленьями большей частью юной публики. Говорят, это называется “третья музыкальная культура”. Нам здесь такая не нужна»[377].
Гавел сознавал, что надо реагировать, пока эта карикатура не всосалась в умы. Он связался с католическим философом и психологом, некоронованным гуру андеграунда Иржи Немецем, с которым когда-то яростно спорил в журнале «Тварж». Как ему было свойственно, выступление в защиту арестованных музыкантов он спланировал вплоть до мельчайшей детали, словно военную операцию, включая социограммы и диаграммы развития событий. После «Десяти пунктов», писательской петиции за освобождение политзаключенных, и более ранних петиций в защиту журнала «Тварж» Гавел был уже опытным петиционщиком и сборщиком подписей. Он понимал, что, собрав подписи родственных «Пластикам» музыкантов и их поклонников, он только подлил бы масла в огонь, а может быть, навлек неприятности еще и на них, поэтому нацелился на бесспорно «серьезных», «видных» и «почитаемых» представителей старшего поколения писателей и интеллектуалов.
Начал он с собиравшихся за столом в «Славии». Иржи Коларж, Зденек Урбанек и Йозеф Гиршал вместе с философом Яном Паточкой и теоретиком искусства Йозефом Халупецким подписали обращение к президенту Гусаку[378]. За ним последовало открытое письмо, которое подписали Гавел и бывшие коммунисты-реформаторы Павел Когоут, Иван Клима и Людвик Вацулик, а также один из заклятых врагов режима профессор Вацлав Черный, всемирно признанный специалист по европейской литературе и истории. В письме был сформулирован главный аргумент в защиту свободы слова вообще и творческой свободы в частности, имеющий силу при любых обстоятельствах: «Если сегодня молодые люди с длинными волосами будут осуждены за нетрадиционную музыку как правонарушители-уголовники и это пройдет незамеченным, тем проще будет завтра точно так же осудить кого угодно еще – за его романы, стихи, эссе и картины»[379]. Все вышеназванные вместе с поэтом Ярославом Сейфертом, который вскоре стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы, подписали также открытое письмо другому лауреату той же премии, Генриху Бёллю, опубликованное 28 августа, за два дня до запланированного начала процесса, в газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»[380]. Задумано оно было как призыв к известному немецкому интеллектуалу встать на защиту нонконформистского искусства и свободы творческого самовыражения. Но еще больше на Бёлля подействовало (как следует из его ответа от 6 сентября, напечатанного в той же газете[381]) понимание авторами письма, что эта атака направлена и против них: «Мы не можем отделаться от ощущения, что этих людей так сурово преследуют, по сути дела, отчасти и за нас – точнее, потому, что они в меньшей степени, чем мы, могут опереться на солидарность зарубежных коллег. Мы, хотя сами работаем в других областях культуры, отказываемся быть на положении каких-то привилегированных “охраняемых животных” и молча мириться с тем, что других, менее “охраняемых”, могут незаметно для культурного мира судить как уголовных преступников»[382].
Процесс проходил 21–23 сентября 1976 года. Независимо от того, была ли его задержка вызвана публичным резонансом письма Бёлля или же другими причинами, на заранее предопределенный результат это не повлияло. За хулиганство в составе организованной группы суд приговорил Ивана Ироуса к полутора годам заключения, Павла Заичка к году, а поющего священника Сватоплука Карачка и саксофониста Вратислава Брабенца к восьми месяцам. В то время режим еще не сталкивался с открытой оппозицией, чем можно объяснить, почему, в отличие от многих последующих процессов, этот был вполне доступным для общественности и проводился в присутствии не только членов семей и друзей обвиняемых, но и ряда интеллектуалов, выступивших в их защиту. Среди них был и Вацлав Гавел, в котором шестой год не переставали бороться его творческое призвание и личные заботы, с одной стороны, и обостренное чувство ответственности как за себя и за остальных – с другой. Из отчета о процессе, который он написал две недели спустя, ясно, что именно это дело – в гораздо большей степени, чем его диалоги с самим собой, дискуссии с Ольгой и коллегами-писателями, история «Оперы нищих» или его холодный анализ болезни общества в письме Гусаку, – стало его моментом истины на пути в Дамаск, его озарением, его «эврикой»[383].
Этот отчет, озаглавленный – явно с намеком на роман Франца Кафки – «Процесс», в отличие от многих более ранних эссе Гавела, далек от политической полемики; отчасти это феноменологический разбор, отчасти театральная рецензия, отчасти же – болезненный самоанализ:
Такое случается нечасто, а когда случается, то обычно в такие моменты, когда мало кто этого ждет: что-то где-то выходит из-под контроля, и некое событие – в силу непредсказуемой игры своих внутренних предпосылок и более или менее случайного стечения внешних обстоятельств – вдруг перерастает свое место в рамках привычной повседневности, пробивает панцирь того, чем оно является и чем кажется, и внезапно обнаруживает свой глубоко потаенный, скрытый и некоторым образом символический смысл[384].
Возможно, процесс произвел на Гавела такое сильное впечатление потому, что он воспринимал его не просто как судебное разбирательство, но еще и как театральный спектакль. Ему было абсолютно очевидно: то, свидетелем чего он является, есть не стародавний процесс поиска справедливости, а театральная пьеса, написанная заранее, в которой прописаны роли судьи, обвиняемых и зрителей – и наперед известен финал. Но что-то пошло не так: «Чем добросовестнее они играли роли, тем больше обнажали их заранее не предусмотренный смысл и тем самым постепенно превращались в творцов совершенно иного представления, не того, в каком они думали, что играют или в каком хотели играть»[385].
По своей структуре пьеса была, безусловно, трагедией, а по тональности – отнюдь нет. Трагическая развязка контрастировала с фарсовым сюжетом и с буквоедским тщанием, с каким суд шел к заранее известному результату. Единственно верным, но при данных обстоятельствах невозможным решением, замечает Гавел, была бы констатация: «Хватит ломать комедию – разойдись!»[386]
И тем не менее в этом жутком зрелище Гавелу виделось и нечто весьма вдохновляющее. Сквозь дымовую завесу махины чиновничьего произвола его взору представал ни много ни мало, как «волнующий спор о смысле человеческой жизни»[387]. Его приметы он усматривал в одухотворенности обвиняемых, по-прежнему закованных в наручники, будто от них исходила опасность насилия, и их друзей и поклонников, которые приветствовали друг друга, обнимались и обменивались новостями в коридорах и на лестнице здания суда, игнорируя ничем не скрываемое присутствие десятков агентов в штатском.
Как видим, если какое-то событие выходит из-под своего собственного контроля – дает сбой в глубинном смысле, какой я здесь имею в виду, – то тем самым одновременно с неизбежностью происходит какой-то сбой и внутри нас: новый взгляд на мир нам открывает и новый взгляд на наши собственные человеческие возможности, на то, кто мы и кем могли бы быть, и мы – вырвавшиеся из своего “рутинного человеческого бытия” – вновь встаем лицом к лицу перед самым важным вопросом: как примириться с самими собой?[388]
Редко бывает так, что политическое движение рождается не из идеи преобразования мира и не из неприятия других идей преобразования мира, а из уникальной, глубоко внутренней психологической потребности обрести жизненное равновесие. Это было одновременно скромное и головокружительно смелое желание, осуществление которого предполагало ни много ни мало, как оставаться верным самому себе. Его необходимой составляющей было противиться или не поддаваться требованиям окружающего мира подавить, изменить или замаскировать свою идентичность – требованиям, с которыми приходится сталкиваться в обществе любого типа, однако в мире посттоталитарного социализма они были устрашающе настойчивы и неотвязны. Читая и слушая описания и воспоминания Вацлава Гавела и других, кто находился тогда в мрачном неприветливом здании суда района Прага-Запад на Кармелитской улице, в паре десятков метров от барочного и готического великолепия Малой Страны, невольно приходишь к выводу, что именно там и в те дни родилась «Хартия-77», движение за права человека, которые не сумела задушить вся мощь, масса и жестокость режима.
Хартия
Без нравственных основ, без убеждений, диктуемых не просто соглашательством, обстоятельствами и ожиданиями выгод, не может функционировать даже технически первоклассно оснащенное общество.
Ян Паточка. О долге противиться бесправию
Трудно было назвать малозаметным Ярослава Коржана, горячего, шумного и говорливого фотографа, замечательного переводчика Генри Миллера, Курта Воннегута, Тома Стоппарда и других современных англо-американских авторов. Именно по причине чрезмерной говорливости он, собственно, впервые и попал в переплет во время легендарной стычки Магора с отставным майором госбезопасности в пивной; тогда он получил год заключения. После этого он работал на предприятии по очистке воды, из-за постоянного шума на котором, как утверждали друзья, стал говорить еще громче. Он-то и стал на долгие годы негласным крестным отцом «Хартии-77». В его квартире на оживленной магистрали Север-Юг 11 декабря 1976 года, пока еще свежи были воспоминания о процессе над «Пластиками», Вацлав Гавел и Иржи Немец в первый раз сошлись с бывшим видным деятелем Пражской весны Зденеком Млынаржем и с Павлом Когоутом – бывшим трубадуром идеалистов из Социалистического союза молодежи, а затем – ранним отступником от коммунистической веры – на совет относительно документа, который смог бы положить начало систематической защите прав человека и гражданских свобод. Млынарж, как и полагалось матерому аппаратчику, предлагал создать комитет, тогда как Гавел представлял себе что-то более свободное и открытое – некое содружество родственных душ. Столковались на компромиссной «гражданской инициативе». На следующих двух встречах, в которых приняли участие также Иржи Гаек, бывший при Дубчеке министром иностранных дел, революционный марксист Петр Ул, историки Павел Бергманн и Венделин Комеда, политолог Ярослав Шабата и писатель Людвик Вацулик, идея оформилась в виде текста совместной декларации.
Гавел всегда старался не возбуждать или по крайней мере сдерживать дебаты об авторстве декларации «Хартии-77», называя текст плодом коллективного творчества, родившимся в ходе оживленной, а зачастую бурной дискуссии. В свою очередь, Когоут однозначно заявлял, что у «Хартии» было двое родителей, одним из которых стал он[389]. К сожалению, самые первые варианты документа не сохранились, но и сравнение более поздних вариантов подсказывает, что авторов было больше, чем один-два. Красноречивее всего сравнение двух наиболее ранних известных вариантов и их основы от 18 декабря 1976 года[390]. Первый вариант, датированный 16 декабря[391], уже содержит ключевую преамбулу, где инициатива «Хартии» увязана с Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, – то есть с обоими пактами, которыми страны-участницы хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе коммунистическая Чехословакия, обязались руководствоваться, закрепив их в собственном законодательстве. Как и во всех последующих вариантах, в документе далее констатируется существование противоречий между гарантированными в обоих этих пактах правами и реальным положением дел в «нормализованной» Чехословакии. В заключительной части сообщается о создании Комитета по правам человека, который призван следить за соблюдением закрепленных в пактах и в отечественном законодательстве прав и защищать их, в связи с чем ставит перед собой конкретные задачи.
Второй полный вариант, также датированный «задним числом», 17 декабря[392], от предыдущего варианта и основы отличает включение принципиального положения о том, что инициатива выражает понимание авторами своей «коллективной ответственности» за состояние общества и их «веру в значение общественной активности». В наши дни это, возможно, не покажется революционной идеей, но в контексте того времени это было равнозначно опаснейшей ереси, ибо согласно коммунистическому вероучению за состояние общества была ответственна исключительно коммунистическая партия как его «руководящая сила». Истеричная реакция властей на документ, призывающий к соблюдению принципов, которые они сами обязались соблюдать, показывает, что власти отдавали себе отчет в последствиях такого призыва и опасностях, которыми он был чреват.
Во втором варианте цель инициативы описывается также как создание «свободного, неформального и открытого содружества людей разных убеждений, разной веры и разного рода занятий»[393], которое вырастало «на почве разнообразных отношений дружбы, солидарности или сотрудничества»[394]. Не вызывает сомнений, что этот акцент на ответственности и свободном неидеологическом характере инициативы, столь существенном для нравственного этоса «Хартии» и формата ее деятельности в последующие годы, был привнесен Гавелом. Название инициативы, отсылающее к «Великой хартии вольностей», придумал Павел Когоут. Важную ссылку на Заключительный акт СБСЕ, обязывающие положения которого уже были включены в законодательство всех стран-участниц, в том числе Чехословакии, добавил философ Ладислав Гейданек, один из тех, с кем консультировались создатели документа. Судя же по рукописным вставкам, весь текст редактировал Гавел.
Более короткая основа от 18 декабря[395] включает преамбулу, однако под заголовком подраздела «статья» стоит лишь несколько легкомысленное междометие «ха-ха», которое, видимо, подразумевало всеобщее одобрение того, что будет содержать эта часть, а может быть, и делегирование ответственности за текст этой части одному или нескольким лицам. В их числе, по всей вероятности, были Гавел, Когоут и Млынарж (единственный юрист среди первоначального состава авторов). В отличие от прежней версии, инициатива, впервые выступающая под наименованием «Хартия-77», названа здесь не комитетом, а «неформальным содружеством» всех, кто разделяет ее цели.
Во втором варианте текста в качестве единственного спикера группы (первоначально предлагалось слово «функционер») указан Иржи Гаек, в 1968 году министр иностранных дел Чехословакии, который тогда тщетно пытался задействовать Совет Безопасности ООН для обсуждения вопроса о советском вторжении. Петр Ул по подсказке своей жены Анны Шабатовой[396], дочери Ярослава Шабаты, предложил выбрать троих спикеров группы: с одной стороны, с тем, чтобы они отражали разнородность ее состава, а с другой – с учетом революционной слабости Ула, склонного к созданию конспиративных структур, – с тем чтобы обезопасить группу от внезапного умолкания в случае, если один из ее лидеров окажется в тюрьме, если не хуже. В третьем варианте документа[397], лишь в мелочах отличного от опубликованного, в конце оставлено место с обозначенными точками линиями для внесения фамилий спикеров.
Кандидатура Иржи Гаека была одобрена единодушно с самого начала. То, что одним из первых трех спикеров станет – опять же по предложению Анны Шабатовой[398] – Гавел, казалось более естественным всем остальным, чем ему самому. Согласно диалектической триаде, которая в его случае повторилась и тринадцать лет спустя, когда его выдвинули в президенты, драматург вначале не решался принять этот пост, который доставил бы ему массу хлопот, потребовал от него много времени и отвлекал от творчества. Но в то же время он отчетливо сознавал, что выглядел бы и в своих собственных глазах «как шут»[399], если бы отказался всецело посвятить себя инициативе, рождению которой он в такой большой мере способствовал. Мало того, Ул, по его словам, вынес из той встречи впечатление, что предложение не пришлось Гавелу «совершенно не по душе»[400].
Эта триада повторялась всякий раз с тем же результатом и в других обстоятельствах, так что неизбежно возникает вопрос, насколько неподдельной была нерешительность Гавела. А поскольку в конце концов он неизменно оказывался полностью готовым соответствовать вызову, звучали порой даже язвительные замечания, что, мол, он «ломается» и неискренен. Эти – как и другие подобные – обвинения, конечно, нельзя отклонить безоговорочно. Однако у Гавела сомнения и неуверенность были всегда в первую очередь адресованы скорее ему самому, чем окружающим. Возможно, в этом проявлялась типичная склонность интеллектуалов рассматривать каждый вопрос с двух сторон и пускаться в тонкие рассуждения в момент, когда ситуация требует сделать решительный шаг. В этом отношении Гавел, бесспорно, не был безупречен. Может быть, сказывалось и чувство вины из-за его привилегированного происхождения, пронесенное им через всю жизнь, которое тогда и позднее мешало ему принимать посты или почести как нечто само собой разумеющееся. Но вместе с тем эта нерешительность свидетельствует о серьезности и истинном чувстве ответственности, с какими драматург подходил к своим решениям, которые всегда оборачивались для него не только практическими последствиями, но и экзистенциальными дилеммами.
На роль третьего спикера были две кандидатуры: философ Ян Паточка и литературовед Вацлав Черный. Их выдвижение имело свой глубокий смысл. В позднейших инкарнациях «коллектива спикеров», которые с общего согласия сменялись каждый год, один спикер всякий раз представлял широкую либеральную светскую оппозицию, в первом составе олицетворяемую Гавелом, второй – изгнанных коммунистов-реформаторов 1968 года, а третий – все возрастающее число религиозных диссидентов, католиков и протестантов. Однако Паточка не выказывал – по крайней мере публично – сколько-нибудь заметной приверженности религии, а Черный был откровенным вольнодумцем, близким к левым некоммунистам. Символичность их выдвижения имела иные корни. В лице этих двух ученых, представителей старшего поколения, был бы «перекинут мост» в нетоталитарное, демократическое прошлое Первой Республики – Чехословакии Масарика и Бенеша. Черный в большей степени тяготел к политике и был критичнее в отношении режима, чем замкнутый академичный Паточка. Эти качества Черного вкупе с его широко известным взрывным темпераментом делали его более рискованным кандидатом. По этой вполне очевидной причине – а может быть, еще и по другим – Гавел с самого начала поддерживал кандидатуру Паточки и даже несколько раз навестил его, чтобы убедить. Тот, как и Гавел, сперва колебался, но так же, как он, видел, что труд всей его жизни и ход мыслей с неумолимой логикой толкают его в этом направлении. Однако поскольку Паточка всегда вел себя по-джентльменски и был предельно щепетилен в том, что касалось справедливости, он настаивал, чтобы Черный вначале сам снял свою кандидатуру. Занявшись этим, Гавел к всеобщему удовлетворению быстро уладил дело, хотя Черного потом до самой смерти не покидало чувство горечи[401]. По всей вероятности, Паточке его согласие стоило жизни. Вместе с тем следует признать правоту слов Гавела: «Я не знаю, чем была бы “Хартия”, если бы ее путь изначально не озарил сиянием своей великой личности Паточка»[402].
Двадцатого декабря, когда кандидатуры всех трех спикеров определились, группа инициаторов получила на согласование третий вариант документа. Были назначены шестеро сборщиков подписей, среди них – Анна Марванова, Рудольф Сланский, Иржи Динстбир, Отта Беднаржова[403], а также Гавел, который отвечал за подписи деятелей искусства[404].
Двадцать девятого декабря прошла последняя встреча в квартире Гавела в Дейвицах[405]. Подписей оказалось больше, чем ожидалось: 241[406], главным образом благодаря сотне с лишним подписей экс-коммунистов, собранных Зденеком Млынаржем. По-видимому, партийная дисциплина срабатывала и среди тех, кого из партии исключили. Чтобы отметить проделанную работу, Гавел вытащил бутылку шампанского, и группа выпила за успех начинания.
В этой связи Гавел вспоминал о своих опасениях, что госбезопасность дознается об их плане, и удивлении, почему это не случилось. Как бы то ни было, ни в тот день, ни 3 января, когда состоялась очередная, расширенная встреча для обсуждения дальнейших действий, ничего не произошло.
О причинах бездействия властей можно только гадать. С точки зрения статистики маловероятно, чтобы ни один из 1/4 тысячи подписавших, не говоря о десятках тех, кто отказался подписывать, не распространялся об этом в кругу друзей или семьи, и чтобы один-два из такого большого числа людей не сообщили о чем-то органам. Точно так же невероятно, чтобы госбезопасность не заметила бурную деятельность нескольких главных объектов ее внимания; некоторые признаки и в самом деле указывают на то, что она что-то подозревала[407]. Загадочности всему этому прибавляет утверждение тогдашнего чехословацкого министра внутренних дел Яромира Обзины, что в ГБ еще с сентября, то есть со времени процесса над «Пластиками», знали о готовящемся документе[408]. Одно из возможных объяснений логически вытекает из того факта, что Гавел и другие намеренно приурочили завершающую стадию его подготовки к рождественской и новогодней поре. Во время этих праздников течение событий замедляется и в большинстве западных стран, а уж в нормализованной Чехословакии, где в остальном мало что можно было отмечать, праздничный покой и мир, связанный с щедрыми пиршествами (а в канун нового года еще и с обильной выпивкой), представлял собой ритуал, который соблюдали все. У сотрудников госбезопасности и их агентов тоже были семьи, и им наверняка не хотелось проводить праздники, наблюдая за квартирой Гавела. Возможно и другое, более мрачное объяснение: госбезопасность в общем и целом знала о том, что происходит, и решила дать событиям развиваться своим чередом[409], чтобы затем ей тем легче было переловить всех участников и изобличить их в антигосударственной деятельности. Как и в пятидесятые годы, пусть и без тогдашнего драматизма, режим стремился обратить себе на пользу действительные или мнимые угрозы его стабильности. Конфискация каких-то бумаг с несколькими подписями была бы рутинной операцией. А вот предъявить общественности организованную группу, пойманную с поличным при попытке продать свой товар на Запад, – это был бы удар под дых. Впрочем, в любом случае госбезопасность не оставила бы после себя никаких доказательств собственного умышленного бездействия.
Для встречи хартистов, назначенной на 3 января, Гавел приготовил повестку из двух частей: вначале организационные вопросы, в частности, сообщение о результатах кампании по сбору подписей и о распространении документа, согласование единой линии поведения на ожидаемых допросах, взаимодействие со средствами массовой информации, поддержание контактов с подписантами и т. п., а затем – предложения по стратегии будущих действий, таких как составление документов общего характера по отдельным проблемам и областям жизни и документирование конкретных случаев нарушения прав человека.
Вечером 5 января, когда Гавел попросил своего близкого друга Зденека Урбанека, который участвовал в некоторых предшествовавших встречах и жил всего в нескольких кварталах от него, по-секретарски помочь ему заполнять, заклеивать и снабжать адресами 250 конвертов с учредительным документом и перечнем подписавших «Хартию», органы очнулись от новогодней спячки[410] – возможно, в том числе благодаря данным прослушки в квартире Когоута[411] или сигналам из-за границы о том, что ряд ведущих газет собирается опубликовать документ[412]. Госбезопасность забила тревогу и развернула небывалую операцию, задействовав несколько сотен сотрудников в форме и штатском. По-видимому, первым их достижением был акт вредительства. Ночью кто-то перерезал шланг сцепления у «мерседеса» Гавела – одной из машин, использовавшихся для распространения документа и сбора подписей. Гавелу пришлось подниматься пешком от Дейвицкого пруда до квартиры Урбанека на Стршешовицкой улице. Здесь он встретился с Павлом Ландовским, которому было поручено забрать оригиналы документа с подписями из квартиры Когоута в Салмовском дворце напротив Пражского града, в котором располагалась также резиденция швейцарского посла. Ландовский заметил, что за квартирой Когоута следят. Когоут, подозревая, что помимо слежки его еще и прослушивают, разыграл перед посетителем пантомиму, из которой тот в итоге понял, что заботящийся о конспирации писатель укрыл драгоценную петицию со всеми подписями в ящике для инструментов на лестничной клетке перед своим жилищем[413], откуда актер перенес ее, спрятав под пальто, в свой старенький «сааб». Сверх плана Ландовский привез с собой еще одного нового подписанта, Людвика Вацулика. В квартире Урбанека, где за ними из постели хозяина наблюдала его двадцатишестилетняя возлюбленная, поэтесса Маркета Гейна, четверо мужчин заканчивали готовить конверты к рассылке. Все позже вспоминали, что за этим занятием они по какой-то непонятной причине время от времени разражались безудержным смехом. В конце концов они погрузили конверты в машину Ландовского, Гавел сел рядом с водителем, Вацулик сзади, и они отправились бросать свои почтовые отправления в разные ящики, чтобы уменьшить риск их одномоментной конфискации.
Дальнейшие события известны по нескольким описаниям – самого Гавела и других[414]. Самое драматичное, хотя, может быть, не самое точное из них, – это описание Павла Ландовского[415], который был за рулем уходившего от погони «сааба». Уйти, впрочем, удалось недалеко, так как за ним сразу же ринулся целый конвой «шкод» без номеров с мощными двигателями. В лихорадочной гонке с целью настичь преступников первыми две машины преследователей столкнулись друг с другом. После этого погоня на бешеной скорости продолжалась – с единственной задержкой, когда Ландовский резко затормозил перед почтовым ящиком в районе Ганспаулка и Гавел впихнул в него несколько десятков конвертов. На перекрестке пяти дейвицких улиц – Гимназийной, Певностной, Глинки, Велварской и Ковпака (ныне улица генерала Пики) – «сааб», окруженный со всех сторон, вынужден был остановиться – «как в гангстерском фильме»[416]. Ландовский запер машину изнутри и предоставил разъяренным гебистам орать и колошматить по дверцам и капоту. Известный своим темпераментом актер реагировал аналогично и якобы кричал: «Подать сюда этих легавых, я их растопчу»[417]. Сидевший рядом драматург на это сухо заметил: «Славно же начинается наша борьба за права человека»[418].
Когда Гавел добавил, что «эти господа, похоже, и впрямь из полиции»[419], Ландовский отпер машину, но зацепился локтем за руль, вопя во всю глотку. В следующий момент он увидел подошвы ботинок Гавела: «Его выволокли, как скатанный ковер»[420]. С Вацуликом поступили так же.
Поскольку происходящее снимал на видеокамеру – по-видимому, ради документации, – агент в штатском, прохожие, узнавшие популярного актера, начали собираться вокруг в уверенности, что наблюдают за съемкой фильма.
После того как сотрудники безопасности поняли, что иначе, как сломав Ландовскому руку, его из машины не вытащить, они подсадили к нему в «сааб» молодого коллегу и велели ехать за ними. Парень извиняющимся тоном объяснил, что вообще-то он из отдела по борьбе с наркотиками, а потом сообщил, что все у них находятся в полной готовности уже с двух часов ночи. «Ну и фигню вы, чувак, затеяли… Они ж вас расстреляют!»[421] Машина как раз катилась вниз от Пражского града по Хотковой улице в сторону Кларова, когда Ландовский ответил: «Значит так, послушай – или ты пообещаешь принести мне в камеру зубную щетку и блок сигарет “Спарта”, или я газану и шмякну тачку об эту стену. Помрем оба, но ты раньше, потому что стена с твоей стороны»[422]. И этот человек позже действительно принес Ландовскому в камеру полблока сигарет, извиняясь, что больше не раздобыл. Подобно многому другому, «Спарта» была в дефиците.
За этим последовал двенадцатичасовой допрос в отдельных кабинетах. В полночь всех троих задержанных и Зденека Урбанека, которого забрали из дома, отпустили. Однако на другой день их с самого утра опять доставили в отделение, и допрос возобновился. Так продолжалось неделю.
Пересказывая позднее Эде Крисеовой всю эту историю с погоней, Ландовский сделал одно важное наблюдение: «А еще говорили, что Вашек приличный человек! Да он крепкий по-настоящему и всю жизнь готовился к тому, что сейчас произошло»[423].
На следующий день после акции госбезопасности о «Хартии» подробно сообщали в главных газетах Германии, Франции, Британии, Италии, Соединенных Штатов и других стран. Это случилось благодаря неортодоксальному подходу пресс-атташе посольства ФРГ Вольфганга Рунге, который 29 декабря получил «Хартию» от Павла Когоута и по собственной инициативе передал ее с курьерской почтой боннскому радиожурналисту Хансу-Петеру Ризе. Этот последний, уже давно стоявший поперек горла чехословацким коммунистическим властям, разослал документ дальше и договорился, что разные издания опубликуют его одновременно. Не исключено, что еще раньше была предпринята более романтичная попытка вывезти текст документа с помощью очаровательной чешской эмигрантки Илоны Друмм, которая будто бы выучила его наизусть, попивая шампанское с Павлом Когоутом, однако эта история имеет – по крайней мере отчасти – апокрифический оттенок[424]. Итак, хотя госбезопасность и конфисковала большинство приготовленных конвертов с «Хартией», утаить шила в мешке не удалось. Конверты, которые Гавел бросил в ящик до задержания всех троих, как ни странно, тоже были доставлены.
Кайзер в своей биографии Гавела, в остальном весьма ценной, глубоко заблуждается, когда пишет, что «ЦК КПЧ в первый момент не знал, как отклонить протянутую руку»[425]. Правившие страной большевики не были, конечно, гениальны, но им хватило ума отличить протянутую руку от объявления войны, а «Хартия», несмотря на ее умеренный тон, была именно объявлением войны. Президиум центрального комитета собрался в пятницу 7 января, через сутки после того, как у Гавела и его друзей изъяли документ, и дискуссия о том, как отклонить протянутую руку, явно не заняла много времени. Президиум постановил, что:
1. «Хартия-77» есть антигосударственный, контрреволюционный документ, платформа для создания буржуазной партии.
2. Подписавшие хартию – это противники социализма, начиная от Прокопа Дртины через представителей буржуазии до ренегатов рабочего движения;
3. Хартия была подготовлена в сговоре с заграницей, где и была опубликована.
И решил:
– возбудить уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных § 112 и § 98 п. 1 УК,
– применить к подписавшим хартию все меры административного воздействия…[426]
Далее в ход пошла машина партийной пропаганды. Уже 7 января на второй странице партийной газеты «Руде право» появилась передовая статья без подписи под названием «Кому это выгодно». В ней весьма туманно говорится о никак не конкретизированных атаках на социализм и деятельности заклятых врагов режима, которые проиграли в 1968 году, а теперь хотят взять реванш; некоторые из них действуют так потому, что лишились своих постов, в чем обвиняют партию. «Но может ли тот, кто ложится на рельсы, чтобы остановить ход истории, обвинять поезд в том, что он отрежет ему ноги?» – риторически, причем довольно кровожадно, вопрошает анонимный автор[427]. Из отечественных «так называемых» борцов за права человека, стоящих за этой деятельностью, чести быть названными в газете пофамильно дождались лишь двое: «господин» Гавел, «который рос миллионерским сынком и до сих пор не простил рабочему классу, что он положил конец предпринимательской деятельности его семейного клана»[428], и Людвик Вацулик. Статья, ставшая, по сути, одним длинным плевком, заканчивается нескрываемой угрозой: «Кто нашему народу <…> вздумает мешать, нарушать законы нашего социалистического государства, тот должен понять, что это не останется без последствий»[429].
Этот опус, должно быть, сочиняли в большой спешке, поэтому скромность, побудившую безымянного автора остаться в тени, по-своему можно бы и понять. Но ту же отговорку трудно было бы отнести к гораздо более объемной статье, напечатанной в этой же газете 12 января с подкупающим заголовком «Банкроты и самозванцы»[430].
Ее текст, написанный, судя по лексикону, тем же автором или теми же авторами, отличался от предыдущего наличием гнусной антисемитской нотки. «Очередная провокация» приписывалась «антикоммунистическим и сионистским центрам», а подписавший «Хартию» Франтишек Кригель, единственный член коммунистического руководства в 1968 году, который отверг унизительные московские протоколы, именовался «международным авантюристом»: под этим партийным эвфемизмом подразумевался «Вечный Жид». Гавел был назван «ярым антисоциалистом», Когоут – «верным слугой империализма», Гаек – «обанкротившимся политиком», а Паточка – «реакционным профессором». Подобных ярлыков удостоились и остальные хартисты.
Эта статья дала старт управляемой лавине хулы и нападок на грани истерии. После того как нескончаемая череда допросов и обысков не помогла убедить подписантов (за одним-единственным исключением[431]) отречься от своего акта сопротивления, власти попытались помешать другим последовать их примеру. В учреждениях, в учебных заведениях и на предприятиях работников обязали участвовать в собраниях, на которых они принуждены были наперебой осуждать «Хартию» и выражать негодование по адресу ее подписантов. 26 января 1977 года в рамках одного из самых позорных в истории чешской культуры телешоу в Национальный театр, это святилище чешского национального возрождения и чешской идентичности, согнали сотни видных актеров, режиссеров, музыкантов и художников, которые под надзором партийных боссов должны были выслушивать холуйские выступления, а затем получили для подписания двухстраничную декларацию, состоявшую из затасканных фраз с биением себя в грудь и с ключевым пассажем в конце: «Поэтому мы презираем тех, кто в своей необузданной гордыне, из тщеславного чувства собственного превосходства, в эгоистических интересах, а то и за презренный металл – горстка таких отщепенцев и предателей нашлась и у нас – отрываются и отгораживаются от своего народа, его жизни и подлинных интересов и с неумолимой логикой становятся орудием антигуманистических сил империализма и находящихся у них на службе глашатаев смуты и раздора между народами»[432].
В декларации отсутствовали имена, и даже «Хартия» не называлась напрямую, поэтому уступка, которой требовали от деятелей искусства, могла показаться незначительной: осудить какую-то конкретно не уточняемую группу «отщепенцев и предателей» в обмен на гарантированную карьеру и привилегии, вытекающие из благорасположения режима. В итоге эту и подобные ей декларации подписали тысячи людей на сотнях публичных собраний в театрах, издательствах, университетах, научно-исследовательских институтах и в других местах, подозреваемых в укрывательстве интеллектуалов. В наши дни, спустя десятки лет, некоторые из них приводят жалкие оправдания, но большинство вспоминает тот день как один из наиболее унизительных в своей жизни.
Дьявол в этой фаустовской сделке выступал инкогнито, но никто не питал иллюзий относительно его присутствия. В то время как послушных деятелей искусства с помпой принимали в Национальном театре, подписавших «Хартию» каждый день увольняли с работы, выставляли из университетов, расторгали с ними авторские договоры. Таковы были «административные меры», упомянутые в постановлении президиума ЦК КПЧ. Пытаясь соблюсти видимость законности, кто-то из секретариата ЦК поручил подготовить для служебных целей специальное исследование о возможности применить к подписантам меры в соответствии с трудовым кодексом. Не удивительно, что анонимные авторы этой работы пришли к выводу, что участие работника в «Хартии-77» может рассматриваться как потенциальная угроза «безопасности государства» и поэтому является основанием для немедленного увольнения[433].
Устоять перед устрашением и давлением с требованием присоединиться к этому публичному ритуалу самоуничижения сумели немногие. Непросто было плыть против течения, которое затягивало друзей, коллег и членов семьи. И трудно не сочувствовать людям, которые двадцать и более лет спустя, вспоминая эти позорные минуты, сожалеют о своей тогдашней слабости. Но, безусловно, неверно говорить, как делают многие, будто это был всего лишь пустой жест всеобщего характера. Можно назвать десятки, а то и сотни имен, отсутствовавших в списках актеров, художников, музыкантов, ученых и писателей, которыми коммунистическая пресса изо дня в день «кормила» сограждан. В пражском «Реалистическом театре», считавшемся опорой режима, подписать декларацию отказались восемь актеров[434]. При ближайшем рассмотрении последствия отказа от подписания были нешуточными, но и не катастрофическими. В качестве наказания могли в худшем случае не заключать выгодные контракты, не приглашать в популярные телепрограммы, мешать продвижению по службе или присвоению ученой степени. Все это, конечно, было болезненно, но не требовало особого героизма.
Непрерывные допросы и публичные нападки вызывали погромные настроения, которые искали выход. Гавел, которого изнуряла «нервирующая неопределенность», почувствовал облегчение, когда поздно вечером 14 января, в конце очередного допроса, в ходе которого ему хамили и угрожали несколько высокопоставленных офицеров ГБ, услышал, что он задержан по обвинению в «подрывных действиях против республики»[435]. С присущим им безразличием к ненужным правовым нюансам гебисты даже не разрешили ему позвонить жене, чтобы сообщить о задержании. Когда же Ольга на другой день стала наводить справки в МВД, ей ответили, что ее муж «сдался органам»[436], как будто у него был выбор.
Госбезопасность явно полагала, что, отрубив «Хартии» голову и лишив ее одного из самых активных соучредителей, она тем самым парализует всю группу. Но она ошиблась. Семидесятилетний Ян Паточка, ученый душой и телом, который колебался, когда ему предложили стать одним из спикеров «Хартии», теперь явил впечатляющий пример тихого героизма. Хотя он не мог заменить Гавела в качестве организатора и не умел водить машину, он гораздо лучше большинства остальных владел пером. Еще до первого задержания Гавела, Вацулика и Ландовского он принялся писать текст, объясняющий значение «Хартии».
Эссе «Чем является и чем не является “Хартия-77”»[437] на первый взгляд написано философом, а не политическим активистом. Для Паточки «Хартия» сосредоточивается в первую очередь не на критике существующего положения дел в Чехословакии и даже не на защите прав человека, а на нравственных основах всей человеческой деятельности и опасной неспособности всей современной цивилизации (не только ее коммунистической части) с должным вниманием отнестись к этим основам. «Для того чтобы человечество развивалось в соответствии с возможностями технического, инструментального разума, чтобы прогресс знаний и умений был достижим, оно должно быть уверено в безусловности “священных” в данном смысле принципов… нужна нравственность – не лукавая, от случая к случаю, а абсолютная… Спасение в таких делах нельзя ждать от государства…»[438]
Влияние этой концепции нравственной философии и нравственных практических поступков ее автора на Вацлава Гавела трудно переоценить. Гавел был наслышан о Паточке и его исследованиях в духе феноменологии Гуссерля с ранней юности; по его словам, работу Паточки «Естественный мир как философская проблема» он прочел уже в шестнадцать лет[439] и не раз лично встречался с ее автором по разным поводам. Однако философские взгляды самого Гавела складывались скорее под влиянием сочинений французских экзистенциалистов, Мартина Хайдеггера и его наставника в философии, друга семьи Йозефа Шафаржика. После смерти Паточки он винил себя в «дурацких препонах», которые мешали ему чаще искать его общества. Следует констатировать, что Гавел не так много написал о Паточке и что – как ни заинтересовали его беседы с Паточкой в театре «На Забрадли», куда философа привел Иван Выскочил, – он, видимо, не слишком регулярно посещал его очень популярные тогда семинары, проходившие вначале на философском факультете, а потом, когда философа оттуда изгнали, на частных квартирах. Теперь, однако, он сам столкнулся с «безусловным» характером «священных» принципов «нравственного чувства» и понял, что должен руководствоваться ими.
Героизм Паточки имел трагические последствия. Начиная с 10 января, его почти каждый день вызывали на допросы. В ходе их он признал, что знает текст «Хартии», что подписал ее и является спикером движения. В остальном он упорно отказывался отвечать. Многие допросы продолжались целый день. В последний раз Гавел видел его 14 января в тюрьме в Рузыне, где оба ждали очередного допроса. Пожилой философ невозмутимо рассуждал о бессмертии[440].
После того как Гавела спустя несколько часов арестовали, Паточка остался практически единственным, кто возвышал свой голос, протестуя против неслыханной кампании по очернению хартистов с целью заставить их молчать. «Несправедливость, противоречащая правам человека, не перестает существовать и в том случае, когда никто не жалуется или не может жаловаться», – писал он[441].
В конце месяца Паточку опять вызвали, чтобы сообщить, что генеральная прокуратура сочла декларацию «Хартии-77» противозаконной. Тогда он вновь сел за письменный стол и в своей мягкой, но неумолимо последовательной философской манере разнес в пух и прах логику этого решения[442].
Первого марта в Прагу прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Нидерландов социал-демократ Макс ван дер Стул. Это был не просто рутинный визит; большинство западных политиков тогда избегало посещать Чехословакию. Со стороны голландцев это был жест доброй воли в духе заключенных совсем недавно хельсинкских соглашений, для пражских властей – шанс пробить стену изоляции.
Ожиданиям обеих сторон не суждено было сбыться. В первый же день визита ван дер Стул неожиданно принял Паточку в пражской гостинице «Интерконтиненталь». Как это было характерно для периода так называемой разрядки напряженности, никто, включая министра и сопровождавших его голландских журналистов, которые первыми связались с Паточкой, не захотел взять на себя ответственность за встречу, а Паточка – взял. В ходе непродолжительной беседы Паточка разъяснил министру характер и мотивы «Хартии», тот же подчеркнул, с одной стороны, принцип невмешательства во внутренние дела иных стран, а с другой – свою заинтересованность в соблюдении прав человека независимо от границ в соответствии с Заключительным актом Совещания в Хельсинки.
Для Яна Паточки эта короткая встреча с голландским министром, по сути, оказалась смертным приговором. Третьего марта, когда после отмены президентом Гусаком запланированного приема министра ван дер Стул отбыл из Праги, Паточку вызвали на очередной допрос. На следующее утро, после одиннадцатичасовых мучений, он пожаловался своим домашним на боли в области грудной клетки и согласился лечь в больницу, где 13 марта умер от остановки сердца.
Мстительный режим преследовал его и в могиле. Госбезопасность при пособничестве священника, который был ее агентом, вмешалась и изменила время и ход похорон. Низко над головами нескольких сот участников траурной церемонии на кладбище в Бржевнове кружил вертолет органов безопасности, а на мотодроме по соседству ревели моторы их мотоциклистов из отряда «Красная звезда», чтобы заглушить прощальные выступления[443].
Теперь, когда один из спикеров был в тюрьме, а второй мертв, властям могло казаться, что протест подавлен в зародыше. Тем не менее «Хартия» выжила. В действительности несоразмерная реакция режима заметно способствовала ее популярности и устойчивой привлекательности. В ноябре 1989-го ее декларацию подписали уже 1889 человек.
Проблема
Фистула Дорогой друг!
Фоустка Я вам не друг!
Фистула Дорогой пан доктор, правда – не только то, что вы думаете, но и то, почему, кому и при каких обстоятельствах вы это говорите!
Искушение
Весть о смерти Паточки потрясла Гавела. Он винил себя в том, что уговорил философа стать одним из первых трех спикеров «Хартии». Сам он тяжело переносил тюремное заключение. Как у многих людей, оказавшихся в тюрьме впервые, синдром изоляции привел у него к тому, что он стал в некоторой степени зависеть от контакта со своим следователем, жизнерадостным майором ГБ Мирославом Свободой.
Госбезопасность вела наступление на драматурга по двум направлениям. С одной стороны, ему говорили, что дело провалилось, что десятки подписавших отозвали свои подписи и что он в сущности идет ко дну на покинутом всеми корабле. С другой стороны, в соответствии с политическим указанием коммунистического руководства, старавшегося избежать международного осуждения за то, что само по себе подписание «Хартии» не должно преследоваться как уголовное преступление[444], Госбезопасность инкриминировала Гавелу участие – вместе с театральными режиссерами Отой Орнестом и Франтишеком Павличеком и журналистом Иржи Ледерером – в организованной группе, которая ставила своей целью переправлять при помощи иностранных дипломатов документы антигосударственного характера за границу, Павлу Тигриду, главному представителю «империалистических центров» и якобы агенту ЦРУ. Хотя самым серьезным документом, в отправке которого Гавел участвовал, были мемуары Прокопа Дртины, ближайшего сподвижника президента Бенеша, министра юстиции в правительстве, свергнутом в результате коммунистического путча 1948 года, а в пятидесятые годы политзаключенного (то есть не слишком опасный материал). Их тайная передача при содействии западных дипломатов и фамилия адресата служили – по меркам коммунистической юстиции – вполне достаточными доказательствами совершения преступления. Тот факт, что Ледерер и Орнест, как и Тигрид, который, впрочем, крестился, были еврейского происхождения, придавало делу черты «заговора космополитов» – одного из любимых сценариев коммунистических прокуроров.
Гавел понимал, что ему грозит тюрьма, и думал, что это – из-за проигранной битвы. Как видно из его показаний на допросах, следователи – в лучших традициях Кафки – держали его в неведении относительно того, в чем его на самом деле обвиняют: в контрабандной передаче документов, написании письма Гусаку или сыгранной им роли в создании «Хартии-77». Так как перспектива скорого освобождения отдалялась по мере все новых продлений срока предварительного заключения, Гавел начал, может быть, поначалу неосознанно, вести со своими тюремщиками переговоры об условиях выхода на волю. Шестого апреля он в минуту слабости написал прошение на имя прокурора, в котором признавал, что его «продиктованную лучшими побуждениями» инициативу могли намеренно исказить зарубежные средства массовой информации, и обещал, что в случае освобождения «воздержится от политической деятельности» и сосредоточится исключительно на «творческой работе»[445].
Гебисты заглотили эту уступку и ожидали следующих, давая понять своему узнику, что его прошение «серьезно изучается» и они им могут «воспользоваться в политических целях»[446]. Двадцать второго апреля Гавел был уже в таком отчаянном состоянии, что повторил свои обещания, добавив обязательство, что в будущем не намерен «участвовать в какой-либо организационной деятельности, быть вдохновителем или организатором коллективных акций и публичных выступлений или выступать от имени других лиц (например, как спикер “Хартии-77”)»[447].
Сразу его не отпустили, а, продлив предварительное заключение, отправили обратно в камеру, чтобы у него было время обдумать, что его ждет. В то время он уже знал, что его освободят (иначе его уступки были бы ни к чему), но также отдавал себе отчет в том, что это ему дорого обойдется, когда его обещания будут обнародованы (его освобождение не имело бы никакого смысла, если бы власти этого не сделали). В беседах со следователями он отчаянно старался найти какой-то выход из положения, при этом понимая, что выхода нет.
Его мрачные предчувствия сбылись на следующий день после 20 мая, когда его выпустили. Задача была возложена на государственное агентство печати «ЧТК» и газету «Руде право», которые свели воедино мелкие уступки, сделанные им в разное время, и назвали все это «Письмо Гавела в Генеральную прокуратуру»[448].
Из всех людей, которым неспособность Гавела отстоять свою идентичность лицом к лицу со следователями казалась непостижимой, он сам был себе строжайшим судьей. Ведь обращаясь с письмом к Гусаку и помогая создать и привести в действие «Хартию-77», он знал, на что идет, и ожидал, что его посадят. Его действия не были продиктованы каким-либо минутным порывом, возникшим на почве фрустрации или стремления выказать себя героем. И спустя годы, когда он выстоял в ситуации непрерывной слежки, угроз и шельмования, его никто не мог упрекнуть в недостатке мужества.
А тогда он сорвался и не понимал, почему. В «Заочном допросе» и «Письмах Ольге» он описывает свои неотвязные попытки понять, что вызвало этот его «сбой», предлагая сложные психологические объяснения, такие как «извращенное наслаждение своим “честным плутовством”»[449].
Но правда могла быть гораздо проще. Гавел, как и сам он смутно ощущал, скорее всего пал жертвой депривационного шока, какой испытывают многие, кто впервые оказался в заключении, в сочетании с «довольно искусными»[450] действиями следователя, который почувствовал неуверенность обвиняемого и вместо того чтобы проявлять настойчивость и угрожать, дал ей в полной мере расцвести. Во время приблизительно двадцати допросов с января по май 1979 года Свобода взял на вооружение испытанный прием инквизиторов, заставляя допрашиваемого до бесконечности повторять свою биографию и описывать вменяемые ему «преступления», чтобы находить в его показаниях мелкие неувязки и несоответствия и намекать на связь никак не соотносящихся друг с другом моментов, что рождало у подследственного ощущение собственной неискренности и вины.
К апрелю Гавел сполна прочувствовал на себе эту тактику. Он лишился сна, аппетита, стал терять в весе. Психиатр скорее всего диагностировал бы эти симптомы как начало острой депрессии, особенно прочитав жалобный последний абзац его прошения прокурору об освобождении: «В случае же, если Вы по той или иной причине решите оставить меня под стражей, настоящим прошу Вас по крайней мере об одном разрешении, которое, бесспорно, находится в Вашей компетенции: позволить моей жене передать мне в камеру учебники и словари иностранных языков и какие-либо книги на этих языках. Я привык к умственному труду, и бездействие, на которое я обречен в тюрьме, вызывает у меня серьезное психическое расстройство <…> Это имело бы для меня исключительно большое значение не только потому, что дало бы мне возможность расширить свой кругозор, но и потому, что наполнило бы мою жизнь в заключении творческим содержанием, что помогло бы мне бороться с депрессивным состоянием и чувством безнадежности и бесцельности, которое я испытываю в тюрьме и с которым мне пока, к моему стыду, не удается бороться иначе, как с помощью лекарств…»[451] Несмотря на свою близость тогда и потом к психологам, каким был Иржи Немец, и терапевтам, таким как Гелена Климова или Итка Воднянская, Гавел так и не понял, что пережитое им в то время можно считать нервным срывом, а не утратой мужества или нравственным прегрешением.
Письмо прокурору, которое Гавел написал от отчаяния и, видимо, без особой надежды на успех, только углубило его депрессию – после того как оно внезапно открыло перед ним путь к освобождению и он понял, что наделал. При его тогдашнем расположении духа ему наверняка стоило почти нечеловеческих усилий попытаться в следующих обращениях к прокурору несколько умерить свои обещания и сохранить за собой право выражать критический взгляд на современную действительность и право на защиту несправедливо преследуемых, а также подтвердить свой «нравственный долг», который побудил его инициировать и подписать «Хартию-77». И, разумеется, он настаивал на предоставлении ему возможности поддерживать контакты с друзьями и кем бы то ни было еще. Единственная его уступка – заявление, что он чувствует себя писателем, который может иметь (и имеет) отличные от официальных взгляды, но не считает себя «профессиональным противником режима», – едва ли произвела впечатление на ГБ[452].
Но взять назад свои слова он уже не мог. Самым большим успехом майора Свободы было недвусмысленное согласие Гавела отказаться от роли спикера в «Хартии-77». Когда 22 апреля Свобода потребовал конкретизировать это обязательство, Гавел в сущности подтвердил его, оговорив, что сам представит это друзьям и коллегам как свое собственное решение, а не как обещание следователям, «потому что ни о чем таком меня, собственно, не спрашивали»[453]. Тем не менее обещание было дано.
Отсутствие информации о том, что происходит за стенами тюрьмы, лишь усугубляло смятение и потерю ориентации у неопытного заключенного. Не только следователи, но и его адвокат, некий господин Лукавец, убеждали его, что он борется за проигранное дело, от которого его коллеги уже давно отступились, а то и открестились. Это впечатление, как кажется, подтверждают первые слова Гавела, сказанные Ландовскому в мае, когда его выпустили: «Так вы, значит, от всего отреклись!»[454]
Лучшим доводом в пользу того, что упадок воли у Гавела был следствием депрессии, а не нравственной несостоятельности, является его деятельность после освобождения из тюрьмы. Как и многие пациенты, которые избавляются от тягостного гнета депрессии благодаря лекарствам, исчезновению патогенных возбудителей, циклическим изменениям в организме или спонтанному выздоровлению, он почти сразу перешел в гипоманическое состояние. Хотя Гавел оставался обвиняемым и его ждал суд, который мог приговорить его к нескольким годам тюрьмы, он немедленно вернулся к оппозиционной деятельности, не оглядываясь ни на какие свои прежние обещания. Он по-прежнему корил себя за свои уступки, но понимал, что они не имеют никакого юридического или нравственного веса, поскольку сделаны под давлением.
В сохранившемся деле Гавела в качестве задачи, которую госбезопасность ставила перед собой, недвусмысленно указывается «максимальное ограничение деятельности ГАВЕЛА после его вероятного освобождения из-под стражи»[455]. Допросы же остальных подписантов «Хартии» необходимо было «вести с целью дискредитации Вацлава ГАВЕЛА, чтобы у этих лиц создалось впечатление, что сведения, имеющиеся на данный момент, получены из показаний ГАВЕЛА»[456]. В этом Госбезопасность успеха явно не добилась. В течение последних пяти месяцев столько подписантов подверглось методам воздействия, угрозам и оговорам со стороны тайного «государства в государстве», что они без труда могли связать уступки Гавела с общим контекстом. Стоя перед выбором, верить Гавелу или ГБ, они выбирали Гавела.
Двадцать шестого мая «Хартия-77» в лице единственного оставшегося спикера Иржи Гаека обнародовала заявление, в котором выражалось полное понимание решения Гавела отказаться от роли спикера, а сообщения официальных средств массовой информации объявлялись «тенденциозными попытками запятнать репутацию честного человека»[457]. Тем самым вся эта кампания имела очень скромные результаты: тех, кто счел отставку Гавела вынужденным актом заключенного, совершенным под давлением, она не убедила, а тех, кто и так видел в Гавеле воплощение дьявола, убеждать и не требовалось.
Похоже, единственным человеком, который отнесся к случившемуся со смешанными чувствами и неоднозначно, был сам Гавел. С одной стороны, он лихорадочно пытался публично «смягчить» ущерб, причиненный им делу, в связи с чем систематически нарушал обещание воздержаться от публичной деятельности, благодаря которому его выпустили. Через день после того, как его «опозорили» в глазах общественности, он распространил заявление, где разъяснял, что обещал только воздержаться от «деятельности, которая могла быть расценена как преступная»[458], в то время как «Хартия-77», к сторонникам которой он себя по-прежнему причислял, никогда не являлась платформой политической оппозиции, а потому участие в ней не могло считаться преступной деятельностью. Первого июня он подал иск против продажного писаки Томаша Ржезача за распространение о нем ложных сведений в радиопередаче «Кто такой Вацлав Гавел»[459]. Он продолжал давать интервью о «Хартии-77», о преследовании независимых интеллектуалов и предстоящем ему судебном процессе. Огромную радость ему доставил не только факт, что «Хартия» жива и активна, но также дух солидарности и доверия, который помог ему, хотя бы отчасти, умерить чувство собственной вины.
Тем не менее это неотвязное чувство не оставляло Гавела, превратив череду мелких уступок, освобождения и последующих самообвинений в одно из главных событий его жизни, в ее «худшие моменты»[460], по сути дела – в практический опыт нравственной философии, нашедший многократное выражение в эссе, пьесах и частных беседах, и оказав заметное влияние на его дальнейшие действия. Гавел, который никогда не был конформистом, научился четко отличать истинную нравственную ценность поступка от его внешней оценки, в том числе оценки людьми, к чьим взглядам он относился с уважением. Притом, что поведение Гавела в тюрьме и его последствия было в кругах хартистов предметом оживленной дискуссии, почти все, за несколькими исключениями[461], отнеслись к его уступкам с необычайным пониманием и снисхождением. Он также понял, что нравственное значение поступка и его практические последствия не обязательно взаимосвязаны, и годом позже блестяще воплотил это в пьесе «Протест». Тогда и потом все сошлись на том, что Гавел не совершил ничего такого, что повредило бы другим людям или «Хартии»: он не отрекся от своих убеждений, не отозвал свою подпись и не сообщил госбезопасности никаких сведений, которых у нее до того не было. О том, что Гавелу понадобилось довольно длительное время, чтобы самому примириться с собственным поведением, свидетельствует тот факт, что в некоторых заявлениях в свою защиту той поры он прилагает Сизифовы усилия, доказывая, что не повинен в том, в чем его никто и не упрекал.
По-видимому, именно во время этого кризиса Гавел пришел – вместе с Паточкой – к важнейшему заключению: что нравственный компас встроен в нем самом и не зависит от мнения других людей и от практических результатов. В конце концов он определялся его собственной внутренней идентичностью, верностью самому себе, жизнью в правде. Оборотной стороной этого понимания являлся логичный вывод, что если это так, то любое оправдание, исходящее от других или же от него самого, будет недостаточным. Настоящее его преступление состояло в том, что он обещал что-то, в чем не был убежден и чего не намеревался выполнять. И несмотря на то, что казалось абсурдом упрекать себя в обмане противника и что Гавел мог быть уверен в том, что друзья поймут и примут его поведение, в самых потаенных глубинах своей души он сам по-прежнему не мог его принять.
Размышляя о своем срыве в течение многих последующих лет, он, вероятно, сделал еще одно важное открытие, а именно – в своих терзаниях он совсем не одинок. Особая анатомия нравственного поступка, то, что он не зависит от точки зрения наблюдателя, и мало того, даже не предполагает наблюдателя и сопротивляется любым попыткам его рационально объяснить, подсказывала, что за нашим повседневным горизонтом есть некто или нечто такое, что следит за нашими действиями и фиксирует их. По-видимому, именно тогда в этом весьма скептически мыслящем человеке с обостренным чувством абсурда в какой-то момент вспыхнула искра духовности, мысль о трансцендентном.
В конечном итоге Гавел решил – вначале, возможно, подсознательно, но чем дальше, тем более обдуманно, – что может искупить свое нравственное прегрешение, только подтвердив свою идентичность и вернув себе ощущение жизни в соответствии со своими взглядами и ценностями. Одновременно в нем росло сознание того, что пятно на репутации ему, «вероятно, придется стереть, проведя несколько лет в тюрьме»[462]. Возникает тонкий метафизический вопрос, видел ли он свое возвращение в тюрьму как адекватное наказание за свой «грех» или только как логическое следствие восстановления своей идентичности; в любом случае, однако, он понимал, к чему все это приведет. Мало того, он отдавал себе отчет в том, что «даже этим я его [пятно] до конца не смою»[463].
Наконец, в этом было также нечто такое, чего часто недостает в рассказах о героизме, то есть – осознание своих границ. Гавел вышел из заключения не только униженным, но также – что, возможно, важнее – смиренным. Он понял, что при всей своей решимости противиться злу он вовсе не супермен, а всего лишь хрупкий человек, стоящий перед махиной, борьба с которой может быть выше его сил. С этого момента он всегда старался предельно реалистично оценивать препятствия, которые перед ним возникали, и свою способность их преодолеть. Это сказалось через несколько лет, когда перед ним вновь замаячило тюремное заключение, на сей раз куда более длительное, чем в предыдущем случае. Его часто цитируемое заявление «Я отдам им пять лет жизни, но ни днем больше» не следует понимать буквально. Несомненно, он выдержал бы и шесть лет. Речь идет скорее о признании, что его готовность к самопожертвованию не была безграничной. Он продолжал сопротивляться изо всех сил, но не собирался становиться мучеником – быть может, это было признаком его взросления. Смиряющий опыт также наложил печать на его поведение, сделав Гавела тем человеком, каким все его знавшие хотели бы его помнить. И до того с большинством людей он был учтивым и обходительным, однако же иногда бывал и агрессивным или пренебрежительным. Но отныне он вел себя с другими неизменно мягко и вежливо, сочетая с этим казавшуюся бесконечной терпимость человека, который слишком хорошо сознает хрупкость окружающих его людей, как и свою собственную.
Хотя Гавел вновь стал спикером «Хартии» лишь в ноябре следующего года (причем и тогда всего лишь запасным), он быстро включился в ее многогранную деятельность. Если в нем и произошла какая-то перемена, то разве только та, что он вел себя как диссидент под допингом. «Всеми возможными способами, даже несколько преувеличенно, судорожно, а то и просто истерично, я проявлял активность, подстегиваемый жаждой “реабилитировать себя” после пережитого позора»[464].
Восемнадцатого октября 1977 года Гавел получил условный срок – четырнадцать месяцев – за участие в незаконном вывозе за границу мемуаров Дртины. Это «не слишком большое наказание» было ему даже кстати: «Оно немного улучшит мою репутацию»[465].
Но все было не так просто. Если Гавел избежал заключения, то его «подельники» Ота Орнест и Иржи Ледерер получили соответственно три с половиной и три года лишения свободы, несмотря на альтруистичную, но безуспешную попытку драматурга защитить Ледерера поддержкой знаменитостей, таких как Ян Верих. Мы слишком многого ждали бы от правосудия, осуществляемого коммунистическим судом, если бы сочли этот приговор равномерным распределением доли «вины» между четырьмя осужденными (Франтишек Павличек тоже отделался условным сроком). Кроме того, Гавела, в отличие от Орнеста и Ледерера, первоначально обвиняли также в публикации за рубежом его письма Гусаку, не говоря уж о «скелете в шкафу» в виде «Хартии-77» (правда, не упоминавшейся в обвинительном заключении). Таким образом, вполне вероятно, что относительно умеренное наказание Гавела имело целью и в дальнейшем сеять раздор внутри оппозиции и дискредитировать драматурга, представив его человеком, скомпрометировавшим себя своими апрельскими уступками и показаниями. Из четверых обвиняемых Иржи Ледерер отбыл свой срок полностью. Шестидесятисемилетний и больной Ота Орнест совершил в вечернем телеэфире удручающее аутодафе – в обмен за обещанное ему помилование, которое получил через полгода. Гавелу пришлось ждать своей окончательной реабилитации – скорее в своих собственных глазах, нежели в глазах других, – несколько дольше.
Бунт зеленщика
Призрак бродит по Восточной Европе…
Сила бессильных
Если Гавела тюрьма до поры и миновала, то не потому, что он прилагал для этого недостаточно стараний. Как-то раз в воскресенье, в полночь, незадолго до Рождества 1977 года, Гавел с Ландовским и еще одним приятелем во время регулярного обхода винных ресторанов решили проникнуть в заведение «У Зпевачку», которое официально закрывалось в час ночи. После того как они тщетно звонили и стучали, Гавел проявил нетипичную для него агрессивность, попытавшись выбить дверь ногой. Тогда рослый официант с коллегой втащили его внутрь, поколотили и вышвырнули обратно на улицу. Позже, обдумывая случившееся, Гавел осознал, что если бы он сопротивлялся, то скорее всего угодил бы за решетку за хулиганство. При его условном сроке за «контрабанду» это могло иметь очень неприятные последствия.
Это небольшое приключение, которое, как понимал и сам Гавел, не делало ему чести, побудило его попытаться изгнать злых духов с помощью небольшого эссе. В гнетущей атмосфере Чехословакии середины семидесятых годов прошлого столетия постоянно унижаемые люди с неизбежностью давали выход своему раздражению в виде подобных необъяснимых вспышек. Для таких людей «резиновая» статья 202 уголовного кодекса (о хулиганстве) предусматривала адекватные и очень удобные наказания. Тем более что они легко могли попасть в порочный круг: наказание за то, что они таким образом выпускали пар после пережитых унижений, с большой долей вероятности приводило к дальнейшему унижению, которое могло подталкивать их к еще более серьезным выходкам, и так далее. А формулировка статьи, в которой говорилось о «явном неуважении к обществу» и «грубом нарушении общественного порядка», была такой расплывчатой, что позволяла привлекать к уголовной ответственности практически за любое нонконформистское поведение на публике. То, что было допустимо в прошлом, не обязательно оказывалось допустимым в будущем. Еще более существенным моментом было то, что злоупотребление этой статьей грозило лишь незначительными рисками для режима. Как уже показал процесс над «волосатиками», многие из тех, кто, возможно, симпатизировал диссидентам, не желали солидаризоваться с хулиганами, которые столь неподобающе ведут себя в обществе. Гавел завершает свое короткое эссе по-своему пророческой фразой: «В конце 1977 года мне сошла с рук – пусть еле-еле и довольно-таки дорогой ценой – попытка вломиться в винный ресторан. Сошло бы мне такое с рук в этом году?»[466]
Ответ он получил уже через две недели, хотя в этом случае все протекало совершенно невинно и вполне благопристойно – по крайней мере со стороны Гавела и его друзей по «Хартии». Вполне понятно, что после года допросов (хотя бы на одном таком побывал каждый из подписантов), обысков, увольнений и нападок в СМИ хартисты могли чувствовать себя несколько изолированными и социально ущемленными. Началась зима, наступил новый год, а за ним и сезон пражских балов, которые по традиции составляли важную часть «светского календаря», несмотря на то, что при «народной демократии» они проходили с меньшей пышностью. Многие балы были общедоступными, и билеты на них продавались в кассах предварительной продажи – так же, как в театр или на футбольный матч. И вот на один из таких балов, Бал железнодорожников, проводившийся в Центральном доме культуры работников транспорта и железных дорог, в свободные времена известном как Народный дом (неоренессансное здание на площади Мира, построенное одновременно с театром «На Виноградах», что напротив, как гордый символ растущего благосостояния и самосознания чешского мещанства), хартисты купили больше ста билетов. Идея принадлежала одной из дам-хартисток, которая, как говорили, увидела в этом повод обновить свой гардероб. Рудольф Баттек, чрезвычайно любезный социал-демократ старой школы, который из-за «Десяти пунктов» провел под стражей год без суда и еще три с половиной года в тюрьме за распространение оппозиционных предвыборных листовок, вызвался купить билеты. Все это выглядело как невинный развлекательный вечер – абсолютно ничего антисоциалистического в этом не было. Гавел, который никогда не упускал возможности развлечься, ради этого бала приехал из Градечка; он облачился в сорочку с запонками и смокинг, причесал свои отросшие волосы и приготовился танцевать. Павел Когоут, предчувствуя неприятности, хотел прийти в джинсах, но в конце концов в порядке компромисса надел костюм[467].
Железнодорожникам на участие хартистов скорее всего было наплевать, а вот органам безопасности, которым об их плане, должно быть, донес осведомитель (возможно, одна из парикмахерш – не могли же дамы-хартистки не наведаться к ним перед балом), – нет[468]. Когда хартисты пришли в Дом культуры и предъявили входные билеты, организаторы, которым ассистировала группа крепких мужчин, сообщили, что их присутствие на балу «нежелательно»[469]. Билеты у них отобрали, но по крайней мере – что делает честь то ли железнодорожникам, то ли госбезопасности – вернули их стоимость[470].
Однако вечер еще не закончился. Пока лишенные билетов хартисты кучковались в вестибюле здания и на улице, советуясь насчет «продолжения банкета» (не зря же они так старались с подготовкой), крепкие мужчины принялись грубо толкать их, чем и спровоцировали скандал, который – вместе с коллегами в форме – попробовали замять дубинками и кулаками. При этом несколько хартистов было ранено, Павлу Когоуту набили шишку на затылке, а Гавел, попытавшийся вступиться за Ландовского, которого забирали в участок, угодил туда же – и потом жаловался, что во время личного досмотра сотрудники безопасности его щекотали[471]. На этот раз задержанных обвинили в нарушении общественного порядка и применении насилия в отношении представителя власти, но, видимо, даже коммунистической юстиции это показалось неубедительным, так что срок никому не дали, хотя Гавел, Ландовский и член андеграундной группы DG 307[472] Ярослав Кукал провели полтора месяца в предварительном заключении[473].
Если инцидент перед балом должен был стать последним предостережением, то это семя упало на неблагодатную почву. Наоборот, он по-своему дал импульс следующей инициативе, которой Гавел и его ближайшие коллеги в глазах властей вынесли себе окончательный приговор. Пока Гавел с Ландовским и Кукалом дожидались суда в камере предварительного заключения, группа хартистов создала комитет в их поддержку. Мысль не была оригинальной: к тому времени уже существовал польский Комитет общественной самообороны (КОС-КОР[474]), созданный Яцеком Куронем и другими активистами. Кроме того, формат чешского комитета защиты жертв коммунистических преследований обсуждали на ранних этапах подготовки «Хартии» Немец и Когоут, а предыстория его восходила к идеям, которые много лет тому назад сформулировал историк Ян Тесарж[475]. Когда «хулиганов» выпустили, начинание естественным образом трансформировалось и превратилось в инициативу самой общей направленности под названием Комитет зашиты противоправно преследуемых (КЗПП). И хотя Гавел первоначально был скорее объектом, чем инициатором этого движения (а может быть, как раз поэтому), он с шестнадцатью другими хартистами присоединился к комитету, который объявил о своем учреждении 27 апреля 1978 года.
На первый взгляд, возможно, покажется не столь очевидным, почему этот акт так разъярил власти, В конце концов это было лишь естественное продолжение «Хартии-77». Но – с одним отличием. Можно было представить себе, что режим готов терпеть общие заявления о правах человека и общего характера критику атмосферы в обществе, а в виде мести за это всего лишь систематически отравлять существование их авторам. Обвинение же в нарушении законности в конкретных случаях означало, что «банкроты и наймиты» отныне прямо отвергают монополию компартии на осуществление правосудия. Кроме того, комитет, как и его польский тезка, заключал в себе элемент групповой самообороны, что в парадигме коммунистического мышления было равносильно бунту.
Хартисты и комитетчики имели с КОС-КОРом общие философию и цели, поэтому для них было естественным установить и поддерживать контакты с Адамом Михником, Яцеком Куронем и другими польскими коллегами. Но это понимала и госбезопасность, которая по той же причине препятствовала их встречам. Заграничные паспорта у них отобрали, так что выезжать за пределы ЧССР они не могли, и тем не менее им удалось провести две встречи на общедоступной Дороге чехословацко-польской дружбы в горах Крконоше, которая служила границей двух стран. Тайные агенты того и другого государства тоже вынуждены были объединить усилия, чтобы пресечь третью встречу 1 октября 1978 года, когда задержали и подвергли допросам целый ряд диссидентов и избили Ярослава Шабату, которого потом обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Только Гавелу и Ландовскому, продвигавшимся к месту встречи более утомительным, но менее заметным путем через лес и вдоль канатной дороги, удалось уйти от облавы. «Если бы не борьба за права человека, – замечает Гавел, – мы бы и не проветрились»[476].
Тягостная опека госбезопасности усилилась практически за одну ночь. Гавел уже несколько лет проводил основную часть своего времени в Градечке, но теперь органы и там следили за ним и старались отвадить от него визитеров, демонстрируя свое хотя и не регулярное, но явное присутствие близ его дома.
Благодаря этой добровольной изоляции Гавел в то время, можно сказать, был все еще в лучшем положении, чем остальные. Многие активисты «Хартии» и Комитета стали объектами различных преследований[477], нападок и угроз; их избивали, шантажировали, похищали, подвергали незаконным обыскам и личным досмотрам – таким образом режим, кроме прочего, пытался заставить людей эмигрировать[478].
На исходе лета 1978 года в Градечке было меньше гостей, чем обычно. Драматург с головой ушел в работу – на сей раз не над пьесой. По своему объему в 24 000 слов это был самый длинный прозаический текст из всех написанных им на тот момент. И ему суждено было стать одним из наиболее почитаемых произведений Гавела, несмотря на то, что его довольно часто неточно квалифицируют.
«Силу бессильных» все трактуют как эссе, но для эссе этот текст решает слишком много задач. И в этом нет ошибки автора. Как явственно показывают уже первые слова, «Сила бессильных» была задумана и написана как политический манифест: «Призрак бродит по Восточной Европе…» Гавел парафразирует (несомненно, иронически) «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса 1848 года, который, кстати, тоже не был эссе.
В «Силе бессильных» Гавел ставил своей целью определить феномен «диссидентства», его «идеологию» – или, наоборот, отсутствие идеологии, его рабочие методы и цели, но в первую очередь манифест должен был дать дефиницию и подвергнуть анализу «посттоталитарную» систему, которая являет собой одновременно как фон и причину диссидентской деятельности, так и главное ее препятствие. На примере зеленщика, выставившего в витрине своего магазина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в который сам он ни секунды не верил – причем, что еще интереснее, режим и не требовал и не ожидал от него такой веры, – Гавел показывает, что функционирование тоталитарной системы основано прежде всего на принуждении людей посредством данного (или ему подобных) ритуалов отказаться от своей «подлинной сущности»[479].
Выявляемое Гавелом различие между тоталитарной системой, какую практиковали Сталин или Гитлер на вершине своей власти, и посттоталитарной системой, реализуемой «нормализаторами» во главе с Гусаком в середине семидесятых годов, заключается не только в значительно меньшем во втором случае масштабе применения насилия и грубой силы. Требуя от людей пустых проявлений массовой поддержки без необходимости внутренне отождествлять себя с ее целями, система делает не столь явной границу между «тиранами» и «жертвами», которая характеризует чистые диктатуры. Человек «не должен принимать ложь. Достаточно того, что он принял жизнь, которая неотделима от лжи и невозможна вне лжи. Тем самым он утверждает систему, реализует ее, воспринимает ее, является ею»[480].
После того как Гавел проанализировал механизм, посредством которого система реализует свою власть, ему было нетрудно сделать вывод, что все зависит от готовности зеленщика не отказывать системе в своей ритуальной поддержке. «Человек бывает и может быть отчужден от самого себя лишь потому, что в нем есть что отчуждать; объектом угнетения является его подлинное существование; “жизнь в правде”, таким образом, оказывается вплетенной непосредственно в структуру “жизни во лжи” как ее полная противоположность, как та истинная интенция, которой “жизнь во лжи” противопоставляет подделку»[481].
Способность человека «жить в правде», быть верным своей «истинной идентичности» и является тем ядерным оружием, которое дает силу бессильным. Когда система уже не может добиться от граждан своего ритуального подтверждения, ее идеологический фасад рушится как чистейшая ложь.
Во второй части своего манифеста Гавел подробно рассматривает разные аспекты силы бессильных и предлагает методологию ее использования. В духе концепции «Хартии-77» он не выступает сторонником ее применения в конкретных политических целях, а наоборот, подчеркивает важность ее защитного характера ради сохранения пространства для жизни в правде и независимого движения в обществе. Конкретно это означает – защищать права человека, которые делают возможной такую жизнь.
Политическая программа Гавела ориентирована исключительно на индивида. Он предпочитает не терять время на размышления о том, как свергнуть коммунистический режим (рискуя навлечь на себя его суровое возмездие), а старается найти путь для того, чтобы очертить внутри системы пространство, в котором индивид может оставаться независимым. Его враги, да и многие из друзей, вероятно, не понимали, что это на самом деле одно и то же. Поскольку система базировала свою легитимность на готовности ее подданных воздавать ей символические почести, ее запаса прочности не могло хватить надолго после возвращения в общество независимых индивидов – тех самых «внутренних диссидентов». Программа Гавела ни в коей мере не была «интеллектуально узколобой», как ее охарактеризовал в одном из самых некрасивых своих высказываний в остальном элегантный Петр Питгарт, принадлежавший к числу непримиримых критиков «Силы бессильных»[482], но открывала путь к тому, чтобы «параллельный полис» стал «полисом».
Особое внимание Гавел уделяет понятию законности – отличной от гражданского неповиновения и прямого противостояния – как методу достижения своих стратегических целей. В атмосфере преследований, содержания людей под стражей и грубого нарушения прав человека под маской «социалистической законности» его настойчивое требование соблюдать закон многим его друзьям и противникам могло показаться всего лишь тактическим ходом. Но у Гавела действительно было ощущение, что его позиция – не просто «швейковское притворство»[483]. Мало того, что требование соблюдать законность означало меньший риск и меньшую угрозу актов возмездия: оно целило в ахиллесову пяту режима. Системе, старавшейся избежать применения силы, но при этом по-прежнему принуждавшей подданных выражать ей ритуальную поддержку, не оставалось ничего иного, кроме как маскироваться с помощью красноречия юристов и пустых обещаний. Точь-в-точь как в борьбе джиу-джитсу, Гавел предлагает использовать ее слабые места, обратить их на пользу защиты прав человека, в то же время обнажая идеологическую несостоятельность системы. При этом он, конечно, осознает, что надлежащее применение правовых норм – лишь средство для достижения цели, которой является внутреннее освобождение индивида, его право на «жизнь в правде»[484].
Рука об руку с понятием законности идет понятие ненасилия. В этом вновь проявляется антропологическая перспектива Гавела. Насилие может освободить систему, но вместе с тем закабалить индивида, поскольку не даст ему жить в правде – ничуть не менее, чем при прежнем строе. Такой ход мыслей дал многим повод думать, что Гавел, как до него Ганди, полностью отвергал применение насилия. Позже, в период президентства Гавела, эти люди были разочарованы, так как выяснилось, что он отнюдь не пацифист. Однако это свидетельствует лишь о том, что они не прочли внимательно «Силу бессильных». А Гавел пишет: «В принципе мы можем принять его [насилие] лишь как неизбежное зло исключительно в экстремальных ситуациях, когда прямому насилию невозможно противостоять иначе, как насилием же, и когда отказ от него означал бы поддержку насилия; вспомним, например, близорукость европейского пацифизма как один из факторов, который подготовил почву для Второй мировой войны»[485]. Иногда человек может жить в правде, только если возьмет в руки оружие.
Если некоторые из установок Гавела можно отнести к чисто защитным средствам, служащим сохранению пространства для «жизни в правде», то гораздо более боевой смысл вкладывался в создание «параллельных структур» (название придумал еще один хартист, католический философ Вацлав Бенда), как и в развитие «второй культуры» – эту идею продвигал «Магор» Ироус[486]. То и другое прежде всего конкретизировало жизнь в правде путем культивирования различных не поощряемых властями видов общественной деятельности, в «разрешенных» вариантах которых можно было участвовать, только если вести «жизнь во лжи». Эта концепция лежала в основе многих инициатив диссидентов как до, так и после «Хартии», начиная с «параллельных» издательских проектов, таких как самиздатовская серия «Засов» Вацулика и более поздняя серия «Экспедиция» Гавела, в которых вышли сотни текстов, и с «параллельной» андеграундной музыки «Пластиков», группы DG307, Сватоплука Карасека и других, и продолжая параллельным домашним образованием («Университет на дому»[487], «Кампадемия»[488]), параллельным «театром в квартире» Власты Храмостовой и Павла Когоута, параллельным изобразительным искусством (пражские «дворовые» выставки, брненская галерея в магазине уцененных хозтоваров или «Минисалон» Йоски Скалника). Существовала даже некая параллельная внешняя политика, заключавшаяся в установлении независимых контактов с политиками и законодателями общественного мнения на Западе и с родственными оппозиционными группами в советском блоке[489]. Эти малые параллельные структуры Гавел, безусловно, рассматривал не как «бегство в гетто»[490], а как открытые живые организмы, излучающие энергию и вовлекающие в свою деятельность все новых и новых последователей. В трактовке группы инакомыслящих словацких социологов в восьмидесятые годы прошлого века эти структуры представляли собой «островки позитивного отклонения»[491], которые со временем слились в «параллельный полис» Бенды. И, как показало позднейшее развитие, это были не какие-то воздушные замки интеллектуалов, а по необходимости единственно реалистический способ делать политику в сложнейших условиях того времени.
В последней – возможно, наиболее противоречивой – части своего манифеста Гавел пытается распространить проделанный им анализ и выводы, опирающиеся на положение дел в посттоталитарном коммунистическом обществе, на современное западное общество в целом. Хотя под «Западом» Гавел всегда понимал одну из ветвей эмансипированного, светского современного общества, восходящего своими корнями к эпохе Просвещения, которая дала начало также социалистической и коммунистической идеологии, в «Силе бессильных» он довел эти рассуждения до логического завершения: если предполагается преодоление отчуждения и «самодвижения» современного технократического общества, то схожая потребность перемен в направлении жизни в правде существует и в западном мышлении. Гавел дает понять, что благодаря радикальному, хотя и не добровольному, опыту диссидентов параллельные структуры могут послужить даже некоторой моделью: «Не являются ли эти неформальные, небюрократические, динамические и открытые сообщества – весь этот “параллельный полис” – каким-то эмбриональным прообразом или символической микромоделью более осмысленных “постдемократических” политических структур, которые могли бы стать основой лучшего устройства общества?»[492]
Такие заявления из уст писателя, которому в предыдущие десять лет часто нелегко было даже выйти из дома, не говоря уже о поездках за границу, конечно, звучали смело. После Бархатной революции они были использованы в качестве улик теми, кто хотел выставить Гавела скрытым крайне левым, утопистом, а то и опасным радикалом, который пытается подорвать устои либеральной демократии на Западе, как он это уже сделал с «реальным» социализмом на Востоке. Так, Вацлав Клаус, выступая перед собравшимися почтить память покойного президента Вацлава Гавела, превозносил его как «убежденного сторонника и защитника ценностей гуманизма, демократии и прав человека»[493], однако уже через год эту свою хвалу заметно умерил: «Демократию он заменял элитарной постдемократией, вместо консерватизма и традиционных ценностей утверждал модернистское разрушение существующего человеческого порядка. Это было скорее эхо французского якобинства, чем консервативный британский принцип классического либерализма. Это была крайняя левизна»[494].
На первый взгляд, в этой критике что-то есть, хотя обвинение в якобинстве явно бьет мимо цели. Гавел тогда и позднее был глубоко убежден, что современная цивилизация с ее духовной пустотой и исключительной опорой на технические решения не может иметь долговременной перспективы. Это, однако, не превращало его ни в левого радикала, ни в мечтателя-утописта. Действительно, как подчеркивают некоторые авторы[495], нигде, включая Чехословакию после 1989 года, не произошла экзистенциальная революция, к какой призывал Гавел, однако из этого не следует, что такая революция невозможна или нежелательна. Если бы она произошла, у нее было бы мало общего с радикальной концепцией революции якобинцев, марксистов, маоистов или теологов освобождения, которые главным средством достижения своих политических целей считали и считают организованное политическое действие, часто насильственное. По Гавелу, как он вновь и вновь разъясняет, революция происходит внутри человека, и от политического действия он в принципе отказывается. Замечание Гавела, что «[человек] беспомощно наблюдает, как тот бездушно работающий механизм, который он сам создал, неудержимо поглощает его, лишая всех естественных связей (например, “дома” в самом широком смысле слова, включая и его дом в биосфере)»[496], трудно назвать радикальным в период, когда целые страны и континенты упорно пытаются восстановить наше естественное единение с окружающей средой, но, к сожалению, полагаются при этом на все те же технические средства, которые довели нас до такого состояния.
Едва ли также можно упрекать Гавела в проповеди очередной утопической идеологии. Идеологизированное мышление, как и утопические видения будущего ему абсолютно чужды. Путь нравственного возрождения – это история с открытым финалом, которая не имеет никакого конкретного или желательного срока завершения. Это каждодневный путь с разнообразными и непредсказуемыми препятствиями.
Вместе с тем нельзя отрицать, что Гавел, которого зачастую называют пророком непартийной политики, как теоретик диссидентства и практикующий политик скептически относился к политическим партиям. Сталкиваясь изо дня в день с миром практической политики, он в итоге нехотя признавал и принимал во внимание роль политических организаций как движителей перемен и носителей политической энергии. В то же время его сетования, что «весь этот неподвижный механизм застоявшихся, концептуально расплывчатых, не действующих столь целенаправленно массовых политических партий, управляемых профессиональными аппаратами и освобождающих граждан от всякой непосредственной личной ответственности, все эти сложные структуры скрытой манипуляции и экспансивных центров накопления капитала <…> вряд ли все это <…> можно считать каким-то перспективным выходом или поиском путей, на которых человек снова обретает себя»[497], в наши дни, возможно, звучат убедительнее, чем тридцать пять лет тому назад. Верно и то, что многие нынешние политические партии, кроме, может быть, нескольких традиционных, сохраняющихся главным образом в странах с мажоритарной или смешанной избирательной системой, очень похожи на его инициативы ad hoc, которые возникают для достижения определенной цели, после чего исчезают или преобразуются во что-то иное. Гавел, к сожалению, многие цели этих партий вообще не счел бы достойными таких усилий. Его призыв к «реабилитации таких ценностей, какими являются доверие, открытость, ответственность, солидарность, любовь»[498] в качестве главных движителей политической деятельности в наш век неуверенности, недоверия, безответственности, вражды и разочарования может показаться несколько наивным, но тем более насущным. Его совершенно естественное убеждение в том, что «авторитет лидеров должен определяться их личными достоинствами и отношением окружающих, а не их номенклатурным положением»[499], едва ли можно истолковать как тягу к «харизматическим и сильным лидерам»[500].
Может ли и должна ли возникнуть некая предсказанная Гавелом «постдемократическая система», и может ли служить ей моделью сообщество диссидентов, рожденное отчаянием и сохраненное силой взаимного доверия, любви, солидарности и ответственности, – к этим вопросам следует подходить критически, а возможно, и с долей скепсиса. Вместе с тем факт, что современная демократия переживает кризис, в наши дни становится более очевидным, чем в тот период, когда ее скрепляли мощные узы солидарности, без которых она не могла бы противиться смертельной угрозе тоталитаризма. «Теперь лишь Господь Бог может нас спасти», – цитирует Гавел в «Силе бессильных» Мартина Хайдеггера. Остаток своей жизни он провел в поисках такого Бога. Как можно было ожидать, в этих поисках он не преуспел, но оставил по себе следы, которые для нас могут быть важны.
Империя наносит ответный удар
Вацлав не трус. И это значит больше, чем быть мужественным.
Павел Ландовский. Беседы в Ланах. 30 декабря 1990 г.
Все то время, пока Гавел писал «Силу бессильных», он остро ощущал присутствие публики, которую он не приглашал и видеть у себя не хотел. С 5 августа 1978 года на дороге, что шла мимо его дома в Градечке, стояла машина органов безопасности, хотя дорога была непроезжая из-за кучи щебня на одном ее конце и знака, запрещающего въезд, на другом. Безопасность останавливала всех посетителей, предупреждая, что дальше они могут ехать только «на свой страх и риск», беспричинно их штрафовала и отбирала у них права. Желанной добычей были и водительские права самого Гавела, так что драматург чаще ходил пешком без прав, чем ездил с ними. Двое сотрудников сопровождали его, куда бы он ни шел, – купить еды в деревню или выгулять собаку[501].
В ноябре Гавел отправился в Прагу и, невзирая на данные им ранее обещания, вновь занял место спикера «Хартии» – вместо Марты Кубишовой, которая была вынуждена сложить с себя эти обязанности из-за проблем со здоровьем. Со следующего дня за Гавелом стали непрерывно следить сотрудники в штатском, сопровождавшие его повсюду, даже в сауну. Перед одним из таких посещений немолодой сотрудник с кардиостимулятором смущенно попросил его подождать, пока подъедет сменщик, который может безбоязненно зайти в жаркое помещение. Когда же через месяц Гавел с Ольгой снова приехали в Прагу, они обнаружили, что стали заключенными в собственной квартире. Теперь перед их дверью уже постоянно дежурили двое патрульных с рацией, которые не давали никому ни войти, ни выйти. Только когда до госбезопасности, видимо, дошло, что она обрекает своих узников на голодную смерть, Ольге позволили выйти в магазин.
Спустя три дня супруги вернулись в Градечек, где их ждал новый сюрприз. В поле через дорогу от их дома гебисты соорудили небольшой наблюдательный пункт на «курьих ножках», который Гавел окрестил «Луноходом», так как он отдаленно напоминал советский самоходный аппарат. Сотрудники безопасности в нем периодически сменялись, чтобы опасный бунтовщик все время был у них на глазах[502]. Как ему было свойственно, на своих соглядатаев – а большинство из них составляли местные стражи порядка, которых эта однообразная и явно абсурдная служба часто совсем не радовала, – никакой личной обиды он не держал. Прага, как и любой большой город, обеспечивала всем, включая сотрудников госбезопасности, некоторую анонимность. В маленьком же местечке, каким была ближайшая к Градечку деревня Влчице, люди знали обо всем происходящем и по большей части даже не пытались делать вид, что им это по душе. Гавел часто входил в положение своих «кураторов» и старался облегчить им службу невинными беседами, которые не компрометировали бы ни его, ни их. Перед лицом настырности органов он оставался вежливым и иногда даже предлагал гебистам кофе или чай, что вызывало резкие протесты Ольги, которая торжественно заявляла, что эти не заслуживают даже клички их собаки[503].
Другие сюрпризы были еще более неприятными. Хотя госбезопасность явно больше устраивало, когда Гавел находился в своем деревенском уединении, где за ним было проще следить и изолировать, она в то же время пыталась максимально отравить его жизнь авариями центрального отопления, водопровода и канализации в доме. В результате действия органов оказались не слишком осмысленными. С одной стороны, они пытались (в итоге безуспешно) юридическим путем лишить Гавелов их квартиры в Праге, чтобы вынудить драматурга с женой навсегда осесть в Градечке, а с другой – силились сделать их тамошнюю жизнь невозможной.
Несмотря на все неудобства, Гавел в Градечке, этом своем «экзистенциальном доме», чувствовал себя в большей безопасности. Он делал разнообразные домашние дела, ухаживал за садом и готовил ужин. Тем самым он сохранял некоторый контроль над своей жизнью. В деревне у него не было стольких отвлекающих факторов, как в Праге. Телефон в Градечке тогда отсутствовал. Оба его жилища теперь находились под надзором госбезопасности, но в Градечке он был не таким обременительным, а может быть, и не таким грозным. Здесь, в отличие от Праги, сотрудники ГБ сидели не прямо перед его дверью, а в «Луноходе» через дорогу, где они, по-видимому, скрашивали свою однообразную службу выпивкой и обществом женщин. Да и вероятность того, что его вдруг увезут на допрос и этим испортят ему весь день, в Градечке была меньше.
В 1978 году в Градечке он написал еще одно сочинение – одноактную пьесу «Протест», в которой одним из двоих главных действующих лиц выступает его alter ego Ванек. Вместе с «Аудиенцией» и «Вернисажем» она составила так называемую «ванековскую трилогию»[504]. Как и предыдущие две пьесы, она опиралась на личный опыт Гавела – на сей раз опыт сбора подписей под различными петициями и протестами в нормализованной Чехословакии. Визави Ванека – тоже писатель и интеллектуал Станек, который, однако, продолжает работать в рамках системы, хотя и сочувствует оппозиции и ее деятельности. Собственно, именно Станек просит Ванека о встрече, чтобы рассказать о деле молодого музыканта (по стечению обстоятельств – друга его дочери), которого режим несправедливо преследует. При этом Станек демонстрирует далеко идущие симпатии к диссидентам, предлагая даже деньги в помощь семьям политзаключенных. Когда же выясняется, что убеждать Ванека нет надобности, что он уже и петицию в поддержку молодого музыканта составил и как раз принес для подписания Станеку, тот в ответ произносит типичный гавеловский монолог и блистательно объясняет Ванеку, почему его подпись наверняка не только бы не помогла, но даже скорее бы повредила. Не скрывая разочарования, Ванек собирается уходить – и в этот момент в действии пьесы происходит еще один перелом. Выясняется, что Станек, возможно, был прав: молодого музыканта только что выпустили из тюрьмы. Если бы Ванек вмешался со своей петицией на несколько дней раньше, режим мог бы почувствовать себя загнанным в угол – и оставил бы парня под стражей.
Хотя Гавел считал «Протест», как и остальные одноактные пьесы, мелочью, этаким развлечением в духе Джона Грина, само это произведение показывает, насколько глубоко он сознавал не только нравственнную значимость и правоту его с единомышленниками деятельности, но и неизбежно характеризующую ее противоречивость, обусловленную отсутствием прямой причинной связи нравственного поступка с его последствиями. В реальном мире нравственный поступок мог оказать негативное влияние – точно так же, как бездействие могло обернуться положительным результатом. Ничто никогда не бывает простым и однозначным. Этот вывод оградил Гавела и других (хотя и не всех) хартистов от самодовольства, какое присуще столь многим революционным движениям.
Этот же вывод спровоцировал полемику между двоими ближайшими союзниками, друзьями и коллегами по писательскому труду. Начал ее Людвик Вацулик, задавшись вопросом, «достаточно ли я уже созрел для тюрьмы»[505], на который сам же и ответил в том смысле, что человек или должен вести себя так, чтобы такой вопрос перед ним вообще не возникал, или заранее решить, стоит ли его поступок такого риска. С этой дилеммой обоим сподвижникам и их коллегам приходилось сталкиваться постоянно. Отвечая Вацулику[506], Гавел так же, как в пьесе «Протест», возражает, что в мире правового произвола такой вопрос не имеет никакого смысла, так как невозможно предугадать, за что человек попадет в тюрьму или что может защитить его от этого. «В какой-то момент тактически выгоднее посадить Грушу, чтобы напугать этим Вацулика, тогда как в другой момент, наоборот, может быть удобнее посадить Вацулика, чтобы напугать Грушу». Заметка Вацулика, конечно, была написана из лучших побуждений в духе концепций «малых дел» и «элементарной порядочности», освященных именами Т.Г. Масарика и Карела Гавличека Боровского, и Гавел, возможно, несколько преувеличивал, подозревая своего друга в малодушии. Однако к критике Вацулика, к счастью, обошедшейся без серьезных последствий для их дружбы, Гавела побудило нежелание коллеги согласиться с ограничением интеллектуальной свободы даже по собственной воле и его настоятельное требование, чтобы нравственный компас не зависел от чего бы то ни было.
Несмотря на ограниченную возможность передвижения, Гавел нашел время и для шалостей. После «Оперы нищих» он сошелся с Яной Тумовой, которая днем работала продавщицей в книжном магазине, вечером гардеробщицей в пражском театре «Редута», а в выходные становилась актрисой-любительницей. Яна, в «Опере нищих» игравшая Элизабет Пичем, была простой девушкой; кроме прочих знаков внимания, она снабжала Гавела книгами, которые трудно было достать, а Ольга, видимо, терпела их роман, так как ей он не угрожал. Возможно, эта ситуация стала моделью для комического треугольника Пехара, Пехаровой и Милены в «Гостинице в горах»[507]. При этом Гавел уже какое-то время поддерживал достаточно серьезные и страстные отношения с Анной Когоутовой, красивой шатенкой родом из Югославии, бывшей женой его коллеги и друга Павла Когоута. Теперь их обоих связывали не только диссидентские впечатления, множество выпитых бутылок вина, гастрономически замысловатые домашние ужины для членов семьи и друзей, общий герой пьес, но также квартира[508], а – косвенно – и постель.
Подобная рокировка была частым явлением в диссидентской среде. Если она и напоминала тем самым вольнодумное сообщество с взаимным обменом женами, то это происходило исключительно в результате ограниченных контактов с окружающим миром и его сексуальными возможностями. Партнершей Гавела была прежняя жена Павла Когоута; Квета, бывшая жена Ивана Гавела, вышла замуж за Иржи Динстбира; Вера Ироусова, в прошлом жена Магора, была подругой Иржи Немеца, чья будущая бывшая жена Дана была благодарна Ольге Гавловой за то, что та иногда помогала ей заботиться о ком-то из их семерых детей. Глядя со стороны, можно с восхищением или осуждением относиться к той степени свободы и терпимости, которой требовали все эти метаморфозы, но в любом случае примечательно то, что человеческие связи в диссидентских кругах успешно переживали эту карусель, какой наверняка не выдержали бы многие более традиционные дружеские отношения.
Ольге не то чтобы было все равно, что происходит. Она любила мужа и порой могла очень резко продемонстрировать свою ревность. Однако вместе с тем она скорее предпочитала играть «материнскую» роль, сохраняя тем самым некоторый контроль над ситуацией, чем рисковать разрушением брака. Кроме того, Анна ей, по-видимому, искренне нравилась, и случалось, что обе женщины вместе проводили время в Градечке даже в отсутствие Гавела.
Ольга понимала, что ее муж и Анна действительно любят друг друга, что угрожает исключительному характеру ее отношений с Вацлавом, но никогда не ставила это в вину сопернице и держалась с ней по-настоящему уважительно, хотя и несколько напряженно. Точно так же Анна не захотела воспользоваться своим более выигрышным на тот момент положением, чтобы попытаться отбить Вацлава у Ольги. Почти двадцать лет спустя, когда Ольга умирала, Анна написала ему: «Дорогой Вашек! Я страшно рада, что Ольга дома с тобой и Дьюлой[509]. Я вас люблю. Думаю об Ольге и молюсь. Ваша Андула»[510].
Вечером 28 мая 1979 года все трое находились в разных местах: Анна дома, Ольга в Градечке, а Гавел на вечеринке, где в числе прочих гостей был певец Ян Воднянский со своей прелестной женой Иткой, психотерапевтом, которая сразу же приковала к себе взгляды Гавела[511]. Такие взгляды часто вели к более тесному знакомству, но в тот вечер Гавел пребывал в счастливом неведении, не подозревая, что это его последний шанс завязать близкие отношения с противоположным полом почти на четыре последующих года. Сотрудники госбезопасности, которые вышибли дверь его пустой квартиры, думая, что он прячется внутри, разыскивали его потом несколько часов[512] и в конце концов сцапали в квартире Анны. Когда в феврале 1983 года его выпустили, он поспешил в объятия женщины, которую вечером перед арестом видел последней. Правда, это была не Анна, а Итка Воднянская.
Процесс
Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.
Франц Кафка. Размышления о грехе, страдании, надежде и об истинном пути
Двадцать девятого мая 1979 года был вторник, и Гавел отсутствовал дома с предыдущего вечера. Арест был внезапным, но вовсе не неожиданным – судя по синей сумке, в которой лежали четыре рубашки, нижнее белье, туалетные принадлежности, свитер, пижама, тапочки и роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», история бунтаря, угрожающего общественному порядку[513].
Гавел не знал, что полиция провела обыск и в Градечке – и обнаружила там одну лишь Ольгу. Тем утром были задержаны остальные шестнадцать членов Комитета защиты противоправно преследуемых. Десять из них оказались в КПЗ по подозрению в подрывной деятельности. Режим явно не шутил. Сразу после ареста Гавела в Градечек приехал автокран и увез Луноход; это свидетельствовало о том, что – во всяком случае, в ближайшее время – вести за Гавелом наружное наблюдение не потребуется.
Это был логичный итог деятельности, которой Гавел занимался на протяжении последних двух лет, и он это хорошо понимал. Он осознавал, что арест – это своеобразный результат его стремления «реабилитироваться», его бурной деятельности, которая, как он догадывался, «скорее всего приведет к аресту»[514]. Кроме того, арест послужил делу разрушения мифа, который поддерживался в том числе и отдельными участниками диссидентского движения, – мифа о том, что среди хартистов есть люди настолько знаменитые, уважаемые, имеющие хорошо налаженные контакты внутри страны и за границей, что им – в отличие от менее известных смутьянов – не грозит риск преследования. Но если Когоут, можно сказать, наслаждался этим чувством безнаказанности, идя на неоправданные риски и при случае даже козыряя перед следователями своим положением неприкасаемого, то Гавел не мог с этим смириться и рассматривал такое состояние дел как очередной пример получения им незаслуженных преимуществ. Чувство вины, вызванное тем, что безвестные, ни в чем не виноватые и аполитичные молодые люди жесточайшим образом, как вредные насекомые, преследуются, в то время как он может жить на свои валютные гонорары, ездить на «мерседесе» и закатывать пышные ужины, было для Гавела одним из поводов обратиться к Когоуту и прочим с идеей, из которой выросла впоследствии «Хартия-77».
И вот теперь он смог на собственном опыте убедиться в том, что миф был именно мифом. Тоталитаризм, который в нужный момент жертвовал собственными преданнейшими и лучшими сторонниками с не меньшей охотой, чем обрекал на смерть своих истинных или мнимых противников, не знал, что такое неприкосновенность. Это правда, что в конце семидесятых годов прошлого столетия режим – в основном из-за чувства самосохранения – приглушил свои худшие инстинкты и научился обращению с такими понятиями, как тираж, доход и денежные выплаты. Судьба и благополучие любого индивида сводились к простой функции – склонность подчиниться, склонность создавать проблемы, популярность внутри страны и за ее пределами. В какой-то мере многое зависело от самого человека, от того, готов ли он соблюдать границы собственной функции или, подобно Гавелу, сознательно переступать их. Однако в политике режима, как говорил Гавел в дискуссии о пределах смелости, присутствовал и элемент случайности, произвольности. Если Гавел оказался под домашним арестом, то Павлу Когоуту разрешили годовое пребывание в венском «Бургтеатре», а вскоре в Вену уехал и Павел Ландовский. Государственная безопасность отлично умела демонстрировать глубинный смысл слова «покинутость».
На улице стояло лето – одно из самых теплых за много десятилетий. В камере Гавела, которую он делил с несколькими заключенными, было очень жарко и душно. Он объявил голодовку, протестуя против своего задержания[515], но быстро понял ее бессмысленность.
У него был еще шанс выйти на свободу. Государственная безопасность осознавала, что процесс над правозащитниками и вынесение им приговора получат огромный международный резонанс, и потому предложила Гавелу, как прежде Когоуту, легкий путь избежать такого развития событий: годовую «театральную стипендию» в Нью-Йорке. Чтобы подчеркнуть всю серьезность этого предложения, сообщил о нем Гавелу лично руководитель отдела Северной Америки МИДа. Такая стипендия и в самом деле существовала и даже являлась предметом переговоров между Государственным департаментом в Вашингтоне и пражским Министерством иностранных дел[516]. Этот спасательный круг обеспечил Милош Форман, а непосредственно бросил его Джо Папп, основатель нью-йоркского «Публичного театра», где в 1968 году состоялась американская премьера «Уведомления». Гавел это предложение выслушал, взвесил, обсудил с Ольгой во время их свидания 5 сентября и – отверг.
Память все сглаживает. В «Заочном допросе» Гавел говорит, что никогда не сожалел о своем отказе от поездки в США[517]. Двадцатью годами позже в интервью[518] он подал приход к нему Ольги в тюрьму и их разговор об этом предложении как нечто несерьезное – во всяком случае, с ее стороны. Согласно Косатику[519], Ольга, хотя и осознававшая разницу в их тогдашнем положении и потому оставившая право решать за мужем, в разговорах с друзьями отзывалась о предложении резко отрицательно. Другим же она говорила, что ненадолго уехать ей бы не повредило[520].
В действительности процесс принятия этого решения был мучительным. Адвокат Гавела Йозеф Лжичарж сообщил своему куратору из ГБ, что с учетом перспективы провести в заключении шесть-семь лет (что было вполне реально) Гавел предпочтет эмигрировать[521]. В дружеском кругу Ольга говорила, что во время одного из свиданий Гавел сказал ей: «Я готов отдать им пять лет своей жизни, но ни днем больше»[522]. Некоторые авторы задаются логичным вопросом, почему приговор, который базировался, главным образом, на соответствующем политическом решении, а не на праве, оказался не слишком суровым, однако достаточно жестким для того, чтобы вынудить драматурга уехать из страны. Тут явно сыграл свою роль элемент проблемы из теории игр «Дилемма заключенного»: режим, естественно, не мог заранее сообщить Гавелу срок его будущего заключения, чтобы тот принял решение, основываясь на этих сведениях. Но и отпустить его наслаждаться жизнью в Нью-Йорке после вынесения серьезного приговора тоже было невозможно.
Самыми надежными источниками о размышлениях Гавела на эту тему являются его тюремные письма Ольге, из которых видно, что процесс раздумий был весьма нелегким. В письме № 10 от 22 ноября[523] Гавел сожалеет, что, кажется, «переборщил с осторожностью» и «совершил ошибку», и предполагает: «…отреагируй я немного иначе, моя ситуация была бы сейчас заметно лучше»[524]. Письма Ольги Гавелу нигде не отыскались, поэтому мы можем лишь догадываться о том, что она ему ответила, но по письму Гавела № 13 от 3 ноября, где он упоминает о ее «нотации», можно судить, что Ольгу отнюдь не обрадовало, что Вацлав «опять» пускается в «какие-то неуместные рассуждения»[525]. Слово «опять» может означать лишь то, что Гавел серьезно размышлял об этом. В приведенном выше письме, однако, он не только относит Ольгины упреки на счет «недоразумения», вызванного его «путаными речами», но и переходит в атаку, напоминая, что именно она накануне спрашивала его, не стоит ли «все-таки рассмотреть это предложение»[526].
Вспоминая позже об этом эпизоде, Гавел, возможно, стал жертвой собственного героического мифа. Из контекста абсолютно ясно, что он не просто всерьез обдумывал предложение уехать в Америку, но и временами вообще думал только об этом. В приписке к письму от 1 декабря читаем: «Мне часто снятся Гонза Тршиска, Милош Форман и Павел К. Сплошь иностранцы»[527].
В преддверии многолетнего тюремного срока о более приятной альтернативе не станет размышлять разве что законченный тупица. Загадкой, напротив, является то, почему Гавел, во многих других ситуациях беспощадно откровенный в отношении себя, в этом случае темнит. Одно из объяснений лежит на поверхности – его опасение вновь выказать слабость, подобно тому, как это произошло в апреле 1977-го. Он не сумел понять, что истина выглядит куда более героической, чем ее упрощенная интерпретация. Решение отбыть весь тюремный срок принимал не наивный диссидент-супермен, а глубоко сомневающийся человек, отлично сознававший альтернативу, и хотя и мечтавший о более легком пути, выбравший путь более трудный; а уж какое сожаление он при этом испытывал, мы можем только догадываться. «Выдержу ли я эти пять лет? Наверное, да. Да у меня и нет другого выхода. То есть, может, и есть, но я даже не представляю, что должно случиться, чтобы я им воспользовался. Я уже утвердился в этой мысли. Я – чех до мозга костей и им и останусь»[528]. Ольгин же ход рассуждений был куда проще. Ей казалось, что лучше попытаться справиться со здешними трудностями, хотя они и не шли ни в какое сравнение с ситуацией Гавела; да и на другом берегу океана ее не ждало ничего особо интересного. Муж был личностью разноплановой, она – цельной натурой.
Самым удручающим в процессе, который начался 22 октября, а завершился уже на следующий день, было полное отсутствие драматизма. Председательствовало в суде чудище с говорящей фамилией Кашпар[529] (мы уже встречались с ним на предыдущем процессе; в награду за свои старания он получит портфель министра юстиции); само судилище своей предсказуемостью и даже деталями напоминало сталинские времена, хотя, к счастью, за кулисами не ждали палач и виселица. Из восемнадцати мест в маленьком зале заседаний пять было выделено каким-то седовласым персонажам, которые то приходили, то уходили. Шестое место предназначалось репортеру газеты «Руде право». Двенадцать оставшихся стульев никак не могли вместить всех родственников шести обвиняемых – Вацлава Гавела, Иржи Динстбира, Петра Ула, Вацлава Бенды, Отто Беднаржа и Даны Немцовой (у нее одной было семеро детей).
Стражи порядка шикали на небольшую группку близких и друзей, которые не попали внутрь, угрожали им. Некоторых ударили. Некоторых обыскивали. В самом судебном зале Кашпар прилагал все силы к тому, чтобы запугать подсудимых, свидетелей и зрителей. Он приказал конфисковать заметки, которые делали присутствующие на заседании родственники подсудимых, и силой вывести из зала жену Петра Ула Анну Шабатову.
Поведение подсудимых, которые, разумеется, нимало не сомневались в том, чем закончится процесс, отражало как их различные политико-философские воззрения, так и черты характера. Если Гавел пытался вступать с судьей в дискуссии и доказывать, что ничего преступного совершено не было – даже в весьма тесных рамках коммунистического понимания законности, – то радикальный социалист Петр Ул пошел путем, проложенным ранее его революционными предшественниками Георгием Димитровым и Фиделем Кастро, и наотрез отказал суду в легитимности.
Но это не имело никакого значения. Всего через день суд признал всех обвиняемых виновными в подрывной деятельности против республики и приговорил Петра Ула к пяти годам, Вацлава Бенду – к четырем, Иржи Динстбира – к трем, Вацлава Гавела – к четырем с половиной, а Отто Беднаржа – к трем годам заключения. Дана Немцова отделалась двухлетним условным наказанием – ее бывший муж Иржи Немец, тоже член КЗПП, находился в это время в тюрьме, так что суд, очевидно, опасался, что государству придется потратиться на содержание их семерых детей. После отказа в апелляции Гавела, Динстбира и Бенду 7 января 1980 года увезли в тюрьму в Остраве-Гержманицы. Спустя ровно три года после опубликования «Хартии-77» режим отплатил ее подписантам. Или думал, что отплатил.
Дорогая Ольга
Нет, не смотрел никто из нас
С такой тоской в глазах
На лоскуток голубизны
В тюремных небесах…
Оскар Уайльд. Баллада Рэдингской тюрьмы(перевод Н. Воронель)
О пребывании Гавела в тюрьме, сначала в предварительном заключении, которое длилось пять месяцев, а потом уже в тюремной камере, мы знаем в основном из судебных и тюремных документов, отрывочных воспоминаний его сокамерников, а также из его загадочных и умозрительных писем из тюрьмы, большая часть которых вошла в сборник, известный как «Письма Ольге»[530]. Когда Гавела напрямую спрашивали как, к примеру, Карел Гвиждяла в «Заочном допросе», о его тюремных впечатлениях, ответы звучали уклончиво. Гавел объяснял это тем, что не является «типом эпического автора»[531] и не умеет рассказывать истории так, чтобы удовлетворительно передать, донести до публики пережитое. Под напором интервьюера он признался, что в Гержманицах был сварщиком, но не успевал выполнять норму. Спустя несколько месяцев мучений и унижений его перевели на работу с автогеном, где он чередовался сменами с другим заключенным хартистом, бывшим журналистом и будущим министром иностранных дел Иржи Динстбиром. В тюрьме Боры, расположенной в предместье Пльзеня, он сначала работал в прачечной («очень почетное место»), а потом снимал изоляцию с кабелей. Остаток же времени терялся «в каком-то тумане»[532]. Иногда Гавел неохотно вспоминал о конкретных наказаниях и унижениях, таких как одиночка за невыполнение нормы, лишение права на переписку, получение передач и посещения, а также иные способы напомнить ему – в стране, где отрицалось существование политических заключенных, – что он куда хуже обычных преступников. Он был немного откровеннее, когда рассказывал об уважительном отношении к себе других заключенных (на помощь в написании писем и составлении жалоб в различные инстанции в тюрьме существовал большой спрос), а также о периодических проявлениях доброты со стороны отдельных тюремщиков. Во время ночных бесед с друзьями он иногда делился историями о внутренней структуре пенитенциарной иерархии, сексуальном насилии над некоторыми заключенными и о функционировании черного тюремного рынка.
Нежелание Гавела делиться воспоминаниями даже заставило отдельных людей думать, будто в заключении с ним произошло нечто такое, о чем ему не хотелось бы говорить. Но хотя память обыкновенно подавляет неприятные впечатления и чаще всего невозможно доказать, что то или иное на самом деле не происходило, нет ничего, что свидетельствовало бы о том, будто Гавел намеренно скрывал или исказил какие-то эпизоды из своего четырехлетнего пребывания в заключении.
Неспособность Гавела точно припомнить детали того или иного события и пересказать их в форме истории типична не только для его тюремного прошлого, но и для прочих периодов его жизни. Он ухватывал непосредственное впечатление и, если случившееся казалось ему любопытным, поначалу с удовольствием делился этим с каждым, кто проявлял к нему интерес. Но затем история оседала на дне его долговременной памяти и свое первоначальное впечатление он помещал в уже существующую абстрактную, умозрительную рамку – либо же брал его как основу для создания некоей новой рамки. «Чем погружаться в смысл пережитого опыта <…> лучше вообще о нем не думать»[533]; говоря это, он имел в виду не опыт как таковой, а его значение.
Невзирая на то, что неохота, с какой Гавел делился своими тюремными воспоминаниями, привела одного из его биографов[534] к мрачному выводу, будто данный период его жизни изучен менее всего, в действительности все обстоит ровно наоборот. Конечно, пребывание в тюрьме редко сопряжено с обилием событий, однако письма Гавела Ольге, которые он писал раз в одну-две недели, не оставляя ни единого свободного местечка на четырех страницах, дозволенных тюремным начальством, представляют собой уникальный документ, рассказывающий о его настроении, его заботах и образе мыслей, то есть обо всей его внезапно опрокинувшейся жизни, как раз и занимавшей в основном его мысли. Если документальные свидетельства о прежней жизни Гавела достаточно куцы и являют собой в основном различные версии общеизвестных анекдотов и историй – причем с большими лакунами, которые нельзя заполнить, – то, читая разделенные регулярными интервалами письма Ольге (этот единственный текст Гавела, близкий к дневнику), мы погружаемся в его переживания, расцвеченные интеллектуальными импульсами, которые давали «письма от Ольги»[535] (на самом деле – от брата Ивана и друзей; собственноручные, куда более короткие письма Ольги не сохранились).
Пожалуй, это утверждение надо сформулировать еще более четко: ни о каком другом периоде жизни Гавела нам не известно столько, сколько о годах, проведенных им в заключении. Разумеется, нам недостает подробностей о его работе сварщиком и ее результатах, о том, как он учился управляться с автогеном, о более чем однообразном меню тюремной столовой и прочих бытовых мелочах. Но вряд ли все это заметно обогатило бы общую картину. Что же касается жизни внутренней, то мало кто занимался столь подробным самоанализом и фиксировал бы его результаты с такой тщательностью, как Гавел в своих письмах Ольге. Для тех, кто интересуется жизнью души, они – просто неоценимый источник. Каждый человек, перед которым маячит перспектива практически непрерывной четырехлетней медитации, погрузится в глубины собственного «я» и переосмыслит некоторые свои ценности. Но Гавел подошел к этому, вооружившись словарем писателя, самодисциплиной и аналитическими инструментами студента, изучающего феноменологию и экзистенциальное мышление.
Время от времени можно встретить утверждение, будто «Письма Ольге» являются образчиком жанра эпистолярного романа – единственного жанра, доступного заключенному. Коротко говоря, это не так; замысел использовать переписку как литературную форму явно возник не одномоментно, а лишь спустя некоторое время. Точно так же «Письма» – это не образец любовной переписки, как говорят отдельные романтически настроенные особы. «Письма Ольге» представляют собой инструмент, изобретенный Гавелом для того, чтобы пережить происходящее с ним как с человеческим существом, писателем и хранителем собственной души. Одновременно они стали еще и неисчерпаемым источником информации о внутренней вселенной Гавела – как для его читателей, так и для его тюремщиков. «Его письменные контакты нужно тщательно отслеживать, – написал главный тюремный “воспитатель” Гавела капитан Мирослав Кадлчак. – В некоторых случаях содержание письма оказывалось вредоносным»[536].
В первых примерно пятидесяти письмах Гавел в основном занимается решением множества практических проблем, с которыми должен разобраться человек, внезапно арестованный средь бела дня: личные вещи, могущие понадобиться в заключении, сюжеты, относящиеся к ведению защиты, и всякие домашние дела: неоплаченные счета, ремонт машины, мебель в пражской квартире (как именно следует с ней поступить, потому что вся она там не помещается). Море чернил было изведено на Градечек: что и как там следует сделать и что предпринять против новых попыток властей до крайности усложнить тамошнюю жизнь Гавелов или вообще лишить их этого экзистенциального обиталища. В письмах первого тюремного полугодия все это сопровождает некая приглушенная, но настойчивая и тревожная нотка. Гавел снова и снова убеждает Ольгу (а похоже, и себя самого) в том, что он готов принять свою судьбу и принимает ее «спокойно», ни о чем не сожалея. Но эти заверения повторяются так часто, что за ними проступают сомнения, какая-то неубежденность; это похоже на его откровенное заигрывание с темой эмиграции. Холодная жертвенность, едва ли не удовлетворение от того, с какой неотвратимостью ведет его жизнь по избранной им дороге, и даже от давно желанной «реабилитации» смешивается с мрачными рассуждениями об ожидающем его «огромном ведре горечи»[537] или даже о том, что «это, возможно, Господь Бог наказывает меня за гордыню»[538].
Противоречивость чувств Гавела объясняется не только заключением как таковым – его он давно предвидел и с мыслью о нем успел уже смириться. Из его писем и рассказов его друзей можно совершенно отчетливо понять, что вместо того чтобы стоически переносить тяготы заключения, будучи психологически готовым ко всему, чем режим попробует сломать его, он, к своему ужасу, чувствовал себя психологически раздавленным.
Годы подпольной деятельности, стресса и напряжения, допросов и слежки в сочетании с утомительным рабочим и светским ритмом жизни Гавела взяли свое. Но куда более тяжким оказалось осознание, что их брак с Ольгой близок к краху именно тогда, когда он был менее всего в силах что-либо предпринять. Поначалу Гавел вряд ли понимал, что, возможно, именно его заключение спасло их семейную жизнь; еще год назад они всерьез обсуждали развод.
Не то чтобы их брак был уже мертв. Наоборот, окруженные суровой действительностью, они теперь зависели друг от друга больше, чем когда-либо. Ольга демонстрировала примерную верность и была абсолютно серьезна, говоря, что последует за Вацлавом куда угодно – «хоть бы и в тюрьму»[539]. Однако она не была уверена, что может ожидать такой же преданности и от него. И дело было не в его любовнице – точнее говоря, по крайней мере, в двух любовницах. Изменял он и раньше, да вдобавок частенько чувствовал моральную необходимость сообщить об этом Ольге; с этим она научилась как-то справляться. Она списывала измены на его богемный темперамент, на стиль жизни, присущий творческим натурам, на нездоровое влияние друзей (к примеру, Павла Ландовского) и на всеобщее пренебрежение нормами морали, свойственное поколению шестидесятников. Ольга умела терпеть подруг Вацлава, будучи уверенной в том, что в конце концов он всегда придет к ней.
Но теперь все было иначе. Гавел полюбил Анну Когоутову, и Ольге казалось, что ее лишили монополии на верность. Характерно, что о разводе в основном размышляла она, а не он. Он же со своей стороны не видел ничего особенного или невероятного в верности двум, а то и трем женщинам; во всех случаях он, обещая верность, не лгал, но чувствовал и рассуждал при этом совершенно по-разному.
Ситуация, однако, резко обострилась. Deus ex machina в лице команды ГБ застала Ольгу в добровольной ссылке в Градечке, а Вацлава – в квартире Андулки. Возможно, только тогда, когда за ним с грохотом захлопнулась металлическая дверь тюремной камеры, он осознал, что его брак находится под угрозой.
Прочее можно отыскать – если, конечно, вы сумеете уловить намеки – в «Письмах Ольге». Вечные жалобы Гавела на то, что Ольга ему не пишет, а если и пишет, то как-то нервно и слишком деловито, нельзя объяснить лишь тем, что Ольга не отличалась особой склонностью к писанию писем. Может быть, в первую пару недель у нее вообще не было настроения с ним общаться. В конце концов, мужа задержали в квартире другой женщины, да при этом даже не за супружескую измену. Разве может быть доказательство неверности, весомее этого?!
Десять лет спустя, в феврале 1990 года, вся президентская команда встречала Джейн Фонду: она приехала в гости к одному из самых уважаемых людей того времени. Когда оба обменялись всеми воз– можными комплиментами, Фонда перешла к делу. Ее осенила замечательная идея: снять фильм о Вацлаве и Ольге, который бы так и назывался – «Вацлав и Ольга» – и который продюсировала бы сама Джейн (в том, что деньги на этот проект она соберет, сомнений ни у кого не было). Она даже могла бы сыграть Ольгу! Гавел (хотя и не отверг это предложение с порога) был заметно смущен. Сотрудники Гавела – и я в том числе – весело обсуждали премьеру поставленного на новый лад «Евгения Онегина». При всем уважении к великой актрисе мы не думали, что ее замысел так уж хорош или что она справилась бы с этой задачей. Честно говоря, мы даже представить не могли, кто бы смог «встать на одну ступень» с этими необычными и весьма сложными отношениями.
Большинство длительных браков – это либо партнерство равных, либо союз взаимно дополняющих друг друга личностей, где один партнер доминирует, а второй подчиняется. Но поскольку люди вступают во взаимоотношения на самых разных уровнях, то можно представить себе брак, где партнеры меняются ролями в зависимости от времени и обстоятельств: доминирующий становится подчиненным, а подчиненный доминирует. Это как раз случай супругов Гавелов. Много слов написано о материнской модели женщин Вацлава Гавела, и Ольга в определенной мере соответствовала стереотипу заботливой хлопотливой матери, так же как Вацлав соответствовал стереотипу умного, развитого, избалованного и временами весьма упрямого ребенка. Его бесконечные жалобы на нерегулярность и содержание ее писем, его детальные инструкции (как ей следует себя вести, как одеваться, как причесываться), критика ее манеры письма и прочих ее недостатков, требования, чтобы она внимательно штудировала его письма, занималась его делами, думала о нем – и постоянно, и в определенные часы[540], – чтобы любила его, не требуя любви взамен, рисуют его в «Письмах к Ольге» как эгоцентричного домашнего тирана. Удовольствие, с которым Вацлав рассказывал ей о своих любовных успехах, просьбы к ней (уже из тюрьмы) передавать нежные приветы, стихи и подарки даже не одной, а сразу двум другим женщинам – все это выходит за границы понимания. Столь же сложен был Гавел и в быту, в основном из-за озабоченности собственными привычками и из-за того, что он упорно настаивал на соблюдении некоего порядка, который сам же и нарушал, неожиданно приводя в дом самых разнообразных гостей и устраивая вечеринки или спонтанные поездки за город – по поводу и без. Когда ему что-то не нравилось, он обращался к жене не «Ольго» (в звательном падеже), а «Ольга», то есть так, как знатные дамы окликали прислугу. Гавел хотел, чтобы она, с одной стороны, всегда играла роль приветливой хозяйки, а с другой – особенно когда он садился ночью за письменный стол – неумолимой охранницы. На следующее утро Ольга должна была утихомиривать собак, детей и гостей, чтобы они не шумели и не мешали Вацлаву спать. Все эти детали вроде бы рисовали не слишком привлекательный портрет домашнего божка, которому поклоняется покорная жена, – божка, столь же эгоцентричного и себялюбивого, как многие другие великие люди.
Однако это даже отдаленно не соответствует действительности – потому что Ольга ничего такого ему не дозволяла. Вацлав вовсе не был ее горячо любимым избалованным ребенком – он полностью зависел от Ольгиного одобрения и духовной поддержки. Наряду с бесконечными просьбами в письмах заботиться о нем, слушаться его, любить его, он – и в тюрьме, и вне ее – сообщал Ольге все новости, показывал каждую новую рукопись и рассказывал о любой своей проблеме. В бурные революционные дни конца 1989 года и в не менее бурные первые недели президентства (начало 1990-го) слова «Где Ольга?» стали у Гавела чем-то вроде нервного тика – ими он выражал свою потребность видеть рядом и ощущать поддержку человека, знавшего его лучше всех.
Хотя Ольга была целиком и полностью предана своему мужу, она не отличалась сентиментальностью, когда дело касалось их отношений и границ этих отношений. Да, она пошла бы за Гавелом даже в тюрьму. Но если бы он не вернулся оттуда, из ее уст вполне мог прозвучать тот же ответ, какой якобы дала американская писательница Дороти Паркер своей любопытной соседке, которая спросила, чем ей помочь после самоубийства супруга: «Найдите мне нового мужа».
Кажется, вся асимметрия, дававшая о себе знать на самых разных уровнях их сложных взаимоотношений, в конце концов вылилась в брак равных партнеров. Как говорила Ольга, «в основном мы делаем, что хотим; иногда я его слушаю, иногда стою на своем»[541]. И хотя они частенько сосредоточивались на решении чисто практических проблем, их отношения не были сугубо деловыми. После более чем двадцати лет брака они были очень привязаны друг к другу, и вместе им бывало хорошо. Когда они садились с кофе и сигаретами в кухне или на пороге Градечка и тихонько наслаждались минутами покоя, от них обоих исходили волны радости, которую дарила им взаимная близость. Однако было ясно: вместе, во всяком случае, во второй половине семидесятых годов, их удерживал вовсе не секс. Гавела, нуждавшегося в няньках, тянуло к женщинам в теле и с тонкими чертами лица. У Ольги была красивая выразительная внешность, и ее лицо могло отразить любую эмоцию – от задумчиво нежной до холодно яростной, – но общее впечатление она производила скорее угловатое. Она была умна и понимала, что их отношения и удовольствие, которое оба от них получали, основаны совсем не на сексе. Свою ревность она выказывала крайне редко и даже вроде бы легонько подталкивала мужа к внебрачным связям, держась откровенно дружески с некоторыми – не со всеми – его любовницами. Повторяющиеся ситуации в «Гостинице в горах», «Опере нищих» и «Largo desolato» (когда жена дает мужу советы, как именно ему следует вести себя с возлюбленными) явно инспирированы случаями из жизни. Однако и тут Ольга вовсе не выступала в роли несчастной женушки гулены-мужа, а была равноценным партнером. То, что позволялось одному, позволялось и другой. Хотя она не была так не уверена в себе, как Вацлав, то есть не ощущала невротической потребности повышать собственную самооценку при помощи новых и новых подвигов на любовном фронте, но если ее к кому-нибудь тянуло, то она этому не противилась, и так было и до того, как Гавел надолго попал в тюрьму. Впрочем, это вело к очередному перекосу в их браке. Подобно обычному часто изменяющему мужчине, Гавел абсурдным образом ревновал собственную жену.
Их негласный договор (ничто не свидетельствует о том, чтобы они когда-нибудь это обсуждали) прекрасно работал, пока обе стороны были уверены друг в друге. Но теперь, когда Гавел влюбился в Анну Когоутову и играл с ней и ее дочерьми в настоящую семью, пускай и несколько своеобразную[542], Ольга явно теряла эту уверенность.
В «Письмах Ольге» присутствуют лишь косвенные доказательства того, как больно ей тогда было, однако же их там много. В письме № 13 Вацлав подробно анализирует некоторые аспекты сложившейся ситуации, повторяет просьбы, просит передать ему витамины, которые можно получить у врача – друга А. (Анны), а заканчивает свое послание несколькими прямыми приказами, выделенными прописными буквами. Последний из них следует сразу после «ШТУДИРУЙ МОИ ПИСЬМА И СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ», это – «ЛЮБИ МЕНЯ» (свою любовь он, судя по всему, полагал настолько очевидной, что даже не упомянул о ней). Затем идет пассаж о приключившемся с ним ночью приступе паники, где Гавел, между прочим, пишет: «Вот видишь: у меня тоже в жилах не водица!»[543] Мы точно не знаем, что ему писала Ольга, но смысл абсолютно понятен.
Самое первое письмо из КПЗ, датированное 4 июня[544], показывает, что задержанный не питал никаких иллюзий ни о положении, в котором оказался, ни о грозившем ему тюремном сроке. После своих предыдущих арестов он был уже неплохо готов к новым ударам судьбы. То, что прежде его нервировало, теперь – по его собственным словам – «не может уже удивить или разбить на кусочки», хотя, конечно, (вновь цитата) «тюрьма – это страшная мерзость»; далее следуют жалобы на влажную жару. В этом письме определены приоритеты Гавела в первую неделю неволи. Он был уверен, что мелкие и привычные радости жизни помогут ему легче сносить тяготы заключения, и просил Ольгу прислать ему растворимые порошковые соки, лимоны, сырную нарезку и сигары – «как обычно». Он требовал, чтобы она «много» ему писала, в том числе и о том, «как наш газон переносит эту сушь», что, вполне возможно, было зашифрованным вопросом о настроениях в рядах хартистов; газон у подножья Крконошских гор в начале июня – это вообще-то последнее, о чем стоило беспокоиться. Он очень обрадовался, узнав, что шефство над травяным покровом взял д-р Даниш, хотя его радость наверняка бы поумерилась, услышь он о том, что его адвокат являлся информатором ГБ. Вдобавок это, по большому счету, уже не имело значения, поскольку у Даниша, обвиненного в нападении на представителя правоохранительных органов, дело Гавела было отнято и в официальном порядке передано д-ру Лжичаржу, тоже сотрудничавшему с госбезопасностью. Еще Гавел просил, чтобы жена передала от него привет «Андулке» и дала ей прочесть его письмо. Андулка – это, разумеется, Анна Когоутова. (В более поздних письмах Гавел говорит о своей любовнице как о «Квете»: это имя его невестки, жены Ивана – одной из тех, с кем заключенному разрешалось поддерживать связь.) Наконец, он поручает Ольге передать привет нескольким друзьям, включая Яну Тумову из труппы «Оперы нищих», его вторую любовницу.
На следующий день пошел дождь, дышать стало легче, настроение у узника заметно улучшилось, и он принял решение отныне писать письма, находясь именно в таком расположении духа. Гавел сообщал, что начал свою очередную пьесу (на фаустовскую тему) и пока еще недоволен ею, хотя и добрался уже чуть ли не до середины. Это сообщение опять же следует рассматривать как некую шифровку, которую не поймут неосведомленные тюремщики. Ольга всегда знала о том, на какой стадии находится создание того или иного произведения. Эта вроде бы избыточная информация свидетельствует либо о том, что их привычная коммуникация после его ареста нарушилась, либо – что Вацлав беспокоился о судьбе рукописи и хотел, чтобы жена спрятала пьесу, либо – что все эти сведения предназначались кому-то другому. В этом письме есть также загадочное замечание о фразах, брошенных Гавелом при задержании и, как он пишет, «совершенно не соответствующих моей спокойной натуре». Полиция сочла их попыткой «произвести впечатление на некую девушку, которая их слышала», скорее всего – на Катержину, старшую дочь Анны[545].
Во втором письме, опубликованном в «Письмах Ольге» лишь частично, Гавел сравнивает ощущения, которые он испытывал во время всех трех своих арестов, и констатирует, что теперь подходит ко всему с большей покорностью судьбе – как к чему-то, «что рано или поздно должно было случиться». Ему кажется, что его нервозность последних дней объяснялась именно ожиданием этой минуты, и он надеется, что выйдет из тюрьмы «чуть более уравновешенным», а «вокруг меня тоже все несколько успокоится». Возможно, исчезнут и некоторые «так сказать, интимные причины», столь занимавшие его целых два года. Это практически признание того факта, что в их семье в последнее время не все было гладко[546].
Третье письмо свидетельствует о том, что даже перед маячившей перспективой провести несколько лет в заключении Гавел остался столь же дотошным, как всегда. Он инструктирует Ольгу, чтобы та по списку, им составленному, забрала одолженные кому-то книги, запаслась топливом на зиму и записала для него все интересные концерты и спектакли, которые посетит. Ближе к концу письмо обретает более личный характер. «Когда вернусь, я покажусь тебе несколько диковинным, а это неплохо после стольких лет совместного житья. Ну, а то, что ты покажешься диковинной мне, – так об этом и говорить нечего». Письмо свое Гавел подписал: «Пока, Ворчун!»[547]
В четвертом письме, датированном 8 июля, Гавел проигнорировал приближавшийся день рождения Ольги (11 июля), зато не забыл упомянуть, что она должна «передать отдельный привет… моей подруге» Андулке. Еще он замечает, что из-за тюремной цензуры вынужден писать разборчивым, «почти детским почерком», и говорит о своих ностальгических, сентиментальных чувствах, что и иллюстрирует соответствующим рисунком[548].
За то, что он забыл поздравить Ольгу с днем рождения, Гавел в пятом письме (от 21 июля) просит прощения и сулит ей подарок после своего освобождения. (В 1977 году он изготовил для Ольги в заключении бусы из хлеба; судя по всему, они ей не слишком понравились.) Гавел не скрывает радости от того, что именно сообщила ему Ольга, говоря, что она тем самым подтолкнула его вернуться к пьесе (Ольга написала, что есть группа людей, разыгрывающих его пьесы), но одновременно жалуется, что она не послала ему поцелуй – и он сам, мол, знает, почему. «Не знаю, почему!» – протестует Гавел.
В пятом письме Гавел передает привет отцу, который попал в больницу из-за заболевания дыхательных путей, выражая надежду, что тот уже полностью оправился и вернулся домой. К сожалению, надежда его не оправдалась. Пока он писал свое письмо, папочка внезапно умер. Иван, на которого легли хлопоты по организации похорон, так же, как они легли на плечи Вацлава, когда умерла их мать, а Иван был в Беркли, сказал по этому поводу: «Наверное, так суждено, что каждому из наших родителей готовит похороны только один из нас»[549]. Прокурор любезно разрешил, чтобы заключенный в гражданской одежде присутствовал на траурной церемонии. Сразу после ее окончания Гавела под конвоем отправили обратно. В шестом письме, написанном три дня спустя, он упоминает об этом печальном событии, которого долгие годы страшился и известие о котором принял с удивительным спокойствием. Сразу вслед за этим рассуждением следует длиннейший перечень вещей, которые следует прислать ему в тюрьму, а также список всяких хозяйственных дел. Он даже велел Ольге перепечатать список на машинке и вычеркивать пункт за пунктом по мере выполнения. Есть какая-то ирония в том, что в таком важнейшем деле, как продажа квартиры в Дейвицах и переезд в освободившуюся квартиру отца, он целиком полагается на Ольгу и Ивана. Письмо кончается двумя проявлениями нежности: «Ворчун, не забывай о квартплате!» и «Миндаль не присылай – после него хочется вина!»[550]
После суда груз забот Гавела вроде бы стал полегче. Его еле скрываемые опасения о судьбе их с Ольгой отношений словно бы отошли на задний план. В самом начале процесса он еще демонстрировал некоторую неуверенность. («В первый день процесса ты улыбалась мне как-то странно – как будто делая из меня дурачка»[551].) Однако после того, как ей разрешили выступить в его защиту, – несмотря на ее страхи, что Гавел упадет в обморок, услышав, как она говорит на публике, – никаких сомнений остаться у него уже не могло[552]. В тот момент он совершенно уверился, что, хотя ему и суждено провести в тюрьме несколько лет, Ольга его дождется. «Чего мы только не переживали – переживем и это!»[553]
По обыкновению, методичный Гавел составил список заданий на время своего тюремного заключения. Вот он:
1) сохранить столько здоровья, сколько есть у меня на сегодняшний день (возможно, вылечить геморрой);
2) полностью перестроиться психически и умственно;
3) написать по меньшей мере две пьесы;
4) улучшить английский;
5) выучить немецкий – по крайней мере так, как я владею английским;
6) хорошенько проштудировать и обдумать Библию[554].
Сказать, что этот план был выполнен, определенно нельзя – хотя и не только по вине Гавела. Из тюрьмы он вышел больным; режим, можно сказать, выгнал его, опасаясь, что опекаемый им заключенный умрет. Проблемы с дыханием, появившиеся у него после перенесенного в тюрьме воспаления легких, продолжались и усугублялись до конца его жизни (геморрой, о котором Гавел время от времени упоминает в письмах, мучил его долгие годы, хотя в сентябре 1980 года ему и была сделана операция в тюремной больнице). Пьесу он не написал, но все-таки проработал несколько версий на тему Фауста, из чего потом выросло «Искушение». Его английский тоже не слишком улучшился[555]. К немецкому Гавел так всерьез и не подступился и никогда больше к этой идее не возвращался. Что касается Библии, то в предварительном заключении он прочел две Книги Моисеевых, но потом его перевели в Гержманицы, где Священное Писание у него отобрали, так что библейские представления Гавела так и остались поверхностными. Кажется, более всего он преуспел в пункте «умственно перестроиться». Со стороны могло показаться, что он вышел из заключения прежним, разве что чуть более углубленным в себя – это было результатом вынужденного длительного уединенного медитирования. Однако на самом деле, как это становится ясно из писем Ольге, с ним произошла метафизическая революция. Конечно, он и раньше в своих пьесах, эссе и публичных выступлениях разрабатывал тему самоидентичности и моральной ответственности, но теперь самой постановкой вопроса о сокровенном смысле жизни, «точках схода» и «тайне бытия» он сделал ее средоточием своего существования. И нет ничего случайного в том, что просветление, способность ясно мыслить и рассуждать о подобном «посещают» людей, оказавшихся в полном одиночестве – в пустыне, в горах и… в тюрьме. Возможно, именно там и тогда, вдали от шумного влияния толпы, от дел, от всего того, из чего и складывается каждодневная жизнь, появляется надежда приглядеться к «метафизическому горизонту». Но несомненно также и то, что психологические изменения подобного рода – хотя они и могут длиться долго – все же рано или поздно уходят. Любое человеческое творение – как бы ни поражали нас дисциплинированность и целеустремленность, с какими Гавел подходил к интересующей его теме, – подвластно эрозии и разложению, когда исчезают изначально питавшие его источники.
Так или иначе, но полученный опыт подготовил Гавела к тому, чтобы полностью сосредоточиться на стоявших перед ним задачах, в конечном счете определивших его роль лидера Бархатной революции. И хотя тюрьма вовсе не сделала его аскетом и он по-прежнему любил жизнь и поддавался иногда ее искушениям, но после того, как миновал первый шок от обретения свободы, судьбу Гавела уже всегда направляли выбранные им приоритеты, которые можно было бы назвать осознанием некоей собственной миссии, если бы только сам он не презирал пышные слова. Люди, знавшие Гавела только по статьям в коммунистической печати или в лучшем случае по его пьесам, часто удивлялись, откуда взялась его внутренняя убежденность в собственном праве возглавить революцию и стать президентом. Люди, близко с ним знакомые, удивлялись лишь тому, что кто-то этому удивляется.
Тюремный психолог поручик Чапчова пришла к выводу, что заключенный Гавел представляет собой «экстравертную личность с высоким умственным потенциалом, открытую окружающим, знающую мир, либеральную, свободно мыслящую, радикальную, ему нравится принимать самостоятельные решения, он самодостаточен, склонен к интеллектуальным занятиям, у него яркая внутренняя жизнь и манера изъясняться…»[556] Но она также отметила его всегдашнее беспокойство и тревожную неуверенность в себе. Составленный ею профиль нельзя назвать неверным. С остальными заключенными, большинство из которых были обычными преступниками, у него сложились хорошие отношения. Его, как и любого новичка, подвергли целому ряду проверок, унижений и мучений. Судя по всему, испытание он выдержал и очень скоро стал пользоваться авторитетом благодаря своей безусловной порядочности и вежливости, а также знанию законов и умению писать жалобы, на что в тюрьме всегда был большой спрос. То, что он был «политический», хотя формально такого статуса и не существовало, позволило ему занять довольно высокую ступень на арестантской иерархической лестнице, на самом верху которой находились опытные грабители и медвежатники, а в самом низу – педофилы. Большая часть заключенных не имела никаких причин сочувствовать режиму. Гавел вспоминал, как ему и его коллегам – «политическим» – предсказывали, что они в один прекрасный день станут президентами, министрами и кардиналами. «Впоследствии оказалось, что в нашем блоке сидели будущий сенатор, будущий министр иностранных дел, будущий архиепископ и будущий президент»[557].
Письма и воспоминания Гавела проливают свет и на то, как обходились с ним тюремные власти. Начальник тюрьмы подполковник Кошулич был мелким чешским садистом. Четыре года, в течение которых он мог измываться над заключенным и унижать его, явно показались ему недостаточными, и потому он по собственной инициативе обратился в суд с вопросом насчет четырнадцати месяцев условного срока, к которому Гавела приговорили в 1979 году. Суд не пошел ему навстречу, чем наверняка горько разочаровал[558]. Телеграмма из Гержманиц о разрешении навестить мужа в остравском пенитенциарном учреждении в 9 утра 24 февраля 1980 года пришла Ольге Гавловой на ее пражский адрес… 24 февраля 1980 года[559]. В нескольких письмах Гавел объясняет перерыв в переписке мелкой «неприятностью», что означало одиночку или дисциплинарное взыскание. Согласно документам, он подвергался наказаниям более дюжины раз за самые различные проступки – от курения в неположенном месте до невыполнения рабочей нормы. Ему уменьшали сумму карманных денег, на месяц лишали права смотреть фильмы или телевизор, но хуже всего был запрет на получение передач из дома – однажды за то, что «лежал на койке в ненадлежащее время», во второй раз – за особо отвратительное деяние: «дал учебник немецкого языка другому заключенному, которому запрещено заниматься изучением иностранных языков»[560]. Хотя изначально Гавела приписали к географическому кружку, ходить на занятия он не решался, опасаясь заниматься столь чувствительной темой, как география. Принять участие в деятельности тюремного самоуправления он так и не отважился. По крайней мере однажды Гавела наказали за подозрительное содержание его письма, что свидетельствует о суровости ограничений, которым он вынужденно подчинялся.
Летом 1981 года, примерно в середине своего срока, Гавел явно пережил некий кризис. Он получил пятнадцать дней одиночки за «неподчинение приказу», в результате заболел и попал в пражскую тюремную больницу. То ли Кошулич решил от него избавиться, то ли начальство начало опасаться за жизнь заключенного «под особым наблюдением», но в Гержманицы Гавел уже не вернулся – его перевели в Боры в предместье Пльзеня. Хотя пльзеньская тюрьма и помнилась ему чем-то темным и внушающим ужас (он навещал там в детстве дядюшку Милоша), он все же радовался избавлению от Гержманиц. Какое-то время он трудился в тюремной прачечной – весьма ценимое заключенными место работы, – где у него было больше времени для написания писем. «Мои концепты скрывались в горах грязного, с миллионами следов нерожденных детей белья»[561], – поэтично сообщал он позднее. В Гержманицах и Борах к нему относились как к не создающему проблем рядовому заключенному. Когда прошла половина его тюремного срока, в условно-досрочном освобождении ему, однако, как и предполагалось, было отказано[562].
Но Гавел явно не тратил слишком много энергии ни на своих тюремщиков, ни на сокамерников, экономя ее для четкой цели: пережить условия заключения физически и душевно и добиться умственной перестройки, о которой он мечтал. Хотя никогда прежде он не занимался физкультурой ради физкультуры, тут он впервые – и, кажется, единственный раз в жизни – начал поддерживать что-то вроде физической дисциплины. Он практиковал йогу и очень гордился тем, что научился стоять на голове. Разумеется, после освобождения ни к чему подобному он уже не вернулся.
Редкие передачи из дома, которых он всегда с нетерпением ждал, были единственным, что разнообразило скудное тюремное меню, и письма, касающиеся их содержимого, отличаются дотошностью и требовательностью. Табачные изделия – то есть сигареты, сигариллы, табак для набивки сигарет – всегда стояли в начале списка. Гавел заказывал растворимый апельсиновый сок и фрукты, чтобы избежать вредных последствий от тюремной еды, которая была практически лишена витаминов. Хотя он, как и всякий интеллектуал, любил кофе, в тюрьме он перешел на чай, потому что понял, что сварить хороший кофе там нельзя. Его любимой маркой был Earl Grey, который «в Англии пьют только пожилые дамы во время своих дневных посиделок»[563]. Нечешскому читателю или чешскому читателю, принадлежащему к молодому поколению, разумеется, невдомек, что большинство этих вещей было практически недоступно – не только в тюрьме, но и в обычных магазинах. Тут-то и пригодились валютные гонорары Гавела, которые после обмена на специальные боны можно было использовать в сети магазинов «Тузекс». Если какие-то из этих вдвойне экзотических товаров почему-либо оказывались лишними, их можно было выгодно обменять на черном тюремном рынке на другие товары или услуги.
Хотя тюремная кормежка и была небогата в отношении разнообразия и «изысканности» блюд, она, очевидно, отличалась высокой калорийностью и обилием, потому что Гавел постоянно жалуется, что «толстеет», невзирая на изматывающий физический труд, к которому он не привык. В заключении он следил за своим весом и, хотя этого не было среди поставленных им целей, вполне в этом преуспел – в том числе и из-за нескольких заболеваний дыхательных путей, одно из которых закончилось опасным для жизни воспалением легких. В результате пребывание в тюрьме сильно отразилось на его пищевых предпочтениях. До заключения он был, можно сказать, гурманом и с удовольствием готовил плотные ужины. Неподалеку от Национального театра у него было несколько любимых ресторанов – например, «Монастырский винный погребок», где когда-то помещалась трапезная монастыря ордена сестер-урсулинок (там, кстати, Гавел, его семья и друзья традиционно собирались на Новый год, чтобы полакомиться запеченными улитками), или «Гриль» на Микуландской улице, где подавали его любимый пармский стейк с соусом тартар, о котором он мечтательно вспоминал за решеткой[564]. Но после освобождения его меню постепенно все больше приобретает характер больничного. Он потерял аппетит, не мог заставить себя съесть большую порцию и не переносил специи. Чтобы уничтожить воспоминания о густых тюремных супах, содержащих множество непонятных пищевых добавок, он перешел на чистые бульоны, которые вместе с бокалом белого вина и составляли весь его обед, что нередко огорчало сотрапезников, чувствовавших себя обязанными следовать его примеру. Блюда, заказанные во время ужина, он часто не доедал и чем дальше, тем больше обходился жидкой пищей, в которой немалую долю составлял алкоголь. Гавел никогда больше не прибавлял в весе, а в последние два года жизни постепенно худел на глазах беспомощно наблюдавших за этим друзей. Он ел нормально разве что за завтраком – с газетой и кофе с сигаретой, но и тогда порция бывала небольшой. Те, кто утверждает, будто Гавел не заплатил дорого за свое тюремное заключение, попросту лгут.
Из нескольких доступных в тюрьме развлечений Гавел предпочитал телевизор: просмотр передач давал ему возможность высказаться – в основном критически – о качестве теледраматургии, например, о сериалах, обличавших мелкие пороки в целом безусловно замечательной жизни строителей социализма. Еще он начал играть в шахматы и даже возглавил тюремный шахматный кружок. Но игроком он был средним, хотя ему доставало и ума, и необходимого для этой игры абстрактного мышления. Однако его темперамент для шахмат не годился: Гавел рассматривал партию как художественное произведение, заранее выстраивая свое о ней представление, и потому не придавал слишком большого значения действиям противника[565]. Позднее, к сожалению, он иногда использовал подобный подход и в политике. Но куда важнее было другое: организованный группой узников, включавшей Гавела и Бенду, шахматный кружок, собиравшийся в субботние послеобеденные часы, служил ширмой для тайных месс, которые проводил арестант и доминиканский священник Ярослав Доминик Дука, нынешний римский кардинал и архиепископ чешской католической церкви[566]. Если б об этом узнали, членам кружка грозили бы несколько недель одиночки, а священнику – несколько дополнительных лет в тюрьме. Именно в то время Гавел приблизился к вере. Позднее он вспоминал, что черпал в богослужениях и исполнении ритуалов (к примеру, соблюдении поста в Великую пятницу) огромное утешение и духовную силу[567]. Тем не менее высказанные некоторыми друзьями Гавела догадки[568], будто эти эпизоды свидетельствуют об обращении или по крайней мере о приобщении Гавела к католицизму, ничем не подкрепляются; этому противоречат не в последнюю очередь высказывания самого Гавела и монсиньора Дуки, а также изыскания, проведенные исследователями[569]. В одном из своих последних писем из заключения, написанном в декабре 1982 года, Гавел демонстрирует более глубокое понимание христианства – благодаря опосредованному (через письма Ивана) влиянию христианского философа Зденека Нойбауэра, а также тому, что он участвовал в проведенном в тюрьме таинстве евхаристии. «Однако практикующим католиком я не являюсь и вряд ли когда-нибудь им стану», – сообщает он жене[570]. Это ключевой момент: Гавелу приходится четко разграничивать свою глубокую духовность и организованную религию. Его подход к этому вопросу ничем не отличается от его подхода к политике; он готов участвовать в чем-либо и принимать язык веры или политики, но не согласен слепо следовать догмам. Трудно сказать, чего в этом больше: индивидуализма творческой личности или опасения выбрать не тот путь. Скорее всего присутствует и то, и другое; гавеловская концепция о правде жизни парадоксальным образом не совпадает с концепцией явленной правды. В то время как явленная правда неизменна, правда жизни всегда изменчива.
Со временем тюремная жизнь совершенно изнурила Гавела физически. Ему все чаще становилось трудно дышать, и его донимал геморрой, который то отступал, то снова возвращался. Дух же его явно укреплялся. В конце 1980 года, когда он опять заболел и провел несколько недель, «толстея» в лазарете, он тщетно пытался разрешить дилемму, затруднявшую ему переписку. С одной стороны, он не хотел больше писать о себе самом, своих физических потребностях и проблемах со здоровьем; с другой – его тюремный «воспитатель» упорно напоминал о том, что писать можно только о себе. Если он переступал границу, его лишали возможности писать вообще. Кажется, именно в то время, когда он вел вялотекущую мысленную войну с невидимым противником, он и невзлюбил редакторов и вообще всех, кто пытался вмешаться в его тексты. С поразительным терпением Гавел пытался перевоспитать воспитателя, перемежая в письмах вести о себе с более общими рассуждениями, испытывая границы дозволенного на прочность и пробуя расширить свою территорию. В начале 1981 года он уже был готов приступить к делу. Он избрал для себя позицию внешнего наблюдателя «за собой <…> за тем, кем я нынче, находясь в тюрьме, являюсь для самого себя»[571]. Отказавшись вроде бы от философии и обратившись к психологии, он тем самым с заднего крыльца впустил в свои письма полную глубокого психологизма философию экзистенциализма и якобы «антипсихологическую» феноменологию. И это, похоже, сработало. Может, воспитателя утомляло повествование его подопечного о своем внутреннем состоянии и удивляло, что заключенный считает все это настолько важным, что сообщает о своих переживаниях жене, или же ему надоело вчитываться в длинные пассажи, полные сложных речевых оборотов, и лазить в словарь, чтобы проверить, разрешено то или иное слово или запрещено – как чуждое. А может, помог перевод в Боры. Так или иначе, но послания Гавела постепенно перестали пестреть намеками на запрещенные письма, и на протяжении следующих двух лет он развил и зафиксировал на бумаге свои соображения и идеи, благодаря которым «Письма к Ольге» представляют такой интерес.
Корреспонденция, бывшая во времена предварительного заключения в основном реакцией на сиюминутные события, в 1980 году стала – пусть и не систематически – отражать размышления Гавела, в 1981-м превратилась в последовательно осуществляемую попытку самоанализа и, наконец, в 1982-м достигла своего апогея: тогда появился целый ряд эссе, написанных уже явно с прицелом на публикацию. Эти перемены не только свидетельствуют о зрелости мышления Гавела и его растущей уверенности в себе, но и много сообщают нам о том поразительном образе действий, который позволил ему остаться в центре сети коммуникаций, ускользнувшей от бдительного ока цензора и превратившейся в нечто уникальное, сравнимое разве что с полноценным философским симпозиумом.
Большую роль в этом – хотя в ранних изданиях «Писем Ольге» она должным образом и не отмечена – сыграл брат Иван. И Вацлав, зачастую принимавший помощь от близких как что-то само собой разумеющееся, посчитал своим долгом написать: «Передай большое спасибо Пузуку <…> за заботу о нашем семейном клане и о моих вещах»[572]. Много раз писалось об Ольгиной преданности мужу, но с ней вполне сравнима и примерная преданность, выказанная брату Иваном. Его поведение более чем достойно восхищения: ведь из-за печальной известности старшего брата ему пришлось испытать множество невзгод, отказаться от карьеры и повышения по службе, пережить несколько обысков, задержаний и увольнений с работы – и это при том, что самому погреться в лучах славы ему так и не довелось. Он разбирался с адвокатами и всегда оказывался на месте, когда появлялась возможность тюремного свидания. Рука об руку с Ольгой он занимался сложным делом – собирал, редактировал и распространял машинописные издания серии «Экспедиция». Разумеется, деятельность и его, и Ольги не могла остаться не замеченной государственной безопасностью. После задержания в апреле 1981 года французского «пежо-каравана», набитого эмигрантскими журналами и другой политической литературой, результатом чего стали как многомесячное тюремное заключение нескольких отважных диссидентов, так и двадцатилетние поиски источника, сообщившего ГБ об автомобиле, Иван и Ольга были задержаны и прошли через четыре дня допросов; затем Ивана обвинили в подрывной деятельности против республики.
Еще более важной, чем все эти проявления братской привязанности, была роль Ивана как отчасти «источника» интеллектуальной пищи, а отчасти посредника при ее передаче – ведь, как ему было отлично известно, без утоления интеллектуального голода Вацлав в тюрьме попросту бы не выжил. Более девяти десятков пронумерованных писем отправил он брату между июнем 1979-го и январем 1983-го (помимо них были, разумеется, и разнообразные короткие записки технического характера), и написаны они были с ясно выраженной целью: «чтобы ты у нас духовно не закостенел»[573]. Поставленной цели Иван достиг не только в качестве прилежного корреспондента, но и в качестве учителя, советчика, духовного проводника и посредника в деле передачи мыслей других людей. Это была полноценная работа, а не написание на досуге коротенькой записки.
В первую очередь Иван, знавший более прочих о ненасытном интеллектуальном любопытстве своего брата, решил стать для него «Театральной газетой», «Кино» и «Книжными новостями» одновременно, рассказывая ему обо всех кинопремьерах, книгах, статьях или выставках, а также о премьерах его пьес за границей и откликах на них. Размах и всесторонняя направленность его списка книг показывают, сколь многим обязан Вацлав брату в том, что касалось его интеллектуального багажа. В этом списке «Учение дона Хуана» Карлоса Кастанеды, «Философские исследования» Витгенштейна, «Хоббит» и «Властелин колец» Толкиена, «В поисках утраченного времени» Пруста, книги Роберта Пирсига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» и Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда», «В дороге» Керуака, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, «Гротеск» Воннегута, «Человек без свойств» Музиля, повесть Конрада «Сердце тьмы» и многие другие произведения. Иван рассказывает о новостях кино, комментируя при этом «Свадьбу» Роберта Олтмена, «Пострижение» Иржи Менцеля и «Обыкновенных людей» Редфорда. Он сообщает Вацлаву о последних выставках друзей – Либора Фары[574] или фотографа Богдана Голомичека. Он комментирует даже телесериалы и документальные фильмы, которые его брату повезло посмотреть в тюрьме.
Опираясь на собственные знания, он объясняет Вацлаву основы квантовой механики, рассказывает об антропном принципе и диссипативных структурах Ильи Пригожина, говорит о явлениях, происходящих на границе между наукой и философией. Чем глубже погружается он в философскую тематику, тем чаще призывает на помощь гостей своих регулярных понедельничных домашних семинаров – прежде всего биолога Зденека Нойбауэра и логика-евангелиста, математика и философа Петра Гаека; Иван дает им читать письма брата, записывает их комментарии и вносит их затем в свои письма Вацлаву.
Такой обмен мнениями помог ясности мыслей узника, систематизировал их и одновременно убедил в том, что отныне он обращается к более широкой аудитории. Идея превратить письма в годящееся для опубликования литературное произведение родилась сама собой. Первоначально она относилась лишь к «Шестнадцати письмам» лета 1982 года (сокращенная версия «Писем Ольге», № 129–144), которые Иван издал с предисловием-эссе Нойбауэра «Consolatio philosophiae hodierna» в серии «Экспедиция» в количестве 11 копий. Эти письма представляют собой своеобразный пролог к гавеловской метафизике и онтологии и проникнуты стремлением автора «пролить свет» на себя не в меньшей степени, чем на других. Исходя из «покинутости» современного индивида, чье я взыскует утраченной «полноты бытия»[575], эти тексты исследуют понятия ответственности, трансценденции, смысла жизни и универсальной памяти бытия. Ключом к обретению смысла жизни является нахождение его «таинственного устройства», «абсолютного горизонта» – иначе свою идентичность подтвердить невозможно. В приложении усилий именно в этом направлении и состоит для Гавела «экзистенциальная революция», неотъемлемая от особой формы «единения», характеризующегося «любовью, добротой, состраданием, толерантностью, взаимопониманием, самообладанием, солидарностью, дружбой»[576].
Гавел одержал важную личную победу, когда наконец внутренне справился со своей «провинностью» пятилетней давности: уступкой, сделанной им тогда следователям. В трех из его «Писем Ольге», № 137–139, – безусловно, самым волнующим и трогательным не только в этом сборнике, но и, возможно, во всей истории эпистолярного жанра – он обращается к проблеме трансцендентального горизонта моральной ответственности, приводя в пример человека, оплачивающего проезд в пустом трамвае. Во втором письме он заново рассматривает свой пятилетней давности проступок, но уже именно под этим углом зрения. Он возвращается к «темнейшему периоду своей жизни», к годам «тихого отчаяния, самоедства, стыда, ощущения внутреннего посрамления, упреков и тупых вопросов»[577]. Он заново погружается в глубины болезненного самопознания и сожалеет об отдельных чертах своего характера, которые создавали ему проблемы и в иных обстоятельствах, таких как «неподобающая доверчивость, вежливость, глупая вера в добрые намерения моих противников, вечная неуверенность в себе, стремление находить с каждым общий язык, желание постоянно защищать себя и объяснять свои действия»[578]. Ни один из этих грехов нельзя назвать серьезным, однако вкупе они пробивали бреши в его броне, и многие из его противников научились видеть и использовать их.
Вывод, к которому Гавел приходит после пятилетнего самоанализа, одновременно поразительно прост и поразительно сложен, но в конце концов именно он позволил узнику вынести все душевные муки и справиться с чувством стыда. Вместо того чтобы продолжать поиски глубинных психологических объяснений и зарываться в детали, выясняя, как и что было на самом деле сказано или не сказано, написано или не написано, что в данных обстоятельствах говорить было можно, а что нельзя, и какая конкретно из особенностей собственной натуры заставила его сделать неверный выбор, он отнесся к допущенным промахам как к части себя, своего я, и принял их: «Отвечать за свои успехи легко. А вот взять на себя ответственность за свои неудачи, взять полностью и безоговорочно, признать их сугубо своими, такими, которые нельзя переложить ни на кого другого <…> чертовски трудно! Но только так можно проложить путь <…> к новому, лучшему и более глубокому познанию самого себя, к обновленной суверенности, к тому, чтобы стать себе хозяином, к радикально новому взгляду на таинственную значительность неявной цели собственного существования и на его трансцендентальность. И лишь подобное внутреннее понимание, осознание способно привести к тому, что можно назвать истинным “душевным покоем”, к наивысшей радости, к настоящей осмысленности, к нескончаемой “радости бытия”. Если человек способен пройти этим путем, то все бытовые лишения перестанут быть лишениями и обернутся тем, что христиане называют милостью»[579].
Где-то в этой точке Гавел, хотя времени у него было вдоволь, явно решил, что забрался настолько далеко, насколько ему позволяли обстоятельства. В его письмах нельзя найти никаких потрясающих откровений, никаких призывов следовать за ним. Напротив, он предостерегает: «Всегда заново, всегда изначально и всегда одинаково проницательно каждое осмысляющее себя общество должно соразмерять свои действия с поставленной целью, должно снова и снова проверять, не терроризирует ли оно само себя и не фантазирует ли на собственный счет, обманывая и себя, и весь мир своей раз и навсегда увековеченной правдой»[580]. Заканчивает Гавел это послание в духе стоиков: «[Мои рассуждения] говорят о проигрыше, потому что я не открыл и не провозгласил ничего такого, что не было бы уже давно открыто и не было бы стократ лучше выражено, – но все же это и победа: если на то пошло, они подтащили меня хотя бы <…> к тому, что теперь мне значительно лучше, чем тогда, когда я их начинал. Как ни странно, сейчас я, кажется, более счастлив, чем за все последнее время»[581]. В следующем письме он возвращается к теме витаминов, собственной депрессии, «Огню на Луне» Нормана Мейлера и к ожиданиям, связанным с будущим визитом к нему Ольги[582].
Неизвестно, много ли мучений доставляло цензорам разгадывание писем Гавела, однако они не могли не понять, что написаны они, безусловно, человеком несломленным. Кроме того, они должны были осознавать, что за время, оставшееся узнику до конца тюремного срока, сломать его они уже не успеют. Вдобавок они, точнее, их начальство, не упускали из виду и то обстоятельство, что, пока Гавел находился за решеткой, его известность росла, а международный резонанс, связанный с его арестом, все ширился. Даже доходы от его произведений, в середине семидесятых годов уменьшившиеся, сейчас заметно выросли. Когда до конца срока ему оставалось чуть меньше года (он просил приостановить отбытие им наказания, чтобы прооперировать наросты на локтях), в конце туннеля для него забрезжил свет. Гавел подготовил детальный сценарий первых нескольких дней на воле, начинавшийся с интимного домашнего ужина с Ольгой: коктейль из омаров, свиные отбивные с жареной картошкой и соусом тартар, ореховый пирог (на сладкое), аперитив, вино, коньяк и сигара. «Потом меня, скорее всего (хоть я и буду есть и пить очень мало), всем этим вырвет», – добавляет он рассудительно[583]. На следующий день – а поскольку это было воскресенье, мы можем лишь догадываться о закулисной стороне всей истории – его посещает майор Ржига, с которым Гавел уже встречался прежде, вместе с еще одним представителем ГБ. В течение трех часов они пытаются убедить его написать президенту прошение о помиловании, намекая, что ему пойдут навстречу[584]. Гавел от предложения отказался, но оно наверняка придало ему уверенности, потому что он уже знал, что бой им выигран.
Но – пришлось подождать. Впервые за долгое время он начал было надеяться, что ему не придется отмечать очередную годовщину ареста за решеткой, однако эти надежды испарились, когда врач заявил, что болезненные наросты на локтях Гавела не требуют операции, а майор Ржига куда-то исчез. Рождественские праздники Вацлав провел в мрачном настроении.
Двадцать третьего января 1983 года у него резко подскочила температура, и он промучился две ночи, трясясь от озноба так, что койка ходила ходуном; все тело у него болело. Он готовился к смерти и хотел написать Ольге прощальное письмо, но у него не хватило на это сил. Антибиотики были назначены слишком поздно, так что его пришлось перевести в пражскую тюремную больницу. Врачи поставили диагноз: пневмония с обильным выделением слизи; подозрение на пиелонефрит[585].
Когда Гавел в письме от 30 января 1983 года описал свои симптомы, уже нисколько не заботясь о внимании цензоров, Ольга и Иван тут же начали действовать: они наседали на врачей и тюремное начальство и отсылали вести о случившемся за границу. Инициативный Павел Когоут организовал на скорую руку кампанию за освобождение Вацлава Гавела, жизнь которого оказалась под угрозой. Было составлено обращение к чехословацкому правительству.
В сопроводительном документе о переводе Гавела из тюрьмы в Борах в пражскую больницу при следственной тюрьме Панкрац есть строгое указание: «После окончания лечения верните обратно!», как если бы кто-то просто отправлял почтой посылку[586]. Но это было всего лишь отражением заветного желания его тюремщиков. Мысль о том, что их самый известный заключенный умрет, можно сказать, прямо у них на руках, всполошила власти настолько, что они сдались, даже несмотря на то, что жизнь Гавела была уже вне опасности. Благодаря сильной комбинации антибиотиков он «перестал ходить, как прямоугольная старушка»[587] и окреп настолько, что в самом последнем письме из тюрьмы рассуждает о невротических представлениях некоторых своих друзей, будто нужно, чтобы всегда что-то происходило, и упоминает свежий сон о бесподобно сексуальной Анне – что, разумеется, наверняка весьма порадовало Ольгу. Когда вечером 7 февраля в его палату ворвалась толпа врачей, медсестер, надзирателей и чиновников из тюремного управления, желавших сообщить ему, что отбытие им наказания досрочно прекращено, он чувствовал себя в уютной тюремной больнице так хорошо, что попросил оставить его там еще на одну ночь. Но в этом Гавелу – как, собственно, всегда – было отказано, и его срочно доставили в обычную городскую больницу. После 1351 дня заключения он был свободен.
Наконец-то свободен
Арестант, выброшенный из тюрьмы и превратившийся в пациента, оказался в одной из самых маленьких пражских больниц, Под Петршином, в бывшей больнице Милосердных сестер святого Карла Борромейского. Но сестры, изгнанные оттуда коммунистами, позаботиться о нем не могли – во всяком случае, на данном этапе. 4 марта 1983 года Гавела наконец выпустили в опасный внешний мир. Разумеется, свое возвращение в «цивильную» жизнь он тщательно распланировал, но очень скоро ему пришлось признать, что его ошеломили «информационный взрыв, витрины, половодье любви»[588] и целый ряд других проблем. Никакой спокойной встречи с Ольгой и интимного ужина с бутылкой вина, о чем он мечтал в заключении, не получилось: на вечеринку в честь его освобождения в их доме собрались сто шестьдесят человек. Они принесли в подарок вино и крепкий алкоголь, а также самиздатские книжки, накопившиеся за последние четыре года. Для него это было слишком. Он боялся и ходить один по улице, и оставаться в одиночестве дома. Он чувствовал себя совершенно оторвавшимся от корней и не способным распоряжаться собственной жизнью – именно это было для него самым мучительным, гораздо более мучительным, чем для большинства людей.
Однако он все же был в состоянии выбирать приоритеты. Для начала следовало вернуть долги. В первом же после освобождения интервью, которое Гавел дал Антуану Спиру для газеты «Монд», некоторые вопросы он инициировал сам – чтобы иметь возможность поблагодарить за неустанную поддержку множество организаций («Amnesty International», французскую A.I.D.A.) и отдельных людей, в том числе Сэмюэля Беккета, Курта Воннегута, Ива Монтана, Артура Миллера, Фридриха Дюрренматта, Тома Стоппарда, Зигфрида Ленца, Гарольда Пинтера, Симону Синьоре, Гюнтера Грасса, Джозефа Паппа, Бернта Энгельмана, Сола Беллоу, Генриха Бёлля и Леонарда Бернстайна. Получилось нечто вроде «Кто есть кто» в театре и литературе. Он не мог поблагодарить сразу всех, кто выражал ему свою поддержку, но выделил польский Комитет общественной самообороны, члены которого тоже преследовались властями, были интернированы и находились в розыске после путча Ярузельского. Гавел написал письмо Сэмюэлю Беккету, назвав его «божеством на небесах духа»[589] и поблагодарив за посвящение пьесы «Катастрофа», которую сыграли – или, по мнению Беккета, «изуродовали» – на Авиньонском театральном фестивале в 1982 году.
Гавел хотел как можно быстрее вернуться за письменный стол, но никак не мог отыскать подходящий сюжет; он мечтал об универсальной теме, например, о фаустовском мотиве, давно уже звучавшем в его душе. Чтобы освободить больше времени и сосредоточиться на писательском труде, он намеревался постепенно ограничить свою деятельность в «Хартии»[590]. Естественно, все вышло несколько иначе.
Гавел написал короткий скетч – по просьбе Франтишека Яноуха, эмигрировавшего в Швецию физика-ядерщика, который состоял с ним в переписке и хотел получить от него какую-нибудь пьесу, чтобы сыграть ее на осеннем вечере в поддержку арестованных диссидентов; возможно, Яноух ощутил то душевное беспокойство, которое грозило полностью поглотить только что обретшего свободу Гавела. «Проблема»[591], написанная «за два часа» где-то в конце апреля – начале мая 1983 года, демонстрирует немалый талант Гавела как автора малых форм: это драматическая миниатюра о жестокой атаке заключенных на узника-новичка, которого ни просьбами, ни угрозами не удается склонить к тому, чтобы подчиниться заведенным в тюрьме порядкам. В конце концов сокамерники осознают, что не слушается он только потому, что не знает их языка, но – уже слишком поздно. Эта экзистенциальная история о «непохожести» напоминает рассказ Гавела «Азимут» примерно двадцатилетней давности[592]. Разумеется, работа над «Проблемой» стала для него еще и способом борьбы с ночными кошмарами.
С ним случилось нечто вроде раздвоения личности. С одной стороны, физически это был прежний Гавел, сражающийся со своим писательством, со здоровьем, преследованием властей и целым рядом личных дилемм, но с другой – кто-то, завладевший телом «воображаемого меня, отягощенного бесчисленным множеством Миссий, Задач и Ожиданий»[593].
Ощущение утраты контроля над миром нескончаемых возможностей, столь отличным от застегнутого на все пуговицы мира за решеткой, не ограничивалось раздумьями о планах на очередной новый день. С одной стороны, он возобновил отношения с Анной Когоутовой, с другой – завязал новые – с Иткой Воднянской, психотерапевтом, которую видел в последний вечер перед своим арестом. Итка была сильной личностью и, как и любой человек ее профессии, отчасти манипулятором, так что очень скоро ей удалось одержать над своей соперницей моральную победу. Будучи более заурядной, чем Анна, она, тем не менее, лучше нее умела удовлетворить сильную потребность Гавела в самоанализе и материнской опеке. С его стороны это была настоящая любовь, хотя он и не отдавался ей целиком. Даже в отношениях с самыми близкими женщинами Гавел защищал свою идентичность так же ревностно, как и в отношениях с ненавистной ему госбезопасностью, тюремными надзирателями или – позднее, уже во времена президентства – с толпами своих поклонников.
Выяснилось, к огромному изумлению Вацлава, что он не единственный, кто нашел родственную душу. Пока он был в тюрьме, Ольга сблизилась с Яном Кашпаром, холостым, симпатичным и на двадцать один год моложе ее рабочим сцены, одним из актеров исторического представления «Оперы нищих». Когда она сообщила об этом своему мужу, объявив их жизнь в качестве сексуальных партнеров законченной, хотя и не предлагая развестись, Гавел не нашел в себе сил с этим смириться[594]. Его прежние эксклюзивные права на Ольгу, на ее любовь и преданность внезапно оказались под угрозой. Разумеется, она, в свою очередь, могла бы сказать то же самое – хотя и с обратным знаком. Мировоззрение Гавела, в отличие от мировоззрения Ольги, исключало возможность неверности ему со стороны близких людей – и потому сильно захандрил. Он являлся предметом одновременных собственнических притязаний сразу трех женщин (у Итки был маленький сын, у Анны – две взрослеющие дочери, а у Ольги – Ян), и превращаться при этом – из-за четырех лет, проведенных за решеткой, – еще и в нечто вроде общенациональной институции было для него делом непредставимым. Согласно нескольким свидетельствам, он не просто растерялся, а погрузился в глубокую депрессию[595].
Этот сложный клубок личных обязательств, сексуальных страстей и моральных проблем он не мог распутать долгие годы. В 1984 году Итка забеременела и написала Ольге письмо, где рассказала о случившемся, уверяя, что очень любит ее мужа. Гавел вернулся от Ольги с известием, что развод она давать отказывается, а предлагает ménage à trois.
У Вацлава и Ольги детей не было, и никто из них не знал, почему. Многие, основываясь на брошенных им вскользь замечаниях, полагали, что он был бесплоден. То, что он брал вину на себя, было для него типичным, но это явно не соответствовало действительности, причем не только в данном конкретном случае. Однако мысль о бездетности угнетала его. В письме Ольге из тюрьмы он описывает свой сон: после шестнадцатимесячной беременности она родила двойню «от какого-то американского профессора. Меня абсолютно не волновал этот самый профессор, но я злился, что дети не мои»[596]. К перспективе стать отцом он явно относился серьезно.
Гавел думал о разводе, но решиться на него не мог. Он вынудил Ольгу расстаться с Яном, но сам оставить Итку не сумел. Та, в ужасе от того, что ей придется растить ребенка одной, сделала аборт. В письме Вацлаву она назвала его слабым и нерешительным. Ольга же упрекала мужа за то, что он не выполнил свою часть их договоренности. Вся ситуация крайне напоминала сцену из какой-нибудь его комедии абсурда – если не принимать во внимание тот факт, что жизнь всех действующих лиц была совершенно невыносимой. Как всегда, когда он не знал, что делать, он сел к пишущей машинке, чтобы разобраться с проблемами.
На звание самой депрессивной гавеловской пьесы претендует сразу несколько кандидаток. Если тягостная атмосфера «Гостиницы в горах» имеет свои истоки в экзистенциальном вакууме, то Largo desolato (1984), эта посвященная Тому Стоппарду «музыкальная медитация» о бремени человеческого существования, является порождением экзистенциального ужаса. Леопольд Копршива, интеллектуал-нонконформист, над которым нависла угроза ареста из-за его эссе, – это едва замаскированное alter ego Вацлава Гавела. Он бродит по своей квартире, поминутно заглядывает в дверной глазок, встречается сначала с двумя незнакомыми поклонниками, которые убеждают его придать эссе побольше веса, совершив некое решительное деяние, потом – с близким другом, передающим ему опасения неопределенного круга приятелей (мол, он перестал быть центральной фигурой и сделался тенью самого себя), затем – со своей любовницей Люси, которая корит его за неумение проявить в их отношениях свои истинные чувства… Пожалуй, наименее пугающим из всех персонажей оказывается многолетняя партнерша Леопольда, которая приходит домой только для того, чтобы принести что-то к ужину, а потом сразу исчезает – ее ждет друг.
К моменту, когда наконец раздается звонок в дверь и появляются двое «парней», Леопольд уже полностью готов к неизбежному. Он даже надеется на них – как на своеобразное решение сложной проблемы, но вместо того, чтобы арестовать его, посетители предлагают ему сделку. Если он отречется от себя – Леопольда Копршивы, автора злосчастного эссе, то преступление будет приписано неизвестному лицу. Леопольд чувствует сильное искушение согласиться, однако, осознавая всю сомнительность предложения, просит время на раздумье.
Во второй части пьесы, являющейся зеркальным отражением первой, к Леопольду вновь приходят поклонники, подталкивающие его совершить решительный поступок, партнерша приносит очередной ужин и уходит с другом на бал, а Люси заменяет ее юный двойник Маргарита, которая мечтает предложить Леопольду свою чистую идеальную любовь и тем самым выручить его из беды. Когда «парни» опять звонят в дверь, Леопольд понимает, что с него хватит. Он кладет в чемоданчик личные вещи и встречает посетителей словами, что ничего не подпишет – пускай даже это будет стоить ему свободы. Однако, к его изумлению, выясняется, что арест пока откладывается: власти никак не могут отыскать истинного виновника преступления. Леопольду отказано в единственном способе подтвердить собственную идентичность, а именно – в тюремном заключении. Он приговорен к тому, чтобы бесконечно блуждать по квартире и заглядывать в дверной глазок.
Шизофреническое ощущение, преследовавшее Гавела с самого момента выхода на свободу, красной нитью проходит через всю пьесу и, в частности, через образ главного героя. «Леопольд – это своего рода герой и одновременно трус; он всегда искренен и всегда также чуть юлит; это человек, отчаянно обороняющий свою идентичность и вместе с тем безнадежно ее теряющий <…> это жертва своей среды и судьбы и вместе с тем их творец».[597]
Возможно, потому, что боль еще слишком остра, возможно, потому, что, в отличие от других пьес Гавела, персонажи напоминают реальных людей – самого Гавела, Ольгу, Анну Когоутову и новую подругу, Итку Воднянскую, – пьеса «не выстрелила» так хорошо, как могла бы. Гавел, умеющий филигранно двигать по сцене свои амебоподобные фигурки, оказывается бессилен, когда пытается создать персонаж, у которого и правда есть психология. В авторских примечаниях к пьесе он даже признается, что все ее герои говорят на его языке. На самом деле все они – это и есть он, олицетворение многочисленных участников непрерывных диалогов, а иногда полифонических споров о сути идентичности, смелости, преданности и любви, которые автор ведет с самим собой. По мнению Гавела, пьеса «хочет только растревожить зрительскую душу – так, как тревожит ее современная скульптура или музыкальное произведение»[598], но слишком уж заметна встревоженная душа самого автора.
Если Гавел немного, но все же надеялся, что его, как и героя пьесы, опять упекут в тюрьму и, соответственно, проблемы разрешатся сами собой, без его участия, то надежды эти оказались напрасными. Ему позволили вариться в собственном соку, и ситуация для властей сложилась, пожалуй, даже благоприятная, поскольку в рапортах сотрудников сообщалась масса пикантных подробностей о жизни Гавела. Каждый его шаг отслеживался, все свидания фиксировались в отчетах – так же, как его ночевки вне дома и встречи в Градечке с женщинами (с одной или сразу с двумя). И хотя Ольга Итку явно недолюбливала, она часто приглашала ее вместе с сыном Томашем в Градечек – судя по всему, из добрых побуждений, потому что разведенная молодая врач с маленьким сыном была «бедна как церковная мышь». Для драматурга же подобная ситуация создавала целый ряд любопытных проблем – к примеру, кто где сидит за ужином. В отсутствие Ольги во главе стола сидела Итка. Вокруг стола собиралось немало суперинтеллектуалов, в частности, участники одного из инициированных Иваном летних заседаний Кампадемии – группы философов, куда входили Радим Палоуш, его сын Мартин, физик-ядерщик Павел Братинка, биолог Зденек Нойбауэр и Даниэл Кроупа (Томаш Галик тоже принимал участие в деятельности группы, но никогда не бывал в Градечке). Вацлав был почетным членом. Однажды Гавел заставил Итку во время очередной такой встречи надеть вечернее белое платье и спуститься к ужину по лестнице под аккомпанемент исполняемой семью философами песенки «Хо-хо, хо-хо, гномы, в поход…» Меню ужина было озаглавлено «Белоснежка и семь гномов». На самом деле они больше напоминали хоббитов (тетралогия Толкиена входила в число их культовых книг).
В 1986 году Гавел предпринял очередную попытку как-то упорядочить свои отношения и пригласил всех трех женщин в «Монастырский винный погребок»; самая уступчивая из них, Анна, к тому времени начала уже потихоньку исчезать с горизонта. Ольга оставалась, но характер их отношений заметно изменился. Одновременно со всеми этими переменами на личном фронте Гавел постепенно превращался из преследуемого аутсайдера в преследуемую знаменитость. В тот вечер в «Монастырском» Итка не могла не отметить контраст между двумя седовласыми – но по-прежнему красивыми – дамами и собой – прелестной и обольстительной блондинкой. Но она, конечно же, не предполагала, что тогда было положено начало повторяющейся модели[599].
Роман с Иткой привел к тому, что разыгралась настоящая комедия положений. В августе 1985 года Гавел решил показаться с ней «на людях» и познакомить ее с друзьями, разбросанными по всей стране. С присущей ему дотошностью он детально распланировал все их путешествие, обмениваясь многочисленными письмами с людьми, с которыми намеревался встретиться, и при этом абсолютно точно зная, что любое его послание прочитает не одна пара глаз. Его не выпускали из виду с того самого момента, как он с Иткой сел в свой новенький серебристый «гольф». В первом же пункте назначения – в Северной Чехии, на козьей ферме левака-диссидента Ладислава Лиса – его задержали, препроводили обратно в Прагу и без предъявления обвинения двое суток продержали за решеткой (ровно столько, сколько позволял закон). После этого он возвратился к Лису, и они с Иткой продолжили свое путешествие. Со шпиками Гавел затевал разговоры о том, что слежка бессмысленна, и даже пытался предложить им, ради сбережения сил, вариант со своим возвращением домой – от этого всем, мол, станет легче. Однако те, со своей стороны, уверяли, что не имеют ничего против того, чтобы он с подругой ездил по летней стране и навещал друзей. Под бдительным присмотром стражей порядка, которые передавали своих подопечных друг другу, как в какой-нибудь прекрасно организованной эстафете, любовники смогли посетить актрису Власту Храмостову и ее мужа кинооператора Станислава Милоту на северо-востоке Чехии, католического активиста Аугустина Навратила в Оломоуце и известного путешественника Мирослава Зикмунда – в Злине. В самом последнем пункте путешествия, Братиславе, где жил отказавшийся от своих прежних марксистских взглядов философ Мирослав Кусый, один из шести словацких подписантов «Хартии-77», их задержали, когда они переодевались к ужину; дом Кусого обыскали. Спустя примерно сорок часов, проведенных в камере, Гавела отпустили с наказом в течение ближайших двадцати лет в Братиславе не появляться. Итку Воднянскую в вечернем платье (ее вещи были заперты в серебристом «фольксвагене») отвезли на вокзал и усадили в пражский поезд. Так что путешествие вышло запоминающимся; правда, Гавел и Итка надеялись на иные воспоминания. По прикидкам Гавела, ими занимались в общей сложности три сотни полицейских, принимавших участие в операции[600].
Когда будущим летом они опять отправились в поездку, Гавел был уже более осторожен и не раскрывал в письмах своих планов, а также не посещал друзей. Паре удалось провести спокойную неделю в Словакии – среди лесов горного массива Фатра, в домике на склоне вершины Мала Розсутка.
Если у читателя сложилось впечатление, будто Гавел первые два года после освобождения занимался исключительно решением всяких сложных вопросов – вернее, сложным решением вопросов, – касающихся его любовной жизни, то впечатление это абсолютно неверное. Как только ему удалось оправиться от шока, вызванного обретением свободы и осознанием переменчивости жизни, в том числе и личной, он, подстегиваемый чувством долга и своим новым положением некоронованного лидера оппозиции, вернулся к общественной деятельности. Однако его роль теперь изменилась. До своего тюремного заключения он всячески настаивал на коллективном духе «Хартии» и делил ответственность с другими подписантами, но сейчас, когда его одолевали просьбами об интервью и засыпали знаками внимания (что ему очень льстило), он осмелел и решился говорить от своего имени, играя роль «эпицентра и витрины» всего диссидентского движения[601]. Разумеется, далеко не всем в этом на удивление разномастном собрании людей, где были и революционеры-троцкисты, и реформаторы периода Пражской весны, и либеральные мыслители, и католические философы, приходились по душе высказанные им соображения, а некоторым, возможно, не нравилось его новое привилегированное положение. Но было бы трагической ошибкой полагать, что после своего освобождения Гавел отринул «принципиальные вещи», стремясь «несколько вознестись над диссидентской повседневностью»[602].
Это правда, что после первых месяцев горячечной активности Гавел, теперь проводивший в Праге гораздо меньше времени, чуть отступил в тень. Правда и то, что тюрьма научила его закрытости и самосохранению, этих качеств ему прежде недоставало. Однако он с огромной энергией занимался как раз повседневными делами диссидентского движения, причем даже с большей, чем прежде, дисциплинированностью. Но теперь значительная часть его деятельности касалась заграницы. Он отдавал себе отчет в том, что именно западными протестами против его ареста объяснялось и нейтральное, а иногда даже благожелательное, отношение к нему тюремного начальства, и его освобождение; когда же он узнал, что «Хартия» в его отсутствие оказалась на грани распада, то четко понял: его сражение не имеет большого будущего без выхода на международную арену. И он принялся работать в этом направлении.
Его стремление поддерживал целый ряд отдельных личностей и групп, помогавших ему и другим диссидентам сопротивляться удушливой атмосфере изоляции, царившей в «гетто нормализации». Благодаря, в частности, деятельности Уильяма Луерса, американского посла в Праге с 1983 по 1986 год, его супруги Венди и нескольких их коллег-дипломатов из США и других государств «Хартия-77» и чехословацкая интеллектуальная оппозиция в целом никогда не были полностью отрезаны от культурной и политической среды стран, расположенных за железным занавесом. Одним из факторов, делавших жизнь в Чехословакии тех времен если не более простой, то хотя бы более сносной, была возможность посещать роскошную резиденцию американского посла в Праге и встречи с Куртом Воннегутом, Уильямом Стайроном и его женой Роуз, Эдвардом Олби, Джоном Апдайком[603], Филипом Ротом[604] и многими другими[605]. Все эти встречи требовали от организаторов поистине гениальных ухищрений, поскольку чехословацкие государственные деятели, которых посол вынужден был также приглашать в свою резиденцию, отказывались находиться в одном помещении с «самозванцами и банкротами». Они даже не хотели делить с ними один сад. Во время празднования американского Дня независимости в Праге в 1985 году заместителю чехословацкого министра иностранных дел Яромиру Иоганесу, представлявшему в тот солнечный день коммунистическое правительство, хватило одной минуты, чтобы, заметив среди толпившихся на газоне гостей Вацлава Гавела, со словами «Он здесь!» ретироваться, прихватив с собой остальных чиновников своего министерства[606]. Когда три месяца спустя в Прагу приехал Эдвард Олби со своим спектаклем по сборнику рассказов Сэма Шепарда «Ястребиный месяц» в исполнении труппы Венского Английского театра, в пражский Театральный институт, расположенный на улице Целетная, где должно было состояться представление, пропускали лишь тех, кто был включен в специальный список и кто, как предполагалось, обладал иммунитетом против заразы, содержащейся в поэтическом тексте, проникнутом культурой американских индейцев. В списке не оказалось не только Вацлава Гавела, но и самого Олби. И только когда американские дипломаты объяснили, что спектакль на грани срыва, охранители чистоты культуры смягчились. До сих пор люди, присутствовавшие на том спектакле, не могут договориться между собой, сумел или нет Гавел – пусть и к концу представления – проникнуть внутрь. Но он точно был на состоявшемся потом ужине – что одновременно испугало и обрадовало театральных чиновников, многие из которых вовсе не были такими уж твердокаменными партийцами[607].
О Гавеле как об авторе постоянно заботились его друг Клаус Юнкер и издательство «Ровольт Ферлаг». Благодаря связям со знаменитым венским «Бургтеатром» и хорошим отношениям с его художественным руководителем Ахимом Беннингом, подкрепленным еще и тем, что в Вене жили Когоут и Ландовский, плоды его работы как драматурга не пропадали втуне. Кроме того, это давало постоянный источник дохода. У других хартистов дела обстояли значительно хуже: они добывали скудное пропитание, став разнорабочими, причем многие из них должны были заботиться о куда более многочисленных семьях. Вдобавок становилось чем дальше, тем понятнее, что масштаб оппозиционной деятельности, заключавшейся в основном в распространении машинописных самиздатских публикаций, распечатанных под копирку, без дополнительных источников финансирования и элементарной канцелярской техники останется весьма ограниченным.
Гавел по-прежнему находился под надзором и справедливо полагал, что его почта люстрируется, а телефонные разговоры прослушиваются. Для регулярной связи с Западом требовались надежные и безопасные каналы. Секретность была очень важна. Быть застигнутым при передаче за рубеж текстов или пленки с высказанным собственным мнением означало, что человека ждут крупные неприятности: серьезное предупреждение, а то и год или два за решеткой. Передавать деньги или технику было еще опаснее – это легко квалифицировалось как шпионаж, и виновным, особенно тем, кто, подобно Гавелу, считались бы теперь рецидивистами, грозил десятилетний тюремный срок.
Усилия, приложенные ради решения этой проблемы, стали очередным проявлением смелости, сообразительности, взаимного доверия и прочных межчеловеческих отношений. Началось все за несколько лет до возвращения Гавела из заключения. В центре истории стояла маленькая энергичная женщина – социолог Иржина Шиклова, бывшая коммунистка, а ныне хартистка, проведшая, как и Гавел, в начале восьмидесятых годов некоторое время в тюрьме за незаконную переправку диссидентских рукописей из Чехословакии и их же, но уже в печатном виде, обратно. После выхода из тюрьмы Шиклова, использовавшая раньше в качестве курьеров западных туристов, стала умнее и подружилась с несколькими западными дипломатами, которые – кто с ведома своих правительств, а кто и без оного – использовали свое положение для двусторонней доставки писем, книг и прочего. В то время, когда этими контрабандистскими путями пользовался и Вацлав Гавел, забота о них лежала на плечах шведского культурного атташе Петера Тейлера (псевдоним Васко да Гама)[608], немецкого дипломата Вольфганга Шера (после отъезда из Праги в 1986 году его сменили Петер Мецгер и Иоахим Брусс), а также канадского дипломата Петера Бейкуэлла[609]. Обычно почту Гавела передавала Шикловой Дагмар Гавлова-Илковичова, вторая жена брата Ивана. Самую рискованную часть операции брала на себя сама Шиклова, передававшая дипломатам корреспонденцию Гавела вместе с письмами других диссидентов.
Наиболее активную переписку после выхода из заключения Гавел вел с двумя людьми. Один, Франтишек Яноух, живший в Швеции, был физиком-ядерщиком, второй, историк Вилем Пречан, проживал в Германии. Оба прежде состояли в компартии, но присоединились к оппозиции и вынужденно оказались в эмиграции. Оба сыграли выдающуюся роль в «выживании» диссидентской литературы и «Хартии» как носителя живого слова и организованной силы, а также в распространении ее идей. Яноух основал «Фонд Хартии-77», со временем превратившийся в основное место сбора финансовых средств для поддержки чехословацкого диссидентского движения. Пречан вместе с другими писателями и интеллектуалами занимался сбором, архивированием, распространением и пропагандой самиздатской литературы. Из этой неформальной деятельности, известной сначала как «Отечественное предприятие», постепенно вырос Чехословацкий центр документации независимой литературы – со своими уставом, правлением, статусом некоммерческой организации и настолько обширными библиотекой и архивом диссидентских трудов, насколько позволяли тогда обстоятельства. Все это частично финансировал, а с 1986 года также и хранил в своем замке в баварском Шайнфельде чешский эмигрант-аристократ Карел Шварценберг.
В самый малоизученный и закрытый от посторонних глаз период своей диссидентской деятельности Гавел за пять лет обменялся с обоими корреспондентами примерно пятью сотнями писем и провел с ними десятки телефонных разговоров. Какие-то из них касались быстро нараставшего объема международных текущих дел и церемоний получения различных наград и почетных званий, которые присуждались Гавелу, но которые он не мог принять лично из-за опасений, что его не впустят обратно в страну, даже если и разрешат выезд, а также переводов, интервью и деталей различных публикаций. Однако основная часть этих переговоров и обсуждений показывает нам Гавела в непривычном свете, а именно – как фактического спонсора оппозиции. Важная роль, несомненно, принадлежала практичному Яноуху, который еще в декабре 1978 года зарегистрировал шведский «Фонд Хартии-77» в качестве инструмента для получения финансовой поддержки диссидентов и дальнейшей передачи денег на нужды движения. Первый взнос в размере 15 000 шведских крон[610] поступил от шведского фонда Monismanien, распределяющего одноименную денежную премию[611]. Ежегодная сумма, передаваемая «Фондом Хартии» в Чехословакию, возросла с примерно 100 000 шведских крон в 1979 году до более полумиллиона крон десять лет спустя[612]. Фонд открыл филиалы в Норвегии и США. Деньги приходили от целого ряда культурных и благотворительных организаций и от частных лиц в Европе и Соединенных Штатах, включая таких крупных дарителей, как Фонд Форда или Фонд Сороса «Открытое общество» (последний жертвовал самые большие суммы).
Так что основная сложность заключалась не в поиске финансовых средств, а в том, как доставить их по назначению. В коммунистической Чехословакии хождение мировых валют было очень ограниченным и находилось под строжайшим контролем, так что незаконное владение валютой грозило административным и уголовным преследованием. Поэтому переправлять тайными каналами через границу крупные денежные суммы было делом крайне рискованным – к этому прибегали лишь в случаях острой необходимости. Но можно было легально отправлять деньги в качестве подарка или какой-либо выплаты (например, гонорара) через официальный банк – с тем, чтобы потом поменять их на тузексовские боны, эту полуконвертируемую валюту, которая тратилась в специализированных магазинах или выгодно обменивалась на черном рынке.
Выработать механизм распределения денег оказалось задачей еще более сложной, которую можно было поручить не кому-то «извне», а только лишь человеку, хорошо знакомому с потребностями оппозиции и условиями жизни отдельных диссидентов. Дух солидарности и взаимопомощи, царивший в среде хартистов, в известной мере упрощал идентификацию самых нуждающихся[613]. Куда сложнее было покрывать производственные расходы оппозиции: на самиздатскую издательскую деятельность, распространение готовых материалов, ведение документации и исследований, а также на отдельные оппозиционные культурные мероприятия. Разумеется, средства, собранные за границей, не могли покрыть все расходы оппозиционеров, связанные с их деятельностью, и в основном приходилось рассчитывать на собственные источники финансирования, однако помощь из-за рубежа была значительной и неоценимой[614]. Деньги не могли поступать из-за границы непосредственно на поддержку того или иного проекта, поскольку невозможно было указать какой-либо официальный адрес, по которому их можно было бы получить (а если бы такой адрес появился, то получатели без промедления подверглись бы уголовному преследованию), поэтому их можно было отправлять только в качестве дара, чтобы затем на месте заниматься распределением.
Хотя Гавел никогда не демонстрировал талантов менеджера, он тем не менее посвящал решению этой проблемы значительную часть своего времени. Благодаря шведскому каналу в Чехословакии возникли два распределительных «счета»: «Фонд гражданской помощи» и «Оперативный фонд». Задачей первого, который – как механизм поддержки семей политических заключенных – еще в 1979 году образовал КЗПП, но временно прекратил свою деятельность после того, как нескольких его членов арестовали и отправили за решетку, было выявлять гуманитарные ситуации, требующие немедленного вмешательства, и предлагать варианты распределения конкретных сумм среди нуждающихся. «Оперативный фонд», со своей стороны, забирал деньги у непрямых, временных получателей гуманитарной помощи и распределял их по отдельным проектам. Гавел играл ключевую роль в создании и работе этой системы и даже проиллюстрировал процесс на набросанной от руки схеме.
Гавел детально вникал в вопрос, в десятках писем просил увеличить помощь тому или иному получателю, вел и обновлял списки непрямых получателей, а также сообщал Яноуху о новых издательских и других проектах, заслуживающих поддержки. Он участвовал в создании правления обоих фондов, но сам в них не вошел, хотя и оставался основным контактным лицом Яноуха. Вот типичный пассаж, вышедший из-под пера этого большого писателя и горделивого стилиста: «А теперь давайте взглянем на прошлогодний список и отметим все предлагаемые изменения: EVERY MONTH (каждый месяц): мы внесли сюда исключительно людей, которые будут всю сумму или ее значительную часть передавать в оперативный фонд (но не они одни; в других категориях тоже есть те, кто часть или всю полученную поддержку станут передавать в ОФ). Итак, каждый месяц: Бенда, Вогризек, Литомиский, Братинка, Гавел, Гавлова, Кроупа, Добровский. (Лисова вычеркивается.) ШЕСТЬ РАЗ В ГОД: вычеркиваются Добровский, Кабеш, Кантуркова, Кроупа, Малый, Немцова, Опат, М. Палоуш, Српова, Татарка, Топол, Вацулик, Вогризек. Добавляются Шамалик, Лампер, Шустрова и А. Лисова. ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД: вычеркиваются Гунятова, Коуржилова, Кршивакова, Скалникова, добавляются Кабеш, Кантуркова, Павличек, Пинц и Шабата»[615]. Список продолжается и дальше. Подобные регулярно отправляемые распоряжения за один только 1986 год содержат более 160 имен[616]. Судя по всему, самому Гавелу из этих денег не предназначалось ровным счетом ничего.
Вдобавок Гавел, точно мало ему было финансовых проблем, решил заняться еще и вопросами приобретения техники, хотя явно не обладал для этого соответствующими знаниями. Началось все с примитивных устройств типа диктофонов и магнитофонов, но потом к этому добавилось куда более сложное оборудование – видеокамеры и видеомагнитофоны для подпольного «Оригинального видеожурнала» (кодовое наименование «Ченек»[617]), которым заведовала Ольга, а также принтеры и компьютеры. Физик Яноух был для своего времени достаточно продвинутым пользователем, но вот блуждание Гавела по миру высоких технологий выглядело со стороны просто-таки комично. Оба они вступили в переписку по такому довольно сложному вопросу, как закладывать ли на жесткий диск или, наоборот, сохранять на внешнем носителе чешский алфавит в ранних версиях PC: «Если ты будешь посылать мне компьютер, то мои друзья-специалисты очень просят, чтобы чешский алфавит был на жестком диске, а не в EPROM. Если это тебе будет трудно, то мы здесь сделаем это своими силами. В прошлый раз пан Б. самолично влез в EPROM, чтобы извлечь чешский алфавит, чем он был очень горд, однако компьютер, как я понял, все-таки сломал. По крайней мере, вывел из строя большую часть его функций. Мы думаем, как это починить, а пана Б. я прошу вернуть EPROM в первоначальное состояние. Передаю то, что мне было сказано, и совершенно не понимаю, что это значит»[618].
Переписка с Пречаном малоинформативна в том, что касается денежных вопросов и техники, но зато важна как источник информации о распространения идей «Хартии». Пречан, ответственный, скромный и дисциплинированный историк, упорядочил несколько хаотичную продукцию диссидентов, каталогизировал и архивировал тексты и методично рассылал их по эмигрантским периодическим изданиям и издательствам – «Сведецтви» Павла Тигрида в Париже, «Листы» Иржи Пеликана в Риме, «Патерностер» Збынека Бенишка в Вене, «68 Паблишерз» Йозефа Шкворецкого в Торонто. Гавел и Яноух поддерживали также связь с не совсем однозначным журналом «Палах Пресс» Яна Кавана, занявшего позднее пост чешского министра иностранных дел; это издание способствовало распространению сведений о диссидентском движении, но несколько раз оказалось замешано в истории с утечкой информации. Каван, активист левого крыла британской лейбористской партии и Европейской кампании за ядерное разоружение (END), в то время не один раз посетил Прагу под чужим именем, что всеми расценивалось как нечто невероятное.
Пречан, который сначала жил в Ганновере, а позже перебрался значительно ближе к чехословацкой границе, в Шайнфельд, был также доверенным лицом Гавела, первым его иностранным читателем и почтальоном. Они обменялись более чем двумя сотнями писем, но кроме того, Гавел рассылал с его помощью свои эссе, документы «Хартии», лекции, пьесы и магнитофонные кассеты с записями ответов на вопросы журналиста Карела Гвиждялы, из которых впоследствии выросла книга «Заочный допрос». Также он отправлял Пречану свою личную почту – для дальнейшей ее пересылки десяткам друзей и знакомых за границей – и ответы на вопросы, задаваемые ему огромным количеством западных журналистов.
Переписка Гавела с Пречаном и Яноухом – это свидетельство его участия в масштабной и хорошо продуманной подпольной операции. И хотя его личные нужды в основном ограничивались желанием максимально расширить круг своих читателей и театральных зрителей, к которому внезапно добавлялись просьбы прислать те или иные специи и музыкальные записи, в письмах содержится множество призывов поддержать диссидентов и их семьи, просьб о помощи в экстренных случаях и заверений в уважении к людям, вовсе не входящих в круг его поклонников.
Однако Пречан и Яноух не были только посредниками и архивистами, собирателями и хранителями материалов. Живя за границей, они имели возможность наладить для Гавела обратную связь и передать ему критические замечания: дома хартисты стремились избегать взаимной критики, чтобы не давать этим оружия противнику. Однако обратная связь была крайне необходима. Последние семь-восемь лет Гавел и большинство других диссидентов встречались довольно часто, но вот вне собственного круга их контакты были весьма ограниченными. Кроме того, Гавел не выезжал за рубеж уже целых семнадцать лет. Его ненасытный книжный голод и неутолимая тяга к иным источникам информации, толпы гостей в Градечке и ежедневный, сопряженный с шумом глушилок, ритуал впитывания радионовостей «Голоса Америки» и «Свободной Европы» не могли заменить личного опыта. Когда Яноух сообщил, что некоторые гавеловские тексты и эссе слишком объемны для публикации даже в самых симпатизирующих ему периодических изданиях[619], Гавела, который никогда не слышал ни о саунд-байтах, ни о датапойнтах, разъярила поверхностность западных средств массовой информации, и он отказался менять свои тексты. «Вот что я скажу – какое мне дело до их бизнесов? Какое мне дело до того, что им лень прочитать больше, чем 10 страниц? Какое мне дело до их сраного западного кризиса сознания, их неумения сосредоточиться, их кризиса времени, их информационного взрыва и вообще всего этого? Ведь единственное, что я со всей этой своей тюрьмой, слежкой, издевательствами с утра до вечера, тотальной правовой неопределенностью, невозможностью передвигаться и т. д. <…> для себя с боем выбил – это какая-никакая свобода. Я нахожусь в ситуации, когда могу писать, что хочу. И что, мне теперь эту свободу надо кастрировать?»[620] Когда средства массовой информации в силу необходимости сокращали его эссе, чтобы приспособить их к своему формату, как случилось, например, с «Политикой и совестью» Гавела[621] в «Солсбери Ревью» Роджера Скрутона (эссе было написано в качестве благодарственной речи за присуждение звания почетного доктора в университете Торонто, где ее за Гавела прочитал Том Стоппард), Гавел протестовал против такой «цензуры» и поклялся никогда больше не дать Скрутону ни единого текста для публикации[622]. Однако пару недель спустя Гавел смягчился и неохотно допустил, что Скрутон, возможно, в чем-то был прав[623]. Вопреки стараниям Пречана и Яноуха сложности тем не менее оставались, и у Гавела выработалось стойкое недоверие к СМИ.
Серьезнейшей проблемой для Гавела и идеологически разнородной «Хартии» была проблема политического включения в международный контекст. В этом нимало не помогали ни борьба за душу «Хартии» между столь же разнородными эмигрантскими группами – от антикоммунистических атлантистов, окружавших Павла Тигрида в Париже, от мюнхенских радиостанций, андеграундного «Нахтазила» в Вене и группы еврокоммунистов, окружавших Иржи Пеликана в Риме, до радикальных «товарищей» в Лондоне и многих других. Один из крупнейших внутренних раздоров начался, когда «Хартия» решила зарегистрироваться для участия во Всемирной ассамблее «За мир и жизнь против ядерной войны»[624] – впечатляющего мирового шоу, устроенного в Праге в конце июня 1983 года. Процесс приема заявок напоминал гротеск: члены организационного комитета, увидев двух спикеров «Хартии», которые пришли регистрироваться, сбежали и заперлись в своих кабинетах[625]. Было совершенно не удивительно, что вместо приглашения на ассамблею ответом на этот безрассудный поступок диссидентов стал вызов на допрос в ГБ. Тем не менее нескольким хартистам, включая и Гавела, не успевшего пробыть на свободе и трех месяцев, удалось встретиться 23 июня в пражском парке «Гвезда» с несколькими делегатами и наблюдателями. Как и было заведено на конференциях о мире, хартистов там атаковали десятки служителей правопорядка – и переодетых, и в форме. Они толкали и оттесняли непрошеных гостей, отбирали у них документы и фотоаппараты, а также угрожали как чешским, так и зарубежным участникам, среди которых были социал-демократы, члены различных течений французского движения за мир, немецкие «зеленые» и два активиста британского Движения за ядерное разоружение. Гавела эта история, ставшая хорошей рекламой для «Хартии» и плохой для режима, скорее обрадовала, но радость его поуменьшилась, когда выяснилось, что освещавшие ее западные СМИ сделали акцент на участии «зеленых», которые тогда еще считались радикалами, возможно, связанными с террористическими организациями.
Этот инцидент и последовавшее за ним заявление «Хартии», а также ответы Гавела на приглашения от самых разных пацифистских организаций привели к тому, что внутри «Хартии» развернулась ожесточенная дискуссия. Марксисты-реформаторы – такие как Ярослав Шабата – были очень довольны; участников западноевропейского движения за мир они полагали своими естественными, хотя и не разделяющими коммунистических идей союзниками. Консерваторы же, возглавляемые Вацлавом Бендой, ужасались. Сближаться с людьми, которые считались на Западе «полезными идиотами» Советского Союза, было для них делом невозможным.
Споры продолжались несколько лет. Гавел прилагал огромные усилия для выработки некоего консенсуса. Выражая, с одной стороны, понимание и симпатию в отношении глобальных устремлений этих движений, что не представляло для него никакой сложности, он вместе с тем всячески избегал отождествления с их конкретными позициями по жгучим вопросам. Гавел предложил идею составления «Хартией» документа о мире, однако Бенда, бывший в то время одним из спикеров, ее отклонил. В конце концов Гавел, отчасти с подачи Пречана, решил высказать свое собственное отношение к этой проблеме в статье под заглавием «Анатомия одной сдержанности»[626].
В тексте, который в основе своей посвящен определению границ, Гавел объясняет, почему чешский диссидент, не говоря уже о рядовом гражданине ЧССР, никогда не сможет полностью солидаризоваться с целями и лозунгами западного движения за мир. Асимметричность ситуации, когда молодой борец за мир на Западе может свободно критиковать ядерное оружие или ракеты на территории Североатлантического блока, в то время как миролюбивый человек в стране социализма получит за то же самое похвалу, однако окажется под угрозой ареста, если решится критиковать ракеты своей страны, обозначала серьезную проблему: люди по восточную сторону железного занавеса опасались собственных властей больше, чем любой возможной угрозы с Запада.
Альтернативный стиль жизни и риторика многих «зеленых» и других участников ассамблеи, соответствовавшие тезису Гавела об общем кризисе западной цивилизации, его – в отличие от Бенды – совершенно не отпугивали. С другой стороны, он прекрасно понимал, что в данной конкретной битве эти активисты, особенно те из них, кто выдвигал идею одностороннего ядерного разоружения (что в его глазах было равносильно самоубийству), служат не свободе и демократии, а – пускай даже неосознанно – чему-то зловещему. Ему претило лицемерие представителей западного движения за мир, которые осуждали действия Соединенных Штатов во время Вьетнамской войны, но ни словом не обмолвились о том, что как раз тогда Советский Союз начал кровавую оккупацию нейтрального Афганистана: «Действительно: что можно подумать о всемирном и даже европейском движении за мир, не имеющем представления о единственной войне, которую ведет сейчас европейское государство? Аргумент, что атакованная страна и ее защитники пользуются симпатиями западного истеблишмента и потому не заслуживают поддержки левых сил, своей невероятной идеологической ангажированностью может вызвать только одну-единственную реакцию: тотальное омерзение и чувство бесконечной безнадежности»[627].
Но одновременно Гавел восхищался молодыми людьми, «которые посреди сложившегося общества потребления выбирают не примитивную заботу о собственном благе, а заботу о судьбе мира»[628], хотя и не разделял полностью их взгляды. Наконец, как он ясно дает понять в своем эссе, «причина опасности войны – это не оружие само по себе, а политические реалии <…> разделенной Европы и разделенного мира»[629], и «единственно осмысленный путь, ведущий к истинному миру в Европе, а не просто к некоему состоянию вооруженного перемирия или “невойны”, это путь коренного изменения политических реалий, начало которому кладет нынешний кризис»[630]. По его мнению, не совпадавшему с мнением представителей западного движения за мир, истинная угроза заключалась не в нарушении напряженного статус-кво холодной войны, а как раз в его сохранении, так как «без свободных, полных достоинства и полноправных граждан нет свободных и независимых народов. Без мира внутреннего, то есть без взаимного мира между гражданами и между гражданами и государством, нет гарантий мира внешнего: государство, игнорирующее права и волю своих граждан, не может гарантировать, что станет уважать волю и права других людей, народов и государств»[631].
Политика – это зачастую игра совершенно поразительных компаньонов. Мир в своей истории повидал немало причудливых коалиций, циничнейших браков по расчету и тех печальных случаев, когда слепой вел слепого. Но здесь был диссидент, даже не политик, который намеревался пожертвовать краткосрочным успехом, связанным с тактическим союзом, ради принципиального изменения ситуационной логики. Он никогда не получил от «зеленых» ничего, кроме вымученных изъявлений восторга, и ему так и не удалось избежать критики со стороны коллег-диссидентов, обвинявших его в опасном сближении с «врагами наших друзей». Но он все равно стоял на своем, отчасти еще и потому, что большинство мейнстримных политиков Запада – и, в частности, в Германии – по-прежнему поклонялось богам Détente и Ostpolitik[632] и предпочитало не выказывать симпатии к оппозиции в коммунистических странах.
Налаженная Пречаном ненавязчивая обратная связь помогала Гавелу замечать те моменты, когда он или его коллеги-хартисты проявляли непоследовательность в своих взглядах либо занимали контрпродуктивную позицию. Время от времени, признавал Пречан, ему приходилось «ступать по минному полю» – когда происходили встречи, а то и стычки известных и рядовых диссидентов. В одном письме[633] он касается вопроса о диссидентском «промискуитете» и цитирует послание с критикой в адрес Иржи Немеца, который «бросил семерых детей и, по крайней мере, двух жен», и Иржи Динстбира, «бросившего якорь уже, кажется, у пятой женщины». Пречан не упоминает Гавела напрямую, но не скрывает своей озабоченности. Он осознает разницу между средой диссидентов, для которых интимные отношения являются, можно сказать, «единственной областью свободы», и средой эмигрантов, где чаще всего наблюдается «укрепление связей между супругами», а «неверность либо охлаждение одного из партнеров воспринимается другим как жизненная катастрофа»; его прежде всего заботила опасность того, что различные скандальные истории могут быть использованы против диссидентов их врагами. И угроза подобного развития событий не была лишь гипотетической. Ряду диссидентов следователи во время допросов напоминали об их супружеских изменах или сексуальных предпочтениях, а иногда даже предъявляли фотографии, магнитофонные записи или кинопленки, шантажируя всем этим, чтобы склонить к сотрудничеству. Одна из самых известных историй такого рода – проведенный дома у Людвика Вацулика обыск, в ходе которого были обнаружены эротические фотографии его самого и его любовницы, сделанные вдобавок на кладбище; гебисты угрожали их обнародовать в случае отказа от сотрудничества. Вацулик, как, собственно, и сам Гавел, решил проблему «жизни не по лжи», рассказав все жене и предав историю огласке. Государственная безопасность тем не менее угрозу сдержала: фотографии были опубликованы, причем в солидном женском журнале «Кветы».
Как ни сложно оказалось для Вацулика, Гавела и других соотносить свои публично отстаиваемые моральные принципы с частной интимной жизнью, это была лишь часть проблемы. Они не только не имели честолюбивых планов становиться – в пуританском понимании – нравственными образцами, но сомневались даже в том, стоит ли им вообще превращаться в «светочей» оппозиции. В «Чешском соннике» Вацулик рассказывает свой сон о том, как к нему прибегает Иван Клима с известием, что все переменилось: Когоут прилетает из Вены, Гавела выпустили из застенков, а Вацулик должен поскорее отправляться в редакцию возобновленных «Литерарних новин». Вацулик отказывается от этого предложения с заметным облегчением: «Что, обстоятельства изменились? Отлично, наконец-то мне нет до них никакого дела!»[634] Гавел тоже неоднократно, хотя и тщетно говорил о горячем желании укрыться от света софитов, свернуть общественную деятельность и заняться писательским трудом, который он полагал своим истинным призванием. «Парадокс в том, что мое основное желание – это забиться в Градечек, чтобы писать пьесу и чуть отдохнуть от диссидентства, но как раз все эти издевательства и не дают моему плану осуществиться, а ведь полиция бы так его приветствовала. Трудно приходится. Мне сейчас нужно писать предисловие к заграничному изданию “Чешского сонника”, и я, пока размышлял об этой книге, понял вдруг, помимо прочего, одну вещь: до чего же трогательно и изящно проводит Вацулик через всю книгу мысль о том, как хочется ему скинуть с себя роль диссидента, и о том, как это ему решительно не удается: он вечно собирает какие-нибудь подписи и вечно занят тем, что делать был не намерен. Создается ощущение, будто не только человек выбирает для себя роль, но и роль выбирает его, даже не то чтобы он выбирал ее – он в нее попросту проваливается. Общая тема, да»[635].
Эта тема и впрямь была центральной. Гавел развил ее в предисловии к книге Вацулика – возможно, лучшему роману, написанному в диссидентской среде: «Чешский сонник» является «романом о неудавшемся бунте человека против собственной роли, романе о борьбе с этой ролью, борьбе, ведущейся из-за стремления противопоставить ей немного независимости и частной жизни»[636]. Вряд ли Гавел не осознавал, что эти слова относятся и к нему самому. Однако в отличие от Вацулика, который, верный своему сну, после Бархатной революции отказался от участия в общественной жизни, чтобы писать разные – глубокие, озорные, трогательные, бунтарские, а то и по-настоящему безумные – романы и фельетоны[637], Гавел оставался пленником своей роли не только до конца коммунистической эпохи, но и много лет спустя.
Похвала глупости
Отчаявшийся в судьбе человека – трус, но тот, кто надеется, – глупец.
Альбер Камю
Когда время бурных потрясений ненадолго миновало, Гавел попробовал вернуться к некоей стабильности. Перед Рождеством 1985 года он, благодаря французскому посольству в Праге, получил наконец возможность лично принять в Тулузе мантию доктора и диплом – «невероятная история <…> главное препятствие – посол, который боится здешнего правительства больше, чем собственного (я сказал, что в будущем он должен бы сделаться чехословацким послом в Париже)»[638]. Потом диплом он куда-то задевал и несколько месяцев его разыскивал, пока наконец не нашел и не вставил в рамочку. Очень важным для него, разумеется, был переезд в родной дом на набережной, в освободившуюся после смерти отца квартиру. Несмотря на то, что начало «Хартии-77» было положено в Дейвицах (что, несомненно, стало ключевым моментом всей жизни Гавела), он никогда не считал ту квартиру своим домом. Как обычно в это время года, его донимали проблемы с бронхами, так что зиму он провел в Праге, а остальную часть года – с небольшими перерывами – в Градечке, деля время между писанием, оппозиционной деятельностью, супружеской жизнью на два дома, всяческими хозяйственными хлопотами и, по выходным, встречами с друзьями. «С июня и по сей день главное мое занятие – это прием гостей и их размещение»[639].
Хотя он и отвлекался, его не оставляли мысли о новой пьесе. Иногда он объяснял отсутствие времени на работу тем, что вынужден постоянно заниматься другими делами, иногда, напротив, радовался этому – как предлогу не писать. Однако похоже, что он трудился над пьесой все это время, набрасывая заметки и отказываясь от тупиковых ходов. В октябре 1985-го он внезапно сел за письменный стол. Позднее Гавел вспоминал, что написал пьесу за десять дней, «в каком-то трансе»[640]. За приступ вдохновения пришлось платить. «После этого я чуток надломился, душевно и физически, и пережил в Градечке несколько ужасных недель. Демоны мстили мне за то, что я за них взялся»[641].
Если содержание и структура Largo desolato отражает хаос и смятение, которые Гавел испытывал после возвращения из заключения, то «Искушение» (1985) являет нам куда более глубокие авторские размышления. В Largo desolato описана посттюремная депрессия, охватившая в 1983 году не готового к ней Гавела, а фаустовская идея «Искушения» напрямую связана с его предыдущим арестом и «уязвимостью» воли, за которую он долго себя упрекал. Гавел вспоминал моменты 1977 года, «когда за решеткой демоны меня на свой лад искушали»[642], и дикие сны и «нежданные случаи», приходившие к нему и происходившие с ним до и после его освобождения в мае того же года и сопровождавшие его борьбу с нравственной дилеммой: обретение свободы ценой унизительных, пусть и ничего не значивших уступок.
История мелкого чешского ученика чародея, обуреваемого жаждой знаний, которого в пьесе зовут Фоусткой, трактует фаустовскую тему скорее как метафизическую, а не магическую. Хотя Фоустка и встречается в пьесе с персонажем по имени Фистула, обладающим некоторыми внешними мефистофельскими признаками, ничего сверхъестественного в «Искушении» не происходит. Выйти за пределы привычных исследований Фоустку манит скорее его собственная природа, а не поведение Фистулы. Фоустка обнаруживает, что выбранное им новое измерение превращает его в куда более интересную и сексуально привлекательную личность. Но чем ближе Фоустка к неизбежному разоблачению и краху (ибо Фистула в действительности работает на тех, кто следит за соблюдением научной «правоверности»), тем старательнее он пытается замаскировать свое «прегрешение», изобретая все более фантастические объяснения и интерпретируя собственное поведение как совершенно невинное, что приводит лишь к нагромождению противоречий и несоответствий. Когда же его наконец разоблачают, он вынужден расплачиваться не столько за то, что сотворил, сколько за то, как хитро притворялся, будто разделяет чуждые ему убеждения. На самом последнем вираже пьесы, перекликающемся с финалом «Уведомления», цену платит отнюдь не Фоустка, а ни в чем не повинная девушка, совершившая ошибку, когда поверила Фоустке. Две основные для Гавела темы – правды и ответственности – сталкиваются здесь, производя мощный эффект.
Вопреки своему обыкновению проводить долгие часы, опять и опять погружаясь в написанное, Гавел обнародовал новейшее творение немедленно, точно опасаясь, что «демоны» того или этого света затеют с ним какую-нибудь нечестную игру. Ему были привычны панические приступы неуверенности в себе, но «Искушение» их не вызвало: он остался доволен им настолько, что впервые лично наговорил текст пьесы на магнитофонную кассету, – и из соображений «безопасности», и чтобы дать послушать свое творение друзьям. Работа над «Искушением», безусловно, стала для него последним этапом жестокой самотерапии, также включавшей в себя четыре тюремных года, пересмотр приоритетов и семейный кризис. Кажется, лечение подействовало. Нельзя не заметить возросшего уровня его доверия к себе, что отразилось и на языке Гавела-драматурга, и на самой конструкции пьесы, и даже на манере чтения ее текста для слушателей, мнение которых значило для него очень много. Гавел далек от стремления произвести драматический эффект, он читает размеренно, почти монотонно, но его внутренняя удовлетворенность собственной работой слышится совершенно ясно, как и его картавость. Премьера пьесы состоялась в венском «Бургтеатре» в мае 1986 года; затем «Искушение» ставилось еще в нескольких театрах Европы и Северной Америки. Всеобщее одобрение новой пьесы – в «Дейли телеграф», например, Гавела назвали «первым драматургом Европы» – резко контрастировало с прохладным приемом «Largo desolato». Андрей Кроб и его друзья сняли домашнее видео: их собственная постановка «Искушения» в сарае в Градечке с братом Иваном – ученым-теоретиком – в роли Фоустки.
Как и в случае с одноактными пьесами о Ванеке, под влиянием «Искушения» было совершено несколько интеллектуальных прорывов. В первой половине 1986 года его метафизические горизонты стали предметом всестороннего изучения членов Кампадемии, дискутировавших о фаустовском архетипе и границах свободы и морали[643]. Своими суждениями делились и другие[644]. Поскольку поток новых высказываний о пьесе не иссякал (многие из них были включены в сборник к пятидесятилетию Гавела, которое отмечалось в октябре того года), Ольге пришла в голову идея об издании журнала, посвященного сугубо вопросам театра. Учитывая условия, в которых находилась тогда оппозиция, это был очень трудоемкий и технически сложный проект, над осуществлением которого работал целый ряд диссидентов: Анна Фрейманова и Эва Лоренцова – редакторы, Карел Краус – главный редактор и Ольга – технический редактор. За следующие два года они выпустили и распространили пять номеров журнала о театре («О дивадле») – каждый объемом в несколько сотен страниц и в нескольких сотнях экземпляров, которые первые получатели копировали и передавали дальше. В сравнении с подобными прошлыми проектами в этом было одно новшество: на страницах журнала приветствовалось мнение не только запрещенных диссидентов, но и «разрешенных» авторов и профессионалов, писавших поначалу под псевдонимами, но со временем отказавшихся от этой маскировки[645].
Усилия Гавела, «Хартии-77» и их зарубежных сторонников приносили свои плоды. Его собственные пьесы ставились за границей, его хвалили за «Силу бессильных» и другие эссе, которые публиковались, перепечатывались и обсуждались во многих странах, но теперь все больше частных лиц и организаций на Западе начинали также заниматься и проблемами прав человека за железным занавесом. Свой голос против арестов диссидентов и нарушения в Чехословакии прав человека возвышали Международная Хельсинкская Федерация по правам человека (МХФ) с секретариатом в Вене и национальными филиалами в ряде западных стран, лондонская Index-on-Censorship, американская Helsinki Watch, Amnesty International, Международный Пен-клуб и иные организации, а также многие знаменитые писатели и интеллектуалы.
В этой деятельности гражданское общество далеко опередило власти собственных стран. Откровенно и неустанно атаковали советский блок за нарушение прав человека только Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Большинство западных правительств, хотя и не одобряло применявшиеся внутри советского блока методы подавления, но все-таки, поразмыслив, предпочитало пожинать плоды разрядки, уклоняясь от прямой конфронтации.
Поэтому ключевую роль тогда играло общественное признание. Вскоре после освобождения Гавела из тюрьмы Яноух начал кампанию за выдвижение Гавела на Нобелевскую премию мира. Эпоха разрядки подходила к концу, и Яноуху не удалось добиться больших успехов, хотя он и заручился поддержкой ряда европейских интеллектуалов. Однако, будучи человеком практическим, Яноух попробовал подыскать достойную замену Нобелевской премии. В 1986 году роттердамский Фонд Эразма Роттердамского вручил Гавелу премию, которой ежегодно награждаются люди или организации, внесшие значительный вклад в европейскую культуру, общественную жизнь, социальные науки. Премия составляла 200 000 гульденов, и ее вручение всегда сопровождалось торжественной речью лауреата, произносимой в кафедральном соборе Роттердама в присутствии голландской королевской семьи.
Гавела известие о премии обрадовало, но очень скоро выяснилось, что ее гораздо легче присудить, чем получить[646]. Во-первых, существовали большие сомнения в том, что ему вообще позволят поехать в Голландию. Во-вторых, его несколько смущало, что подобная почесть достанется лишь ему одному[647], и он обсуждал с Яноухом, нельзя ли сделать так, чтобы премию получила вся «Хартия-77» или хотя бы «Хартия» вместе с ним. Яноух, представлявший Гавела при подготовке церемонии, быстро понял, что это абсолютно невозможно: награждение «Хартии» было бы воспринято как совершенно недопустимый политический акт; мало того – Гавелу вообще не рекомендовали упоминать ее в своей речи. Время шло, но было по-прежнему неясно, разрешит ли голландское правительство, которое, согласно конституции, отвечало за действия монарха, чтобы королева присутствовала на церемонии.
Проблему представляла даже нидерландская конституция – что уж тут говорить о законах Чехословакии! Если бы Гавел взял деньги, о которых он твердо знал, что они по праву должны принадлежать не ему, а «Хартии», у него немедленно бы начались сложности, связанные с валютными ограничениями; вдобавок власти забрали бы большую часть суммы в качестве налогов и пристально следили бы за тем, как он потратит остаток. Если бы, с другой стороны, Гавел положил свою премию на какой-нибудь заграничный счет, коммунистическое правительство, представлявшее бесклассовое общество, но всегда очень беспокоившееся о деньгах, лишилось бы крупной суммы и за это вполне могло отправить лауреата на пару лет за решетку. Так что нельзя было сделать ни того, ни другого. Строго говоря, он не мог даже отказаться от денег, потому что для этого ему предстояло сначала сделаться их легальным владельцем, что опять же грозило применением к нему сурового валютного законодательства. Единственное, что оставалось (данный выход был в конце концов найден Яноухом) – это получить премию с условием, что денег он брать не станет, а поручит распорядиться причитающейся ему суммой Фонду Эразма Роттердамского[648]. Удивительно, но Фонд принял решение подарить всю сумму стокгольмскому «Фонду Хартии-77» Яноуха, и Яноуху пришлось затем приложить немало стараний, чтобы деньги попали к временным получателям, которые и передали их затем получателям окончательным.
Третьей проблемой стали сами хартисты. Конфликты между отдельными эго, обусловленные тщеславием и мелочной ревностью, были в «Хартии», пожалуй, большей редкостью, чем в подобных ей крупных сообществах, однако иногда все же случались. Когда стало окончательно ясно, что Гавел не сможет поехать в Роттердам, встал вопрос о том, кто получит премию за него и кто произнесет его речь лауреата. Яноух попытался предложить триумвират, состоящий из него, Павла Когоута и Зденека Млынаржа, который бы мог взять на себя все протокольные церемониальные хлопоты, однако с его планом не согласились некоторые другие эмигранты, тем более что – невзирая на все заслуги этой троицы в последние двадцать лет – речь шла о бывших коммунистах. В конце концов в дело пришлось вмешаться Гавелу. Он принял весьма мудрое решение, позволившее избежать всех рисков: Яноуха он уполномочил получить диплом лауреата, а произнести речь доверил своему старому другу актеру Яну Тршиске, который «Хартию» не подписывал и жил сейчас в Калифорнии. Яноуху предстояло еще собрать деньги на дорогу и позаботиться о жилье для эмигрантов, приглашенных Гавелом на церемонию в качестве его личных гостей; мало для кого из них деньги не были проблемой. Фонд Эразма заплатил за шестерых; о примерно дюжине оставшихся позаботились благотворительные организации. И все же история оставила некий привкус горечи. Гавел прокомментировал ситуацию довольно сухо: «Восток есть Восток, а Запад есть Запад. Деньги играют там какую-то другую роль. Не могу представить, что если бы оломоуцкий университет присвоил мне титул почетного доктора и я пригласил бы туда сто своих друзей, хоть одному из них пришло бы в голову сказать, что я, или университет, или Яноух обязаны оплатить ему дорогу. Это просто абсурд. Кто-то добирался бы автостопом, кто-то занял бы денег в кабаке, кто-то взял бы их у богатого приятеля, затащив ему, скажем, за это на пятый этаж 20 мешков цемента»[649].
За месяц до торжественной церемонии, назначенной на 13 ноября, некоторые щекотливые вопросы все еще оставались нерешенными. У главы голландского правительства появились замечания относительно слишком «политического» характера речи Гавела, и он предложил произнести ее уже после окончания официальной программы[650]. Это задело нескольких приглашенных эмигрантов, заявивших, что в таком случае они будут церемонию бойкотировать.
Но все закончилось хорошо. Большинство гостей Гавела все же согласилось присутствовать, королева пришла, Яноух получил за Гавела диплом, а Тршиска прочитал благодарственную речь. В ней Гавел отождествляет себя с «Похвалой глупости» великого голландского гуманиста Эразма Роттердамского: «Первое, что я вам тут советую, – осмелиться быть глупцом. Глупцом в самом прекрасном смысле этого слова. Давайте пытаться быть глупцами и со всей серьезностью стремиться изменять вроде бы неизменяемое!»[651] Упоминание о «Хартии-77» в речи осталось, хотя в официальном английском переводе формулировка «о чести, которой в моем лице – хотя и не непосредственно – удостоена “Хартия-77”» заменена на «о чести, которой я удостоен». Даже при получении премии за борьбу за права человека Гавелу не удалось избежать цензуры.
Времена начинали меняться и к востоку от домика у подножья Крконошских гор. В марте 1985 года гротескное трио живых мертвецов, возглавлявших советскую властную пирамиду (Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко), сменил пятидесятичетырехлетний региональный аппаратчик Михаил Горбачев. Придя к власти в хиреющей супердержаве, он очень скоро продемонстрировал прагматизм, открытость и здравомыслие, доселе ни у кого из его предшественников не виданных. После весьма неудачной кампании по борьбе с алкоголизмом он в феврале 1986 года, на очередном съезде КПСС, объявил о начале комплексных хозяйственных и политических реформ – о так называемой перестройке.
Очень долго, однако, сохранялось впечатление, будто перестройка идет где угодно, но только не в Чехословакии. В Советском Союзе укоренялась гласность; в Польше из подполья вышла «Солидарность»; в Восточной Германии началось бурление, связанное с прежде кроткой протестантской церковью. В Венгрии на страницах печати, на семинарах и конференциях проходили относительно откровенные интеллектуальные дебаты. В Чехословакии же… не происходило ничего. Правда, в апреле 1987-го Горбачев посетил Прагу с многообещающим визитом. Но он приехал и уехал, не сказав ничего важного, разве что выразил полную поддержку все более закостеневающему и лишающемуся какого-либо содержания коммунистическому режиму.
Тем не менее во время его визита произошла памятная встреча, хотя тогда никто не обратил на нее внимания. В тот вечер Гавел вывел на прогулку свою собаку. Когда он подошел к Национальному театру, то увидел несчетное множество полицейских. Подгоняемый любопытством («я, видите ли, по натуре зевака»), он с помощью собаки пробился в первый ряд ликующей толпы как раз в тот момент, когда советский лидер выходил из театра. И в эту минуту Гавела охватили четыре неожиданных чувства. Первое из них – это грусть от необучаемости своих восторженных сограждан и всего чешского народа: «Ведь он уже столько раз обращал свои надежды к некоей внешней силе, ожидая, что она решит за него все его проблемы, столько раз горько разочаровывался и был вынужден признать, что никто не поможет ему, кроме него самого, – и вот опять та же ошибка!» Потом Гавел, не подозревавший, конечно же, о том, что и сам скоро окажется в подобной незавидной ситуации, удивился тому, что почувствовал жалость к этому человеку: «Вокруг целый день малосимпатичные физиономии охранников, программа наверняка напряженнейшая, бесконечные встречи, речи и переговоры, необходимость беседовать с множеством людей, помнить их всех, отличать одного от другого, бесконечно произносить что-то остроумное и одновременно правильное, за что мир, ожидающий сенсаций, не мог бы ухватиться, чтобы использовать это каким-нибудь образом против него, необходимость все время улыбаться и посещать, вот как сегодня, всякие представления… а он вместо этого наверняка предпочел бы отдохнуть… да еще и выпить после такого трудного дня нельзя!»
Пока Гавел упрекал себя за то, что посочувствовал человеку, который сам всего этого хотел, и за то, что «уподобился всем этим западным простакам, которые тают, как снеговик в печке, стоит какому-то восточному владыке одарить их обворожительной улыбкой», Горбачев прошел совсем рядом с ним. Он махал и дружески улыбался – «и мне вдруг кажется, что машет он именно мне и улыбается тоже мне.
И третья неожиданность: внезапно я осознаю, что моя учтивость, которая велит мне ответить на приветствие, оказалась проворнее моих политологических размышлений, – я растерянно поднимаю руку и машу в ответ».
Ну, а по дороге домой настает время четвертой и последней неожиданности: «я совершенно не корю себя за свое робкое помахивание рукой. У меня же действительно нет никакой причины не ответить на приветствие просвещенного царя! Ведь это две разные вещи – ответить на его приветствие и откреститься от собственной ответственности, перекладывая этот груз на его плечи»[652].
Процесс перестройки в Советском Союзе вдохновил Гавела на создание следующей пьесы, получившей название «Реконструкция». При ее написании драматург придерживался заведенного порядка, продиктованного как боязнью внезапно выйти из состояния творческого подъема, так и необходимостью побыстрее закончить рукопись и спрятать ее до очередного обыска. Первая версия была написана за пять дней – в Праге; позднее, за следующие проведенные в Градечке пять октябрьских дней 1987 года, он пьесу отредактировал, начисто перепечатал на машинке и начитал на магнитофонную кассету.
Как и ряд предыдущих творений Гавела, «Реконструкция» рассказывает о бесплодных попытках реформировать нереформируемую систему. Архитекторы и планировщики, получившие задание перестроить маленький городок, поначалу чувствуют угрызения совести, потому что к ним приходят несколько местных жителей и жалуются на то, что их выселят из старых, но уютных домов в современный, однако отвратительный спальный район. Пока реконструкторы решают свои моральные дилеммы (причем некоторые даже выражают сочувствие протестующим гражданам, хотя им и грозит за это наказание), наверху происходит резкая смена политики. Традиции и разнообразие теперь приветствуются, а от перестройки городка отказываются. Архитекторы радостно бросаются переделывать чертежи, но… их радость оказывается преждевременной: система возвращается к прежней консервативной политике. Пьеса заканчивается трагедией: один из реконструкторов в приступе отчаяния прыгает с замковой стены и разбивается насмерть. Гавел снова верен себе: самоубийца – это не разочаровавшийся в своих ожиданиях фанатик и не обуреваемый сомнениями реформатор, а здравомыслящий реалист Кузьма Плеханов[653], никогда не питавший никаких иллюзий. Плеханов – единственный персонаж пьесы, чье поведение в отношении остальных героев более или менее мотивировано, и потому о нем можно сказать, что, поскольку он живет в правде, хотя и дурно пахнущей, он и есть тот единственный, кто «имеет право на смерть»[654]. Посыл пьесы, в духе гавеловских эпиграмм, звучит так: «Если уж мы должны умереть, так, может, нам до того позволено хотя бы пожить?»[655] Пьеса, действие которой разыгрывается в замке, и урбанисты (те же землемеры, но чуть более активные) – ее главные персонажи – это, возможно, подсознательный привет от Гавела Кафке: «Есть цель, но нет пути; то, что мы называли путем, – это промедление»[656].
Может показаться, будто в промежутке между печальными кафкианскими глубинами «Реконструкции» и перспективой того, что Гавел вскоре и сам станет «институцией», теряется его типичный юмор. Однако в действительности восхождение к вершинам лишь взбадривает его склонность подмечать повсюду абсурдное и достойное осмеяния. Его написанная в 1987 году «Свинья, или Охота Вацлава Гавела на свинью» (Prase, aneb Václav Havel’s Hunt for a Pig) возникла из попытки порадовать Ольгу в день ее рождения (на который она пригласила свое Библиотечное общество взаимопомощи – «Гробка»), устроив традиционный забой свиньи с обязательным последующим пиром. Попытки Гавела найти в соседней деревне Влчице нужное животное (что в коммунистической Чехословакии оказалось делом нелегким) привели к тому, что сельчане составили заговор с целью поводить беспомощного писателя за нос и взвинтить цену свиньи до небес. Гавел, который к тому времени уже привык делать заявления по любой проблеме для мировых медиа, пересказал эту историю в виде фиктивного интервью, якобы данного им репортеру известнейшего мирового агентства. Он терпеливо отвечает на серьезнейшие, но при этом совершенно тривиальные вопросы о подробностях поиска свиньи, точно перечисляет всю последовательность действий, говорит о том, как реагировали на происходящее герои истории… – причем выдерживает тон, что годился бы для повествования о решающей схватке с режимом. И только когда репортер в конце спрашивает: «Что вы думаете о господине Горбачеве?», лидер чехословацкой демократической оппозиции отвечает: «Иди в жопу!»[657]
Но вот перестройка все же потихоньку добралась и до Чехословакии. В декабре 1987 года партийное руководство решилось сместить президента Гусака – символ нормализации и стагнации – с поста генерального секретаря партии, заменив его Милошем Якешем. Не то чтобы это был заметный шаг вперед. Якеш был одним из самых бесцветных и одновременно самых твердолобых и неумных аппаратчиков высшего партийного эшелона. Он крепко держался в седле с тех пор, как в качестве председателя контрольно-ревизионной комиссии партии руководил чистками после 1968 года. Ничто не свидетельствует о том, что он взялся за порученное ему дело, горя энтузиазмом и идеологическим рвением, но ничто не указывает и на то, что его сдерживали какие-то нравственные барьеры. Именно это в нем и пугало больше всего. Можно было представить, как он сидит и составляет списки для отправки в концлагерь. Кстати, эта воображаемая картина оказалась не такой уж далекой от правды. После Бархатной революции в архивах были обнаружены документы об «Операции Норберт» – плане интернирования, а то и чего-то худшего, тысяч «враждебных элементов» в случае «чрезвычайной ситуации». Имя Вацлава Гавела стояло в списке одним из первых.
Но Гавел, разумеется, ничего о списках не знал, а если бы и знал, вряд ли бы это его остановило. Все вокруг наконец-то пришло в движение. Общая пассивность сменялась чем-то куда более привлекательным. «Островки позитивного отклонения» увеличивались, сливались воедино и множились. Чем усерднее власти пытались вытеснить независимые группировки из общественного пространства, тем активнее последние создавали собственное параллельное пространство.
Каждый июль с начала восьмидесятых годов на берегах лесного пруда неподалеку от южночешской деревушки Горносин собиралась неприметная компания молодых людей и семейных пар среднего возраста – с детьми, кошками и собаками. Они устроили там лагерь, где кроме палаток имелись еще два деревянных сруба, служившие кухней и складом. (Время от времени в этом лагере поселялись пионеры из Волыни, что служило прекрасной ширмой для властей.) Туда часто приезжали психологи и психиатры, работавшие в разных специализированных больницах; первоначальная цель – до того, как тон там стали задавать семейные пары и дружеские компании, – состояла в том, чтобы создать нечто вроде сообщества для тренинга терапевтов. За несколько лет группа, насчитывавшая в выходные дни не менее сотни душ, превратилась в своеобразную биржу для обмена самиздатской литературой и инкубатор петиций и писем протеста. Днем в лагере проводились «подрывные» семинары, а по ночам его обитатели предавались еще более подрывному музицированию вокруг костра. Примерно в то же время на западе Словакии, в Кисуцах, возникло похожее товарищество словацких интеллектуалов, художников и музыкантов, расцветшее пышным цветом в еще более примитивных условиях (одним из преимуществ обоих мест было отсутствие электричества и телефонной связи, что сводило к минимуму риск прослушивания); программы сообществ были очень схожи. Со временем обе группы объединились и создали общефедеральную сеть дружеских контактов, существующую и по сей день. Интеллектуальный потенциал этой сети потрясал воображение. В сообщества входили известные психологи и психиатры, певцы и композиторы, драматурги, писатели, философы, переводчики, а после 1989-го к ним присоединились и несколько министров, лидеры партий, депутаты и сенаторы, а также парочка послов[658].
Именно в Горностин и привезла однажды Итка Воднянская своего небезызвестного друга. Случилось это в июле во второй половине восьмидесятых годов. В тот день в огромном военном ангаре, по крыше которого колотили струи жуткого ливня, Гавел почтил присутствующих лекцией о естественном союзе между диссидентами восточного блока и выступающими против западноевропейского истеблишмента политическими группами, в частности, немецкими «зелеными». Хотя в группе было несколько экологических активистов, которые только что организовали протест против запланированного строительства плотины Габчиково-Надьмарош, публике подобные рассуждения показались неприемлемыми, и она весьма шумно сообщила об этом оратору. К тому времени Гавел уже успел привыкнуть к более теплому приему и дома, и за границей, однако он никогда не уклонялся от интересной интеллектуальной дискуссии, поэтому вернулся туда снова. В 1990 году, уже как президент, он приехал в сопровождении двух машин с охранниками, стерпел водружение над его палаткой президентского штандарта и затеял разговор о рифах и ловушках новой конституции, которую как раз намеревался предложить. Встретили его слова не менее бурно, чем тем июльским днем[659].
Оппозиционное движение во главе с «Хартией-77» тоже росло и ширилось. Двое оппозиционных журналистов – Иржи Румл и Рудольф Земан – попросили разрешить им издавать «Лидове новины», чтобы продолжить традицию этой довоенной либеральной ежедневной газеты, а когда – что не было неожиданностью – в просьбе им отказали, все равно взялись за издание. Группа более молодых – и более радикальных – диссидентов, костяк которой составляли Иван Лампер, Виктор Карлик и Яхим Топол, начала выпускать андеграундный «Револьвер Ревю»[660] – модернистский коллаж: искусство, поэзия и комментарии. Активисты из среды мирян-католиков, одним из которых был Аугустин Навратил (его усилия были вознаграждены заключением в психиатрическую клинику в Кромержиже, и это лишь один из сложно доказуемых случаев использования медицины в карательных целях, практиковавшегося в годы нормализации), потребовали самостоятельности церкви и ее отделения от государства в петиции, подписанной более чем 600 000 верующих[661]. Стали расправлять плечи и официальные церковные структуры, возглавляемые примасом чешской католической церкви кардиналом Томашеком.
Вацлав Гавел не играл и не мог играть центральной роли во всех этих событиях. Однако, оглядываясь назад, поражаешься тому, в скольких из них он участвовал – или непосредственно, или как вдохновитель, зритель, друг. Он был точно паук, ожидающий своего часа посреди сплетенной им паутины.
Чем дальше, тем чаще покидал он свое «гетто», чтобы посетить театры, концерты и вернисажи, подгоняемый как своим вечным неизбывным любопытством, так и явным стремлением переступать границы. Где бы он ни появился, его встречали заговорщицкие улыбки и любители автографов. Больше всего ему нравилось бывать в музыкальном клубе «На хмелници», где играли в основном альтернативную музыку и собиралась соответствующая публика. Он даже ходил на концерты и спектакли под открытым небом в пражском парке Стромовка. Во время таких вылазок он иногда спрашивал меня: «Ну что, будешь сегодня моим телохранителем?» Отлично зная, как плохо я гожусь для подобной роли, он имел в виду, что рядом с ним должен быть человек, который, если что-то случится, сообщит об этом Ольге и «миру».
Изменение его политического веса можно было понять и по уважению, проявляемому к нему в самых неожиданных местах и самыми неожиданными людьми. В конце 1988 года, разговаривая по телефону с находившимся в Вене Карелом Шварценбергом, он описал, что произошло, когда к нему с Ольгой приехала в гости родня из Словакии. «Пить в доме было нечего, и я взял кувшин и отправился за пивом за угол, в “Рыбарну”. Но полицейский, дежуривший в тот вечер возле нашей квартиры, остановил меня словами: “Пан Гавел, я знаю, что у вас дома гости и что это не имеет отношения к политике. Так что вы останьтесь с ними, а я сам принесу вам пиво”». Шварценберг добавляет, что именно в тот момент он понял, что режиму конец[662].
Примерно в это же время сам Гавел тоже должен был уже осознать, что для него настало время необратимого превращения из драматурга и диссидента в политика. Спустя год Гавелу все еще делалось не по себе от мысли, что ему предстоит возглавить государство, однако нельзя сказать, что он был совсем не готов к этой роли.
Летом 1988 года ему в очередной раз захотелось навести порядок в вещах, и он написал – скорее для самого себя – «Опись моего письменного стола». Там лежали две рукописи других авторов, которые он обещал прочесть, стопка чистой бумаги, где на верхнем листочке значился список коротких текстов, которые он обещал написать еще до возвращения в Прагу, какие-то канцелярские принадлежности, пара писем, ожидающих ответа, в том числе – послание от Тома Стоппарда, и последний номер самиздатских «Лидовых новин». «Это все. Если кто-то, судя по этому списку, пришел к выводу, что я больше чиновник, чем писатель, то этот вывод совершенно верен. Здесь явно не хватает вороха набросков моей будущей пьесы, и я жалею об этом больше, чем кто-либо другой»[663].
Битва на Вацлавской площади
Мы живем в Праге / это там / куда однажды снизойдет/ сам Дух Святой.
Эгон Бонди
В чешской истории наблюдается загадочная тенденция, в соответствии с которой важнейшие события совершаются с промежутком в двадцать лет, причем часто в год, оканчивающийся цифрой 8. В XX веке независимость и суверенитет чехословацкого государства были провозглашены в 1918 году, а роковой удар по ним нанес Мюнхенский сговор 1938 года. Коммунистический путч против демократии произошел в 1948 году (небольшой сбой периодичности, возможно, объяснялся ускорением хода истории во время всемирного пожара), а безуспешная попытка придать коммунистической системе человеческий облик закончилась вторжением пяти стран Варшавского договора в 1968 году. Бархатная революция, грянувшая в ноябре 1989-го, правда, на год опоздала, но ее первые толчки дали о себе знать как раз вовремя.
В двадцатую годовщину оккупации, 21 августа 1988 года, по Вацлавской площади прошли десять тысяч людей с пением чехословацкого гимна и требованием восстановления суверенитета и свободы. Власти были настолько ошарашены, что органы безопасности принялись разгонять демонстрацию, причем в сравнении с последующими акциями даже не слишком жестко, только когда она уже прошла всю площадь в семьсот метров длиной.
Вацлав Гавел проводил то лето в Градечке, а в первые выходные сентября появился в совершенно неожиданном месте. Главной достопримечательностью городка Липнице-над-Сазавой являются развалины большого готического замка и ресторан с символическим названием «У чешской короны», где в 1921–1923 годах Ярослав Гашек беспробудно пил, дописывая «Бравого солдата Швейка» (и таки допился до смерти). Здесь 3 сентября, во время популярного местного музыкального фестиваля под открытым небом Ян Рейжек, музыкальный критик с огненным характером и такой же огненной шевелюрой, убедил Гавела приветствовать публику между выступлениями двух групп. Зрители встречали врага народа как рок-звезду, а девушки, желавшие получить автограф, следовали за ним по пятам даже за кулисы.
Двадцать восьмого октября 1988 года исполнялось 70 лет с момента провозглашения независимой Чехословакии. Впервые за два десятилетия власти устроили в канун этого дня официальные торжества. С их стороны это была тщетная попытка перехватить у оппозиции инициативу. На следующий день, в пятницу, тысячи людей, вновь пройдя маршем по Вацлавской площади, двинулись дальше – на Староместскую площадь, к памятнику Яну Гусу.
В этот раз органы безопасности были в боевой готовности и использовали против демонстрантов не только щиты, дубинки и водометы, но и грозили спустить собак. Для большинства людей эта первая встреча с рычащими немецкими овчарками, которые скалили пасть и рвались с поводка, оказалась довольно-таки пугающей, но они быстро поняли: если ограничиваться одними речами (что они и так делали), то эти бестии лают, но не кусают. Несмотря на то, что организаторами демонстрации были «Хартия-77» и еще пять оппозиционных группировок, Гавел на ней вынужденно отсутствовал. Накануне не меньше дюжины наиболее видных диссидентов, включая его самого, было задержано, а в их квартирах прошли обыски[664].
Игра в кошки-мышки перед избранной публикой продолжилась в ноябре, когда Гавел организовал международный симпозиум «Чехословакия-88» в ознаменование нескольких важных годовщин этого года. О проведении симпозиума, назначенного на 11 ноября, он заранее уведомил власти[665]. Те на сей раз действовали избирательно. Во избежание международного осуждения они не тронули иностранных участников, в числе которых были издательница журнала «Ди Цайт» Марион Грюфин Дюнхофф, историк и журналист Тимоти Гертон Эш, ректор Копенгагенского университета Ове Натан, политологи Пьер Хасснер и Александер Смоляр, зато взяли под стражу чешских диссидентов, с которыми вышеназванные должны были встретиться. Гавел пришел на встречу, опередив так называемых правоохранителей буквально на два шага, и ему даже удалось объявить симпозиум открытым. Он успел еще сказать: «А теперь я арестован», – после чего на него набросились трое в штатском. Как заметил Хасснер, Гавел – организатор мероприятия – так и не получил возможности закрыть симпозиум, который тем самым, видимо, продолжается и поныне[666]. Было задержано не менее сорока диссидентов и историков, из которых половина провела в заключении все выходные – пока не уехали иностранные гости[667].
В то время Гавел уже привык к утомительному ритуалу четырех суток[668] в знакомой обстановке тюрьмы в Рузыне. Гораздо больше его возмутило то, что в ходе обыска у него дома гебисты конфисковали его драгоценный ПК, в связи с чем он написал протестующее письмо премьеру Адамецу. С присущим ему чувством абсурда он не преминул заметить: «…как следует из протокола обыска, сотрудники безопасности приняли за персональный компьютер его клавиатуру, сам компьютер назвали усилителем, а монитор оставили, сочтя его телевизором»[669].
Десятого декабря 1988 года образовалась первая заметная брешь в непроницаемой до тех пор системе. Эту дату, когда отмечается День прав человека в память о подписании Всеобщей декларации прав человека ООН в 1948 году, пять оппозиционных организаций выбрали для массового собрания граждан. После того как их заявка на проведение этой акции на Вацлавской площади была, как и следовало ожидать, отклонена, они подали другую заявку, требуя разрешения провести встречу на малоизвестной площади Шкроупа в районе Прага 3. Она, к всеобщему удивлению, была удовлетворена. Вероятно, этому способствовало и то обстоятельство, что из Праги тогда только что отбыл президент Франции Миттеран, который прорвал кольцо диссидентского гетто, пригласив Гавела и еще семерых оппозиционеров на завтрак во французское посольство.
По историческим меркам эта демонстрация была довольно скромной. На площади собралась, может быть, тысяча человек, и еще десятки стояли на прилегающих улицах. Организаторы оказались настолько слабо подготовленными к официально разрешенному мероприятию, что вместо звукоусиливающей аппаратуры им пришлось обойтись ручным мегафоном, работающим на батарейках. Людям в задних рядах трудно было разобрать призыв Гавела освободить политических заключенных или требования других ораторов покончить с монополией коммунистической партии на власть. Но и до них, передаваемый из уст в уста от стоявших вблизи возвышения, дошел главный смысл выступления Гавела: «Наша страна начинает пробуждаться от долгого сна»[670]. Гебисты в штатском, кучковавшиеся в великом множестве по периметру толпы, не имели такого преимущества, поэтому не оставили будущим историкам ни одной мало-мальски приличной записи полуторачасовой мирной демонстрации. Но сам по себе факт, что она вообще состоялась и, в отличие от многих своих предшественниц, не была разогнана силой, был важнее всего вышесказанного.
Это событие, которому чехословацкие средства массовой информации посвятили всего пару строк, тогда как на Западе оно вызвало обширные комментарии, транслируемые затем на Чехословакию «Голосом Америки» и «Свободной Европой», побудило обе стороны сделать свои выводы. В обоих случаях они оказались одинаково ошибочными.
Власти, по-видимому, полагали, что теперь, отдав символическую дань хельсинкским соглашениям и правам человека, они опять могут закрутить гайки – по меньшей мере до визита в страну следующего президента. Оппозиция же считала, что снисходительность, проявленная к демонстрантам, свидетельствует о возможном изменении отношения власти к реформам, ее слабости или о том и другом одновременно. Это стало предпосылкой неожиданно жесткого столкновения.
Шестнадцатого января 1989 года исполнялось двадцать лет со дня совершения одного из самых мужественных и самых отчаянных поступков в современной чешской истории: самосожжения Яна Палаха у памятника святому Вацлаву в верхней части одноименной площади.
За неделю до этой годовщины Гавел сообщил органам безопасности, что получил анонимное письмо, якобы написанное студентом, который намеревался почтить память Палаха, повторив его жертвенный акт. Гавел просил дать ему возможность в прямом телевизионном эфире попытаться отговорить потенциального самоубийцу от его замысла, но в конце концов вынужден был передать свое обращение через «Би-би-си», «Свободную Европу» и «Голос Америки», ведь враг народа не мог выступать в средствах массовой информации, контролируемых коммунистами, даже во имя спасения жизни людей.
Линии фронта были обозначены с самого начала. Оппозиция во главе с «Хартией-77» не скрывала, что собирается почтить память Яна Палаха, и подала заявку на проведение мирного собрания. Власти ясно дали понять, что публично отмечать годовщину они не позволят. Любые символы годовщины приводили госбезопасность в такую ярость, что она конфисковала даже посмертную маску Палаха в мастерской скульптора Олбрама Зоубека. Гавела органы дважды в течение недели задерживали и допрашивали, предупредив его и других видных хартистов о последствиях в случае, если они посмеют демонстрировать.
В воскресенье 15 января Вацлавскую площадь окружили отряды сил безопасности на бронетранспортерах, с водометами, немецкими овчарками и дружинниками из Народной милиции. Тем не менее на площадь прорвались около 5000 человек, скандировавших «Свободу, свободу!» Некоторые из них были задержаны, а несколько десятков, в том числе оператор западногерманского телевидения, избито[671]. Демонстранты выкрикивали «Да здравствует Гавел!», но на площадь сумел попасть только брат Вацлава, Иван. Вацлав Гавел вместе с другими наткнулся на кордон представителей безопасности, который выдавливал людей с прилегающих к площади улиц. Поняв, что дальше им не пройти, они обосновались в расположенной поблизости квартире Власты Храмостовой, где Гавел написал короткий репортаж очевидца обо всем, чему он был свидетелем[672].
В понедельник утром, к большому облегчению властей, казалось, что этот инцидент был всего лишь мелкой стычкой. На самом же деле он стал началом битвы за Вацлавскую площадь, которая продолжалась почти год и завершилась сокрушительным поражением властей. В три часа дня 16 января к статуе святого Вацлава подошла небольшая группка диссидентов, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Все последующее разыгралось в течение пары секунд. Спикера «Хартии» Дану Немцову, Сашу Вондру и еще двенадцать человек задержали, едва они показались в верхней части площади. Сотни сторонних зрителей, которых здесь в этот день было больше обычного, силы безопасности разогнали, применив дубинки и слезоточивый газ[673]. Между тем толпа протестующе скандировала: «Гес-та-по!» В течение часа площадь была зачищена.
Гавел, зная, что является одной из главных мишеней атакующих, держался несколько в стороне от демонстрации, а когда полицейская акция достигла наибольшего накала, из тактических соображений отошел еще дальше. Тем не менее за ним все это время следил сотрудник госбезопасности в штатском. И в тот момент, когда в трехстах метрах от статуи святого Вацлава, у пассажа «Альфа», Гавел покидал площадь, гебист дал знак двоим сотрудникам в форме, какими кишела вся площадь, задержать его. Гавела отвели в отделение Общественной безопасности, что на улице Школьской, и посадили в камеру предварительного заключения с четким указанием содержать его отдельно от диссидентов Давида Немеца, Петра Плацака и Станислава Пенеца, задержанных в тот же день. Он был обвинен в «подстрекательстве» (за то, что пытался помешать сжечь себя потенциальным самоубийцам) и в «оказании сопротивления представителям правоохранительных органов при исполнении их обязанностей» (за то, что он недостаточно быстро ушел с площади).
Но если режим полагал, что на этом дело закончилось (а кажется, именно так он и полагал), то на сей раз он страшно просчитался. Спустя сутки на площадь явилось вдвое больше народу. Иным и в голову бы не пришло публично отмечать годовщину смерти Палаха, но их всколыхнули известия о жестокости сил безопасности накануне. В отличие от участников предыдущих демонстраций, не все эти люди принадлежали к традиционной полуорганизованной оппозиции. Многие из них были студентами, многообещающими молодыми людьми из добропорядочных семей, у которых до тех пор на уме были в основном вечеринки, любовные похождения и мечты о карьере. В некоторых же случаях это были просто люди, возвращавшиеся домой после работы и примкнувшие к демонстрантам вначале из любопытства, а потом из чувства солидарности.
В этот раз представители безопасности не щадили никого. Когда выяснилось, что щиты и дубинки не помогают, из прилегающих улиц выдвинули водометы[674]. Стражи порядка не только разгоняли демонстрантов, но и преследовали их, когда те пытались убежать, и безжалостно избивали. Десятки молодых людей задержали, запихнули в автозаки и отвезли в отделение на той же улице Школьской, где их опять били, унижали и запугивали. Некоторых вывезли на служебных машинах за город и оставили там, замерзших, блуждать по проселочным дорогам. Когда ближе к вечеру площадь наконец опустела, по желобам вдоль тротуаров все еще текла вода из водометов. Потерянные в давке ботинки на мостовой напоминали потерпевшие крушение бумажные кораблики.
Разумные люди после такого держались бы подальше от статуи святого Вацлава до тех пор, пока страсти не улягутся, но «безумцы в лучшем смысле этого слова» возвращались обратно. В среду уже было похоже на то, что режим сдается. Люди пришли, требуя освобождения политических заключенных, прекращения оккупации и политических перемен. Когда они расходились по домам, за многими из них следили, а некоторых и досматривали сотни представителей спецподразделений сил безопасности, рассредоточенных вокруг, но никого не задерживали и не избивали[675].
Возможно, власти снова понадеялись, что по прошествии четырех дней решимости у протестующих поубавится. Однако когда в четверг на площадь снова пришли две тысячи человек, представители органов безопасности, которым ассистировали презираемые всеми дружинники из Народной милиции – «железного кулака рабочего класса» в дни захвата власти коммунистами, но сорок лет спустя скорее команды дядек, играющих в солдатиков, – принялись вести себя как помешанные: пускали в ход водометы, хватали и избивали демонстрантов[676]. Из толпы вновь понеслись выкрики «Гестапо!»
В пятницу те несколько дней, что вошли в историю под названием «Палахова неделя», закончились. Людей пришло меньше, и они вскоре отступили перед приближающимися щитами. Обе стороны высказали друг другу, что хотели.
Тем не менее кое-что осталось недосказанным. В 1973 году власти, не желавшие терпеть потенциальный очаг протестов у могилы студента-мученика, распорядились вывезти останки Палаха из Праги и тайно перезахоронить их в его родном городке Вшетаты. После того как начались протесты, соответствующие чиновники верно рассудили, что здесь может возникнуть следующий очаг противостояния, и стали планировать оборону обнесенного стеной кладбища, как если бы это был Сталинград. Они закрыли кладбище «на ремонт», перекрыли все боковые входы, а главный загородили грузовиком с цистерной. В субботу 21 января, когда на кладбище должна была пройти процессия с цветами, стражи порядка, окружившие маленький городской вокзал, досматривали и десятками задерживали молодых людей (доказательством преступного умысла считались цветы), а некоторых отправляли обратным поездом в Прагу[677]. Прорвать блокаду удалось лишь нескольким, в том числе неустрашимому моравскому активисту Станиславу Деватому[678], который, как партизан нашего времени, прополз с цветами по замерзшему полю и перелез через кладбищенскую ограду. Прочим оставалось только поражаться этой невероятной мелочности и абсурду.
Неделя Палаха и арест Гавела как одно из главных событий недели означали перелом в развитии событий. Протесты, до того лишь спорадические, стали постоянным выражением общественных настроений. Граница между диссидентским гетто и куда большим числом недовольных граждан исчезла. Гавел, бывший до тех пор признанным авторитетом в диссидентской среде и самым известным представителем чехословацкой оппозиции в глазах заграницы, превратился в фигуру национального масштаба.
Когда его арестовали и вскоре приговорили к очередным девяти месяцам заключения, один из которых ему после апелляции «скостили», начался новый процесс сбора подписей под петицией за его освобождение[679]. И это была уже не «Хартия-77» с ее первоначальными 242 подписантами. Десятки активистов собирали подписи в вузах, в театрах, в кафе и на предприятиях. Одна храбрая мамаша развозила листы для подписей в коляске под одеяльцем своего младенца. Было собрано более трех тысяч подписей людей из самых разных профессиональных и жизненных сфер (в том числе известных лиц, рисковавших своим положением), и все время прибавлялись новые.
Дух сопротивления распространялся повсеместно. Из высших учебных заведений не исключали задержанных студентов и даже не применяли к ним меры дисциплинарного воздействия. Некоторых преподавателей и родителей настолько шокировал полицейский произвол, что они потребовали объяснений.
Психология социальных протестов строится на таких понятиях, как подготовительная фаза, коллективное сознание и критическая масса. Вначале неравенство противостоящих друг другу сил так велико, что надо быть слегка психом, чтобы вообще вступить в такое противостояние. Когда человек впервые натыкается на стену угрожающего вида парней – в шлемах, с метровыми дубинками и щитами, будто из звездных войн, и с рвущимися с поводка рычащими боевыми собаками, – или на шланг водомета, то его естественное желание – очутиться где-нибудь в другом месте. Когда это случается в пятый раз и он понимает, что все еще здесь и, если не считать пары синяков, он все тот же, ему уже кажется, что происходящее можно пережить. И, хотя это противоречит рассудку, у него даже может возникнуть чувство некоторой эйфории. Когда инстинкт велит человеку спасаться бегством, но люди вокруг него, в том числе, возможно, его друзья, не бегут, не побежит и он. Чем дальше, тем больше решимости и радостного возбуждения придает ему совместное выкрикивание лозунгов, обмен ободряющими взглядами, плечо соседа, соприкасающееся с его плечом. Перед ним всегда оказывается кто-то еще более храбрый и безрассудный и идущий на больший риск, чем он. И он не бежит.
В длинной череде столкновений между тоталитарным государством и бессильными гражданами такая ситуация может сохраняться долго и иногда кажется патовой. Число протестующих в Чехословакии 1988–1989 годов, которые рисковали получить дубинкой по голове или быть сбитыми с ног струями, хлещущими из водомета, было более или менее постоянным: от пяти до десяти тысяч. В течение того года западные журналисты разработали хитроумные методы подсчета голов в относительно правильном прямоугольнике Вацлавской площади размером примерно 700 x 60 метров. Сравнивая вечером за кружкой пива свои записи, они видели, что цифры остаются неизменными. Но под крышкой застоя в обществе бурлили фрустрация, гнев и жажда перемен, которые отныне были лишь вопросом времени.
А потом у режима снова не выдержали нервы. Весомость подписей под очередной петицией за освобождение Гавела в сочетании с протестами за границей заставили власти пересмотреть отношение к самому знаменитому из своих узников. 17 мая, через четыре месяца после ареста, Гавел предстал перед судьей в тюрьме на Панкраце, и начальник тюрьмы рекомендовал удовлетворить ходатайство о его условно-досрочном освобождении на основании «примерного поведения», «тщательной заправки койки и порядка в личных вещах», а также «социализации», что доказывалось его интересом к вечерним телевизионным новостям. Врожденная вежливость Гавела, его маниакальная любовь к порядку и интерес к общественной жизни впервые сослужили ему такую службу. Через час он уже был на свободе и ехал домой в сопровождении Ольги, Ивана и узкого круга друзей. Он выглядел здоровым и отдохнувшим. О времени, проведенном в тюрьме, он высказался так: при отбывании предыдущих четырех с половиной лет с ним обращались как «с самым отверженным из отверженных <…> тогда как на сей раз я был привилегированным узником в таких условиях, какие другим заключенным могут только сниться»[680]. Аккуратный сверток с его личными вещами в пакете гордо нес я.
Бархатная
Всякая революция сначала родилась как идея в голове отдельного человека.
Ральф Уолдо Эмерсон
О том, были ли события ноября 1989 года, которыми закончилась коммунистическая эра, революцией, внутренним обрушением системы, обговоренным транзитом, келейным путчем либо чем-то еще, написаны тысячи страниц. Живой свидетель, однако, мог сделать единственный вывод: за исключением келейного путча, случившееся было всем вместе, чем-то совершенно уникальным, невероятно «бархатным» и неповторимым. Тем не менее нельзя упускать из виду и радикальный характер произошедшего, особенно глядя из сегодняшнего дня. Учитывая внезапную и резкую перемену общественного сознания в целом и сознания участников событий в частности, это была, безусловно, революция. То, что еще накануне было совершенно невозможным, на другой день становилось общепринятой точкой зрения. То, что представлялось неизменным и вечным («с Советским Союзом на вечные времена»), оказывалось лишь эпизодом. Люди за ночь избавлялись от своих страхов, своей «защитной окраски» и своих цепей. (Единственное, от чего избавиться было невозможно, это прошлое, – непреодолимое препятствие для строителей любого нового светлого будущего.) Благодаря революциям 1989 года за последнюю четверть века геополитические, экономические, культурные и психологические характеристики Центральной и Восточной Европы изменились до неузнаваемости.
Признать события 1989-го революцией необходимо еще и потому, что, оценивая политические революции, придавать слишком большое значение стереотипам вроде физических стычек и насилия – означает стать заложниками тех, кто пытается им (революционным событиям) противостоять. Стратегии оппозиционных движений во всем регионе были сходными и базировались на гражданских, ненасильственных, народных протестах. О том, будет или нет пролита кровь, принимали решение не революционеры, а исключительно представители власти, позволившие себе воспользоваться гигантскими аппаратами насилия, имевшимися в их распоряжении. Если бы чехословацкие коммунисты 24 ноября 1989 года осмелились применить против демонстрантов силу, как это произошло месяц спустя в Румынии, наверняка случилось бы кровопролитие, появились мученики, а произошедшее проще было бы трактовать как революцию; но вот насколько более революционными оказались бы последствия таких действий, вопрос спорный.
Вопреки возникшему задним числом ощущению неизбежности, не перестает изумлять тот факт, что события той осени никто не предвидел: ни кремленологи, гадавшие на кофейной гуще рассадки гостей во время первомайских торжеств на Красной площади и нагадавшие создание процветающей экономики, ни информационные агентства, тратившие огромные суммы на вербовку агентов, кражу секретов и просеивание через мелкое сито всех клише подцензурных СМИ, ни западные масс-медиа, которые отправляли своих самых способных молодых людей интервьюировать на удивление неразговорчивых номенклатурных «реформаторов» как будущих руководителей страны, ни западные дипломаты. Согласно телеграмме, отправленной из посольства Соединенных Штатов за неделю до ноябрьской революции, «население остается апатичным»[681]. Посол Ширли Темпл Блэк объясняла это «отвращением чехов к риску»[682]. Потому, мол, «рядовой человек, в отличие от представителей диссидентских и интеллектуальных кругов, несмотря на события в ГДР, относится к переменам с недоверием»[683]. Однако было бы несправедливо упрекать американских дипломатов в том, что они якобы пребывали в большем неведении, чем все остальные. Не менее ошарашенными случившимся и столь же не готовыми к нему оказались и – с одной стороны – коммунистические главари со всей их монополией на информацию об общественном мнении, которая поступала к ним от полицейских осведомителей, профсоюзов и от шпиков, подслушивавших болтовню в пивных, а с другой – диссиденты. В сентябре 1989 года Вацлав Гавел, находясь в ресторанчике «Пароплавба», выразил надежду в близости перемен, но добавил, что «мы, возможно, до этого дня не доживем»[684], хотя день этот настал всего через полтора месяца.
И это вовсе не было проявлением пессимизма относительно возможности перемен, потому что Гавел как раз всегда отличался оптимизмом и именно в то время изо всех сил старался эти перемены приблизить, – нет, просто он был глубоко убежден в непредсказуемости истории и в нелепости исторических пророчеств. «Люди, в полной мере готовые к поворотам истории, мне подозрительны», – написал он несколько лет спустя[685].
Однако времени он даром не терял. В тот день, когда его выпустили из тюрьмы, у него в квартире состоялась незапланированная вечеринка, на которую – наряду с привычными гостями из числа друзей Гавела и несколькими журналистами (среди которых был и тогдашний корреспондент «Тайм» Уолтер Исааксон) – пожаловал с поздравлениями Александр Дубчек[686]. В этот раз ни о какой посттюремной депрессии и речи не шло, и Гавел не вернулся в «гетто», состоящее из верных, но немногочисленных членов «Хартии-77». Широкий резонанс петиций с выражением протеста против его ареста и требованиями его освобождения заставил его «переключить скорость»[687]. Отдохнув после ночного празднования выхода на свободу, он отправился в излюбленный ресторан «На Рыбарне» на встречу с Сашей Вондрой, самым молодым из спикеров «Хартии-77» за всю ее двенадцатилетнюю историю, и Иржи Кршижаном, автором петиции за его освобождение и сценаристом, отец которого погиб, попав в жернова коммунистической юстиции. Впоследствии троица собиралась еще несколько раз, и апогеем этих встреч стало последнее стратегическое совещание в Градечке[688].
Двадцать девятого июня, менее чем через полтора месяца после выхода Гавела из заключения – а освобожден он был условно, так что за подобные действия его вполне могли вернуть за решетку, – они вместе со Станиславом Деватым, тем самым храбрым хартистом, кто прополз через поле на кладбище во Вшетатах, составили еще одну петицию под названием «Несколько фраз»[689]. Оглядываясь назад, мы видим, что это был весьма скромный список требований – куда более скромный, чем лозунги, звучавшие на январских демонстрациях того же года. Авторы документа призывали немедленно освободить политзаключенных, разрешить свободное проведение митингов и демонстраций, перестать преследовать любые независимые гражданские инициативы, ликвидировать цензуру, соблюдать права всех верующих, изучить угрозы окружающей среде, исходящие от всех запланированных крупных промышленных объектов, и – не в последнюю очередь – открыть дискуссию о чехословацкой истории, в том числе об эпохе сталинизма, Пражской весне и вторжении в 1968 году пяти армий Варшавского договора. Это был уже не глас вопиющих в пустыне диссидентов – это во весь голос говорило находящееся на своем подъеме гражданское движение. Петицию подписали 40 000 человек, имена которых ежедневно зачитывал по «Голосу Америки» его венский корреспондент музыковед Иван Медек, один из будущих глав канцелярии президента Гавела.
Надежды, что в этот раз власти отреагируют иначе, были одновременно напрасными и оправданными. Режим, который явно опасался новой еще более мощной волны демонстраций, не пошел ни на аресты, ни на чистки, ни на очередной шквал допросов (хотя десятки подписантов и были вызваны «для дачи объяснений»). Коммунистическое руководство, с одной стороны, не вняло призыву Госбезопасности привлечь к уголовной ответственности четверых инициаторов[690], но с другой – так и не осмелилось начать диалог с гражданским обществом. Его официальный рупор – газета «Руде право» – осудил петицию как антисоциалистический памфлет, призывающий к конфронтации; это было сделано в передовой статье «Кто сеет ветер»[691] – библейской коннотации заголовка редактор, по-видимому, не заметил. Режим решил разобраться с проблемой, cпешно устроив несколько «идеологических семинаров». Один из них состоялся 17 июля в Червеном Градеке неподалеку от Пльзеня. Генеральный секретарь коммунистической партии Милош Якеш намеревался, выступив там, дать правильные ориентиры партийным деятелям Западно-Чешского края. Но доклад у Якеша получился удивительно нелепым. Стремясь выставить себя сторонником перестройки, он сделал «серьезную» уступку частному предпринимательству, передав в частные руки какую-то «маленькую пивную», не приносившую государству никакого дохода, обвинил экологических активистов в пустой болтовне, призвав их «ну, там… собраться и пойти наконец очистить эту речку, помочь, а не устраивать демонстрации, ходить по площадям и попусту кричать». Затем, едва не расплакавшись, он так оценил ситуацию, в которой оказалась партия: «Мы, короче, с этим народом, это, соглашаемся, выполняем его волю, а не просто, ну, там, чтобы мы <…>, как эти <…> одни-одинешеньки…»[692] Разумеется, Якешу и в голову не могло прийти, что его подведет команда Чехословацкого телевидения, прежде всегда суперлояльного, однако запись выступления очень скоро была обнародована, и Якеш и его однопартийцы стали мишенями для нелицеприятных шуток, придававших смелости любому критику.
Когда подошла очередная годовщина 21 августа, режим подготовился к ней настолько основательно, что Гавел, находившийся под домашним арестом[693], даже призвал недовольных соотечественников в этот раз не выходить на улицы[694]. Тем не менее навстречу полицейским дубинкам и облаченной в полевую форму Народной милиции на Вацлавскую площадь вышли тысячи людей[695]. Было арестовано несколько демонстрантов, в их числе двое юных венгров, приехавших выразить свою солидарность. Одним из них был Тамаш Дойч, после революции – министр от партии Фидес в правительстве Венгрии, нынешний депутат Европарламента[696].
Для Гавела лично эта череда все более драматических событий, явно приближавшихся к кульминации, едва не закончилась ядовитой эпитафией. Лишенный возможности побыть в одиночестве в Праге или Градечке из-за неустанного интереса, проявляемого к нему согражданами, полицией и средствами массовой информации, он в конце августа отправился в поездку «по дачам», чтобы навестить разных «понимающих подруг», озабоченных его здоровьем и благополучием. В Градечке он оставил запечатанный конверт с инструкциями и маршрутом своего путешествия – на случай, если произойдет нечто неожиданное, к примеру, «если меня станет разыскивать Горбачев, которому срочно понадобится со мной поговорить»[697]. Вечером 2 сентября в одном из последних пунктов поездки Гавел был на вечеринке, устроенной после концерта запрещенной рок-группы «Ясна пака» («Проще простого»), временно вынужденной выступать под «безвредным» названием «Гудба Прага» («Музыка Прага»). Вечеринка проходила в Окроуглице неподалеку от Гавличекова Брода, на мельнице, принадлежавшей основателю группы Михалу Амброжу. Когда Гавел с подругой-художницей Вендулой Цисаржовской бродил в темноте по саду, он свалился в заброшенный желоб, полный грязной воды и гниющих сорняков. Выбраться оттуда ему никак не удавалось – бетонные стенки были очень скользкие, – так что он наглотался всякой дряни и уже представлял себе злорадные заголовки коммунистических газет, что-то вроде «Кончил, как жил»[698]; но тут появилась лестница, принесенная музыкантами, и его спасли. В дальнейшем, вспоминая об этом происшествии, он приписывал ему мистический смысл: «Уж если мне удалось выбраться из такого дерьма, я точно был избран для высшей миссии»[699].
Между тем в других странах происходили перемены огромных масштабов. Польское правительство еще весной пошло на переговоры в формате «круглого стола» с «Солидарностью» и заключило с ней ряд соглашений о разделении власти; в итоге независимое профсоюзное движение одержало на июньских выборах триумфальную победу[700]. В больших и маленьких городах Восточной Германии ширились протесты. Начиная с середины августа, множество граждан ГДР устремилось на Запад. Сначала нескольким сотням из них удалось преодолеть прежде несокрушимый железный занавес между Венгрией и Австрией. Затем сотни восточных немцев разбили нечто вроде лагеря в помещениях и саду посольства Федеративной Республики Германия в Праге, требуя свободного доступа в западные земли своей разделенной страны. В середине сентября в посольстве ежедневно укрывались около семидесяти новоприбывших граждан ГДР. 27 сентября их общая численность там достигла 1400 человек и возникла угроза гуманитарного кризиса[701]. После нескольких дней переговоров, наименьшую охоту участвовать в которых выказывало чехословацкое правительство, 6300 счастливых восточных немцев покинули Прагу в пяти поездах, оставив после себя сотни «трабантов» и «вартбургов», которые буквально за сутки разобрали на запчасти менее везучие чешские водители. В течение пяти дней за первыми уехавшими последовали еще около десяти тысяч восточных немцев. Для всех, кто видел происходившее собственными глазами, было ясно, что дальше это продолжаться не может. Железный занавес получал одну брешь за другой.
Проходя в тот вечер по Малой Стране, Гавел видел покидавших Прагу восточных немцев и толпы людей, которые восторженно приветствовали вереницу автобусов, увозивших счастливчиков из посольства ФРГ на вокзал, к свободе, и – словно бы в противовес этому – куда гораздо более длинные вереницы водометов, бронетранспортеров и грузовиков, набитых тысячами бойцов войск спецназначения, которые должны были заблокировать этот пражский квартал от мира, чтобы непосвященные не могли стать свидетелями унижения коммунистического режима[702]. Страх висел в воздухе, но – страх не граждан, а властей.
Назавтра у Гавела был день рождения, однако это был еще и день, когда норвежский Нобелевский комитет называл имя лауреата Нобелевской премии мира за 1989 год. Гавела номинировали несколько западных правозащитных организаций, и некоторые полагали его фаворитом. Опасаясь, что власти моментально лишат его связи с миром, он заранее записал свою беседу с Франтишеком Яноухом, которую предстояло обнародовать в случае его победы. Это интервью примечательно прежде всего тем, что в нем Гавел впервые, пусть и неохотно, допустил возможность, что «в случае необходимости» он согласен занять «какой-нибудь пост»[703]. Но интервью, обнародованное лишь спустя восемнадцать лет, не понадобилось. За полчаса до начала церемонии ее итог сообщило международное агентство «Рейтер». В тот год премию получил Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо – четырнадцатый тибетский далай-лама. Гавел не мог, конечно, знать, что человек, которому отдал предпочтение Нобелевский комитет, станет его (Гавела) доверенным проводником по духовному миру, но все равно остался доволен. «По правде сказать, бывают моменты, когда моя личная, частная жизнь мне милее и ближе национальных интересов, и сегодня было именно так»[704]. Однако дело было не только в этом.
Как в те дни Гавел говорил любому, кто готов был его выслушать, он считал крайне важным рассеять иллюзии, будто перемены могут прийти лишь после благотворного вмешательства извне – и не важно, кто это будет: Горбачев с его перестройкой, давление Запада или Нобелевский комитет. Работа должна быть сделана дома!
Но в этот свой день рождения Гавел получил другой подарок, искренне его порадовавший. 7 октября «Руде право» в рубрике объявлений опубликовала поздравление «Фердинанду Ванеку из Малого Градека» с небольшим фото именинника. Твердыня перестала быть неприступной.
Брожение умов ширилось, прочность основ испытывалась снова и снова. Свою важную роль сыграла и музыка. На музыкальном фестивале «Братиславская лира», всегда бывшего синонимом приторной попсы, Гавел – три недели как освободившийся из заключения и неусыпно преследуемый на всем пути из Праги сотрудниками ГБ – проник 10 июня в отеле «Форум» в номер главной звезды фестиваля, американской фолк-певицы Джоан Баэз. Там они планировали сообща какие-то «бесчинства»[705], а потом Гавел ненадолго вернулся к своей давней роли рабочего сцены и отнес футляр с гитарой Джоан в концертный зал. Мало того: он еще и блеснул в роли второго плана, когда Джоан по-словацки сказала, что посвящает одну из своих песен, спиричуэлс «Swing Low, Sweet Chariot», «Хартии-77», Независимой мирной ассоциации и Петру Цибулке. Благодаря своему музыкальному слуху она смогла фонетически воспроизвести вступительное слово, которое Гавел записал на кассетный магнитофон, и направить внимание публики и свет софитов на драматурга прежде, чем телевидение успело вырезать это из трансляции, а ГБ приказала отключить микрофоны.
Первого августа небольшая группа писателей и переводчиков – из числа как диссидентов, так и «разрешенных» – собралась в легендарном доме Иржи Мухи, чтобы восстановить деятельность чешской секции ПЕН-клуба – международной писательской организации. Однако власти были заранее проинформированы о грядущем заседании, так что Гавела задержали еще по пути туда, из чего можно сделать вывод, что кто-то из участников не только организовывал это мероприятие, но и сотрудничал с органами. Некоторые официальные средства массовой информации, например, еженедельник Социалистической партии «Свободное слово», начали аккуратно нарушать границы дозволенного, и очень скоро выяснилось, что немедленной кары не следует[706]. Группа писателей, состоявшая в основном из видных диссидентов, включая Гавела, запросила разрешение на создание кооперативного издательства, которое выпускало бы в первую очередь их собственную литературную продукцию, по качеству значительно превосходящую все то, что публиковала едва не дюжина государственных издательств. Разрешение – до того, как все пришло в движение, – получено не было, но то, что просьбу не отклонили сразу же и эта бумага стала предметом вежливой, хотя и бесплодной переписки с властями, свидетельствовало как об утере верхами уверенности, так и о стремительно растущей силе оппозиции.
Следующего признания своих заслуг Гавел дождался 15 октября, когда на официальной церемонии во Франкфурте ему была присуждена престижная ежегодная Премия Мира немецких книготорговцев. Сам лауреат туда не приехал: власти запретили ему путешествия за границу; впрочем, из опасения, что его не впустят обратно в Чехословакию, он все равно отказался бы от поездки. Но проблему решил изобретательный директор «Книжного магазина Карела Чапека» Петр Когачек (очень скоро ставший послом), который взял на себя хлопоты по устройству альтернативной церемонии награждения в своем магазине. В отсутствие немецкого президента Рихарда фон Вайцзеккера и федерального канцлера Гельмута Коля атмосфера здесь была более непринужденной, чем на официальном мероприятии во Франкфурте, но тем не менее из виду ничего не упустили: хватало и подарков, и торжественных речей, включая и речь самого лауреата, в которой Гавел подчеркнул, что его впервые за двадцать лет «официально пригласил официальный директор официального книжного магазина»[707], а уж тостов наверняка было произнесено куда больше, чем на франкфуртской книжной ярмарке.
Гавеловская лауреатская речь, которую во Франкфурте зачитал актер Максимилиан Шелл, была посвящена «таинственной силе слова в истории человечества». Она начиналась со сравнения взрывной силы, присущей слову, произнесенному в условиях тирании, каковой является коммунистический режим, с относительной слабостью, незначительностью слова в странах либеральной демократии, таких, в частности, как Западная Германия. Гавел привел некоторые примеры исторических, освобождающих слов, сказанных в Чехословакии и в мире, а затем проиллюстрировал способность слова приносить страшный вред и зло в условиях нацистской Германии или Ирана под властью Хомейни. Подчеркнув, что люди сами решают, в дурных или хороших целях будут использованы те или иные слова, он перешел к рассуждению, несколько неожиданному для человека, посвятившего свою жизнь именно работе со словом: «Всегда стоит относиться к словам с подозрением и быть к ним внимательным <…>. Слово может быть смиренным, а может – надменным. И смиренное легко и непринужденно может превратиться в надменное, а вот слово надменное, высокомерное превращается в смиренное очень долго и с огромным трудом»[708].
Завершая речь, он пошел еще дальше, предостерегая от разлагающей силы слова властей предержащих, о которой блистательно писали Джордж Оруэлл и другие. Гавел говорил об ответственности и подразумевал при этом не только ответственность общества или ответственность политическую либо гражданскую, хотя она и может быть любой из них. Прежде всего он имел в виду наш метафизический долг: «Это задача нравственного порядка. И в этом смысле она уходит далеко за горизонт нашего мира, в неведомое, туда, где пребывает то самое Слово, что положило начало всему, и произнесенное не человеком»[709].
В преддверии очередной годовщины событий 28 октября режим прибегнул к испытанной тактике. Накануне к Гавелу, который всю предыдущую неделю чувствовал себя неважно и лежал в постели в своей пражской квартире, пришла полиция. Ольга, как всегда, была на страже и категорически отказалась открыть дверь без предъявления ордера на обыск или на арест. Двое молодых полицейских не знали, что им делать. «Впусти их, Ольга, – услышали они внезапно голос Гавела, который в пижаме выбрался из постели. – Им может за это влететь!»[710] Однако он вовсе не горел желанием снова вкушать прелести государственного гостеприимства и потому, получив неохотно данное полицейское согласие, укрылся в больнице «На Франтишку» в Старом Городе[711]. Это был компромисс, выгодный обеим сторонам, но особенно пациенту, который, по слухам, подружился там с одной из медсестер. На набережной перед больницей собралась кучка сторонников, кричавших «Да здравствует Гавел!» В тот же вечер в «Реалистическом театре» шел спектакль Res publica II в честь годовщины независимости, куда включили два отрывка из гавеловского «Праздника в саду». Десятитысячную демонстрацию на следующий день разогнали полицейские, накинувшиеся на толпу с дубинками, но никаких серьезных травм не было – возможно, благодаря присутствию журналистов и иностранных наблюдателей[712]. Среди них стояла, опираясь на фонарный столб перед отелем «Ялта» и покуривая сигарету, Ширли Темпл Блэк, легендарная ребенок-актриса, а теперь – американский посол в Праге.
Напряжение, висевшее в воздухе, становилось невыносимым. 9 ноября рухнула берлинская стена.
Прага в ту пору уже была заполнена представителями мировых СМИ, которые писали о всяческих второстепенных событиях, пропивая командировочные, выданные им их нетерпеливыми редакторами. Все знали, что вот-вот что-то произойдет, но никто точно не знал, когда именно. Чаще всего называлось 10 декабря, Международный день прав человека и первая годовщина первой разрешенной демонстрации, но до этого события оставался целый месяц. Гавел и его соратники планировали провести 10 декабря массовую демонстрацию на площади Палацкого. Однако время, прежде почти остановившееся, внезапно резко ускорилось. Никому не хотелось ждать так долго.
И уж точно не студентам. Для них больший интерес представляло 17 ноября – пятидесятая годовщина событий, случившихся в 1939-м. В тот день нацисты – в ответ на тихую демонстрацию, сопряженную с похоронами Яна Оплетала, который был тяжело ранен 28 октября на демонстрации по случаю годовщины установления чехословацкой независимости, а 11 ноября умер, – арестовали более тысячи чешских студентов, казнили девять предводителей студенческих организаций и до самого конца войны закрыли чешские университеты и другие высшие учебные заведения. Дата этого трагического события была присвоена возглавляемым и поддерживаемым коммунистами Международным союзом студенчества, который провозгласил его «Международным днем студенчества». Поэтому манифестация, объявленная в тот день официальным Союзом молодежи, но открытая для всех студентов, в том числе и для многих демонстрантов, участвовавших в Палаховой неделе, оказалась, так сказать, гибридной.
Неоднозначность события не предвещала того, что оно окажется решающей битвой. Диссиденты знали о готовящейся манифестации, но практически не принимали участия в ее организации и не предчувствовали, что она станет спусковым крючком революции[713]. Не то чтобы она как-то особо интересовала и Гавела, проводившего ту неделю в Градечке. По некоторым свидетельствам, в том числе и по его собственным, он уехал из Праги, чтобы своим присутствием не провоцировать излишнее насилие при подавлении демонстрации; кроме того, его не привлекала перспектива непременного дальнейшего задержания. Согласно другим рассказам, он хотел провести какое-то время наедине с Иткой, чтобы отметить ее день рождения[714]. Так или иначе, но из интервью, которое Гавел дал в Градечке за два дня до судьбоносной даты, следует, что свои надежды он связывал с манифестацией на площади Палацкого в День прав человека и не только выбрал для нее время (14–16 часов), но и разработал подробный сценарий. Однако его пришлось пустить в ход раньше, чем было запланировано.
Итак, вождь революции находился примерно в ста пятидесяти километрах от Праги, когда студенческая процессия, насчитывающая от десяти до двадцати тысяч человек[715], отклонилась от одобренного властями маршрута и превратилась в антиправительственную демонстрацию, участники которой время от времени скандировали лозунг «Да здравствует Гавел!» Студентов сначала окружили, а потом жестко атаковали спецподразделения сил правопорядка, которые на этот раз действовали с еще большей свирепостью, чем обычно. Сотни людей были избиты и десятки ранены, в том числе пожилые прохожие и наблюдавшие за происходящим иностранные корреспонденты[716]. Защитники прав человека получили информацию – как позже выяснилось, неверную – о том, что один студент погиб[717]. Это известие, о котором граждане Чехословакии узнали из сообщений зарубежных радиостанций, шокировало страну.
События следующих 72 часов являют собой одно из многих неоспоримых свидетельств того, что Гавелу принадлежала центральная роль как в оппозиционном движении, направленном против коммунистического режима, так и в процессе свержения этого режима. Хотя в событиях, ставших спусковым крючком революции, он лично участия не принимал – отчасти по личным причинам, отчасти потому, что изображение в хрустальном шаре оказалось нечетким (одним из замечательных свойств Гавела было то, что он никогда не играл в пророка) и революцию начали люди, моложе его больше чем на поколение, уже в понедельник он если и не контролировал ситуацию, то во всяком случае держал все ее нити в своих руках.
В субботу, в разгар суматохи, поднявшейся после кровавого полицейского нападения днем ранее, он приехал в Прагу, полнившуюся противоречивыми слухами об убитом студенте. Во второй половине дня примерно тысяча человек собралась на Карловой площади. Полиция не вмешивалась и даже не показывалась. Вечером Гавел и другие оппозиционные активисты встретились в «Реалистическом театре». Студенты объявили забастовку. К ним присоединились театры. Гавел же думал о том, как объединить эти разрозненные акции. Встреча продолжилась воскресным утром у него дома. Это был одновременно дискуссионный клуб и организационный комитет. Люди приходили и уходили. Гавел настаивал на термине «Гражданский». Ян Урбан, преподаватель истории, добавил «форум», вспомнив то ли античность, то ли мощный Neues Forum[718] в соседней Восточной Германии.
Окончательное рождение «Гражданского форума» произошло не в театре «На Провазку», а у его прежних конкурентов – в театре «Чиногерни клуб», – благодаря содействию Владимира Кратины (друга Кршижана) и его коллеги – актера Петра Чепека[719]. Гавел пришел туда уже под вечер, чтобы избежать задержания. Многие участники позднее говорили, что если бы режим в тот вечер решил обезглавить оппозицию, сделать это было бы очень дегко. Тем не менее непосвященным, включая десятки гебистов в штатском, рассаженных по неприметным машинам или нервно патрулирующих Вацлавскую площадь и соседние улицы, должно было казаться, будто люди – по одному, по двое-трое – просто идут в театр на спектакль. Однако никакого спектакля не было, то есть не было такого спектакля, который долго репетируют и потом сообщают в газетах о премьере. В зале собрались примерно сто человек, а на сцене сидела весьма разношерстная актерская труппа. Туда входили организаторы «Нескольких фраз» Иржи Кршижан и Саша Вондра, соученик Гавела в Подебрадах и видный деятель Чехословацкой социалистической партии, составной части Национального фронта Ян Шкода[720], Иржи Свобода, представлявший молодое поколение коммунистической партии и, как выяснилось позднее, ее искренний, хотя и не очень эффективный реформатор, неподражаемый и невероятный Йозеф Кемр, Милан Грушка, темпераментный горняк из угольных шахт на севере Чехии, и Петр Миллер, кузнец пражской ЧКД[721]. Вести собрание – с относительным успехом – пытался своим звучным голосом Радим Палоуш, философ, крестный отец Кампадемии. После примерно двух часов пылких, хотя и хаотических дебатов, в которых Гавел почти не участвовал, собравшиеся приняли заявление от имени Гражданского форума, составленное Гавелом в тот же день, но чуть раньше[722].
Тон этого заявления радикально отличается от тональности «Нескольких фраз». Он свидетельствует не только о гневе, вызванном бессмысленным насилием предыдущих двух дней, но и о возросшей уверенности оппозиции, которая выдвинула свои требования, одобренные более чем 40 000 подписантами «Нескольких фраз» и примерно дюжиной организаций и политических партий. В заявлении Гражданского форума выдвигалось сразу несколько требований: немедленные уступки со стороны президента Густава Гусака, скорейшая отставка Милоша Якеша, Яна Фойтика, Мирослава Завадила, Карела Гофмана и Алоиса Индры – пяти коммунистических руководителей, которые были «непосредственно связаны с подготовкой интервенции пяти государств Варшавского договора в 1968 г.», а также отставка коммунистических деятелей, ответственных за применение насилия в отношении мирных демонстрантов, независимое расследование этих событий и немедленное освобождение всех узников совести, включая задержанных демонстрантов. В поддержку этих требований Гражданский форум призвал к генеральной забастовке 27 ноября, которой требовали в том числе и студенты.
Людей, способных организовать встречу «Хартии-77» или общее заседание с другими группами оппозиционеров, было много. Существовали и те, кто мог мобилизовать актеров, студентов, коммунистов-реформаторов, а возможно, и профсоюзных деятелей. Но, безусловно, только Гавелу было под силу устроить полноценный спектакль с участием различных людей, придерживавшихся совершенно противоположных взглядов, да еще такой, где произносились бы экстравагантные монологи, – настоящее представление, совмещающее совершенную необходимость с полной абсурдностью. Гавел, по словам философа Ладислава Гейданека, был «углеродом»[723], химическим элементом, способным взаимодействовать со многими другими элементами ради образования соединения невероятной мощи и твердости, характеризующегося невероятными противоречиями, но в некий момент достаточно стабильного для того, чтобы произвести глобальные перемены.
Студенты и актеры уже участвовали в забастовке. Заявление, принятое на встрече в театре «Чиногерни клуб», было смелым шагом вперед, но еще не революцией. Существовало ясное понимание того, что требуется нечто большее, чем подобное заявление. Поздним воскресным вечером маленькая группка участников заседания в «Клубе» во главе с Гавелом укрылась в его любимом ресторанчике «На Рыбарне», чтобы разработать дальнейшие шаги. Так появилась «Инициативная группа», насчитывавшая никак не больше двенадцати человек, которая и стала движущей силой событий следующих недель и месяцев[724].
В понедельник днем плотину прорвало. Репортеры мировых СМИ, за прошедший год научившиеся считать по головам, сколько народу собралось на очередной митинг на Вацлавской площади, ждали там же с самого утра. Когда число демонстрантов – вместо привычных пяти, десяти или даже двадцати (весьма сомнительных) тысяч – достигло 150 000 да еще и продолжало увеличиваться, им оставалось только дать своим материалам заголовок: «Конец коммунизма в Чехословакии».
Большое волнение
Я видел большое волнение… но не знаю, что там было.
Вторая книга Царств 18, 29
В отсутствие представителей Гражданского форума, которые лихорадочно искали подходящие помещения и создавали комиссии, перед манифестантами на Вацлавской площади демонстрировал свое красноречие самый неожиданный и наименее желательный оратор: коренастый председатель социалистического союза молодежи Васил Могорита, который когда-то лично участвовал в погроме хартистов на балу железнодорожников. Но обещаниями реформ и собственной отставки в случае повторения насилия он толпу не убедил. «С нас хватит!» – скандировали в ответ протестующие.
Не Могорита нужен был толпе, а настоящий лидер. Многие называли имя Александра Дубчека, который недавно опять появился на публике; другие хотели Гавела. На вечерней встрече руководства Гражданского форума в «Реалистическом театре» Гавел и остальные поняли, что на следующий день на Вацлавскую площадь может выйти столько же или еще больше людей и что они не могут и не должны оставаться в стороне. Кршижан, Ладислав Кантор, независимый роки фолк-музыкант и продюсер, и радикальный активист Джон Бок убеждали Гавела вывести «Форум» на улицы, не то «нас тут утопят, как кроликов»[725]. Проблема заключалась в том, куда именно вывести. Могорита выступал перед статуей святого Вацлава в верхней части площади, но эта площадка находилась прямо посреди толпы, и там легко было организовать провокацию, подстроить ловушку или еще что похуже. Кроме того, оратора слышала бы всего пара сотен людей вокруг, а видела от силы пара десятков. Необходима была сцена на возвышении где-нибудь посередине площади. Так революция превращалась в театральный спектакль.
Здание издательства «Мелантрих» с удобным балконом располагалось в подходящем месте, вот только распоряжалась им Чехословацкая социалистическая партия, входившая в Национальный фронт. Однако ее исполнительным секретарем был однокашник Гавела Ян Шкода по скаутской кличке Носач, который дал себя уговорить и пустил бунтовщиков внутрь. Но балкон был частью помещений «Народного издательства», принадлежавшего Союзу чехословацко-советской дружбы, поэтому он казался не очень подходящей площадкой для протестов против десятилетий навязанного из-за границы произвола, Это препятствие удалось преодолеть с помощью Петра Кучеры, журналиста из газеты социалистической партии «Свободное слово», редакция которого находилась в том же здании[726]. Еще требовалось, чтобы Гавела было слышно. Тут, словно из-под земли, а в действительности по команде Кантора и личного секретаря Гавела, музыкального критика Владимира Ганзела появились наладчики усилительной аппаратуры, звукооператоры и менеджеры всевозможных рок-н-ролльных групп. Преданность Гавела этому жанру явно окупилась. Теперь он мог говорить с народом, понимая, однако, что монолог не слишком зрелищен. Приготовления к большой декабрьской демонстрации на площади Палацкого, которая так и не состоялась, оказались кстати. Еще один друг Гавела, художественный руководитель брненского театра «На Провазку» Петр Ослзлый, помог с драматургией. Во вторник во второй половине дня с балкона «Мелантриха», сменяя друг друга, выступали представители оппозиции во главе с Гавелом, студенты, рабочие, актеры, музыканты, певцы. Многие из них были живыми легендами, тем более что их долгие годы запрещали и игнорировали. Марта Кубишова, первая дама Пражской весны, которая пожертвовала звездной карьерой в поп-музыке, чтобы не унижать себя компромиссами, исполнила национальный гимн. За ней последовали выступления фолк-певца Владимира Мерты, поэта-дадаиста и певца Иржи Дедечка и других. Кантор играл роль помощника режиссера. Неожиданно на балконе появился и пионер чешской песни протеста Карел Крыл, многие годы до этого работавший редактором радиостанции «Свободная Европа» в Мюнхене. Через три дня в пражский аэропорт прибыл певец Ярослав Гутка, которого режим вынудил эмигрировать в Швецию. На следующий день он уже выступал на Вацлавской площади. Осталось неясным, чьей заслугой было приглашение многократного «Золотого соловья» Карела Готта. По словам Кантора, эта идея была настолько абсурдной, что она могла принадлежать только Гавелу[727].
Бархатный ход недели, в течение которой в страну «спустя двадцать лет безвременья»[728] вернулась история, вовсе не был предопределен, хотя демонстрации большей частью действительно отличались благожелательностью и изрядной долей непочтительного, но безобидного чешского юмора. Однако динамика психологии масс непредсказуема, и в лозунгах типа «С нас хватит!» звучали, без сомнения, довольно грозные нотки. Гавел сыграл здесь ключевую роль, настаивая на ненасильственном характере революции как в своих собственных выступлениях, так и при подборе других выступающих, воздействие которых на толпу было аналогичным. Яркой звездой демонстраций стал Вацлав Малый, подписант «Хартии-77» и католический священник без санкции государства, который эффективно демонстрировал на практике такие христианские добродетели, как прощение и смирение. Гавел же нашел слова, которые отражали как фрустрацию и гнев, копившиеся десятилетиями, так и необходимость отказаться от мести, когда для нее представится случай: «Те, кто долгие годы творит насилие и льет кровь, мстя своим противникам, в эту минуту нас боятся. Напрасно. Мы не такие, как они»[729].
Однако это была не классическая драма, а современное театральное представление, где зрители являются не просто пассивными наблюдателями, но соучастниками спектакля. Демонстранты аплодировали, ободряли выступающих, подпевали им, звенели ключами и язвительно выводили: «Милош, кончен бал!» Под Милошем, естественно, подразумевался Милош Якеш, генеральный секретарь компартии, который несколько месяцев тому назад обнаружил, что он один-одинешенек. Теперь демонстранты припоминали ему это. Они хлопали ораторам, которые могли похвастаться месяцами или годами, проведенными в заключении, и насмешливо покрикивали на всякого, кого подозревали в том, что он приспосабливается к ситуации, пытаясь прицепить свой вагон к поезду революции. Миллион человек, пришедших в следующее воскресенье на Летенское поле (на Вацлавской площади столько народу просто не поместилось бы), аплодировал Иржи Румлу и Рудольфу Земану, редакторам запрещенных «Лидовых новин», которых только пару часов назад выпустили из-под стражи. «Завтрак у нас был еще в тюрьме», – сказал один из них в микрофон. «И какой?» – в один голос отозвались собравшиеся. «Дрянной», – ответил второй. «Позор, позор!» – скандировал миллион. Для большинства, несмотря на мороз, это было лучшее зрелище из всех когда-либо увиденнных.
Теперь у революции была сцена, и она строила кулисы. После сумбурных первых дней в галерее «У Ржечицких» на Водичковой улице, где прошла первая пресс-конференция, которую я переводил, шизофренически объединив в своем лице журналиста и революционера, «Форум» переехал в более просторные помещения «Латерны Магики» в цокольном этаже дворца «Адрия» на Национальном проспекте. Пресс-конференции там проходили в лабиринте сцены с декорациями спектакля под названием «Минотавр», что придавало им атмосферу некоторой загадочности. Однако Гавел в этом театре, истоки которого были связаны с именами Альфреда Радока, Йозефа Свободы и Милоша Формана, чувствовал себя как дома.
Двадцать четвертого ноября Милош Якеш со всем партийным руководством подал в отставку. После этого центральный комитет выбрал своим лидером невыразительного железнодорожника Карела Урбанека – может быть, единственного человека, кому не хватило ума отказаться. Когда министр Чалфа пришел спросить его, что будет дальше, тот предложил ему отведать салями, венгерской колбасы, и сказал: «Поживем – увидим»[730]. Весть об отставке партийного руководства демонстранты на Вацлавской площади восприняли с ликованием. Вплоть до этого момента никто не мог быть уверен в том, что события не закончатся кровавой развязкой, какая ждала ликующие толпы в Будапеште в 1956 году, или военным положением, какое ввели для подавления победоносной «Солидарности» власти Польши в 1981-м. Опасения демонстрантов были бы еще сильнее, если бы они знали, что вплоть до этого момента Якеш со товарищи собирался с духом, чтобы отдать приказ «Вперед!» частям быстрого реагирования, бронетранспортерам и танкам, которые находились в полной готовности всего в нескольких километрах от Праги. Ненавидимые всеми дружины Народной милиции численностью в 85 000 бойцов были приведены в состояние боеготовности 19 ноября. Ситуация все еще «могла быть разрешена силой»[731]. Трудно найти лучшее доказательство того, что наиболее консервативный и мстительный из всех коммунистических режимов морально «перегорел», чем принятое товарищами в итоге решение сдаться без сопротивления. Кто-то, возможно, не отказал бы им после этого в здравомыслии, а то и в капле порядочности, но скорее всего ими двигал обычный страх. Если бы они могли питать малейшую надежду одержать верх под прикрытием и при поддержке своих советских покровителей, танки, вероятно, двинулись бы на Прагу.
Как и почти ежедневно, события анализировались поздно вечером в ресторане «На Рыбарне», на сей раз в присутствии «Оригинального видеожурнала» и известного британского журналиста и политолога Тимоти Гертона Эша, который заметил, что процесс крушения коммунизма ускоряется: в Польше он занял десять лет, в Венгрии десять месяцев, в ГДР десять недель, а Чехословакии, похоже, хватит десяти дней. Эти расчеты развеселили Гавела: «Надеюсь, он окажется прав. Прошло уже пять дней, еще шесть я выдержу, к тому времени выйдет на волю Петр Ул[732], а я смогу вернуться к сочинению пьес»[733].
Ситуация, однако, требовала продолжения представления. К вечеру того же дня на трибуну вместе с Гавелом вышел человек, с которым у большинства людей ассоциировалась как пьянящая атмосфера надежды двадцать один год тому назад, так и бездна отчаяния, охватившего всех после того, как надежда была растоптана: Александр Дубчек. Он все еще оставался популярной, хотя и несколько противоречивой фигурой. Люди не сомневались в том, что он действовал из лучших побуждений, и не винили его в поражении Пражской весны. Некоторые, впрочем, не могли простить ему, что он покорно ушел, вместо того чтобы хлопнуть дверью, что подписал капитуляцию в Москве (правда, в противном случае на карту была бы поставлена его жизнь) и драконовские антинародные законы в 1969 году, а в последующее двадцатилетие большей частью молчал. Но в тот момент это было неважно. Толпа нуждалась в героях.
На эту роль теперь, «после драки», претендовали многие. Гораздо меньше было тех, кто давно вел себя героически, а сейчас готов был уйти в тень, предоставив исполнять главные роли другим. Одним из них был писатель, фельетонист и издатель самиздата Людвик Вацулик, который выполнил угрозу заняться своими делами, когда в развитии событий произойдет перелом к лучшему. Он написал Гавелу довольно ироничное письмо, объясняя свое нежелание стоять бок о бок с ним на сцене Национального театра перед «маевкой» ликующих революционеров, завершив его такими словами: «Когда Вы высвободитесь из тисков своей исключительной и смелой роли, у нас будет время потолковать об этом, например, в “Пароплавбе” и закончить совместным коммюнике о женщинах. Желаю Вам всего того, чего можно желать “в интересах дела”, а в придачу еще и того, что “помимо дела”»[734].
Времена менялись с головокружительной быстротой. Еще до 17 ноября рок-композитор и певец Михаэл Коцаб и текстовик Михал Горачек вели неофициальные переговоры с советником коммунистического премьера Адамеца Оскаром Крейчи. Адамец готов был встретиться с представителями оппозиции, но только не с Гавелом, о котором пару месяцев назад сказал, что тот «ноль». Однако перед лицом невиданных прежде демонстраций против режима, прошедших в выходные 25–26 ноября, и символической двухчасовой всеобщей забастовки 27 ноября он в конце концов смирился с неизбежным и согласился встретиться во вторник с делегацией Гражданского форума, возглавляемой Гавелом. То, что власть не намерена вести переговоры с позиции силы, стало ясно в первый же момент, когда Адамец после вежливого рукопожатия начал разговор с Гавелом словами: «Мы еще не знакомы, не так ли?»[735] Результатом встречи была компромиссная договоренность о создании переходного правительства под руководством Адамеца. Но, как это часто случается в революционной обстановке, улица уже намного опережала своих вождей. Третьего декабря был объявлен новый состав правительства, в котором три четверти по-прежнему представляли коммунистическую партию, однако никто этому событию не аплодировал. В конце концов, революция победила, и никому не улыбалось еще хотя бы день смотреть на опостылевшие серые лица. После того как последняя отчаянная попытка Адамеца слетать в Москву и заручиться там поддержкой Горбачева оказалась безуспешной, все было решено. На следующий день, 5 декабря, когда Гражданский форум потребовал произвести гораздо более существенные изменения в правительстве, Адамецу совершенно расхотелось возглавлять его. Но тут был один нюанс. Отказываясь от поста премьера, Адамец был отнюдь не прочь выдвинуться в президенты. Под нажимом нетерпеливой общественности Форум буквально за ночь ужесточил свою позицию, настаивая теперь на полном обновлении правительства. Идея же выдвижения кандидатуры Адамеца в президенты сторонников не нашла[736].
Стенограмма трех встреч Адамеца и его людей с делегацией Форума, возглавляемой Гавелом, читается как запись сеанса одновременной игры между опытным шахматным гроссмейстером и командой энтузиастов-любителей. Профессионал то и дело сбивает с толку своих противников, создавая мнимые угрозы и маскируя тем самым свои истинные намерения, водит их за нос, жертвуя пешкой, чтобы занять более выгодную позицию. Любители не видят дальше следующего хода, и их атаки неизбежно буксуют. Не потеряй профессионал с самого начала ферзя, игра была бы заведомо неравной (впрочем, при наличии у него всех фигур профессионал вообще бы не сел играть). Но Гавел, хотя и вел себя все это время исключительно учтиво, тем не менее раскусил двуличие соперника и в критический момент понял, что тот блефует. «Тогда отправимся в Град. Поедем туда и предложим того человека, о котором будем знать, что с ним мы договоримся…»[737] Может быть, ему и недоставало опыта и изощренной техники ведения переговоров, какими обладал его визави, но Гавел умел сконцентрироваться на самом важном и в итоге с помощью своих коллег одержал верх. Правда, возникала одна проблема, о которой Гавел и его команда предпочитали вслух не говорить. В компании, которая состояла из диссидентов, большей частью работавших в прошедшее двадцатилетие мойщиками окон и истопниками, и из писателей, музыкантов, актеров или психологов, никак не связанных с государственными структурами, трудно было найти кого-то с опытом административного управления даже небольшим городом, не говоря уж о руководстве страной[738]. У них было достаточно ума, образованности и профессиональных навыков, чтобы формулировать общеполитические программы и принципы законодательства. Но документооборот и рутинная чиновничья и секретарская работа, без чего программы не воплотятся в выполнимые директивы или тексты законов, – это было совсем другое.
Поэтому взоры обратились к Мариану Чалфе, молодому словацкому юристу, который не занимал высокого положения в иерархии коммунистической партии, но как министр обеспечивал и координировал законодательную деятельность правительства (Гавел в течение нескольких дней не мог запомнить, кто он такой, и называл то Шталфой, то еще как-то). Чалфа охотно шел навстречу, формировал повестку переговоров правительства с Форумом и казался подходящим кандидатом на роль временного премьера, который будет руководить кабинетом до тех пор, пока новые министры-некоммунисты не научатся руководить сами.
Помимо готовности помочь он отличался также сообразительностью и, хорошо понимая, как быстро может меняться ситуация, вполне отдавал себе отчет в том, что его положение будет очень шатким. В отличие от Гражданского форума, который решился выдвинуть Гавела в президенты только 10 декабря, в день, когда были назначены новые правительство и премьер и когда ушел в отставку президент Гусак, Чалфа по лозунгам, которые выкрикивали толпы на улицах, уже за неделю до этого догадался, как будут развиваться события, поэтому не принимал во внимание президентские амбиции своего бывшего шефа. Видя, что Гражданский форум понятия не имеет, как добиться избрания Гавела президентом, он вызвался это устроить – причем не выговаривая себе на будущее чего-то большего, чем какая-нибудь резервная должность «на подхвате». «Они знали, кто, а я знал, как»[739]. Эта формулировка отлично отражала мышление юриста, привыкшего вести переговоры. Встреча Чалфы с Гавелом с глазу на глаз в резиденции правительства чуть было не сорвалась. Гавел боялся угодить в ловушку и согласился только после того, как его убедил Петр Питгарт[740]. При этом Чалфа должен был найти в здании собственного ведомства помещение, которое бы не прослушивалось, что при тогдашних порядках было нелегко. В конце концов он отвел Гавела в пустой кабинет самого мелкого чиновника, какой пришел ему в голову[741]. Там, по словам Чалфы, «встретились двое, которые <…> дали ясно понять друг другу, что они ответственные люди, способные к сотрудничеству»[742]. По прошествии двадцати четырех лет Чалфа отрицает, что в этом был какой-либо расчет с его стороны, и верно подмечает, что Гавел, как только он стал президентом, мог на другой же день спокойно отправить его в отставку.
Факт этой встречи использовали – как один из аргументов – авторы всех позднейших «теорий заговора», которые пытались доказать, что Бархатная революция на самом деле представляла собой заговор профессиональных диссидентов, поддерживаемых и финансируемых Западом, и руководящих деятелей коммунистической партии – либо, иначе, жидомасонский сговор диссидентов с прогорбачевскими ренегатами в партийной среде, а может быть, даже фарс, режиссируемый КГБ и чехословацкой ГБ с помощью «спящих агентов», из которых Гавел был, конечно же, самым сонным и самым важным.
Кажется неизбежностью, что любое значительное историческое событие, например, покушение на Кеннеди, высадка космонавтов на Луну или избрание первого президента США афроамериканского происхождения, дает безумцам и параноикам питательную почву для «теорий заговора». Те из них, что касаются Бархатной революции, имеют в своей основе три сценария. Согласно первому, студенческое шествие 17 ноября и разгон его спецназом в действительности были политическим спектаклем, срежиссированным высокопоставленными представителями КГБ, чье присутствие в канун демонстрации в Праге задокументировано. Этот спектакль с участием, кроме прочего, агента ГБ в роли убитого студента, должен был спровоцировать конфликт, который облегчил бы замену старого и скомпрометировавшего себя руководства новым, состоящим, тем не менее, из надежных товарищей. По второму сценарию, коммунисты заключили с Гражданским форумом соглашение, в соответствии с которым коммунисты были гарантированы от возможного преследования, а возможно, получили также другие гарантии в обмен на передачу власти Форуму. По третьему сценарию, 15 декабря была достигнута личная договоренность Гавела с Чалфой о том, что Чалфа обеспечит беспроблемное избрание Гавела президентом в обмен на поддержку и карт-бланш для Чалфы как премьера со стороны Гавела. При этом ни один из представленных сценариев не исключает остальных.
В пользу первой версии нет никаких доказательств, напротив, существует множество аргументов, ее опровергающих. Прямое участие КГБ можно смело сбросить со счетов. Геостратегическая игра кончилась еще до вечера 17 ноября. Польша, Венгрия и Восточная Германия были безвозвратно потеряны, чему КГБ даже не пытался хоть как-то помешать. Предположение, что как раз теперь КГБ внезапно проснулся и решил отступать с боями именно в Праге, подразумевало бы не слишком высокую оценку профессионализма этого учреждения. Да и чехословацкая ГБ уже не функционировала как хорошо организованная сила. Проведенное позже расследование показало, что ее подразделениям не поступало четких указаний сверху, а если какие-то и поступали, то уж точно не по разгону демонстраций[743]. Политическая директива требовала разрешить кризис «политическими средствами». Координация действий ГБ была настолько слабой, что Людвика Зифчака, ее переодетого агента, собственные товарищи избили так, что никто бы не удивился, если бы он подал иск против своих работодателей[744]. Контролировать же происходящее после того, как на улицы вышли сотни тысяч людей, не мог вообще никто, включая Гражданский форум и его словацкий аналог Общественность против насилия. Лучшим доводом, опровергающим участие Форума» в каком-либо заговоре, была изрядная хаотичность его действий. Его руководство радовалось уже тому, что «держалось в седле» необъезженного скакуна – бурного хода событий, так что о попытке взять ситуацию под контроль не могло быть и речи.
Вторая гипотеза исходит из эмпирического факта, что, несмотря на все преступления, беззакония и несправедливости коммунистической эпохи, многие из которых являлись наказуемыми даже на основании тогдашнего уголовного кодекса, коммунистическая партия и конкретные виновники всех этих бед отделались очень легко. Почти никого не отправили за решетку, кроме нескольких, например, таких, как секретарь пражского горкома партии Мирослав Штепан, который, к своему несчастью, распорядился жестко подавить мирную демонстрацию на Вацлавской площади во время Палаховой недели в январе 1989 года. Но и он через год получил условно-досрочное освобождение.
Вопрос, имело ли место тайное соглашение между Форумом и коммунистами, следует отделять от двух других: несет ли Форум политическую ответственность за «бархатное» отношение к коммунистам, и если да, то насколько правильной была его позиция. Ответ на первый вопрос – однозначно отрицательный. За двадцать пять лет архивных разысканий и журналистских расследований не найдено никаких доказательств того, что кто-либо подумывал о возможности такого соглашения. Наиболее убедительный довод против такого предположения – это то, что такое соглашение не стоило бы даже бумаги, на которой оно было бы написано. В стремительно изменяющихся обстоятельствах, когда коммунисты теряли один за другим инструменты власти, не существовало никаких внутренних или внешних гарантий, на которые обе стороны могли полагаться, никакого третейского органа и никакого взаимного доверия. Мысль, что вчерашние диссиденты и узники заключат джентльменское соглашение со своими тюремщиками, просто смешна.
Однако ответ на тот же вопрос будет несколько иным, если слово «соглашение» в нем заменить словом «договоренность». С позиций режима в этом и должна была состоять истинная сверхзадача переговоров, поскольку, если взглянуть на тогдашние события из сегодняшего дня, переговариваться было практически не о чем. Режим отстранялся от власти безоговорочно, а повстанцы безоговорочно, пусть и не слишком охотно, брали власть в свои руки. Поэтому переговоры служили в первую очередь другой, главной цели любого переговорного процесса: выяснить намерения и прощупать решимость и волю другой стороны. Через несколько дней переговоров уходящие власти, к своему большому облегчению, должны были понять, что Гавел & Co не грозят железным кулаком. Об этом говорил весь ход минувших событий. Ненасильственный, бархатный характер революции был совершенно естественным. Толпе на Вацлавской площади не обязательно было читать «Силу бессильных» для того, чтобы сделать одним из своих лозунгов фразу «Мы не такие, как они». И так же, как Гавел с коллегами, толпа не могла не видеть, что коммунисты не собираются сопротивляться до последнего, что у них уже нет ни воли, ни выдержки и ни малейшей причины затягивать противостояние. Гавелу попросту не нужно было заключать какие-либо соглашения.
Эти рассуждения можно отнести и к гипотетическому личному соглашению Гавела с Чалфой. В этом случае речь шла, вероятно, о чем-то большем, нежели договоренность, но и о чем-то меньшем, нежели соглашение. Чалфа, бесспорно, выполнил свою часть не сформулированной детально сделки, а Гавел не нарушал своих обязательств в течение следующих двух лет. Разница состояла в том, что хотя Гавелу, по-видимому, совершенно не нужны были соглашения с коммунистами, ему нужен был Чалфа, причем не только как толковый чиновник, каковым тот себя зарекомендовал, но и как символ национального консенсуса и успокоительное средство. Его положение и то, что каждый день он был на виду, могло помешать его бывшим товарищам пойти на какую-нибудь авантюру. И наконец, согласно неписаному обычаю, который соблюдался и при коммунистах, если президент был чех, то премьером должен был быть словак. Иметь соперника-словака в должности премьера Гавелу и стране было совсем ни к чему. А Чалфа был уступчив.
Таким образом, никакого заговора не было, и путь Гавела на пост президента благодаря Чалфе представляется – при ретроспективном взгляде – довольно гладким. В действительности он был совсем не таким. В первую очередь Гавел должен был решить, хочет ли он быть президентом. Противоречие между публично выражаемыми им сомнениями по поводу той роли, которую собирался поручить ему Форум, и его явным желанием принять ее навлекло на него впоследствии обвинение в лицемерии, каковое не является смертным грехом в среде политиков, но может повредить человеку, проповедующему жизнь в правде. Это противоречие нельзя безоговорочно отрицать, но для каждого, кто знаком с динамикой политических событий того времени и с личностью кандидата, оно без труда укладывается в общий контекст.
Предположение, что Гавел на самом деле хотел быть наверху, или по крайней мере не собирался отказываться от этого, звучит разумно. В первый момент это не обязательно подразумевало, что он станет президентом, так как было далеко не ясно, сколько времени займет переходный период, насколько сильное сопротивление окажет коммунистический парламент и как будет выглядеть новый конституционный строй. Однако было бы по-настоящему странно, если бы Гавел помышлял о какой-либо иной роли, кроме главной. Ему не нужно было выстраивать специальную тактику или интриговать, чтобы получить эту роль, ведь он и так очень долго играл ее как глашатай некоммунистической оппозиции в 1968 году, как идеолог ее ранних инициатив в период после советского вторжения, как бесспорный лидер движения «Хартия-77» и, наконец, как автор «Нескольких фраз» и учредительной декларации Форума. Признание его лидерства среди членов Форума, да и среди хартистов никогда не было единодушным, но всякий раз, когда возникала какая-либо конкретная альтернатива ему, все взоры вновь быстро обращались к Гавелу. Иными словами, Гавел завоевал свое право быть кандидатом от партии революции не в первые десять дней декабря 1989 года, а в течение двадцати предшествовавших лет. «Он был внутренне готов»[745].
Благодаря своему прошлому ему не пришлось даже выдвигать собственную кандидатуру. За него это сделали другие. Его сомнения и возражения никогда не принимали форму отказа от выдвижения или поиска альтернатив, скорее это были своего рода переговоры между Гавелом – и Гавелом. Он был достаточно проницателен, чтобы понять, какую степень отречения от личной жизни означает должность президента. Поэтому ему требовалось согласие Ольги, которое она – отнюдь не автоматически – в конце концов очень неохотно дала. Он отдавал себе отчет в том, какие препятствия предстоит преодолеть, и полностью принял идею своего выдвижения только после того, как был практически уверен, что выиграет. Уважая контрпретендентов, он не отмахивался от их выдвижения и сознавал, что любого президента ждет нелегкий путь: вначале с ним будут связаны чуть ли не экстатические надежды, а затем – столь же неконтролируемая фрустрация, когда надежды окажутся несбыточными.
Нежелание Гавела соглашаться на президентство, хорошо заметное в аудиозаписях дискуссий Гражданского форума еще от 7 ноября[746], таким образом, лучше всего можно объяснить цепью тактических шагов, потребностью нащупать верную позицию и выбрать подходящее время, а также стремлением застраховаться на случай неожиданных перемен. Вместе с тем это было также отражением истинной скромности Гавела и его сомнений при мысли о собственном возвышении. Чувство вины, которое охватывало его с каждой новой победой, каждой новой полученной наградой и выпавшей честью, не могло покинуть его сейчас, когда он должен был удостоиться высшей чести. Однако это был внутренний психологический процесс, который проявлялся лишь в словах и в несчастном выражении лица, но ни в коей мере не в соответствующих поступках. Именно поэтому некоторые его друзья говорили, что лучше бы ему большую часть своих сомнений оставлять при себе. О том, кому первому пришла в голову мысль, что Гавел должен быть президентом, ведутся споры, отчасти имеющие характер конкурентной борьбы. Ольга, знавшая его лучше всех, подозревала мужа в президентских амбициях десятилетиями. Павел Тигрид предсказал его президентство в печати почти за год до того, как оно стало явью[747]. Павел Когоут предполагал его избрание[748], а Даниэл Кроупа был в нем уверен[749].
Над автором этих строк некоторые коллеги-журналисты посмеялись, когда он предрек это летом 1989 года. Михаэл Коцаб поставил вопрос о выдвижении Гавела в президенты на расширенном заседании кризисного штаба Форума 5 декабря, открыв дискуссию, которая ни к чему не привела. В перерыве, однако, тесный круг сподвижников Гавела присвоил эту идею себе, представив затем остальным наполовину согласного кандидата. Организованные на скорую руку «праймериз» завершились единодушным одобрением кандидатуры Гавела, если не считать шестерых воздержавшихся. Трое из них, входившие в число самых близких товарищей Гавела по борьбе в диссидентские годы, были когда-то коммунистами[750]. Двое других, видимо, воздержались по личным причинам. Шестым же воздержавшимся, согласно рукописному протоколу заседания[751], был экономист из «серой зоны», которого привела хорошая знакомая Гавела Рита Климова. Звали его Вацлав Клаус, хотя Гавел во время первой встречи с премьером Адамецом представлял его как доктора Вольфа[752].
Путь на Град
Господа из Замка чрезвычайно щепетильны, и я убежден, что один вид чужого человека, особенно без предупреждения, будет им невыносим.
Франц Кафка. Замок(перевод Р. Райт-Ковалевой)
Десятого декабря, в день, когда президент Гусак назначил новое правительство и стремительно ушел в отставку, Иржи Бартошке предстояло предложить кандидатуру Гавела ликующей толпе на Вацлавской площади. Сегодня он признается, что страшно волновался, но успокоился после слов Гавела: «Иди давай, у тебя зрителей больше, чем у Элвиса Пресли»[753]. Эта процедура не только очень подошла именно для такой массовой аудитории, но и, судя по всему, поставила крест на президентских амбициях подавшего в отставку премьера Адамеца. Уже упоминавшаяся встреча Гавела с Чалфой 15 декабря поспособствовала соблюдению парламентской процедуры. Если кого-то удивляет, как это возможно – на встрече двоих мужчин (ни один из которых даже не был депутатом) заранее определить, как именно проголосует двухпалатный, состоящий из 350 депутатов парламент, надо понять, что представляло из себя тогдашнее Федеральное собрание: депутаты настолько привыкли выполнять приказы, что избрали бы президентом даже Дракулу, если бы сверху поступило такое распоряжение. Перед его воротами гудела многотысячная толпа; в подобной ситуации опасаться внезапного проявления депутатами вольномыслия было бы по меньшей мере странно. Впрочем, сразу после того, как Гавел был избран, коммунистическая номенклатура уничтожена, а революционная волна пошла на спад, Федеральное собрание принялось настойчиво продвигать собственную повестку.
Итак, появилось несколько других кандидатов, и по крайней мере один из них мог составить Гавелу вполне серьезную конкуренцию. Все они прежде были членами компартии и в той или иной мере олицетворяли прошлое. Во времена Пражской весны 1968-го Честмир Цисарж был кандидатом в президенты от студентов, Вальтер Комарек – экономическим советником Фиделя Кастро, а Зденек Млынарж – одним из виднейших реформаторов в стане коммунистов. Однако главным конкурентом был, разумеется, Александр Дубчек – проигравший герой, главный символ того краткого периода надежд. Избирательная кампания первых двух кандидатов так никогда и не началась, а свою Зденек Млынарж провалил, неудачно выступив по телевидению. Но с Дубчеком все обстояло иначе. В стране он пользовался огромной популярностью – прежде всего потому, что был симпатичным человеком; за границей он был самым известным чехословацким политиком… вдобавок он был словаком, что играло ему на руку, пока кабинет министров возглавлял чех Адамец. Однако куда менее привлекательными оказались его вечные жалобы, которыми он сыпал после двадцатилетнего политического уединения («Сделать такое со мной!» – горестно воскликнул он ранним утром 21 августа 1968 года, узнав о советском вторжении), и его усугубившиеся с возрастом слезливая жалость к себе и иррациональное упрямство. Дубчек выдвинул свою кандидатуру едва ли не первым и не собирался сдаваться без боя.
Ситуация осложнялась и обстоятельствами, не касавшимися напрямую личностей и заслуг обоих кандидатов. С одной стороны, речь явно шла о дуэли между прошлым и будущим. Как бы ни старались сторонники Дубчека, они не могли забыть о том, что эксперимент 1968 года не удался и имел катастрофические последствия для целого поколения. Когда Горбачев на вопрос, в чем разница между перестройкой и Пражской весной, ответил: «Двадцать лет!», он явно намеревался выразить одобрение той чехословацкой попытке, но для многих граждан Чехословакии, особенно молодых, это прозвучало вовсе не как одобрение. Если Бархатная революция не сулила ничего, кроме возврата к бесконечным теологическим дебатам о том, как скрестить демократический процесс с ведущей ролью коммунистической партии, как связать обезличенную государственную собственность с личной инициативой или сколько еще пластических операций выдержит человеческое лицо социализма, они бы решили, что ее поддержка – напрасная трата времени. С другой стороны, тут присутствовал и национальный элемент. Хотя Пражская весна и ее последствия расценивались чехами как несомненно неудачные, словакам те события принесли некоторые безусловные, пусть и скромные, выгоды, например, федерализацию страны (правда, лишь теоретическую, пока у власти находилась коммунистическая партия) и словака-политика, в течение двух десятилетий занимавшего высший политический пост. К кандидатуре Дубчека надо было подходить со всей осторожностью, проявляя особую деликатность, чтобы не отпугнуть огромное число бывших коммунистов и множество его словацких земляков. Девятого декабря словацкая «Общественность против насилия» обусловила свою поддержку кандидатуры Гавела ограничением президентского срока – вплоть до проведения свободных выборов.
Гавелу предстояло самому решить проблему с выдвижением Дубчека. За две недели у них состоялось пять встреч, во время которых Гавел спорил c Дубчеком, переубеждал и упрашивал. После первой встречи, прошедшей в гардеробе театра «Латерна магика», Гавел поверил, что Дубчек согласился не стоять у него на пути. Однако в тот же вечер в телефонном разговоре выяснилось, что соперник-словак вернулся на свои прежние позиции. Дубчек загадочным образом звонил из Иглавы – города, находившегося вдали от эпицентра как чешских, так и словацких событий. Члены Гражданского форума принялись горячо спорить о том, что заставило Дубчека, совершенно точно снявшего номер в пражской гостинице, сделать своим оперативным штабом именно Иглаву. Наконец кто-то сообразил, что этот пожилой человек, всегда отличавшийся нерешительностью, никак не мог определиться, где ему лучше быть – в Праге или Братиславе, – и потому выбрал компромиссную, находившуюся между ними Иглаву.
На второй встрече, состоявшейся во временном обиталище Гавела – мастерской Йозефа Скалника, – оба собеседника вернулись к первоначальной договоренности: Гавел становится президентом, а Дубчек – председателем Федерального собрания, то есть вторым человеком в государстве согласно номенклатурной иерархии. Мало того: Гавел и Дубчек пошли еще дальше, договорившись о том, что после первого гавеловского президентского срока пройдут первые свободные выборы и Гавел уступит место Дубчеку. Однако Дубчека это не устроило, и он предложил обратный порядок. Главный его довод заключался в том, что ему для личного удовлетворения требуется компенсация – за двадцать лет пребывания в политическом чистилище. Гавел же в качестве аргумента выдвигал важность той ключевой роли, которую он играет в Гражданском форуме и переговорах с коммунистическим правительством по вопросу о мирной передаче власти (это последнее обстоятельство он считал особенно важным доводом). Дубчек вроде бы смирился с неизбежным, но очень скоро его вновь одолели сомнения.
Абсолютно очевидно – и Гавел никогда этого не отрицал, – что у Дубчека были основания надеяться, что через пару месяцев настанет его очередь. Однако когда время пришло, гавеловское обещание как-то «забылось». Те из критиков Гавела, которые все следующие два десятилетия будут пытаться очернить его, часто предъявляли «обещание», данное им Дубчеку, как доказательство двуличия и лицемерия Гавела. Конечно, он так и не стал крупным специалистом по «реальной политике», и ему не пришло бы в голову защищаться словами израильского премьера Леви Эшколя: «Да, я обещал, но я никогда не обещал, что выполню обещание». С другой стороны, он никогда не чувствовал особой вины за то, что не сдержал его. Знал он об этом заранее или нет, но ему все равно не удалось бы выполнить тот уговор. За шесть месяцев, миновавшие между декабрем 1989-го и июнем 1990-го, когда истек первый президентский срок Гавела, чехословацкая история совершила гигантский прыжок. На место коммунистического парламента пришла некая новая структура – свежеизбранные диссиденты, антикоммунисты, активисты, только что вылупившиеся деятели, представлявшие разные партии; все это сборище бурлило идеями, гордилось собой и ни в чем не сомневалось. Новое Федеральное собрание не подчинялось никому – и Гавелу тоже. Шанс, что эти люди вместо иконы недавних побед изберут президентом символ (хотя и весьма уважаемый) давних поражений, была, в отличие от декабря прошлого года, нулевой. Догадывался ли Гавел – с присущим ему развитым инстинктом – о том, где именно, согласно логике ситуации, окажутся его персонажи из первого действия, когда, спустя полгода, подойдет очередь действия второго? Трудно сказать. Но о том, что обстоятельства изменились, свидетельствует очень важный факт: Дубчек, столь настойчивый и неуступчивый в декабре 1989 года, никогда – ни публично, ни частным образом – не напоминал Гавелу о его обещании. В течение тридцати месяцев он возглавлял Федеральное собрание, а в ноябре 1992-го попал в серьезную автомобильную аварию и умер от ее последствий. В отличие от Гавела, он не дожил до исчезновения страны, которой всегда – несмотря на все допущенные им промахи – был верен.
Всю вторую половину ноября и декабрь 1989-го Гавел вел себя как истинный революционный лидер, то есть делал не только то, что считал правильным, но и то, что считал необходимым. И нет, он не обнаружил в себе это качество лишь утром 18 ноября 1989 года. В отличие от многих других своих друзей-диссидентов, Гавел всегда осознавал границы возможного и умел продумать конкретные шаги к цели, хотя частенько и надевал маску непрактичного интеллектуала. Эта его способность, а также присущие от природы застенчивость и смирение и объясняют мирный, неконфронтационный тон его письма Гусаку, учредительного документа «Хартии-77» или петиции «Несколько фраз». Если многие диссиденты, в особенности из числа исключенных после событий 1968-го коммунистов-реформаторов, рассматривали деятельность «Хартии» прежде всего как протест против общественной и личной несправедливости, как глас вопиющего в пустыне, как жест отчаяния, позволяющий им, пусть и высокой ценой, сохранить личное достоинство, то Гавел всегда верил не только в ее нравственную обоснованность, но и в ее способность добиться перемен, сколько бы времени это ни заняло. Критические замечания, касающиеся его деятельности в ноябре-декабре 1989 года, зачастую выглядят как призывы соблюдать этикет великосветского клуба в непредсказуемых условиях схватки между тоталитарным режимом и немногочисленной группой протестующих. Будет справедливым напомнить, что когда бой за власть разгорелся по-настоящему, Гавел, Гражданский форум и «Общественность против насилия» сделали все, чтобы победить как можно быстрее, с минимальным хаосом и с минимальным риском насилия. Укорять его за то, что он нарушил некие джентльменские соглашения с «товарищами», просто нелепо. К тому же иногда это делают те же люди, что бранили его за сговор с коммунистами. Так зачем же ругать его за нарушение такого сговора?
И надо, наконец, поставить точку в разговорах о гавеловском «нежелании» становиться президентом. Судя по всему, Гавел никогда не мечтал о том, чтобы занять этот пост. Всю жизнь он видел себя прежде всего писателем, и то, что думают о нем люди как о писателе, волновало его куда больше, чем их отношение к нему как к политику. В «реалити-шоу» своей жизни, однако, он – благодаря своему творчеству, своему смелому сопротивлению коммунистическому режиму и своей жертве в виде пяти из лучших лет жизни, проведенных в тюрьме, – подготовил сцену таким образом, что когда подошло время последнего действия, логика пьесы неумолимо «вынесла» его на ведущую роль. Да, он был именно вброшен в свою роль, и он выглядел бы глупцом, если бы повел себя иначе.
Оглядываясь назад, можно также повысить оценки по поведению Гавелу и Форуму за первый революционный месяц. На эти оценки не повлияли бы ни несколько хаотичный способ принятия решений внутри Гражданского форума, ни высокая степень импровизации. Критике нередко подвергалось ночное заседание Форума 5 декабря, которое, похоже, упустило шанс избавиться от Адамеца и сформировать некоммунистическое правительство во главе с Яном Чарногурским[754]. Что ж, возможно. Но проблема заключалась не в том, как именно избавиться от Адамеца; в то время сила Форума была настолько велика, что он мог избавиться от любого представителя режима. Проблема заключалась в том, как добиться назначения нового правительства действующим президентом, как затем вынудить президента уйти в отставку и как добиться избрания нового президента. Форум, судя по всему, инстинктивно чувствовал, что лучше пока Адамеца не трогать.
Стратегия, которую предпочли Гавел и Форум, может казаться слишком уж осторожной, однако с теоретической точки зрения изъянов в ней практически нет. В отличие от историков, непосредственные участники событий должны были взвешивать каждый свой шаг с учетом того, что им было почти ничего не известно о намерениях, вероятных методах действия и решимости противника. Все это было гораздо важнее для оппозиционеров, не имевших в своем распоряжении никаких надежных источников информации в правительстве и партии, чем для другой стороны, копившей сведения об оппозиции на протяжении долгих лет и пользовавшейся услугами нескольких информаторов внутри Форума. «У нас были собственные каналы информации»[755], – подтверждает Чалфа. В этой классической ситуации недостатка информации в игре с нулевой суммой Гавел – даже, возможно, не догадываясь, что нечто подобное вообще существует, – последовательно использовал правило минимакса, то есть стремился минимизировать вероятные выгоды Адамеца и постепенно максимизировать свой собственный потенциал. Он позволил Адамецу стать партнером в период транзита власти, хотя, как следует из личных заметок Гавела, не питал к нему большого уважения. «Мой разговор с ним вышел кабацким», – сообщил Гавел своим коллегам из Форума, рассказывая об одной из четырех их с Адамецом встреч один на один[756]. Но, поскольку Гавел вполне обоснованно подозревал, что Адамец может выкинуть какой-нибудь фокус, он старался минимизировать риск прямого столкновения, в котором оппозиция, конечно, имела бы численное преимущество, однако власть по-прежнему могла использовать свое монопольное право на насилие. Изначально отказавшись принять предложения о разделении властей, к чему Форум пока не был готов, Гавел избежал опасности вхождения в такое партнерство на позициях слабого. Адамец пользовался той же стратегией: он довольно-таки умно стремился удержаться сам и, соответственно, сохранить в игре коммунистическую партию, желая снизить энергию протестов и в конце концов добиться перевеса. Но от него ускользнуло то обстоятельство, что баланс сил постоянно менялся – и не в его пользу. Благодаря тому, что Форум с самого начала отказался вести переговоры с компартией, но согласился на переговоры с Адамецом, вынудив последнего оторваться от его властной базы; что была объявлена символическая генеральная забастовка (вопреки просьбам Адамеца); что Адамецу пришлось формировать первое правительство по своему вкусу и под собственную ответственность, а потом Форум его же за это и упрекал; что, угрожая новой генеральной забастовкой, Форум продиктовал Адамецу состав второго правительства, проигнорировав его попытку уйти от ответственности; и, наконец, тому, что был вполне успешно заблокирован его отчаянный рывок на Град, Форум смог отбросить Адамеца, как ненужную шелуху. Все это время Гавел осознавал опасность того, что Адамец захочет им воспользоваться в собственных целях, но в финале именно Гавел воспользовался Адамецом.
Могло ли все сложиться иначе, если бы Форум оказался лучше подготовленным, его переговорщики и активисты – более опытными, а политическая воля – более непреклонной? Почти наверняка да, потому что история – это сад с целой сетью тропинок, многие из которых заросли травой. Однако Форум действовал правильно, когда стремился снизить риски, – и действовал он так не только из соображений гуманизма. Если бы дошло до насилия, то одна часть вооруженных людей одержала бы верх над другой и после своей победы провозгласила демократию, как это случилось в Румынии. Но это были бы никакие не демократы – у демократов оружия в руках не было. Трудно даже вообразить результат, достигнутый со столь малыми издержками и с такими огромными преимуществами, чем тот, которого добились Гавел и его команда, – отчасти благодаря импровизации, отчасти – везению, отчасти – слабому сопротивлению другой стороны, но в основном благодаря их собственной осторожности и сдержанности. Реформаторов 1968 года критиковали в том числе и потому, что они явно переоценили свои силы и недооценили очевидные риски. Гавел сумел избежать этой ошибки.
Благодаря аккуратному, едва ли не вкрадчивому подходу к делу он наконец стал единственным реальным кандидатом в президенты. На некоторых направлениях его успех был почти триумфальным. Гавел уже прилежно готовился к избирательной кампании, которая вполне отвечала его вкусам человека театра. Теперь, когда у него не осталось соперников, а правительство и оппозиция договорились, что президент будет избран согласно действующей конституции действующим же парламентом, слегка обновленным за счет тринадцати кооптированных депутатов (один из множества парадоксов того времени состоял в том, что именно коммунисты внезапно завели речь о прямых выборах президента), идея кампании была отброшена как несостоятельная. Однако Гавел чувствовал потребность хотя бы представиться избирателям и потому обратился к народу в вечернем эфире государственного телевидения. Накануне Рождества он чуть не вызвал настоящий бунт, когда заявил с экрана о том, что, мол, не пора ли уже принести извинения за выселение из Чехословакии в конце Второй мировой войны трех миллионов судетских немцев[757]. Даже легкий намек на нечто подобное входил в резкое противоречие с сорока годами коммунистического воспитания, воззрениями марксистских историков и глубоко укоренившимся недоверием к немцам, накопившимся за тысячу лет общей и не всегда идиллической истории. В следующие дни Гражданскому форуму пришлось объяснять, что Гавел не то имел в виду, и одновременно, не отрицая самой сути его слов, стараться загладить могущее возникнуть впечатление, будто он недостаточно квалифицирован, чтобы быть президентом. Но Гавел, хотя, может, и выразился недостаточно точно, относился к тому, что сказал, совершенно серьезно и нимало не удивился, что эти его слова вызвали сумятицу[758]. Семь лет спустя правительство и парламент Чешской Республики пришли к такому же заключению[759].
Утихомириться всем помогло Рождество – первое за несколько десятилетий, когда люди не опасались открыто славить рождение Христа и столь же открыто посещать храмы. Может, подарков оказалось чуть меньше обычного, потому что головы чехов и словаков в последние недели были заняты другим, но зато благожелательности хватало с избытком – казалось даже, что ее хватит на века. Казалось…
Праздничная атмосфера все еще не испарилась. Многие зарубежные друзья – и чехи, и иностранцы – воспользовались праздниками, чтобы приехать и самим послушать, как бьется сердце свободы. За два дня до президентских выборов Уильям и Венди Луерсы пригласили Гавела, Динстбира и прочих «отщепенцев», стремительно становившихся министрами, послами и высокопоставленными чиновниками, в ресторан «У Семи ангелов» в Старом Городе, где все они собирались раз в год вот уже пять лет, – теперь впервые (и в последний раз) без сопровождающих из числа сотрудников правоохранительных органов. Во время застолья с обилием безумных тостов посол Луерс сравнил атмосферу Бархатной революции «с мистическим религиозным переживанием» или даже «с волнующим ощущением, из которого чехи черпали свою силу на всем протяжении долгих тяжелых лет коммунизма, – с оргазмом»[760]. Если говорить об участниках той вечеринки, то они – я сужу, впрочем, только по себе – были слишком измотаны шестью неделями революционного кипения, чтобы всерьез задумываться и о первом, и о втором.
29 декабря Гавел был представлен Александром Дубчеком Федеральному собранию в качестве кандидата в президенты, а затем избран на этот пост. Внушительности и торжественности действу добавило исполнение в соборе Святого Вита гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»). Люди обнимались, улыбались, радовались. Испортили общую картину всего несколько мелочей. Опытный бюрократ Чалфа отнесся к своей задаче обеспечить Гавелу голоса слишком уж старательно[761]. Выбрали Гавела единогласно; на итоги выборов это, разумеется, не повлияло, однако проведенное голосование продемонстрировало как извращенное представление о коммунистическом фетише – единомыслии, так и некое серьезное эстетическое упущение. О таком варианте заранее не подумали, да и последствия процедуры голосования тоже никого не занимали. Скорее всего, подобного попросту никто не ожидал. Но коммунисты – да и не только они – могли бы все же повести себя с большим достоинством. Вторая досадная мелочь – это гавеловский темно-серый костюм, который один биограф назвал «поношенным»[762], а другой – «безупречным»[763]. Костюм этот был на самом деле очень дорогим и сшитым на заказ специально к торжествам. Но вот его брюки оказались на два-три сантиметра короче, чем нужно, придав новоиспеченному президенту несколько чаплинский вид.
Мешок блох[764]
Вообще-то правильнее, чтобы президентов было два. Один бы с утра до вечера принимал послов, и обменивался рукопожатиями, и участвовал в съемках, и раздавал интервью, а второй бы руководил. Потому что я не руковожу.
Я руковожу в свободное время.
Вацлав Гавел, 21 мая 1990 г.
Чувствовать себя президентом, медитировать во время исполнения Te Deum на всяческие сакральные и приземленные темы и целый день греться в лучах славы и всеобщего ликования было очень здорово, однако (поскольку пульс эпохи бился с опасной для жизни скоростью) следующий день был уже рабочим, хотя условия для работы и оказались далеки от идеала. Начать с того, что завтра была суббота. И суббота эта предшествовала воскресенью, причем не рядовому, а воскресенью 31 декабря. Каждый глава государства всегда зависит от множества своих подчиненных, которые работают в его канцелярии, обслуживают телефоны, составляют программу и выполняют разнообразные поручения. Когда субботним утром Гавел пришел в свою канцелярию, он не просто не обнаружил там никого из персонала – канцелярия вообще оказалась заперта, так что понадобилось какое-то время, чтобы отыскать ключи. Гавела ожидала лишь делегация сотрудников Канцелярии Президента Республики, которая намеревалась, поприветствовав его, доложить о создании Гражданского форума Пражского Града и заявить о своей лояльности и революционном энтузиазме. Проделали они это с непринужденностью, искренностью и усердием, достойными заложников АльКаиды. Большинство остальных сотрудников не явилось вовсе либо же затерялось в бесконечном лабиринте коридоров, комнатушек и закутков Града, так что на то, чтобы их там выловить, ушли недели.
Впрочем, Гавел примерно это и предполагал, догадываясь, что на своем новом месте работы он вряд ли найдет много тех, с кем можно было бы или хотелось наладить прочные и надежные служебные контакты. И дело было не только в разнице политических взглядов: тамошние бюрократы зачастую не имели вообще никаких взглядов и быстро – по мнению Гавела и его соратников, слишком быстро – приспосабливались к начальству. Именно поэтому Гавел, давая согласие на выдвижение своей кандидатуры, одним из условий поставил обязательное присутствие рядом с ним в Граде группы людей, которым он может доверять и которых лично отберет из числа своих друзей. Так возникла «команда советников», позднее – «коллегия», или же, менее формально, «мешок блох». Точнее, это был «мешок блох» № 2, потому что раньше Гавел уже называл так общенациональный комитет Координационного центра Гражданского форума. Очень скоро ему пришлось убедиться в том, что таким же «мешком блох» была и вся страна, которую он теперь возглавлял. Так или иначе, но «мешок», о котором идет речь, прежде был составной частью Инициативной группы Форума, хотя и отличался от нее куда меньшей численностью и большей доверительностью. Гавела он всячески поддерживал, помогал ему, но и (несколько раз за эти два с половиной года) доставлял немало хлопот[765].
Пестрая компания друзей, последовавших за Гавелом в Град, стала объектом удивления, наветов, критики и насмешек, но люди, в нее входящие, вовсе не были случайными попутчиками. Несмотря на то, что все они сыграли заметные роли в Бархатной революции, не каждый из них – далеко не каждый! – принадлежал к числу хартистов или видных диссидентов; нет, скорее они олицетворяли собой результат многолетнего гавеловского «наведения мостов». В течение последнего десятилетия эпохи нормализации они были для Гавела источниками контактов, информации, безопасных каналов коммуникации, интеллектуальных импульсов, эстетических впечатлений, а иногда и веселья – как, собственно, и он для них. Большинство этих людей шли по туго натянутому канату, балансируя между откровенным диссидентством и конформизмом. Все они дружили с Гавелом и были заметными личностями в своих областях деятельности. Вначале их насчитывалось десять.
Иржи Кршижан (по прозвищу Бегемот), советник Гавела по вопросам внутренней политики и безопасности, был ярким представителем обитателей холмов Моравской Валахии – родины легендарных горцев неясного происхождения (то ли кельтского, то ли румынского), разбойничьих баек, чарующих и гармоничных народных песен и изумительного самогона. Его отца, тамошнего землевладельца и лесника, коммунисты казнили в одном из своих приступов смертоносной местнической ненависти и зависти. Иржи вырастил дедушка-протестант. Со временем Кршижан стал успешным автором киносценариев о моральных дилеммах и вопросах отваги и предательства[766]. На своем новом посту он вынужденно взвалил на собственные плечи тяжкий груз внутриполитических скандалов, афер и интриг, с которыми Гавелу пришлось сталкиваться на протяжении первых двух президентских сроков. Невероятное напряжение, неотрывное от человеческих трагедий, честолюбия, мелочности и пороков, уничтожило сначала его брак, а потом и здоровье. После отставки Гавела он какое-то время поработал заместителем министра внутренних дел, однако в этой должности ему было крайне неуютно. Когда его семья получила по реституции остатки лесных и земельных угодий, прежде принадлежавшие Кршижану-старшему, он вернулся в Валахию; заботился там о лесе, гнал самогон и написал еще несколько сценариев для довольно-таки провокационных фильмов[767]. Когда после длительной борьбы с раком он умер в 2010 году от инфаркта, в его похоронах в Валашском Мезиржичи принимала участие вся команда во главе с Гавелом.
Александр Вондра, «Саша» был самым молодым из советников. В революцию ему едва исполнилось двадцать шесть, но он проявлял не меньшую активность и пользовался не меньшей известностью чем коллеги. Как один из «дореволюционных» хартистов команды, как один из бывших спикеров «Хартии» и один из арестованных в Палахову неделю он стал советником президента по вопросам внешней политики. «Я учился в Карловом университете на географа и покупал газеты»[768], – объясняет он свое назначение. Прирожденная уверенность в себе и быстрый ум помогли ему справиться с существующим возрастным гандикапом и стать своим в мире высокой международной политики и дипломатии. В конце прошлого века он был чешским послом в Вашингтоне, а затем последовательно занимал посты министра иностранных дел, министра по европейским вопросам и министра обороны в правительстве Чешской Республики.
Ладиславу Кантору досталась самая неблагодарная роль. Из фолк-музыканта и менеджера, помогавшего продюсировать демонстрации Бархатной революции, где главенствовал Гавел, он превратился в руководителя президентского секретариата. Из-за того, что Ладя обладал взрывным и раздражительным характером, это, возможно, был не лучший выбор, но никого другого, подходившего на такую должность, в команде не нашлось. Кантор демонстрировал абсолютную, прямо-таки добермановскую преданность своему шефу, обороняя его от любого нежеланного – а порой и желанного – визитера, и потому нажил себе немало врагов, едва ли не основным из которых оказалась Ольга. После отставки Гавела Кантор стал генеральным продюсером Чешского филармонического оркестра, а также занимался муниципальной политикой.
Мирослав Масак – известный чешский архитектор, один из сооснователей архитектурного бюро SIAL[769] в городе Либереце, которое пыталось в своей работе опираться на традиции чешской модернистской архитектуры предвоенных лет. За свою демократизаторскую деятельность во время Пражской весны 1968-го он попал в опалу: несмотря на то, что ему по-прежнему разрешалось читать лекции и работать, ни к каким значимым проектам его не допускали. Гавела он знал дольше, чем кто-либо другой из команды. Главной его задачей в Граде был сам Град. Масак оказал сильнейшее влияние на Гавела, мечтавшего реализовать свой план по декоммунизации всей территории Града[770], включая окружающие его обширные сады, и превратить это святилище с тысячелетней историей в притягательное и открытое широкой публике место, а также «освежить» его образцами современного искусства. Эти изменения и обширные планы, касавшиеся и Праги, и всей страны, были темой регулярных личных бесед Масака и Гавела, носивших в программе встреч президента кодовое наименование «Реконструкция в реконструкции».
Если задачей Масака было изменить внешний вид Града, то Петру Ослзлому предстояло проделать то же с самой функцией президента. Этот привлекательный мужчина с длинными волнистыми, тронутыми сединой волосами был и остается ведущим актером, завлитом, автором и движущей силой брненского театра «На провазку» – Мекки чешского независимого и альтернативного театра восьмидесятых годов прошлого века[771]. В качестве одного из создателей (вторым был Ярослав Коржан) группы «Открытый диалог», старавшейся навести мосты через пропасть, разделявшую подпольную оппозицию и «легально» работавших деятелей культуры[772], он пошел на большой риск, когда вернул на сцену творчество Гавела-драматурга и включил в театральный альманах «Розразил 1/88 – О демократии» его короткую пьесу «Завтра выступаем», посвященную предреволюционным заботам Алоиса Рашина и отцов Первой Республики[773]. Именно он отвечал за имидж Гавела, выступавшего в революцию на различных импровизированных «эстрадах»[774] на Вацлавской площади и на Летенском поле, и пытался воплотить в жизнь гавеловские представления о политике как составной части драматического искусства. Новые обязанности, к которым, в частности, относилась необходимость изменить негибкую и несправедливую систему государственной поддержки культуры, тонкий интеллектуал Петр нашел куда более обременительными.
Главной задачей Эды Крисеовой было стать для президента доброй феей. Хотя ее отношения с Гавелом не имели романтического оттенка, она – в отсутствие Ольги, которая предпочитала держаться от Града подальше, – удовлетворяла потребность Гавела в материнской опеке и умела успокоить и вразумить его в те минуты, когда он был готов поддаться панике. Не то чтобы Эда, и сама прекрасная писательница, была этакой типичной домашней клушей, однако Гавел чувствовал себя с ней рядом в безопасности. Она придавала ему уверенности. Впрочем, иногда Эда понимала свою задачу заботиться о душевном спокойствии президента слишком уж буквально и даже конфликтовала с настроенной куда более скептически мужской частью команды – когда, к примеру, привела в Град совершенно неизвестного врачевателя, единственным делом которого было – «почистить президенту карму». После того как в канцелярии был наведен относительный порядок, Эда взяла на себя нелегкие обязанности неофициального омбудсмена и принялась отвечать на тысячи жалоб, просьб и писем, адресованных самому любимому человеку в стране. Ее работе никто не завидовал.
Вера Чаславская была единственным членом команды не менее знаменитым, чем Гавел. Семикратная олимпийская чемпионка по гимнастике и самая успешная спортсменка всех времен, она долгое время даже превосходила его по популярности. Ее, как и Гавела, отличали независимость и сила характера, и поэтому она решила демонстративно бойкотировать церемонию награждения на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, спустя всего месяц после оккупации Чехословакии. Из-за этого режим все следующие двадцать лет упорно делал вид, будто ее не существует. Она старательно выполняла в президентской канцелярии свои обязанности советника по социальным вопросам, но и являла собой, так сказать, женский аналог его известности. К поставленным перед ней задачам она подходила так же, как к финалу олимпийских соревнований – максимально собранно и с напряжением всех сил. Однако перенапряжение сказалось на ней жутчайшим образом, а после семейной трагедии, эхо которой разнесли СМИ, она на целое десятилетие укрылась от журналистов. Но Вере Чаславской удалось справиться с бедой, и она продолжает удивлять друзей и недругов своей непоколебимой силой духа и кипучим темпераментом[775].
Йозеф (Йоска) Скалник был чешским художником и графиком, специализировавшимся на изображении синего небосвода с белыми облачками а-ля Магритт. Во времена преследования независимого содружества чешских музыкантов «Джазовая секция», главным преступлением которого было распространение бюллетеня о пражском джазовом фестивале, статей о Фрэнке Заппе и Майлзе Дэвисе и стихов независимых чешских авторов, он вместе с еще несколькими товарищами по несчастью оказался в тюрьме. Мастерская Йоски сыграла в дни Бархатной революции очень важную роль – кандидат в президенты укрывался в этом тайном убежище, когда готовился к вступлению в новую должность. Как это ни горько, но в последующем выяснилось, что Йоска, судя по всему, заключил фаустовский договор с госбезопасностью и превратился в одного из ее информаторов под кличкой «Гог» (у ГБ было своеобразное чувство юмора)[776]. Перед первыми парламентскими выборами в июне 1990 года он не по собственной воле покинул канцелярию президента, но его и в дальнейшем видели рядом с Гавелом. Гавел, со своей стороны, от дружбы с Йоской никогда не отрекался.
Оператор Станислав Милота, муж Власты Храмостовой и старый друг Гавела, не отходил от него всю революцию. Было ясно, что он последует за президентом и в Град, хотя бюрократа из него выйти никак не могло. Он был резким, вспыльчивым и раздражительным, всегда делал много вещей одновременно и ни одной конкретно, отвечал за службу протокола, управлял секретариатом, следил за безопасностью и временами играл роль адвоката дьявола. Иногда он выражал недовольство стилем гавеловского правления и работой канцелярии, которая, в свою очередь, отвечала ему тем же. Перед парламентскими выборами он ушел, но отнюдь не столь драматично, как это описано в некоторых воспоминаниях[777].
Последним приобретением команды был я сам. Прежде всего мне надлежало освободиться от своих обязанностей пражского корреспондента агентства «Рейтер» (это стало очевидным в начале Бархатной революции, которая поставила меня перед дилеммой: мне надо было писать о событиях, в которых я непосредственно участвовал), а потом и покинуть пост пресс-секретаря Гражданского форума. Мой журналистский опыт – пусть и довольно скромный – предопределил назначение меня пресс-секретарем президента. За предыдущего президента или его предшественника не говорил никогда никто, поэтому правила, принципы и вообще вся пресс-служба вынужденно создавались с нуля. Чтобы достойно выполнять свои обязанности в бурной атмосфере эпохи, один-единственный день которой приносил событий столько, сколько все прошлое десятилетие, мне пришлось целых два с половиной года находиться в непосредственной близости от Гавела. Ольга и моя первая жена Кристина иногда жаловались, что их мужья живут с кем-то другим, хотя технически бигамией это, конечно, все же не являлось.
Очевидным недостатком всей команды – вдобавок к тому, что она, пожалуй, больше годилась для постановки театрального спектакля, чем для руководства президентской канцелярией, – было то, она состояла сплошь из чехов (включая в их число гордого валаха Кршижана и гордого мораванина Ослзлого). Гавел незамедлительно призвал в Град Милана Княжко, одного из самых популярных словацких актеров своего поколения и народного трибуна «нежной» революции, как называли события конца 1989 года в Словакии. «Мешку блох» еще один представитель богемы, на этот раз словацкой, не доставил никаких хлопот, хотя все мы очень скоро заметили, что если советники сопровождают президента, то Княжко обязательно идет непосредственно за ним. Необходимость демонстрировать одновременно оба лица чехословацкой идентичности соратники Гавела отлично понимали. Через какое-то время подобный, уже устоявшийся порядок вещей, заметил и сам Гавел и совершил фатальную ошибку, назвав однажды в шутку Княжко своим «вице-президентом»[778]. Шутка вышла ему боком – разочарованный Княжко покинул канцелярию в конце первого президентского срока Гавела и стал – правда, временно – одним из рупоров словацкого национализма и одним из самых беспощадных критиков президента.
Чуть позже к нам присоединилась очень важная персона. Полное имя этого человека занимало едва ли не несколько строчек, но в канцелярии он был просто Карел Шварценберг, известный как «Князь», потомок одного из старейших чешских и центральноевропейских дворянских родов, история которого тесно сплетена с историей австро-венгерской монархии[779]. По идее, к нему следовало обращаться «Ваша княжеская милость», но поскольку дворянские титулы были отменены декретом Национального собрания вновь образованной независимой и республиканской Чехословакии 10 декабря 1918 года, все друзья в шутку называли его «Сиятельством». Он появился на свет в родовом имении Орлик, однако и этого гнезда, и всех прочих владений вполне лояльное чешское и демократическое семейство Шварценбергов лишилось – сначала по вине нацистов, а затем коммунистов, которые, в довершение ко всему еще и изгнали всех представителей рода из страны. Несмотря на то, что Карел покинул Чехословакию одиннадцатилетним мальчиком и в течение сорока лет не имел возможности вернуться, он продолжал говорить по-чешски, изъясняясь весьма литературно, хотя и слегка своеобразно. Хотя он не мог непосредственно участвовать в деятельности антикоммунистической оппозиции внутри Чехии, он всегда оказывал ей финансовую поддержку, предоставил место для хранения архива самиздатской литературы в своем замке в немецком Шайнфельде и много помогал оппозиционерам в качестве активного защитника прав человека и главы (в 1984–1991 годах) Международной Хельсинкской федерации по правам человека (МХФ). Когда режим начал постепенно ослаблять свою хватку – возможно, предчувствуя скорый конец, – Карел рискнул посещать различные неформальные встречи и даже был наблюдателем на процессах над диссидентами; в частности, он приехал в Иглаву, где судили Магора, – там-то мы с ним впервые и встретились. После Бархатной революции он немедленно стал членом ближнего круга Гавела, однако из-за его происхождения и его прошлого ему нелегко было найти свое место в нарождавшейся полубюрократической структуре. Возраст, положение и международный опыт делали Шварценберга отличным кандидатом на пост руководителя Канцелярии Президента Республики, традиционно именуемого канцлером. Однако это место до поры до времени занимал Йозеф Лжичарж, юрист, защищавший Гавела на процессах коммунистической эпохи. Только когда в архивах наконец добрались до сведений о Лжичарже, он был вынужден оставить президентскую канцелярию, и его заменил Князь. Шварценбергу, возможно, и недоставало каких-то качеств менеджера, но они с лихвой восполнялись его добросовестностью, дружелюбием, щедростью, всегда хорошим расположением духа и личным обаянием. Кроме того, очень важна была и его роль гавеловской «визитки» при многих европейских дворах, с представителями которых Князя связывали родственные узы, а также в домах многих видных европейских политиков, с которыми он за эти долгие годы подружился.
Вот таким было ядро президентской канцелярии, со временем все более разраставшейся соразмерно плотному графику Гавела и его многочисленным государственным обязанностям. Когда понадобился человек, который смог бы заниматься конфиденциальной разведывательной информацией, Кршижан вспомнил о переводчике фильмов – большом поклоннике шпионских романов Джона ле Карре. Позднее Олдржих Черный стал первым директором Управления по внешним связям и информации (ÚZSI – Служба внешней разведки) демократической Чешской Республики. Когда личный секретариат президента оказался буквально завален тысячами приглашений и предложений о встречах, появилась Гелена Кашперова, умевшая своим спокойствием уравновесить буйный нрав Кантора. Когда я как пресс-секретарь ощутил острую необходимость в срочном налаживании в канцелярии внутренней коммуникации и создании системы для хранения и обработки данных, канцелярия наняла на работу администратора базы данных Анатолия Плеханова – того самого, именем которого Гавел назвал трагического героя «Реконструкции». Мой приятель и, как и я, актер-любитель в «Театре читки по ролям имени Пршемысла Рута» Иржи Оберфалцер стал моим заместителем. Пламенный рок-публицист Рейжек отвечал за армию. С первых же дней революции личными нуждами Гавела занимались двое неразлучных – но абсолютно разных – личных помощников. Саша Нойман был невозмутимым буддистом, увлекавшимся эзотерической музыкой, в то время как Мирослав Квашняк был спортивно сложенным плейбоем с неисчерпаемым запасом всяческих озорных идей. Некоторые люди просто приходили к нам в гости и оставались навсегда. Актриса и великая шутница Бара Штепанова – одна из основательниц «Общества за более веселую современность»[780], – пришла, чтобы подарить Гавелу самокат (он жаловался как-то по радио, что его утомляют длинные коридоры и переходы Града), и осталась у нас в качестве секретаря. Поскольку рядом с кабинетом шефа все комнаты были уже заняты, ей поставили стол в ванной, откуда и исходили потоки ее порой чувственной, но крайне продуктивной в плане секретарства энергии. Какие-то друзья отыскивались в пивных, театрах и тоскливых академических институтах. Последними к нам присоединились экономист и юрист.
Наряду с Градом, так называемой «верхней» канцелярией, возникла и канцелярия «нижняя» – в пустующей квартире на первом этаже дома Гавела, – которая занималась президентскими личными и литературными вопросами. Отвечал за нее Владимир Ганзел; он еще до революции был секретарем Гавела и непосредственным свидетелем, а также надежным «летописцем» тех весьма драматичных событий. Анне Фреймановой, жене Андрея Кроба и одной из редакторов журнала «О дивадле», пришлось разбираться с проблемой все нараставшего интереса к пьесам Гавела и другим его произведениям. Ива Татьоунова, племянница одного из друзей по Градечку, стала личным секретарем Ольги. Поскольку она все еще училась в школе, то могла гордиться уникальным, от руки написанным документом: «Освободите, пожалуйста, Иву Татьоунову на неделю от занятий (начиная с 20 февраля) из-за ее участия в государственном визите в Соединенные Штаты. (подпись) Гавел». Еще один друг из Градечка, Антонин Манена, со временем возглавил полицию и службу безопасности Града.
31 декабря 1989 года свежеизбранный президент с удовольствием поддержал чешскую традицию и хорошенько напился, тем более что причина для празднества наконец-то была. Эта несколько хаотическая вечеринка, в которой приняли участие разнообразные иностранные сановники, недавно вернувшиеся из изгнания эмигранты и только что обретенные лучшие друзья и которая не обошлась без танцев на столах и тайного затягивания джойнтами в коридорах[781], состоялась в пражском районе Смихов, в помещениях бывшего Народного дома (переименованного коммунистами в Дом культуры металлургов), куда одиннадцать лет назад намеревались отправиться хартисты, изгнанные с Бала железнодорожников.
Президент рок-н-ролла
Он был любезным человеком, так что это просто чудо, что он стал президентом чего-либо.
Том Стоппард
В понедельник первого января нового 1990 года Гавел совершил свой первый важный официальный акт: произнес традиционную новогоднюю президентскую речь[782]. Она была такой же революционной, как и предшествовавшие ей события. С первых же слов Гавел перешел прямо к делу: «В течение сорока лет в этот день вы слышали из уст моих предшественников в тех или иных вариантах одно и то же: как процветает наша страна, сколько еще миллионов тонн стали мы произвели, как мы все счастливы, как верим своему правительству и какие прекрасные перспективы открываются перед нами. Полагаю, вы избрали меня на этот пост не затем, чтобы и я тоже вам лгал»[783]. А затем представил согражданам как неприукрашенную картину катастрофического состояния народного хозяйства, инфраструктуры, окружающей среды и нравственности спустя сорок лет правления коммунистов, так и стоящих перед ними гигантских проблем. Большинство слушателей, однако, его речь не удручила и не обескуражила. Наоборот, им принесло огромное облегчение, что наконец-то они слышат слова, похожие на правду.
Уже в предшествующие дни Гавела не покидало ощущение, что охвативший народ энтузиазм не только недолговечен, но и попросту опасен, так как в ближайшие недели и месяцы не могло произойти ничего такого, что соответствовало бы уровню ожиданий. «Нас приветствуют как героев, – говорил он своей команде, – но когда все поймут, в каком мы дерьме и как мало можем с этим поделать, нас погонят из Града поганой метлой». Некоторые из его соратников думали, что он шутит: за полтора месяца мы совершили невозможное – что может случиться теперь?
Гавел понимал также, что бархат начинает тускнеть и скоро развернется охота на злодеев, жертвенных агнцев и виноватых. Лично он никакой потребности в подобной охоте не испытывал. В отличие от многих людей, которые по-настоящему не страдали, и некоторых своих друзей-диссидентов, которые страдали еще больше, находясь в изоляции, а не в лучах прожекторов мировых средств массовой информации, болезненный опыт последних двадцати лет его ни в малейшей мере не ожесточил. Через несколько недель после вступления в должность президента Гавел совершил один из своих «набегов» в тюрьму Боры в Пльзене, где он провел почти два года жизни. Тюремная стража вначале отказалась открыть президенту ворота, но при виде его охранников, которые явно не собирались отступать, подчинилась. Гавел захотел взглянуть на свою бывшую камеру и пожал руку надзирателю, который был к нему доброжелателен. Спрашивал он и о другом надзирателе, который отравлял ему существование, но того, как ни странно, нигде не могли отыскать[784].
Театральный опыт Гавела, вероятно, помог ему примириться с прошлым, посмотреть на него глазами зрителя и найти утешение во множестве проявлений абсурда, которые прошлое в себе заключало. Это свидетельствовало и о его глубокой внутренней силе, и о вере в себя, которую не могла полностью скрыть его внешняя робость. И ему глубоко претила мысль о коллективной вине коммунистов – идею коллективной вины он отверг еще во время предыдущей дискуссии об изгнании судетских немцев. В постановке этого вопроса он, однако, видел и позитивный аспект, а именно возможность и необходимость сделать упор на личной ответственности как главной предпосылке преобразования общества, каковая задача стояла перед ним и его согражданами. Поэтому и в новогодней речи он сказал: «Все мы привыкли к тоталитарному режиму и приняли его как неизменную данность, тем самым, по сути, его поддерживая. Иными словами: все мы – хотя, разумеется, в разной степени – ответственны за ход тоталитарной машины; никого из нас нельзя считать только ее жертвой, но все мы одновременно и ее конструкторы <…> было бы крайне неразумно считать печальное наследие последних сорока лет чем-то чуждым, доставшимся нам от дальнего родственника. Напротив, следует воспринимать это наследие как нечто такое, что мы совершили по отношению к самим себе. Восприняв же его подобным образом, мы поймем, что от нас одних зависит изменить это положение дел»[785]. Для миллионов зрителей и слушателей в тот день его слова звучали болезненной правдой. Все ли хотели ее услышать – другой вопрос.
Некоторые речи, произносимые Гавелом с начала революции, давали ему возможность использовать свой писательский талант в новом качестве, но вместе с тем они воздвигали перед ним труднопреодолимые барьеры. Очень скоро выяснилось, что он отлично пишет речи, но оратор из него далеко не блестящий. Говорил он довольно тихо, глухим голосом, с несколько запинающейся дикцией, мгновенно узнаваемой потому, что он грассировал. Впрочем, картавое «р» было не только его личным опознавательным знаком. Этот звук трудно давался и новому министру иностранных дел Динстбиру, и будущему начальнику канцелярии президента Карелу Шварценбергу, Петру Улу и другим, так что картавость стала своего рода отличительным признаком революции. Еще более серьезной проблемой было невербальное сопровождение его речей, особенно в эпоху телевидения. В революционные дни Гавел обычно импровизировал, иногда опираясь на бегло набросанные заметки, и демонстранты видели его издали. Теперь ему приходилось зачитывать написанный текст. Чехословацкое телевидение и канцелярия президента до тех пор, кажется, не слыхали об электронном телесуфлере, хотя Гавел все равно не признавал его, считая мошенническим трюком. Для чтения же текста с листа ему нужны были очки, которые придавали его лицу довольно строгое и неприступное выражение. Кроме того, это затрудняло его зрительный контакт с аудиторией, с которой ему и без того сложно было общаться. Постепенно стала вырисовываться также еще одна проблема, связанная с неизбежным однообразием политических выступлений. Любой оратор, к сожалению, вынужден все время возвращаться к одним и тем же идеям, позициям, приоритетам, для чего часто прибегает к помощи устойчивых оборотов, чтобы у слушателей, средств информации и профессионалов не возникло впечатление, будто что-то меняется. Но Гавел был писателем, в нем все восставало против идейных и стилистических стереотипов, и повторять самого себя было для него сущей мукой. В своих речах и интервью он постоянно боролся с этой дилеммой и либо более или менее придерживался сценария, после чего чувствовал себя удрученным и недовольным самим собой, либо отдавался на волю своего художественного чутья и сбивал с толку публику – причем часто имело место то и другое одновременно. Уже в августе 1990 года он посетовал: «Моя неспособность повторяться и писать выступления об одном и том же достигла кульминации, и я провел все это время в Градечке в приступе ужаса из-за того, что хотел написать там тексты двух речей, но не выжал из себя ни строчки»[786].
Успешнее экспериментировал Гавел, подбирая подходящий тон. Его собственный авторский стиль был довольно сухим, ироничным, причем многое он только намечал. Однако во время революции, в ноябре и начале декабря, сознавая, что его задача – объединять, мотивировать и направлять энергию миллионных толп, он говорил громче, прибегал к довольно возвышенным примерам и не чурался сильных слов. Эту тенденцию прекрасно отразил ставший иконой революции лозунг «Правда и любовь победят ложь и ненависть», который возник импровизированно в ходе одной из больших демонстраций[787]. Однако теперь, когда бурные революционные дни остались позади, Гавел почувствовал необходимость несколько сбавить тон. Закулисно это проявилось уже во время записи новогоднего выступления. «В конце надо бы сказать что-то вроде “Правда победит”, или нет? – спросил он у членов своей команды, стоявших позади камеры. – Какое-нибудь такое восклицание или просто “До свидания”?»[788] В результате в данном случае он воспользовался парафразой одного из самых патетических афоризмов чешской национальной мифологии, приписываемого Яну Амосу Коменскому: «Власть твоя, о народ, к тебе вернулась!» Сказать просто «До свидания» было бы мало.
Следующим судьбоносным решением, которое Гавел принял в первый день новой эры, стало объявление всеобщей амнистии. Этой прерогативой президента, унаследованной от монархических времен, пользовались и предшественники Гавела в ознаменование своего вступления в должность или ухода либо по случаю какой-либо выдающейся годовщины, но никогда в таком широком масштабе. По условиям амнистии на попечение совершенно не подготовленных к этому семей и социальных служб были отпущены 23 000 из общего количества 31 000 заключенных, то есть все, кроме самых опасных преступников. При этом некоторым из них даже некуда было идти. На президента сразу же обрушилась волна критики (причем часто, что не слишком удивляет, со стороны побежденной номенклатуры), в самых мрачных красках популистски живописавшей, как в добропорядочное общество внезапно ворвутся преступность, хаос и разорение. Опасность оказалась сильно преувеличенной: в 1990 году амнистированные заключенные совершили только 9 % всех уголовно наказуемых деяний, но этого нельзя было предвидеть заранее. Даже многие поклонники Гавела не могли понять, зачем он объявляет амнистию для стольких самых настоящих преступников наравне с несколькими сотнями несправедливо осужденных по политическим мотивам. Гавел, конечно, полностью отдавал себе отчет в том, что принятое им решение не добавит ему популярности, но нимало не колебался. Как бывший диссидент и заключенный, он лучше большинства своих сограждан сознавал, что от несправедливости прежнего режима страдали и простые осужденные – точно так же, как узники совести. Он был убежден в том, что государство, для того чтобы оно могло вершить правосудие, должно в первую очередь само руководствоваться законом, уважая право человека на справедливое судебное разбирательство, что было абсолютно чуждо коммунистам. Исходя из принципа разделяемой ответственности за прошлое, он ощущал, что исключительный шанс начать все с чистого листа следует дать и тем, кто находился за решеткой, и тем, кто был на свободе[789].
На следующий день Гавел в компании группы друзей сел в правительственный самолет и отправился с первым официальным визитом за границу. Это рутинное для любого главы государства событие таило в себе несколько совершенно новых моментов, толику абсурда и один источник серьезных противоречий. В первый раз за двадцать лет Гавел мог свободно пересечь границы своей страны, хотя для всех живших в некоммунистической части Европы невозможность выехать за рубеж была столь же невообразима, как для молодых чехов в наши дни[790]. Президент со своей командой были больше похожи на звезду эстрады в сопровождении рок-группы с техническим персоналом, фанатками и прилипалами, нежели на государственного мужа с делегацией опытных дипломатов. Критерии отбора отсутствовали. Тот, кто поместился в самолет, летел. Экипаж большого, массивного и шумного «Туполева» тоже состоял не из обычных пилотов и стюардесс; все члены экипажа были из летного отряда Министерства внутренних дел и на самом деле подчинялись Госбезопасности, то есть тому же органу, который еще недавно так отравлял жизнь Гавела. Пунктами назначения были два города, сами названия которых вызывали у многих чехов малоприятные ассоциации. Первым из них был Мюнхен, где начинал свою чудовищную карьеру Адольф Гитлер и где в 1938 году у Чехословакии по соглашению между нацистской Германией, фашистской Италией, и демократическими Францией и Великобританией были отняты пограничные судетские области, причем представителя Чехословакии даже не пустили в зал заседаний. Вторым городом был Берлин, где через полгода после Мюнхена чехословацкого посла просто уведомили об оккупации остатка территории Чехословакии и где спустя шесть лет закончилась война, унесшая шестьдесят миллионов жизней и обернувшаяся изгнанием десяти миллионов этнических немцев, в том числе трех миллионов – из Чехословакии. Высказывавшиеся потом в Германии обвинения и обиды, мечты судетских немцев о возвращении и фантом германского реваншизма, раздуваемый коммунистической пропагандой ради оправдания милитаризации советского блока, превратили два соседних народа, тысячу лет связанных между собой тесными узами, в чужаков, которые смотрели друг на друга с недоверием и подозрением. Гавел был убежден, что его долг – разобраться с этим наследием прошлого, чтобы расчистить путь для возвращения Чехословакии в ее естественный европейский дом.
Вероятно, он понимал, насколько опережает тем самым общественное мнение у себя на родине, а до некоторой степени – и в Германии. Серьезным предостережением для него должна была стать реакция на его фразу, произнесенную еще до избрания президентом, о возможных извинениях за насильственное выселение многих судетских немцев, которые ничем не провинились перед Чехословакией и своими согражданами. Единства в этом вопросе не было даже среди хартистов, хотя преобладало мнение, что, не отперев эту и другие «тринадцатые комнаты» истории Чехословакии двадцатого века, нельзя вернуться к нормальной ситуации в настоящем и строить открытое, не травмированное прошлым общество будущего. Так что решение посетить с первым официальным визитом именно Мюнхен и Берлин было довольно рискованным.
Но куда еще было отправиться Гавелу, чтобы представить новую, демократическую Чехословакию за границей? Первый визит в Москву был обязательным для всех его предшественников, и туда он именно по этой причине ехать не мог. Визит в Вашингтон сложно было организовать за пару дней, и многие восприняли бы его как подтверждение, что Прага просто перешла от подчинения одной сверхдержаве к подчинению другой, не претендуя на собственную независимую позицию. Визит в Париж или в Лондон тоже пробудил бы воспоминания о мюнхенском соглашении – величайшей травме современной истории Чехословакии. Если бы Гавел продолжал рассуждать в таком духе, он должен был бы оставаться дома следующие двадцать лет.
Впрочем, некоторые полагали, что знают ответ на вопрос «куда?», и не могли простить Гавелу, что он не прислушался к их мнению, хотя не до конца ясно, высказывали ли они его в те дни. С их точки зрения, ему следовало отправиться в Братиславу. Словакия, правда, не являлась тогда «заграницей», но это была настолько отличная от Чехии часть страны, что Гавел, не посетив ее первой, проявил некоторую нечуткость и – более того – незнание настроений своих словацких сограждан[791]. Этим, по словам критиков, он мог заронить семя будущих противоречий, которые через три года привели к разделению Чехословакии. Правда, Гавел был в Словакии за неделю до своего избрания, но тогда он еще не стал президентом, так что это не считается, утверждали критики. Как бы то ни было, факт, что в начале января 1990 года Гавел счел урегулирование отношений с Германией[792] более важной задачей в сравнении с выяснением национальных настроений у себя на родине. Визит состоялся слишком рано для того, чтобы принести конкретные результаты, но дружелюбный прием, оказанный Гавелу, послужил сигналом, что обе стороны намерены строить свои отношения на новой основе.
Стремление расставить приоритеты в определенном порядке было обречено на провал. Рабочий день Гавела не подчинялся правилам протокола и не протекал в степенном ритме, достойном главы государства, а состоял из бесконечной череды встреч и бесед на темы, связанные с недавним кризисом. Очень часто, само собой, затрагивались вопросы безопасности. Армия во время революции оставалась в казармах, но ее по-прежнему контролировали подготовленные в Советском Союзе и обязанные Советскому Союзу генералы. Не было никакой уверенности в том, что они вдруг не передумают. К счастью, чехословацкая армия была обучена беспрекословно повиноваться приказам, не проявляя собственной инициативы. На следующие десять месяцев Гавел оставил в должности министра обороны бывшего начальника генерального штаба генерала Вацека и иногда даже похваливал его, говоря, что он единственный министр, который его слушается. Только когда выяснилось, что этот генерал участвовал в разработке планов выведения бронетанковых частей против ноябрьских демонстрантов[793], он был немедленно уволен. Пока же Вацек выполнял приказ Гавела сохранять спокойствие так же неукоснительно, как, по-видимому, выполнил бы приказ стрелять пару месяцев назад. Однако в окружавшей армию атмосфере секретности, поддерживаемой все еще действующими драконовскими законами, ни в чем нельзя было быть абсолютно уверенным. Гавел в течение некоторого времени начинал каждодневные утренние совещания с полушутливого вопроса: «Не случился ли за ночь какой-нибудь путч?»
Однако армия была поистине образцом прозрачности в сравнении с миром Госбезопасности и разведывательных служб. Здесь новая власть вступала в лабиринт с зеркалами и множеством тайных комнат; для того чтобы нейтрализовать этот мир, потребовалось несколько месяцев, демонтировать – почти целый год, а на то, чтобы разобраться в нем и проанализировать его, ушла значительная часть следующих двадцати лет. В каком-то смысле эта работа все еще продолжается. Первые барьеры, с которыми пришлось столкнуться, казались почти непреодолимыми – например, выяснение, кто, собственно, составляет штат Госбезопасности: оперативные псевдонимы, двойное использование и засекреченные ссылки на целое полчище агентов и сотрудников трудно было расшифровать при крайне низком уровне автоматизации и оцифровки данных ГБ (за что оппозиция могла быть ей до этого времени только благодарна). Проблема была тем серьезнее, что человек, командовавший всеми этими теневыми структурами, первый заместитель министра внутренних дел генерал Лоренц, отдал приказ об уничтожении актуальной документации, когда стало ясно, что власть перейдет в другие руки. Хотя позднее значительную часть данных удалось восстановить благодаря резервным копиям в системе, поначалу уцепиться было буквально не за что. Новый министр внутренних дел Рихард Захер, один из тех, кто стоял 19 ноября на сцене театра «Чиногерни клуб», сразу же распорядился о роспуске ГБ. Однако поскольку многие ее ячейки и сотрудники оставались анонимными, это еще не означало, что дракон был обезглавлен. К тому же оказалось, что у него много голов. Некоторые из них были вполне невинными, но порядка ради и их нельзя было обойти вниманием. В первые же месяцы президентства Гавела обнаружилось, что в структуру Госбезопасности входили не только летный отряд МВД, но и пожарная охрана, оркестр гарнизона Пражского Града, игравший в честь высоких гостей, и даже разносящие напитки официанты. В революционном духе начала работать система контрольных комиссий из членов Гражданского форума, которые устанавливали, кто из бывших сотрудников Госбезопасности надежен и может продолжать служить стране, а от кого следует избавиться. Система эта была как минимум несовершенной, тем более что в контрольные комиссии проникали некоторые агенты и сотрудники ГБ. Но после того как удалось разгадать некоторые шифры и оперативные псевдонимы, начались разоблачения. В списке якобы агентов появились имена видных членов Форума и «Общественности против насилия», свежеиспеченных правительственных чиновников и руководящих работников средств массовой информации. Потребовалось целых восемнадцать месяцев на то, чтобы разработать законную, хотя и несовершенную, процедуру рассмотрения таких случаев[794], но первоначально не существовало ни юридических санкций, ни возможности судебной проверки, как не было и учреждения, которое контролировало бы этот процесс, и потому большинство обвинений против высокопоставленных лиц просто ложилось на рабочий стол Гавела. Некоторые из них были для него весьма болезненными, так как касались друзей и ближайших сподвижников. Гавел не уклонялся от решения этих проблем, но чаще всего предпочитал без лишнего шума предложить такому человеку добровольно подать в отставку, чтобы избавить его от публичного унижения или, принимая во внимание бурную атмосферу тех дней, чего-то худшего. Результатом таких решений был ряд встреч с глазу на глаз (в присутствии Иржи Кршижана), которых Гавел заранее боялся. Обычно за этим следовала отставка либо отказ от должности по состоянию здоровья или по личным причинам. Одни уходили тихо, другие клялись в своей невиновности, некоторые просили и плакали, иные же, нарушив достигнутую устную договоренность, впоследствии обвиняли президента в заговоре с политическими целями[795]. До первых демократических выборов, прошедших в начале июня 1990 года, все работники Канцелярии Президента Республики и большинство высокопоставленных правительственных чиновников подверглись люстрации и проверке настолько тщательной, насколько это позволяли имеющиеся неполные материалы. Однако история на этом отнюдь не кончилась.
Столь же трудным делом оказалась попытка координировать политический процесс с вершины политической пирамиды. После того как Гавел стал кандидатом на президентский пост, отказался как от неформального лидерства в Гражданском форуме, так и от еще менее впечатляющего звания его «представителя» и вместе с ближайшими соратниками по «Инициативной группе» (большинство которых в конце концов последовало за ним в Град), он – к известному недовольству своих прежних и зачастую давних коллег – отдалился от Форума[796]. Не вполне ясно, что именно побудило его так решительно отделить свой новый пост от той политической силы, которая его туда вознесла. Кое о чем говорит тот факт, что Гавел вместе с «Инициативной группой» помогал создавать в рамках Форума ряд новых комиссий и групп, «куда мы отправляли людей, мешавших нашим инициативам»[797]. Свою роль, видимо, сыграл совершенно иной, требующий много времени рабочий график президента, но главным, по всей вероятности, было то, что Гавел вновь поддался своему инстинкту объединителя. Как раньше, когда он выходил за границы диссидентского гетто, стараясь организовать более широкие неформальные структуры, из которых в итоге и вырос Гражданский форум, так и теперь он рассматривал свою роль как в первую очередь гражданскую и общенациональную. Он ставил себе цель стать президентом всех чехов и словаков, а не президентом Гражданского форума. При этом он не до конца сознавал, что тем самым отсекает себя от ресурса широкой поддержки и авторитета, которые обеспечивали ему, при всей своей разношерстности и низкой эффективности, Форум и «Общественность против насилия».
Необходимо было заложить основы новой политической системы. Гавел не играл в этом процессе решающую роль, какая подобала бы лидеру революции, и потерпел поражение в целом ряде битв, в которых участвовал. Первая из них касалась избирательной системы. Гавел и его соратники поддерживали мажоритарную систему, введение которой привело бы к созданию немногих политических партий и достаточно сильных правительств, опирающихся на значительное большинство в парламенте. Но это был не главный аргумент Гавела. В духе своей политической философии он полагал, что депутат, избранный на основе мажоритарной системы в конкретном избирательном округе, будет поддерживать связь с избирателями, что, с одной стороны, заставит его по-настоящему проникнуться ответственностью за конкретную территорию, а с другой – позволит избирателям призвать его к ответственности. Напротив, пропорциональная система, даже при минимальном барьере голосов, необходимых для того, чтобы пройти в парламент, подразумевала бы существование большего количества партий, которым пришлось бы вступать в коалиции, чтобы сформировать заведомо нестабильное правительство. Кроме того, эта система усилила бы роль партийных секретариатов в ущерб отдельным депутатам. На этом поле Гавел проиграл решительно настроенной оппозиции из бывших и нынешних коммунистов-реформаторов, которые стремились вернуться во власть под вывеской «Возрождения»; к ним примкнули и некоторые из бывших коллег Гавела по диссидентскому движению, многие из них – также коммунисты в прошлом. Мотивы коммунистов легко понять. Они боялись, что в ходе любых выборов по мажоритарной системе потерпят сокрушительное поражение. И боялись они небезосновательно; в следующие двадцать лет коммунисты в целом устойчиво держались на уровне между десятью и четырнадцатью процентами голосов – этого было предостаточно для преодоления пятипроцентного барьера, но не хватило бы для получения более серьезного количества мандатов при мажоритарной системе. Когда семь лет спустя был сформирован избранный по мажоритарной системе чешский Сенат, то коммунисты получили в нем всего три из 81 места. Менее понятны были мотивы ряда ближайших соратников Гавела, в том числе, возможно, и для него самого. Некоторые, в частности Петр Питгарт[798], действительно опасались слишком однозначного результата выборов по мажоритарному принципу, которые неизбежно превратились бы в плебисцит по вопросам прошлого и будущего страны. Могло создаться впечатление, что после сорока лет насильственно навязанного тоталитарного правления люди, вероятно, хотели бы такого плебисцита. Но перевешивал страх перед якобинством, который не скрывал и Гавел, хотя при этом достаточно было вспомнить о первых отчасти свободных выборах в Польше весной 1989 года. Эти выборы стали именно таким плебисцитом, дав «Солидарности» ясный мандат на формирование будущего, – что, однако, не привело к каким-либо якобинским эксцессам. У этой дискуссии был и еще один эффект – побочный, однако долговременный. 10 января, во время встречи в канцелярии Гавела на набережной, главный поборник пропорциональной системы выборов Зденек Ичинский пытался успокоить президента, уверяя его, что эта система будет действовать всего два года, после чего, если она окажется неподходящей, ее можно будет изменить[799]. Гавел усмотрел в этом основание для сокращения до двух лет срока первого мандата всех свободно избранных представителей, включая президента, что ввиду его глубоко противоречивого отношения к должности, в которую он вступал, абсолютно его устраивало. Но через два года это возымело пагубные последствия для конституционной стабильности и помогло раскрутить маховик событий, которые привели к разделению Чехословакии.
Следующая битва со столь же серьезными последствиями обошла Гавела более или менее стороной. В январе 1990 года Федеральное собрание утвердило важнейший закон о политических партиях, выдержанный в соответствии с принципом неограниченного права граждан создавать объединения. Однако по какой-то причине этот закон игнорировал суверенную целостность страны. Согласно его положениям в Чешской Республике разрешалось создавать и регистрировать чешские политические партии, а в Словацкой Республике – словацкие. При этом создание федеральных чехословацких партий не предусматривалось. В довершение чешские политические партии не могли действовать в Словакии, и наоборот[800], что имело далеко идущие последствия для целостности федеральной политической системы, хотя в то время на это никто не обратил внимания.
Далее на очереди были канцелярия президента и огромный Град, где она размещалась. После того как Гавел дистанцировался от политического движения, которое помогло ему попасть в Град, он уже не мог рассчитывать на то, что это движение или депутаты от него в парламенте останутся проводниками его влияния (другое дело – правительство, где он назначал и отзывал министров), поэтому он понимал, что ему потребуется сильная и эффективная канцелярия. Учреждение, куда он пришел со своими десятью советниками, даже отдаленно не соответствовало этим представлениям. Не велась никакая документация, не существовало никаких официальных процедур и директив. Не было автопарка, компьютеров и даже электрических пишущих машинок. Отсутствовал персонал, секретарши, протоколисты, работники связи, аналитики, не было никакого планирования. Все это предстояло организовать и ввести в строй за пару дней. Обзванивали друзей, друзей их друзей, а потом и друзей этих друзей. Первый президентский лимузин подарил нам португальский президент Мариу Соареш. Несколько недель спустя посол США Ширли Темпл Блэк сообщила, что американское правительство дарит Граду бронированный «шевроле». К несчастью, его подвеска в сочетании с пражскими булыжниками вызывала у Гавела приступы морской болезни, поэтому «шевроле» почти не использовался[801]. Ввиду плачевного состояния безопасности Града, по крайней мере с точки зрения Гавела, американское правительство предоставило также экранированный отсек, исключающий подслушивание, который прозвали холодильником. Секретарш сотрудники Гавела искали повсюду, в том числе среди девушек, водивших экскурсии по Граду, у которых можно было предполагать хотя бы какое-то знание иностранных языков. Мы провели прямую линию передач информационных агентств «ЧТК» и «Рейтер», а чуть позже запустили также одну из первых локальных компьютерных сетей, довольно продвинутую систему на базе Lotus Notes, кабель которой, вопреки бурным протестам музейных работников Града, протянули через чердачные помещения под барочными и ренессансными крышами. Мы создали пресс-службу с пресс-центром и регулярными пресс-конференциями в помещении бывшего кинотеатра Гусака. Сформировали и небольшую аналитическую группу, которая изучала результаты опросов общественного мнения и прогнозировала последующий ход событий. Протоколисты – профессионалы в области машиностроения и ядерной физики – учились правилам этикета.
Однако некоторые должности все же требовали специальной квалификации. Начальник Военной канцелярии президента республики и верховного главнокомандующего армии не мог не быть профессиональным военным в звании генерала, но, кроме тех, кто поднялся по служебной лестнице, пройдя боевую и политическую подготовку у коммунистов, других генералов в наличии не было. Как из таких людей выбрать лояльного и относительно непредубежденного профессионала? С этой целью Гавел учредил отборочную комиссию, куда включил советника по делам внутренней политики и безопасности Иржи Кршижана, своего имиджмейкера актера Петра Ослзлого, Эду Крисеову, о которой было известно, что она находится в астральной связи с высшими силами, и меня, поскольку я был психологом. В коридоре ожидали четверо кандидатов с потными лбами, которые выглядели так, словно они заранее боялись как быть назначенными на должность, так и потерять ее. На вопросы об их военной карьере и сопутствующих обстоятельствах мы получали односложные ответы, похожие один на другой практически нулевой информационной ценностью. В конце концов мне пришло в голову спросить, что они читают на сон грядущий. Один явно читал только уставы и приказы, второй освоил всю классику марксизма по-русски, третий, более просвещенный, увлекался историей битв и военных кампаний от походов Ганнибала до времен фон Клаузевица. Четвертый, командир бригады войск противовоздушной и ракетной обороны, долго колебался и в итоге выпалил: «Уловка-22». Дальше можно было не спрашивать. Генерал Ладислав Томечек прослужил в Граде почти весь период, пока Гавел оставался президентом.
Внешний вид канцелярии президента требовал от Гавела ничуть не меньше времени и внимания, чем подбор подходящих сотрудников. Следует признать, что на нормального человека она производила довольно-таки устрашающее впечатление. Огромное и почти пустое пространство, половина дверей и ворот всегда заперта – причем ключи зачастую неизвестно где. В числе первых находок были: помещение, в котором за пультами сидели люди в наушниках и слушали телефонные разговоры – да-да, все, в том числе президентские разговоры – из соображений «безопасности», запертая каморка с телефоном прямой связи с Кремлем[802] и подземный лабиринт тоннелей, где, по-видимому, высшие представители коммунистической власти предполагали укрыться в случае начала ядерной войны.
Кабинеты в канцелярии, как казалось на первый взгляд, были словно специально обставлены так, чтобы скорее отпугнуть посетителей, чем произвести на них впечатление, будто им тут рады. Громоздкая барская мебель выглядела так, словно ее делали на колоде для рубки мяса, а картины на стенах свидетельствовали не столько о вкусе прежних хозяев, сколько о его полном отсутствии. Кроме того, в канцелярии президента и прилегающих комнатах было такое множество ванных комнат, что любого психоаналитика оно натолкнуло бы на мысль о комплексе Пилата.
Если не считать потрясающего вида на Прагу из окон, это было тягостное, тревожное и весьма удручающее рабочее место, что, впрочем, можно сказать о многих служебных помещениях. Но Гавел, которому оно казалось просто невыносимым, не хотел с этим мириться и сразу же начал решать проблему. Попросил привезти современные картины из его личной коллекции, поискать в запасниках Града приемлемую мебель и украсить стены кабинетов разноцветными фресками своего друга Алеша Ламра. Пока же он с советниками старался проводить больше времени в ресторане «Викарка» на территории Града и в готической «голодоморне», перестройке которой в коммунистическом стиле музейщики сумели как-то помешать. Гавел мечтал превратить «голодоморню» в оперативный штаб с картами, экранами по стенам и пультами управления. Но музейщики воспротивились и этому плану.
В течение нескольких недель облик канцелярии постепенно менялся. С окон убрали тяжелые шторы, и внутрь стал проникать свет. После того как в дар от немецкого президента фон Вайцзеккера привезли массивную мебель красного дерева, у Гавела появилась канцелярия, которой можно было гордиться, да к тому же с неповторимым видом на Малую Страну и Старый Город. Но Гавел по-прежнему был недоволен. Предпринимая все более далекие вылазки, он неизменно натыкался на очередные эстетические ужасы и неухоженные или разоренные помещения. Как ни порывался он применить свои требования перфекциониста к комплексу зданий в пять этажей высотой, сто пятьдесят метров шириной и (в сумме) почти километр длиной – да еще множество пристроек, садов, дворов, подвалов и десятки километров коридоров и тоннелей, – вскоре стало ясно, что дело это безнадежное. Однако сдаваться Гавел не собирался. Советники по вопросам культуры, архитектуры и театра поддерживали его порывы тем активнее, чем больше сдерживали их советники по вопросам внутренней и внешней политики и пресс-секретарь. А сам Гавел бегал по кабинетам и коридорам, лично поправлял висевшие криво картины и тщательно изучал описания, планы и чертежи. Возражения подчиненных и музейных работников он, вопреки своему обыкновенному миролюбию, безжалостно отметал. «Для тех, кто хотел бы ничего не трогать, потому что все здесь – памятник старины: если бы так рассуждали наши предшественники, у нас был бы не Град, а какое-то языческое кострище с землянкой на его месте»[803]. Несмотря на произведенные изменения, он не мог отделаться от ощущения, что в его канцелярии все еще витает дух Гусака, и поэтому оставил ее мне, а сам перебрался в соседнюю, начав, таким образом, свой длительный марш на запад, закончившийся тем, что он нашел себе пристанище в проходной комнате бывшей квартиры Масарика.
Режиссура продолжалась, распространившись на караул Града и на сопровождавшую его смену музыку. Зеленого цвета форма и строевой шаг в советском стиле не соответствовали представлениям Гавела о приличной демократической стране. Казалось, не так сложно было добиться от солдат, чтобы они умерили свои усилия и перестали задирать ноги настолько высоко. Однако после того как Иржи Кршижан незадолго до президентских выборов дал понять новому министру обороны генералу Вацеку, что следовало бы сменить шаг к первому смотру почетного караула перед новым президентом, рядовые Кршижана буквально возненавидели, поскольку, как выяснилось, им пришлось проходить строевые учения ночью[804]. Новую форму Гавел заказал у своего приятеля по «Палитре Родины» Теодора Пиштека по прозвищу Доди, лауреата премии «Оскар» за костюмы к «Амадею» Формана. Голубые кители с красно-белым позументом явили окружающему миру дружелюбие новой страны, хотя в чем-то и напоминали костюмы из оперетт Легара. Отзывы колебались в диапазоне от растерянных до откровенно критических, но общественность и туристы (как подтвердит любой человек, побывавший в Праге) быстро привыкли к этому новшеству. Относительно музыки, которая заменила бы громыхающие боевые марши, Гавел обратился за советом к Михаэлу Коцабу, и тот подал отличную идею использовать аллегретто из «Синфониетты» Леоша Яначека, несомненно, зная о том, что это сочинение композитор первоначально посвятил чехословацкой армии[805] и позднее оно было аранжировано авангардной рок-группой Emerson, Lake & Palmer. Позитивный эстетический эффект от такой замены был неоспорим. Единственную проблему представляло высокое «си» в фанфаре Яначека, трудноисполнимое для военных музыкантов, среди которых далеко не каждый играл в филармоническом оркестре. В отличие от формы караула, фанфара Яначека не пережила период президентства Гавела и пала жертвой мелкого культурного варварства при Клаусе.
В своем увлечении стилем Гавел заходил порой слишком далеко. Как любой великий костюмер, Пиштек не удовлетворился созданием одной только формы для караула, но запустил целую линию одежды, которая включала и форму президента – в двух цветах с золотыми эполетами. Гавела не пришлось долго уговаривать надеть ее на себя.
Как-никак в детстве он провел много времени, рисуя солдат в форме, и мечтал стать генералом![806] Хуже было то, что об этом узнали его друзья. Когда режиссер Войтех Ясный в компании Милоша Формана приехал в замок в Ланах снимать свой документальный фильм «Почему Гавел?» (1991), он сразу же смекнул, какой огромный кинопотенциал таит в себе фигура президента в таком облачении. Вид интеллектуала в маршальском мундире оставался на грани терпимого, пока президент, раззадоренный свободными предполуденными часами в кругу друзей, не ворвался в этой форме на кухню с обнаженной саблей, подаренной ему караулом Града, и не принялся, к ужасу местных поварих, рубить этим церемониальным оружием лук, подготовленный для гуляша. Я, как пресс-секретарь Гавела, движимый смутным предчувствием, заранее выговорил себе «право окончательного монтажа» – и в данный момент им воспользовался. Потом я несколько недель чувствовал себя суровым цензором, а Ясный целых два года меня бойкотировал. Я понимал его резоны, ведь с кинематографической точки зрения эти кадры могли стать гвоздем всего его фильма, но взаимопонимания мы, к сожалению, не достигли.
Неудивительно, что одержимость президента стилем и эстетикой доводила некоторых его подчиненных до исступления. При этом они понимали смысл того, что он старался делать, и отмечали благотворное влияние изменений, которые шаг за шагом проводил в Граде Гавел. А таких изменений было немало. Это и открытие для широкой публики галерей и садов, и возвращение барочного и ренессансного великолепия запущенным островкам зелени, и реставрация неподражаемо элегантного слияния классицизма с модернизмом в облике южного крыла Града, какой придал ему в 1920-х годах архитектор Плечник… Гавел вновь превращал резиденцию президента в символ богатства чешской истории, культуры и гуманизма. Однако времени на это не хватало, так как постоянно возникало бессчетное множество непредвиденных событий, кризисов, приоритетных задач и планов, касавшихся не одного Града, но всей страны, которые президент также не мог обойти стороной.
К этой ситуации как нельзя лучше подходило название «Трудно сосредоточиться». Гигантское преобразование целой страны – региона Центральной Европы – не только поглощало огромное количество времени президента, но и делало из него всемирную знаменитость, находившуюся в центре внимания симпатизировавших ему политиков, других знаменитостей, интеллектуалов-мечтателей, авантюристов разных мастей и журналистов, жаждавших заголовков, набранных крупным шрифтом. Мы, как могли, старались оградить его от посетителей, кроме самых важных, но противостоять энергии и изобретательности людей, решивших встретиться со звездой дня любой ценой, были не в силах. При этом в большинстве случаев они руководствовались лучшими побуждениями и многие помогали нам словом или делом. Уже в первые два месяца президентства Гавел встретился в Граде с десятками, если не сотнями иностранных гостей. Порой казалось, что к нему стоит очередь, как в Лувр на «Мону Лизу».
Некоторые посетители оставили – по разным причинам – неизгладимое впечатление. Потрясающим зрелищем были встречи Гавела с возвращавшимися из эмиграции старыми друзьями, такими как Иван Медек, Карел Шварценберг, Павел Тигрид, Вилем Пречан или Павел Когоут[807]. Увлекательно было слушать беседу Гавела с Гарольдом Пинтером и его женой Антонией Фрейзер за ужином в винном ресторане «У Малиржу». Гавел так же живо интересовался современным состоянием британского театра, как Пинтер – тем, каким образом драматург становится президентом. Но не все его встречи были такими занимательными. Знаменитую американскую тележурналистку Барбару Уолтерс, которая 17 января брала у Гавела интервью для новостного журнала 20/20 компании ABC, он вдохновил так же мало, как и она его. Ей мешало то, что президент не шел на зрительный контакт (он же, в свою очередь, увидел в ней кого-то вроде следователя) и не проявлял эмоций (которых она в нем, надо думать, просто не сумела вызвать). Зато президент сразу же подружился с Кэтрин Грэм и Мег Гринфилд, двумя выдающимися дамами из газеты «Вашингтон пост». Фрэнк Заппа, «один из идолов чешского андеграунда»[808] и духовный крестный отец группы Plastic People of the Universe, охарактеризовал мировое значение хозяина Града словами: «Ваше послание американскому народу звучит “Курите!”»[809] Гавел в ответ вспомнил альбом Заппы Bongo Fury с Капитаном Бифхартом. После приема у Гавела положение Заппы в Чехословакии достигло космических высот. Ему даже удалось заполучить у вице-премьера письмо, в котором он (Заппа) назначался специальным чехословацким поверенным по делам культуры и торговли. Это назначение вскоре пришлось отозвать[810]. Но, в отличие от ряда других, в основном самозваных советников, консультантов и посланников, которые в то время совершали популярные паломничества в Прагу, Заппа, насколько известно, хотя бы не причинил никакого вреда. Лу Рид, тогда уже бывший для Гавела неотъемлемой частью его музыкального Олимпа, прибыл в Град, чтобы записать для журнала «Роллинг Стоунз» одно из интереснейших интервью всех времен, каким оно обещало стать, если бы было опубликовано. Однако оказалось, что Лу, который при нормальных обстоятельствах являл собой воплощение андеграундной богоподобности, был настолько выбит из колеи своей обязанностью записать интервью с государственным деятелем, что забыл включить магнитофон. Интервью он лишился, зато благодаря этой первой встрече обрел в Гавеле большого друга. Спустя восемь лет, когда Гавел посетил с визитом Соединенные Штаты, чтобы морально поддержать еще одного своего друга, Билла Клинтона, в разгар скандала с Моникой Левински, Лу Рид, бунтарь из Velvet Underground, получил возможность выступить вместе с солистом Plastic People Миланом Главсой на торжественном ужине в Белом доме – при условии, что в программе не будет песни Рида с неуместными в данной ситуации эротическими намеками Walk on the Wild Side[811]. Гавела этот маленький успех чрезвычайно обрадовал. (Клинтон, в свою очередь, не забыл, что в тяжелейший момент его политической карьеры именно Гавел, наряду с иорданским королем Хусейном, южнокорейским президентом Ким Дэ Чжуном, саудовским наследным принцем Абдуллой и британским премьером Блэром, ради него «пошел в бой»[812].)
Как это было типично для Гавела, событием, которое имело самые далеко идущие последствия в первый месяц его президентства, cтало не какое-либо персональное или административное решение, а опять-таки речь. 23 января 1990 года на совместном заседании обеих палат Федерального собрания он сообщил депутатам, что в своей канцелярии в Пражском Граде «не нашел ни одних часов». И продолжал: «В этом мне видится нечто символическое: долгие годы там незачем было смотреть на часы, так как время там на долгие годы застыло. История остановилась. И не только в Пражском Граде, а во всей нашей стране. Зато тем быстрее сейчас, когда мы наконец-то вырвались из сковывающей движение смирительной рубашки тоталитарной системы, она мчится вперед. Как будто наверстывает упущенное. Все мы – а значит, и вы, и я – стараемся шагать с ней в ногу»[813].
Это было предельно понятное, но политически рискованное послание. В течение следующих сорока минут президент не только пытался перешагнуть через пропасть длиной в сорок лет извращенной истории, забвения традиций и национального наследия, но и призывал вернуться к нормальному положению дел, чтобы пережитки недавнего прошлого больше не оскорбляли человеческие чувства. Однако этим он открыл ящик Пандоры.
Гавел начал с описания изменений, которые он планировал произвести в собственной канцелярии, в Пражском Граде и на посту президента в целом. Более десяти минут он уделил составу своей команды, графику своих поездок в ближайшие несколько месяцев, планам придания нового облика интерьерам Града (включая подробности, связанные с меблировкой и оборудованием ванных комнат), введения новой формы почетного караула и превращения Града в «привлекательный европейский культурный и духовный центр»[814].
Все это звучало оригинально, свежо и немного наивно. Смягчающим обстоятельством для Гавела и его команды служило то, что ни у кого из них не было никакого опыта общения с парламентом. Депутаты – даже унаследованное от прежнего режима их унылое большинство, привыкшее играть роль мебели, которую можно произвольно переставлять с места на место, – ожидали похвал, просьб, уговоров и заигрывания. Вместо этого с ними делились чьими-то планами весенней генеральной уборки, что не произвело на них особо сильного впечатления. А после этого Гавел, который до того мягко предложил парламенту принять закон о выборах, закрепляющий приоритетную роль порядочных и способных независимых кандидатов по сравнению с политическими партиями, словно бросил в публику гранату. Ссылаясь на свое право законодательной инициативы, он представил проект закона, которым вместо названия Чехословацкая Социалистическая Республика возвращалось довоенное название страны – Чехословацкая Республика – и в соответствии с этим изменялись геральдические символы государства.
Депутаты насторожились. Весь предыдущий месяц они провели в мучительных, но, в сущности, безнадежных попытках навесить демократические принципы на достаточно неопределенно сформулированные, но определенно тоталитарные конституцию и законы.
Чего стоил хотя бы тяжелый и неблагодарный труд прописывания в Гражданском кодексе юридических оснований частного предпринимательства, которое согласно Уголовному кодексу все еще могло считаться преступлением. В Федеральном собрании до тех пор было очень мало юристов, а еще меньше – мыслителей. Но вот наконец появилось нечто такое, за что депутаты могли уцепиться, что им было понятно и с чем они могли что-то поделать. И они принялись за работу.
Печальный и несколько напоминавший фарс эпизод, который за этим последовал, вошел в чешскую историю под названием «война за дефис». Предложение Гавела, сводившееся к тому, чтобы просто убрать из названия слово «социалистическая», так как им был наперед задан характер общества, которое отныне могло свободно решать, каким оно хочет быть, казалось разумным и естественным, но он не обсудил и не согласовал его заранее с Федеральным собранием. В соответствии с регламентом такой проект нельзя было ставить на голосование до тех пор, пока по нему не выскажутся правительство и парламентские комитеты. И хотя в последние недели парламент часто пренебрегал процедурными формальностями, чтобы не отставать от хода событий, на сей раз этого не произошло. Мятеж – в безукоризненном юридическом камуфляже! – возглавил депутат Зденек Ичинский, настоящий специалист в вопросах конституционного права, один из соавторов Конституции Чехословацкой Социалистической Республики 1960 года, исключенный в 1968 году из партии как коммунист-реформатор, один из первых подписантов «Хартии-77» и один из немногих в Гражданском форуме, кто возражал против выдвижения Гавела на президентский пост. В последующие недели, месяцы и годы он приложил максимум усилий для сохранения преемственности нового законодательства по отношению к предшествующему, коммунистическому, и недопущения радикальной декоммунизации страны.
В результате в Федеральном собрании впервые развернулись настоящие дебаты, да еще какие! Лишь малое число депутатов, если таковые вообще были, продолжали держаться за слово «социалистическая». Зато яблоком раздора стало другое слово: «чехословацкая». С точки зрения многих словаков, оно недостаточно отражало самобытность их народа, поэтому они предлагали писать «ЧехоСловацкая», как в Питтсбургском соглашении и Версальском договоре, где говорилось о Чехо-Словакии. В свою очередь, у многих чехов это вызывало горькие воспоминания об агонии Чехо-Словакии, как называлась Вторая Республика, в период между Мюнхенским сговором и мартом 1939 года, когда Чехию и Моравию поглотила нацистская Германия, а Словакия стала независимым государством-сателлитом гитлеровского режима. Однако словаки настаивали на том, что речь идет о государстве двух народов, и предлагали название «Федерация Чехо-Словакия». После того как Федеральное собрание остановилось наконец-то на компромиссном названии «Чехословацкая Федеративная Республика» на чешском и «Чехо-словацкая Федеративная Республика» на словацком языке, в Словакии разразилась буря из-за строчной буквы после дефиса в середине сложного прилагательного, которую чехи безрассудно, хотя и в полном соответствии с правилами орфографии, отстаивали. Тогда Федеральное собрание отменило только что принятый закон, и в результате было согласовано название «Чешская и Словацкая Федеративная Республика», которое, правда, противоречило принципам грамматики и эстетики, но позволило, по крайней мере на время, умерить страсти.
Еще более крепким орешком оказались государственные символы. Первоначальный герб, если описывать его геральдическим языком, имел такой вид: «серебряный, устремленный вправо в прыжке лев с раздвоенным хвостом, золотым языком пламени в пасти, с когтями и в короне», который нес на груди «красный щит с тремя синими холмами, из коих на среднем, наивысшем, вознесен серебряный патриарший крест», Красный щит символизировал Словакию. Коммунисты оставили только один синий холм с костром вместо креста с двумя поперечинами и украли корону, водрузив на голову бедного льва пятиконечную звезду.
Гавел хотел избавиться от звезды и костра, вернув корону и патриарший крест. Идя навстречу чувствам словаков, он предложил, чтобы чешский и словацкий гербы отныне были равновеликими и занимали в общем государственном гербе два диагонально расположенных поля[815]. Но, не устояв перед творческим искушением, он добавил в середину малое изображение красно-белого моравского орла. В Словакии это сразу же поняли – и отвергли – как символ федерации трех субъектов вместо двух.
В результате всего этого возник невероятный хаос, но, пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что эта не до конца продуманная инициатива разбудила националистические страсти в Словакии и косвенным образом подтолкнула к разделению страны. Реакция Словакии на предложения Гавела показала скорее, что там уже давно зрело недовольство, которое могло точно так же вспыхнуть от любой другой искры – а таких искр было более чем достаточно. Тлеющие угли протеста словаков против общего государства дали о себе знать на ранней, хаотической, стадии, когда решение искать было очень сложно. Парламент, до той поры покорный, тоже осознал, что президент, при всей его популярности, не располагает автоматическим большинством и что его усилиям можно мешать и даже блокировать их. В свою очередь Гавелу этот опыт внушил глубокое недоверие к Федеральному собранию, чего, возможно, при другом раскладе удалось бы избежать.
Спор из-за названия государства показал вместе с тем и ограниченные возможности феноменологического подхода, который и при решении государственных дел опирался непосредственно на личный опыт. Разумеется, Гавел, расписывая преображение своей канцелярии и подробности своей программы, хотел подчеркнуть острую необходимость революции в головах и сердцах всех сограждан. Но безвкусица в роскошно обставленных помещениях Пражского Града или резиденции президента в Ланах была для большинства людей не самым главным вопросом. Ведь они как раз вступали на путь, на котором их подстерегали сплошные препятствия и неуверенность в завтрашнем дне, а именно это было жизненно важным для них самих и их семей.
Сам того не сознавая, Гавел начал осваивать стратегию, какой пользуется большинство современных политиков. Он предлагал решения второстепенных проблем, справиться с которыми удавалось относительно легко, и откладывал на потом более важные вопросы, на которые не было простых ответов. В результате он оказался отчасти неготовым к растущему валу требований, касавшихся экономического благополучия, социальных гарантий и исторической справедливости, которые он слышал повсеместно. Когда же Федеральное собрание не дало согласия даже на те простые решения, которые он предлагал, в обществе стали проявляться первые признаки разочарования.
Однако в тот момент все это казалось мелкой неувязкой, которая вскоре забудется. На родине и за границей президент купался в лучах всеобщего восхищения, повсюду его принимали словно какую-нибудь рок-звезду. Призрак путча больше не маячил. Новые политические партии, газеты, журналы и частные предприятия росли как грибы после дождя. Происходили такие громкие и бурные дискуссии о будущем страны, о каких мог только мечтать самый взыскательный из демократов. Вот-вот должны были состояться свободные выборы. И – в Прагу приезжали все новые рок-звезды. Накануне первых демократических выборов Гавел с гордостью представил ликующей толпе на Староместской площади «моего друга Пола Саймона», который спел «Sounds of Silence». После выборов на крупнейшем в Европе Страговском стадионе, построенном ради слетов «Сокола», а впоследствии использовавшемся для проведения коммунистических спартакиад, выступили – перед более чем ста тысячами слушателей – Роллинг Стоунз. Перед концертом Гавел со всеми почестями принял членов группы в Пражском Граде. Все, кроме слегка недомогавшего Кита Ричардса, участвовали в дискуссии о демократических преобразованиях и правах человека; высшей же честью для Роллингов стала возможность приветствовать вместе с президентом толпу, собравшуюся перед балконом в третьем дворе Града. Проблема, вспоминал позже Мик Джаггер[816], состояла лишь в том, что пришлось ждать минут десять, пока нашлись ключи от балкона.
Сами выборы, за которыми тщательно следили наблюдатели из многих стран Европы и Северной Америки, включая делегацию американского Национального демократического института по международным вопросам во главе с Мадлен Олбрайт, прошли гладко и завершились ожидаемым триумфом Гражданского форума в Чехии и организации «Общественность против насилия» в Словакии. Выборы президента, которые должны были состояться через несколько недель, казались после этого чистой формальностью. Для общественности на родине и за границей теперь существовал единственный человек, олицетворявший новую Чехословакию, и вокруг него уже начал создаваться миф о короле-философе в окружении рыцарей круглого стола, который правит храбрыми и разумными согражданами мудро и человечно, с шармом и остроумием. Если бы в тот миг в Гавела ударила молния, в воспоминаниях людей он бы остался таким навсегда. Пожалуй, замечание, что следующие несколько лет вернули всех обратно на землю, добавив этой олеографии оттенков и глубины, будет с моей стороны излишним.
Для начала возьмем Манхэттен
«Вацлав, вам надо ехать в Америку, – сказала Гавелу Мадлен Олбрайт, когда они ели суп в “Викарке”, служившей Гавелу кабинетом в обеденное время. – Вы должны представить там новую Чехословакию».
«Вашек, тебе надо съездить в Америку, – говорила ему Рита Климова, только что назначенная посол в Соединенных Штатах, хартистка и переводчица пресс-конференций Гавела в театре “Латерна магика”. – Ты должен привлечь на свою сторону американское правительство и Конгресс».
«Господин президент, вам надо приехать в Америку, – твердила ему Ширли Темпл Блэк, легендарная ребенок-актриса, а теперь – американский посол в Праге. – Вы будете там звездой».
Поездка в Америку казалась Гавелу очень заманчивой, однако с ней были связаны проблемы, сравнимые с первой высадкой человека на Луну. Страна еще не оправилась от недавних событий. Сторонники прошлого режима, как клещи, цеплялись за свои посты и должности, студенты, сыгравшие в революции столь важную роль, начинали в ней разочаровываться, не до конца реформированный парламент осмелел и пробовал сопротивляться, каждый день приносил скандальные открытия о прошлом того или иного высокопоставленного лица, новые бесцензурные СМИ нащупывали границы свободы и безо всякого стеснения чем дальше, тем больше критиковали президента, а президент со своей маленькой командой тем временем работал дни и ночи напролет. (Гавел, привыкший жить по «театральному» расписанию, в девять утра пребывал не в лучшей форме, но всегда трудился до глубокой ночи.) Но поехать в Америку – как же прекрасно это звучало! Поездка представлялась похожей на голливудские фильмы – и не напрасно.
Когда Боб Хатчингс, директор по европейским делам в Совете национальной безопасности Белого дома, передал приглашение президента Джорджа Буша-старшего советнику Гавела по вопросам внешней политики Саше Вондре, поднялась настоящая суматоха. Гавел и его команда имели весьма смутное представление о том, как готовиться к такой поездке. До сих пор президент посещал только Мюнхен, Берлин, Варшаву, Будапешт и Братиславу (которая пока еще не была заграницей), то есть дорога занимала максимум час полета на самолете. Мы мало что знали о вашингтонском протоколе, этикете и политике[817]. Никто в канцелярии своими глазами не видел Америки по крайней мере двадцать лет.
Если Гавел и чувствовал растерянность от сложности задачи, виду он не подавал. Как только решение о поездке было принято, он начал относиться к ней как к одной из своих «задумок». Он готовил повестку переговоров с президентом Бушем, и она касалась в основном не региональных и национальных, а европейских и глобальных вопросов. Он хотел говорить о Советском Союзе, о приближающемся объединении Германии и его последствиях для региона, а также намеревался представить главные пункты чехословацкого «возвращения в Европу». Маленькая делегация, плодотворная беседа с президентом, час на прояснение приоритетов и – сразу домой, продолжать попытки превращения рыбного супа в рыбу.
Но планы начали рушиться почти сразу. Помимо приглашения от президента Буша встретиться и провести переговоры в Овальном кабинете Белого дома, Гавел получил также приглашение от спикера Палаты представителей Томаса Фоли – выступить с речью на совместном заседании обеих палат американского Конгресса (что, конечно же, было огромной честью). Интеллектуальная общественность Нью-Йорка, взбудораженная неутомимой Венди Луерс, женой бывшего американского посла в Праге и тогдашнего президента Метрополитен-музея, жаждала встречи Гавела с самыми разными знаменитостями, чешские эмигрантские организации тоже непременно хотели с ним повидаться. А дома, в Чехословакии, все выдвигали веские доводы в пользу того, что именно им необходимо слетать в США: министры должны были переговорить со своими тамошними коллегами, студенты хотели учиться, советники – советовать, личные охранники – охранять, надоеды – надоедать и мучить. Одним из очень привлекательных в человеческом плане, но несколько проблематичных для президента качеств Гавела было абсолютное пренебрежение иерархией. Стоило какому-нибудь старому другу попросить взять его с собой, как Гавел тут же ему это обещал, а потом обещал кому-то еще, и еще…
Конечное число членов делегации вообще-то определялось вместимостью государственного четырехмоторного ИЛ-62[818]. Столько народу в Овальный кабинет точно бы не влезло. Да и весили они все вместе так много, что президент не смог бы долететь до Вашингтона без промежуточной посадки. Появился прекрасный предлог для планирования еще двух государственных визитов – в Исландию и в Канаду, которые были, можно сказать, по пути. Вечером в Рейкьявике президент Исландии Вигдис Финбогадоттир попотчевала Гавела сначала рыбой – за ужином, а потом – спектаклем «Реконструкция» в исландском Национальном театре, которым госпожа президент долго руководила. Рыба оказалась великолепной; спектакль, поставленный по пьесе абсурда, как и большинство гавеловских пьес, был выдержан в духе Стриндберга. В Канаде президент встретился не только с премьер-министром Брайаном Малруни, но и с многими чехами и словаками; среди них были и политические беженцы, которым канадские власти великодушно предоставили убежище после советского вторжения в Чехословакию в 1968 году. Тут Гавелу чуть ли не впервые пришлось столкнуться с холодным – если не сказать ледяным – приемом со стороны отдельных словацких эмигрантов, чувствовавших кровную связь не с единой Чехословакией, а со словацким государством времен Второй мировой войны. Это было эхо давних времен, но и – знак времен наступающих. Однако многие словаки и большинство чехов были очень воодушевлены визитом президента. Но более всего Гавела, конечно, обрадовала встреча с одним конкретным чехом – старым другом и коллегой писателем Йозефом Шкворецким, который вместе со своей женой Зденой в сложнейших условиях организовал в собственной квартире в Торонто самое знаменитое чешское эмигрантское издательство «68 Паблишерз»[819], став истинным героем для тысяч чехов и злейшим врагом для коммунистического правительства.
Одной из самых сложных логистических проблем путешествия была необходимость удержать эту многочисленную разнородную группу вместе и не просто не дать ей рассыпаться, но еще и заставить уважать график мероприятий и вылетов. Большинство участников поездки не было знакомо с президентским правилом № 1: «Колонна уедет с вами или без вас». Один из ближайших друзей Гавела – эссеист, переводчик и Праведник мира[820] Зденек Урбанек – так увлекся второй встречей с Йозефом и Зденой, что отъезд делегации сильно задержался, и она попала на аэродром в самый последний момент после драматичной, почти как в кино, гонки, в которой нам помогла одна смелая представительница Канадской королевской конной полиции.
Существуют разные способы впервые ступить на территорию зарубежного мегаполиса. Большинство из них неразрывно связано с блужданием по лабиринту аэропорта и долгой поездкой в сам город, потому что обычно самолет приземляется где-то ужасно далеко. Но после того как Гавела на Объединенной базе морской авиации Эндрюс подхватил вертолет морской пехоты Соединенных Штатов, чтобы доставить к уже ожидавшему его лимузину возле Зеркального пруда, лежащего между мемориалом Линкольна и Монументом Вашингтона в самом сердце столицы США, он имел право ощутить себя кем-то действительно важным. Следующие три дня промчались как во сне. Вначале – встреча в Овальном кабинете с президентом Бушем, который делал все, чтобы его новый коллега чувствовал себя как дома, хотя, разумеется, не мог не отметить некий контраст между внешним видом своих сотрудников Брента Скоукрофта и Марлина Фицуотера и длинноволосой свиты Гавела. Последний, со своей стороны, тоже приложил много стараний, чтобы встреча прошла успешно. По совету своих помощников, которых тактично предупредили их коллеги из Совета национальной безопасности и заместитель американского посла в Праге Тед Рассел, Гавел не стал поднимать тему о постепенной ликвидации структур холодной войны, включая Варшавский договор и НАТО. Он просил Буша не о финансовой помощи, а о политической поддержке грядущих экономических трансформаций. Он приветствовал возможное будущее объединение Германии, хотя к этому факту многие относились неоднозначно; кстати, в том, что касалось проблемы объединения двух Германий, американский президент проявил немалую прозорливость и смелость. Гавел призвал Буша поддержать демократические перемены в России и побороть инстинктивную враждебность к ней эпохи холодной войны. И предложил дружбу так искренне и так обаятельно, как наверняка никто прежде в Овальном кабинете не делал.
Вечером Гавела едва не раздавили на приеме, устроенном в его честь послом Климовой в чехословацком посольстве на Линнеан-авеню в лесистой долине парка Рок-Крик[821]. Все выглядело и проходило настолько абсурдно, как будто мы стали действующими лицами некоей гавеловской пьесы. Постсталинское здание посольства (если существует брежневская архитектура, то выглядит она именно так) оказалось битком набито престарелыми чехословацкими эмигрантами – некоторые из них помнили еще Масарика, – американскими государственными деятелями, мыслителями из исследовательских центров, университетскими профессорами, сторонниками холодной войны, представителями богемы и вообще самыми разнообразными американцами. И каждый из них хотел дотронуться до Гавела; в частности, к нему пробилась делегация американских индейцев, глава которой преподнес Гавелу изумительную, украшенную ручной резьбой церемониальную трубку. Подобно пресловутому ружью из первого действия пьесы Чехова, этому реквизиту еще предстояло «выстрелить» в историю. Несчастные чешские дипломаты, в основном прошедшие тщательный отбор коммунистические кадры (за два месяца полностью поменять персонал посольств было невозможно, да и не существовало еще готового дипломатического резерва, чтобы это сделать), прикладывали массу усилий, чтобы хоть как-то овладеть ситуацией и спасти президента от удушения в объятиях или от гибели в давке. За это, между прочим, им порядком досталось от некоторых гостей, не забывших, что те же самые дипломаты всего несколько месяцев назад смотрели на них как на отъявленных классовых врагов. От гавеловской команды требовалось извлечь президента из этой свалки целым и невредимым. Сотрудники ФБР, которые неподалеку, в здании мельницы на берегу речки Рок-Крик годами слушали чехословацких и венгерских коммунистических дипломатов, свою помощь не предложили.
Однако время для ночной прогулки по вашингтонскому Моллу – широкой аллее в самом сердце столицы – выкроить все-таки удалось. Нашим гидом стал сенатор Эдвард Кеннеди. И Гавел произвел на него такое впечатление, что он – от перевозбуждения, вызванного то ли атмосферой момента, то ли разлитой в воздухе весной, то ли чем-то иным, – споткнувшись, начал падать головой вперед, когда стоял на самом верху насчитывающей восемьдесят ступеней лестницы, что ведет к мемориалу Линкольна. Спас его сотрудник американской секретной службы весьма сурового вида.
Президент был очень доволен своей встречей с Бушем, но слегка разочарован самим Белым домом. У этого здания такая аура, что издалека его размеры представляются прямо-таки сказочными, но для того, кто приехал из Пражского Града, который, согласно книге рекордов Гиннесса, «является самым большим старинным замком в мире» и, безусловно, самым большим «рабочим местом» главы государства, Белый дом выглядит… как большой белый дом. Блэр-хаус, который в дни пребывания в Вашингтоне служил Гавелу официальной резиденцией, вообще походил бы на обыкновенный жилой дом, если бы его не украшал своим внушительным видом посол Джозеф Вернер Рид, глава протокольной службы президента Буша. С самой первой минуты была здесь и Мадлен Олбрайт, готовая дать Гавелу совет и помочь не заплутать в коварных закоулках Пенсильвании-авеню и Капитолийского холма. Она даже привела туда специалиста по искусству декламации, медиа-консультанта Фрэнка Грира[822], который помогал нескольким американским президентам справляться с волнением и дефектами речи, чтобы они могли выглядеть в глазах всего мира достойно и по-президентски. Грир попросил Гавела вслух прочитать ему текст выступления перед Конгрессом, но сдался после первого же абзаца. Гавел говорил неуверенно, запинаясь, едва ли не глотая слова, избегая зрительного контакта со слушателями и абсолютно не стремясь произвести драматический эффект или сделать драматическую паузу; все это наверняка убедило Грира в том, что Гавел не впечатлил бы даже членов заурядного родительского комитета. Гавел вежливо, хотя и слегка растерянно, поблагодарил его за старания. Он, проведший полжизни в театре, явно не понимал, чего этот человек от него добивается.
Если здание Белого дома делает честь его республиканской миссии, то импозантный Капитолий являет собой святыню американской Федерации. Произнесенная Гавелом 21 февраля 1990 года речь, обращенная к обеим палатам Конгресса, безусловно, стала одним из главнейших событий всей его жизни, да и многочисленным конгрессменам и сенаторам обоего пола она тоже наверняка запомнилась[823]. Когда оба законодательных органа величайшей мировой державы услышали от Гавела: «Спасение для этого мира людей отыщется лишь в сердце человека, в благоразумии человека, смирении человека и ответственности человека»[824], – стало ясно, что слушателей, которым пришлось присутствовать при произнесении явно не одной речи, эти слова не только впечатлили, но и тронули. Речь, транслировавшаяся в прямом эфире Чехословацким телевидением, подействовала куда сильнее, чем предполагал мастер декламации, и вызвала семнадцать волн оваций.
После этого выступления Гавел в сопровождении спикера Палаты представителей Томаса Фоли и лидеров сенатского большинства и меньшинства Джорджа Митчелла и Роберта Доула встретился с членами обеих палат. Все хотели поприветствовать его и пожать ему руку. Некоторые особо любопытные спрашивали, что он имел в виду под словами: «Сознание предопределяет бытие – и никак иначе»[825]. Но пускаться в подробные пояснения Гавел не мог – его уже ждал Нью-Йорк.
Колонне наших машин предстояло выбраться из аэропорта Ла-Гуардия и проехать по забитым транспортом нью-йоркским улицам. Казалось, мы очутились прямо в центре американской мечты, причем сразу в обеих ее версиях – и в классической, и а-ля Мейлер. Гавел непосредственно столкнулся с тем фактом, что его авторитет вовсе не непререкаем и что в этой свободной стране даже президенту приходится бороться за уважение к себе. Водители всех цветов кожи, что сидели за баранками миллионов обшарпанных желтых такси на Гранд Сентрал Парквэй, на мосту Трайборо и на ФДР драйв, в массе своей, разумеется, понятия не имели о том, кто такой Гавел, а если бы и имели, это ничего бы не изменило: их совершенно не волновало множество полицейских машин с включенными сиренами и маячками. Дорогу они уступали весьма неохотно и лишь после того, как к ним напрямую обращались через громкоговоритель или даже толкали их машины бамперами. Один особо упрямый джентльмен, родом, судя по всему, откуда-то с полуострова Индостан, не отодвинулся даже после многочисленных повторных призывов. Убедить его удалось лишь тому полицейскому, который высунул из окошка своего автомобиля руку с чем-то, очень похожим на денежную купюру. Этот аргумент показался мужчине основательным, и он убрал свою машину с нашего пути – правда, медленно, не торопясь, чтобы не уронить достоинство.
Такова оказалась Америка – страна свободы, Голливуда и рок-н-ролла. Страна неудержимых, длинноволосых, резких и экспериментаторских шестидесятых годов – эпохи, которая была Гавелу близка, эпохи, версию которой (не менее неудержимую, хотя и центральноевропейскую) он пытался переживать и сам – до тех пор, пока этому не положили предел советские танки. Он любил дух и идею рок-н-ролла в его самой что ни на есть бунтарской форме. Прилетев в Нью-Йорк, он переоделся в джинсы и свитер и направился в знаменитый музыкальный клуб CBGB на углу Бауэри и Бликер-стрит.
Однако ближе всего ему был мир литературы, театра и философских идей, который он знал гораздо лучше. Рядом с ним то и дело выныривали друзья из прошлого – здоровались, хвалили, превозносили так, как это умеют одни лишь нью-йоркцы. Проблема заключалась в том, что вместить все эти встречи в один день было нереально. Гавел то навещал мэра Динкинса в его официальной резиденции – особняке Грейси, то встречался с Генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльяром в самом сердце этой всемирной организации, в ее штаб-квартире у пролива Ист-Ривер. На трогательном приеме, устроенном в офисе правозащитной организации Human Rigts Watch, он встретился с Робертом Бернштейном, Джерри Лейбером и другими американцами, годами привлекавшими внимание Запада к нарушению прав человека в странах советского блока. В «Публичном театре» Гавел вновь увиделся с Джо Паппом, первым постановщиком «Уведомления» в Соединенных Штатах. Один за другим, подобно тому, как это происходит в фильмах Вуди Аллена, перед ним появлялись актеры и режиссеры, жаждавшие его приветствовать. Человек, очень похожий на Пола Ньюмана, таки оказался Полом Ньюманом. Гавел сказал своей свите: «Это поразительно – увидеть кого-то легендарного настолько, что я даже не верил, что он вообще существует». Ньюман захотел поведать Гавелу о своих «чешских» предках. По правде говоря, его мать, Терезия Фецкова, была родом из словацкого городка Гуменне, но кто тогда стал бы вникать в такие нюансы? Затем Гавел поспешил в Кафедральный собор Иоанна Богослова, где его и еще пять тысяч зрителей ожидало великолепное шоу: президента должны были чествовать самые разные звезды: певцы, актеры, писатели. Пол Саймон, Джеймс Тейлор, Пласидо Доминго и Роберта Флэк чередовались с Грегори Пеком и Полом Ньюманом. Был там и Том Халс, сыгравший Моцарта в «Амадее» Милоша Формана, который тоже находился в соборе. Пол Ньюман подытожил от имени всех присутствующих: «Я встречал великих политиков и встречал великих деятелей искусств, но впервые встречаю великого политика – деятеля искусств». Гавел походил на маленького мальчика, которого одного отпустили в кондитерскую. Ольга смущалась за двоих – за себя и за мужа.
Однако сложность заключалась в том, что чествовать президента собралось слишком много народу – какой там один вечер! Пожалуй, все желающие не успели бы выступить и за два, а то и за три дня. Гавелу же очень скоро предстояла еще одна встреча, и не менее важная: на сцене Театра Вивианы Бомон в Линкольн-центре его ждали коллеги-писатели. Так что нам пришлось буквально утаскивать президента силой – чуть ли не через труп Кэролайн Штёссингер, нью-йоркской пианистки, которая и устроила все это грандиозное действо в соборе Иоанна Богослова, приложив, естественно, очень много усилий.
Но ни воспитание, ни натура не позволяли невероятно вежливому Гавелу заставлять других людей ждать, особенно если этими «людьми» были Норман Мейлер, Курт Воннегут, Уильям и Роуз Стайроны, Артур Миллер, Эдвард Олби и другие мэтры. Следующие два часа он здоровался со старыми друзьями, дискутировал о силе бессильных и жизни в правде и пытался описать препятствия, стоявшие перед Чехословакией, Центральной и Восточной Европой и – куда более сложно преодолимые – перед Советским Союзом. Он был счастлив оказаться в своей естественной среде слабо освещенной сцены, пыльной таинственности кулис и облака сигаретного дыма, словно бы следовавшего за ним и его командой, куда бы эти люди ни двинулись.
Курение было столь же неотделимо от образа жизни Гавела, как писание и раздумья об ответственности. Подобно многим своим друзьям, он обзавелся этой привычкой в ранней юности, развил ее в славившиеся своим свободомыслием шестидесятые, отдавался ей как необходимому реквизиту театральной жизни и полагался на нее как на один из немногих способов релаксации в годы тюремного заключения. Все это время сорок, а то и пятьдесят сигарет в день медленно убивали его. Четверо хартистов, получивших самые длительные тюремные сроки – Петр Ул (девять лет), Гавел (пять), Иржи Динстбир и Вацлав Бенда (четыре года), – заплатили за десятилетия курения своим здоровьем. Бенда умер от инфаркта в 1999 году, Гавел и Динстбир – от последствий рака легких – в 2011-м.
Для Гавела и его друзей курение всегда было чем-то большим, чем вредная привычка и легкая зависимость, и бросить курить им оказалось очень сложно. Это был один из способов продемонстрировать собственную автономность и характер в годы преследований и арестов.
Отождествление курения с характером и свободой неизбежно приводило к столкновению культур в стране, относившейся к курению и курильщикам со все большей нетерпимостью, – в Соединенных Штатах начала девяностых годов прошлого века. Когда Гавел и его сопровождающие приехали в нью-йоркский музей Гуггенхайма на очередное торжественное мероприятие, Иржи Динстбира с сигаретой в зубах остановили у входа, чтобы сообщить ему, что внутри не курят. Он повернулся к стайке телерепортеров и фотографов, которые весь день не отходили от Гавела, и торжественно заявил: «Не для того я двадцать лет отстаивал права человека, чтобы теперь меня лишали естественного человеческого права на курение!» – и направился внутрь. Думаю, в вечерних новостях этот эпизод не осветили.
Если не считать этого единственного исключения, Америка и Гавел пришлись друг другу по сердцу. Америку восхитили его безусловная отвага, его неподдельная скромность и его неформальное выступление в Конгрессе. А на Гавела произвели огромное впечатление ее безграничная свобода, ее уважение индивидуальности, ее открытость и энергия, ее терпимость к разнообразию и неустанная забота о сохранении принципов и ценностей, делавших Америку Америкой и прямо-таки вынуждавших ее солидаризоваться с людьми, у которых эту индивидуальность и эти свободы отнимают. Именно тогда, судя по всему, Гавел и пришел к стратегическому выводу о том, что в его длительной борьбе за свободу и права человека – не только свои и своих сограждан, но и других людей – Соединенные Штаты являются более надежным и более последовательным союзником, чем ближайшие соседи. Это вызвало небольшое, но постоянное напряжение и стало источником внутренних конфликтов при принятии решений самим Гавелом, поскольку по многим другим вопросам (отношение к капитализму и социальному государству, к смертной казни, к охране окружающей среды) его позиция была гораздо ближе к позиции и ценностям Европы в целом и ЕС в частности.
Ко всему этому добавлялся еще повсеместно существующий интерес к политике, столь характерный для США и так привлекающий Гавела, который, впрочем, совершенно напрасно ставил знак равенства между Вашингтоном и Америкой. Годы спустя, получив стипендию для работы в библиотеке Конгресса, он написал: «Здесь политика людей интересует, занимает, а у нас ее не любят; здесь о ней говорят с воодушевлением, у нас ее только ругают; здесь политики, ученые, журналисты и прочие важные персоны весь день выглядят свежо и самые умные вещи сообщают иногда по вечерам, у нас же подобные люди по вечерам или падают от усталости, или что-то лихорадочно доделывают, или напиваются, или рады, что добрались до дома, где можно пялиться в телевизор и ни с кем больше не говорить[826]». Он, пожалуй, мог бы провести в Америке многие годы, но пора было отправляться дальше. Следующая остановка называлась «Москва».
А потом – Кремль
Я снова в СССР.
Такой везунчик ты, о, друг мой, снова в СССР.
Битлз
Двадцать пятого февраля 1948 года заметно возбужденный Клемент Готвальд сообщил своим собравшимся на Вацлавской площади единомышленникам, что только что вернулся из Пражского Града, где президент Бенеш принял все его условия, капитулировав, таким образом, перед коммунистическим путчем. В тот же день, но сорок два года спустя заметно усталый Гавел сообщил другой толпе, собравшейся на Староместской площади, что только что вернулся из Белого дома, где президент Джордж Буш пообещал оказать поддержку демократической трансформации Центральной и Восточной Европы.
В эти минуты Гавел повел себя как драматург, использующий историческую дату в качестве контрапункта для акцентирования значения и масштаба перемен. Однако у этого сценария было несколько изъянов. После четырнадцатичасового перелета из США Гавел чувствовал себя совершенно разбитым; на военных базах в Чехословакии все еще оставались 70 000 советских солдат, которые, возможно, были не прочь высказать собственное мнение о перспективах демократической трансформации; кроме того, сценарий был не дописан – всего через пару часов Гавелу предстояло отправляться в Москву и обсуждать с Горбачевым именно эти проблемы.
Лёту до Москвы правительственному самолету было всего два часа, но того, кто намеревался в дороге подремать, ожидала очередная президентская «задумка»: «Что если предложить принять совместную декларацию, в которой мы пообещаем Советам перевернуть страницы прошлого, чтобы общаться в дальнейшем на равных, а Советы, в свою очередь, извинятся за все, что натворили, и пообещают никогда больше так не делать?» – задал Гавел риторический вопрос, как только самолет покатил по взлетной полосе. Делегация, состоявшая из министра иностранных дел Динстбира, советника по внешнеполитическим вопросам Саши Вондры, пресс-секретаря Динстбира Лубоша Добровского и вашего покорного слуги, изумленно посмотрела на него; выдавить из себя мы смогли только что-то вроде: «Угу, понятно». Но Гавел говорил серьезно, и вскоре, отхлебывая пиво, начал писать фломастером текст декларации. В конце концов он решил обойтись без извинений и излагать в основном свое видение будущего. Но основная идея – что с этой минуты отношения между обеими странами будут основываться на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимного признания государственного суверенитета – в документе осталась. Никто из членов делегации не надеялся, что советский лидер подпишет что-то подобное. В лучшем случае мы ожидали унылых переговоров с закоснелыми советскими бюрократами, в течение которых декларация постепенно сведется к набору ничего не значащих штампов. Выйдя из самолета в Москве, мы передали текст новому послу Чехословакии – для перевода. Он тоже не думал, что наш план осуществим.
Однако даже тот факт, что в Москве теперь новый посол, уже говорил о наступивших переменах. Рудольф Сланский был хартистом, сыном (и тезкой) бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии, которого его товарищи-однопартийцы по указке из КГБ в ходе самого крупного инсценированного процесса тех лет приговорили к смерти и в 1952 году казнили. Сестру Рудольфа, трехмесячную Надежду, похитили в Москве в 1943 году, и ее судьба до сих пор неизвестна.
Как и полагается во время официального визита, ночевать делегации предстояло в государственной резиденции. Однако никто не предупредил нас, что резиденция – это мрачная, в чеховском духе, вилла, стоящая посреди гигантской территории, окруженной высокой стеной с колючей проволокой по верху и охраняемой сурового вида автоматчиками. Гавел тут же впал в депрессию и рано ушел спать. Остальной делегации пришлось самой позаботиться о себе. Нам удалось отловить мрачную «дежурную», выглядевшую как персонаж голливудского фильма о коммунизме, и на ломаном русском выпросить у нее бутылку водки и шахматную доску. Потом мы играли в шахматы, отхлебывали из горлышка и нарочно говорили по-русски (а вернее, на языке, отдаленно русский напоминавшем), чтобы облегчить работу тем, кто нас подслушивал. Короче, развлекались, как могли.
Когда мы проснулись хмурым февральским утром, Гавел уже завтракал, сидя за столом, и вид у него был оживленный и оптимистичный. Кремль дал нам отмашку. Впустили нас туда с бокового входа. Мы так и не поняли, в знак ли особого расположения – или туда попадали так все. Перед встречей Гавелу устроили экскурсию по кремлевским залам, постоянно подчеркивая их роскошь и огромные размеры, то есть именно то, что не могло произвести на него никакого впечатления. А потом он очутился лицом к лицу с человеком, который теоретически по-прежнему оставался лидером «лагеря мира и социализма», но вместе с тем сумел потрясти самые его основы.
Что касается Горбачева, то для него это была первая встреча с Гавелом. Однако для Гавела Горбачев был старым знакомым. Сначала советский вождь сидел с каменным лицом. Не то чтобы он держался враждебно, но и приветливости или хотя бы любопытства тоже не проявлял. Когда Гавел, чтобы скрыть нервозность, попросил разрешения закурить, на столе мгновенно появилась пепельница, хотя Горбачев никакого знака не делал и в комнату никто не заходил. Мяч был на стороне Гавела. И стоило ему, после обмена любезностями, объяснить, что он приехал не для того, чтобы жаловаться на прошлое, в котором было много нехорошего, а для того, чтобы положить начало новым позитивным взаимоотношениям между двумя странами, как лед тут же растаял. Когда Гавел сказал, что пришло время советским войскам покинуть Чехословакию, где они находились с рокового августа 1968 года, и что пора подписать соответствующий договор, Горбачев, как ни странно, возражать не стал[827]. Он наверняка планировал завести речь о том, чтобы в Чехословакии не преследовали коммунистов и их сторонников, но Гавел опередил его и настойчиво повторил свое предложение «забыть прошлое» и обойтись без мести, давления и взаимных обвинений. Потом наступил драматический момент. Гавел извлек новый, совсем недавно подготовленный и наскоро переведенный документ и предложил подписать совместную декларацию о преодолении тяжелого прошлого и об установлении новых взаимоотношений между двумя странами на принципах справедливости, равенства и уважения суверенитета.
Такой энергичный подход к делу со стороны новичка в сфере международных переговоров Горбачева не удивил, а скорее привел в растерянность. Он взял документ, мельком, не вчитываясь, проглядел его и передал своему советнику по внешнеполитическим вопросам Георгию Шахназарову[828], пожилому человеку интеллигентного вида.
Вплоть до этой минуты Шахназаров молча и внимательно прислушивался к разговору. Теперь же он взял документ, посмотрел на него и, разувшись, устроился в кресле, поджав под себя ноги. Это выглядело весьма ободряюще и очень по-человечески. Читал советник бумагу медленно и вдумчиво. Добравшись до конца, он вернулся к началу и принялся перечитывать все заново. После долгой паузы Шахназаров взглянул на Горбачева и кивнул. Горбачев взглянул на Гавела и кивнул. Гавел получил свою декларацию обратно, и ее унесли в соседнюю комнату для окончательного редактирования – там сидели министры иностранных дел Динстбир и Шеварднадзе.
Наступил апогей задуманного драматургом сценария. Гавел от всего сердца поблагодарил Горбачева за гостеприимство, намеренно упомянул о столь же теплом приеме, оказанном ему совсем недавно в Вашингтоне, обмолвился о церемониальной трубке, преподнесенной ему вождем племени американских индейцев, а затем… действительно достал эту самую трубку. «Господин президент, – сказал он, – еще в тот момент, когда мне ее дарили, я подумал о том, что надо взять ее с собой в Москву, чтобы мы с вами раскурили вдвоем трубку мира!» И вот тут Горбачев изумился по-настоящему. Посмотрев на трубку, как на готовую взорваться ручную гранату, он перевел непонимающий взгляд на гостя и ответил, заикаясь: «Но… я же не курю»[829].
Возможно, Горбачев и не войдет в историю благодаря своему чувству юмора, но ему удалось убедить Гавела в том, что к расставанию с прошлым и к предоставлению странам советского блока свободы выбора он относится серьезно. С такой же серьезностью и убежденностью он относился к своему стремлению превратить тоталитарную коммунистическую систему в нечто лучшее, более жизнеспособное и более демократическое, но по-прежнему социалистическое; попытки эти были благородны, но изначально обречены на неудачу. В отличие от своего преемника Ельцина Горбачев не обладал артистической жилкой, однако Гавел проникся к нему искренней симпатией и уважением. Они встретились вновь в чехословацком посольстве в Москве летом 1992 года. Горбачев в то время был уже безработным, и Гавел тоже собирался покидать свой пост. Оба понимали проблемы друг друга. В 1999 году, когда отмечали десятилетие Бархатной революции, Гавел наградил высшим чешским орденом – Орденом Белого льва – шесть политиков, сыгравших выдающуюся роль в ликвидации железного занавеса и открытии пути к демократии для прежде несвободных стран Центральной и Восточной Европы: Джорджа Буша-старшего, Маргарет Тэтчер, Михаила Горбачева, Гельмута Коля, Леха Валенсу и Франсуа Миттерана (посмертно)[830]. Когда Гавел принимал бывшего советского лидера в своем рабочем кабинете, он показал ему изображенную на стене странную фигуру: какой-то человек украдкой выглядывал из-за стеллажа с книгами. «Знаете, кто это? Это агент КГБ. Вы же знаете КГБ?» Горбачев энергично кивнул. Прошло уже десять лет, и он знал, что его может ожидать[831].
Но пока на дворе был 1990-й, и, поскольку мы были в России, договор требовалось скрепить едой и выпивкой. Слово «обед» значит по-русски то же, что и по-чешски, однако в Кремле – явно подражая традициям вальяжных русских аристократов – обедали вечером и подавали на стол изысканную еду и такой алкоголь, который нигде больше за обедом не пьют. В обеде принимали участие десятки советских сановников и чехословацкая делегация в полном составе. Происходящее напоминало зоопарк, хотя, конечно, оставался вопрос, кто кому казался более экзотичным – советские бюрократы длинноволосым гостям или чешские и словацкие диссиденты, деятели искусства и интеллектуалы – хозяевам.
Гавелу также надо было уплатить долги. На Востряковском кладбище он посетил могилу Андрея Сахарова – знаменитого физика, открыто поддерживавшего «Хартию-77» (как и она его) и умершего всего за две недели до избрания Гавела президентом. Он наверняка был бы вне себя от радости, сказала Гавелу вдова Сахарова Елена Боннэр. Вместе с нами на кладбище приехала и Лариса Богораз – одна из тех семерых смелых, кто 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь в знак протеста против вторжения в Чехословакию; после этого она четыре года провела в сибирской ссылке. В посольстве Гавел встретился и с неизменно верными своему независимому взгляду на мир представителями советской интеллигенции – Юрием Любимовым, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, Олегом Табаковым, Чингизом Айтматовым и Элемом Климовым. Настоящая вишенка на торте!
В июне Гавел прилетел в Москву для участия во встрече лидеров стран-участниц Варшавского договора – с твердым намерением отправить договор на свалку истории. Это оказалось вовсе не так трудно, как можно было ожидать. Горбачев быстро терял контроль, и новые демократические правительства из Центральной и Восточной Европы были уже настолько уверены в себе, что сумели настоять на своем. Хотя сам роспуск отложили до следующей встречи лидеров в Праге, где 1 июля 1991 года подписанием протокола о роспуске и был положен конец Варшавскому договору, похоронный колокол уже прозвонил.
Когда пришло время распустить единственный в истории военный альянс, нападавший сугубо на собственных членов, Горбачев оказался слишком занят из-за ухудшающейся политической и экономической ситуации в Советском Союзе; человек, представлявший его в Праге, был седым аппаратчиком, поднявшимся до уровня вице-президента СССР, по имени Геннадий Янаев. Тогда Гавел, конечно, не догадывался о том, что в скором будущем Янаев получит свои уорхоловские «пятнадцать минут славы». Те же минуты принадлежали, безусловно, Гавелу, Валенсе и тысячам других, упорно сопротивлявшимся удушающим советским объятиям. Теперь они выиграли свою битву. Выступая с речью на заседании, Гавел не скрывал ни своего душевного подъема, ни своих замыслов. «Мы открыто говорим, что наша цель – включение Чехословакии в западноевропейскую интеграцию»[832], – заявил он, призвав одновременно к стиранию границ между Западом и Востоком. Как и ожидалось, тридцатишестилетний Варшавский договор был аннулирован. Чехословакии – как последней стране-председательнице – достались его символы и рабочие инструменты: мешочек, где лежали печать и какой-то штемпель. В последний раз я видел этот мешочек в руках министра иностранных дел Динстбира.
День 19 августа 1991 года начинался, подобно любому другому дню. Гавел еще спал, когда зазвонили канцелярские телефоны: в Москву входит Вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия. Горбачев, проводивший отпуск в Крыму, смещен – якобы в связи с ухудшением состояния здоровья. Президентом провозгласили седовласого Янаева[833].
К счастью, последние части советской армии покинули Чехословакию три месяца назад, после длительных пререканий и успешных переговоров, в которых ключевую роль сыграл Михаэл Коцаб, в то время депутат Федерального собрания. И тем не менее ситуация представлялась опасной. Исторический опыт, результаты которого Центральная Европа познала на собственной шкуре, подсказывал, что медведь наиболее опасен, когда мечется в агонии. Но то, что вызывало опасения в Граде, совсем иначе воспринималось в других местах. В полукилометре от Града, в министерстве иностранных дел, некоторые дипломаты старой школы начали откупоривать шампанское. Как выяснилось, несколько преждевременно.
История здорово подшутила над советской эпохой. Двадцать три года назад, вторгнувшись в Чехословакию, рушившаяся империя напала на саму себя. Но, как отметил в зените своей славы Горбачев, пытавшийся провести параллели между перестройкой и Пражской весной, за двадцать лет произошли огромные перемены. Брежнев, Косыгин и их товарищи, приказавшие задушить в Чехословакии движение реформаторов, были закаленными в боях ветеранами сталинского времени и Второй мировой войны. Абсолютная нахрапистость была у них в крови. Они стояли во главе сверхдержавы с развитым, хотя и несовременным, промышленным производством, грозной армией и всесильной тайной полицией. Многие из них все еще прикидывались марксистами. Теперь же по другую сторону оказалась попытавшаяся устроить в августе 1991-го путч «Банда восьми»[834]. В нее в основном входили коррумпированные бюрократы со стажем, являвшие собой яркий пример склонности коммунистической системы к неосознанному негативному выбору. Единственное, что тут напоминало о Марксе – правда, не о Карле, а о фильме-буффонаде «Утиный суп» братьев Маркс, – это знаменитая пресс-конференция; трясущиеся руки и скованность Янаева, отвечавшего на вопросы журналистов, объяснялась в равной степени страхом и выпитым спиртным. Никто из наблюдавших за ходом пресс-конференции не верил, что заговорщики продержатся дольше недели. Но продержались они чуть больше одного дня. Ранним утром 21 августа, ровно двадцать три года спустя после того, как части советской армии начали переходить чехословацкую границу, Таманская дивизия покинула Москву.
Главный на тот момент человек, президент Российской Федерации и будущий президент новой России Борис Ельцин, не был для Гавела неизвестной величиной. Весной того же года он посетил Прагу в качестве президента самой большой республики Советского Союза. Из-за существовавшего между Ельциным и Горбачевым открытого конфликта этот визит ставил Гавела в несколько неловкое положение: он, хотя и симпатизировал демократическим устремлениям Ельцина, все же чувствовал себя обязанным Горбачеву. В конце концов неформальная встреча состоялась в ресторане «У Калиха», где все, согласно заветам бравого солдата Швейка, встречаются «в шесть часов вечера после войны». Ельцин произносил весьма разумные слова о демократии, об уничтожении власти коммунистической партии и сближении с Западом. Но, по мнению Гавела, в сравнении с более сдержанным Горбачевым Ельцин был слишком напористым и многословным. Гавел, который в то время был уже довольно умерен в еде, заказал два пива, утку для гостя и что-то небольшое для себя и с изумлением наблюдал, как его визави расправляется с целой птицей. «Похоже, он бы и еще одну съел!» – заметил он потом уважительно.
Во время пребывания Гавела в России в 1992 году состоялась его незабываемая встреча со своеобразным председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым. Этот беззастенчивый популист чеченского происхождения окажется в центре внимания как один из предводителей антиельцинского бунта в октябре 1993-го: дожидаться своего часа ему пришлось на два года дольше, чем Янаеву, но – с тем же результатом. Гавел задал вопрос о «крохотной» сумме в пять миллиардов долларов – столько Советский Союз задолжал Чехословакии за различные промышленные и прочие товары, которые в годы братской дружбы отправлялись на восток[835]. Хасбулатов выслушал Гавела и холодно отклонил его просьбу. Когда же Гавел вежливо заметил, что долги положено платить, пусть даже они и появились при коммунистическом строе, Хасбулатов только сухо рассмеялся. «Послушайте, – сказал он. – Нас, как и вас, оккупировали коммунисты. Хотите денег – обращайтесь к коммунистам». Это выглядело как первоапрельский розыгрыш. В конце концов проблема с долгами решилась через десять лет, при премьере Земане, хотя сказать, что долг был выплачен полностью, было бы преувеличением[836].
После всех этих переговоров у Гавела сложилась ясная картина: на пути приступившей к преобразованиям Чехословакии существует множество препятствий и сложных проблем, создаваемых русскими. Он никогда не поддавался примитивной русофобии, распространившейся по Центральной и Восточной Европе после падения железного занавеса, однако с опаской относился к любому намеку на российскую экспансию, даже если в тот момент она не была направлена в сторону Чехии. Хотя ему вовсе не была близка идеология чеченских повстанцев, жестокость войны, которую вел Путин против всего чеченского народа, укрепила его уверенность в том, что некоторые наихудшие русские инстинкты никуда не делись.
Его отношение к представителям России тоже прошло несколько фаз. Он уважал Горбачева, хотя и не смог завязать с ним те же неформальные отношения, что с другими мировыми лидерами. Ельцин, казавшийся Гавелу гоголевским персонажем, представлял некую загадку и радостно удивлял, однако в целом Гавел доверял демократической и западной направленности его мировоззрения. Путин же, по мнению Гавела, был другим. В то время как немалая часть западного мира восхищалась уверенной манерой держаться, элегантными костюмами и приличным немецким Путина, Гавел акцентировал внимание на том, что выправка, уверенность и знание иностранного языка – это исключительно следствие долголетней службы в органах государственной безопасности. Путин, как кадровый офицер КГБ, представлялся ему одним из тех, кого следует опасаться. Предположить, будто чекист может в корне измениться, оказалось для него непосильно[837]. Для Гавела приход к власти Путина открывал новую эру, пугающую своей непредсказуемостью, сочетающую в себе спорные черты как коммунизма, так и капитализма[838].
Но это была далеко не вся Россия. Те, кто частенько подозревал Гавела и других диссидентов в русофобии, путали страну с ее современным политическим представительством. Для центральноевропейского интеллектуала, подобного Гавелу, было совершенно естественным знать и высоко ценить великую русскую классическую литературу, поэзию, театр – так же, как он знал и ценил искусство Германии, Франции или Великобритании. И хотя его собственное театральное творчество базировалось на принципах абсурдности, он восхищался «Ревизором» Гоголя и тонким умением сочувствовать и сопереживать, присущим Антону Павловичу Чехову.
Такие же восхищение и симпатию испытывал Гавел к своим современникам из рядов демократической оппозиции и правозащитного движения. Помимо Андрея Сахарова и семерых смелых, вышедших в августе 1968 года на Красную площадь, он высоко ценил Анатолия Щаранского[839] и движение отказников, которое добивалось для советских евреев права эмигрировать. Поскольку Гавел хорошо знал условия чехословацких тюрем и особенности пенитенциарной системы, он часто поражался отваге и самоотверженности людей, которые прошли через куда более жестокие, чем выпали на его долю, испытания в советских лагерях и тем не менее не сдались. С Щаранским он встречался, когда приезжал в Израиль, а в 2007 году они вместе организовали конференцию о демократии в Праге и пригласили туда правозащитников и диссидентов из Ирана, Азии, бывшего Советского Союза, с Ближнего Востока, а также… президента Джорджа Буша. Буш, ко всеобщему изумлению, приехал. В конце концов Гавел был одним из его героев, а книгу Щаранского «В защиту демократии» он держал на своем ночном столике.
Гавел любил Россию, но никогда не относился к ней с сентиментальностью, свойственной многим в Европе и не только. Понятие «славянской души» было ему совершенно чуждо. Подобно Томашу Гарригу Масарику, он обладал иммунитетом к идее панславизма, заразившей множество чешских политиков в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Некоторые демократические политики в Словакии, например, коллега Гавела по временам диссидентства Ян Чарногурский, по-прежнему отводили этой идее значительную роль. Гавел же, вслед за одним из основателей чешского политического реализма Карелом Гавличеком, полагал, что термин «славянский» приложим скорее к сфере этнографии, а не к типу души, и что отношения между государствами определяются не только языком, но и обычаями, религией, формой государственного правления и образованием[840]. Путину и его «управляемой демократии» он не доверял и сомневался, что стоит заискивать перед Россией в надежде, что это поможет налаживанию дружеских отношений.
Простаки за границей[841]
Гавел ставил своей целью не сменить подчинение одной супердержаве на преданность другой, а перестроить всю систему взаимоотношений Чехословакии с остальным миром. Как бы странно это ни звучало, но в 1989 году у Чехословакии не было нормальных отношений ни с одной страной. Ее связи с Советским Союзом и другими государствами советского блока поддерживались силой – принуждением и подчинением. Тысячелетние связи с Западной Европой – основным источником, питавшим чешскую историю, культуру и благосостояние, – были резко оборваны опустившимся железным занавесом. Ее столетние соседские отношения с немцами и австрийцами были отравлены прошлыми несправедливостями и холодной войной и характеризовались повсеместной подозрительностью и недоверием. Коммунистическая Чехословакия гордилась дружбой со многими развивающимися странами Азии и Африки, но точно так же, как Чехословакию использовал в качестве марионетки Советский Союз, так и сама она пользовалась ими как марионетками в холодной войне с Западом, экспортируя туда свое оружие, – в основном в счет долга, который оплачивался крайне редко. После Шестидневной войны в июне 1967 года Чехословакия прервала дипломатические отношения с Израилем – родиной многих ее бывших граждан, чудом переживших Холокост. Номинально католическая страна, хотя традиционно и не отличавшаяся особым религиозным рвением, Чехословакия годами вела тихую войну с Ватиканом, пытаясь разрушить и коррумпировать местные церковные структуры.
Задача была очень сложной, но Гавел не тратил время на колебания. Посетив в начале января обе Германии, он в том же месяце обратился к польскому Сейму и побывал в Венгрии. Пока по обе стороны разрушенного железного занавеса многие все еще задавались вопросом, настолько ли они любят Германию, чтобы предпочесть одну двум, Гавел убедительно ответил на него, поместив проблему в широкие рамки, жизненно важные и для чехов, и для поляков: «Это две стороны одной медали: трудно представить единую Европу с разделенной Германией, но вместе с тем и трудно представить объединенную Германию в разделенной Европе»[842]. В этом же выступлении он пригласил своих польских и венгерских коллег в Братиславу для переговоров о региональном сотрудничестве. На этой встрече, состоявшейся в апреле, родилась идея Вишеградской группы, которая формально была образована в венгерском Вишеграде девять месяцев спустя и пережила разделение Чехословакии и вступление Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии в Европейский Союз.
Идея регионального сотрудничества, хотя и пользовавшаяся изначально широкой поддержкой, все же воплощалась в жизнь с определенными трудностями. Случались на этом пути и неудачи. Проблемой были и синхронизация рабочих графиков, и (иногда) личностные особенности отдельных государственных деятелей. Та или иная из трех – а позднее четырех – стран-членов всегда переживала некий внутриполитический или экономический кризис, а остальные так торопились вернуться на Запад, чтобы пожинать плоды торгового сотрудничества, что не хотели ее ждать.
Иногда в силу свойств человеческой натуры возникали чуть ли не комические ситуации. Когда Гавел в январе 1990 года впервые посетил Польшу в качестве президента, его единомышленник и коллега Лех Валенса был только признанным вождем революции, а президентом по-прежнему оставался Войцех Ярузельский, генерал, который, чтобы подавить «Солидарность», ввел в стране в декабре 1981-го чрезвычайное положение. Перед визитом Гавела Валенса страшно переживал из-за роли, которую ему предстояло сыграть в соответствии с дипломатическим протоколом: Валенсе надо было смириться с тем, что и его польский тюремщик, и его чешский друг неизбежно займут более высокую ступень иерархической лестницы, и потому он отказывался ехать из Гданьска в Варшаву. Тогда мы наскоро организовали весной двустороннюю встречу Гавела и Валенсы – на горном хребте в Крконошах, там, где некогда собирались тайно активисты «Хартии-77» и «Солидарности». Однако встреча не задалась. Валенса думал только о своем будущем президентстве и потому реагировал на интеллектуальные рассуждения Гавела несколько недружелюбно. Но наконец в декабре 1990 года он тоже стал президентом и на следующий год прилетел в Прагу с государственным визитом. Тут уж мы решили не полагаться на волю случая. Мы создали психологический портрет Валенсы и предложили обсуждать на переговорах вопросы сугубо практические, касавшиеся решения актуальных политических проблем и не затрагивавшие абстрактных понятий и философствования. Однако все опять пошло не по плану. Варшавяне тоже проделали определенную работу, и Валенса захотел говорить сугубо о философии и метафизических горизонтах. Оба лидера уважали друг друга и восхищались один другим, но им никак не удавалось попасть в такт.
15 марта, в пятидесятую годовщину нацистской оккупации Праги и триумфального смотра почетного караула, устроенного Гитлером во дворе Пражского Града, Гавел пригласил к себе немецкого президента Рихарда фон Вайцзеккера – «но не на танке, а пешком»[843]. Гавел оценил тот факт, что немецкий президент «от имени своего народа уже сказал много правдивых и горьких слов о страданиях, которые принесли миру и конкретно нам многие немцы». И добавил: «Но сказали ли мы со своей стороны все, что обязаны сказать? Я в этом сомневаюсь»[844]. Он снова осудил принцип коллективной вины, которым оправдывалось изгнание трех миллионов немецких мужчин, женщин и детей из Чехословакии в конце Второй мировой войны. Но не остановился на выражении сожаления по этому поводу, а перешел к теме морального заражения, вечной для его творчества: «И, как это и бывает в истории, мы навредили этим не только им, но и – причем даже в большей степени – самим себе: мы рассчитались с тоталитаризмом таким образом, что впустили заразу в собственное поведение, а значит, и в собственную душу, и это очень скоро – причем весьма жестоко – нам аукнулось, когда мы оказались неспособны противостоять новому, импортированному из других мест тоталитаризму»[845].
Визит в Великобританию стал еще одним испытанием на пути восстановления межгосударственных связей. Мало того, что обе страны в прошлом разделял железный занавес, – большинство чехов не могло забыть о роли, которую сыграло правительство Чемберлена в Мюнхенском сговоре, положившем начало полувековому национальному бедствию. Десятилетия холодной войны почти не изменили это представление об Альбионе. Решительного политического деятеля, не испытывавшего страха перед русскими, демократическая оппозиция Чехословакии увидела лишь в лице премьер-министра Маргарет Тэтчер[846]. Однако все это время в британских университетах, в среде людей искусства, в СМИ и гражданском обществе были те, кто стремился помогать своим чешским друзьям, оказавшимся в трудном положении. Организация философами Роджером Скрутоном, Барбарой Дэй и Юлиусом Томином подпольных университетов в Праге и Брно, надежная поддержка, оказываемая (как творчеством, так и гражданской вовлеченностью) уроженцем Злина драматургом Томом Стоппардом, поддержка со стороны Гарольда Пинтера и других театральных деятелей, регулярные демонстрации перед брутального вида зданием чехословацкого посольства в Лондоне – в знак протеста против очередного ареста Гавела и других узников совести, присутствие в Праге корреспондентов британских средств массовой информации (британская группа журналистов была самой многочисленной), прекрасные информационные передачи всемирной службы «Би-би-си» на чешском, словацком и английском языках – все это помогло Гавелу и его единомышленникам пережить эпоху безвременья.
Хотя Гавел и члены делегации хотели узнать о мире, куда они возвращались, как можно больше, сама природа роли президента ставила им тут определенные ограничения: гостям позволялось взглянуть лишь на весьма ограниченную и малорепрезентативную его часть. Делать же выводы о той или иной стране и ее жителях на основании гостиничных номеров, конференц-залов и государственных чиновников явно не стоит. В течение первого года президентства Гавела нас всех очень занимали работа и манера поведения представителей самых разных охранных служб, которым поручалась защита президента, тем более что подход к охране менялся и дома. Ядро личной охраны Гавела составляли спортсмены, которые добровольно защищали его в напряженные революционные дни. Они подходили для этой работы в немалой степени еще и потому, что не имели опыта службы в органах государственной и общественной безопасности, но при этом на самом высоком уровне владели навыками дзюдо, карате и других боевых искусств.
Мы постепенно усваивали разницу между секретными службами той или иной страны. Всюду царил собственный неповторимый стиль. Американцы нарочито подчеркивали наличие охраны, придавая основное значение устрашению. Суровый, неприступный вид большинства агентов американской Секретной службы словно бы предупреждал: «Даже не вздумай!» Французы были совершенны на свой, этатистский, манер – им не составляло труда перекрыть окружную дорогу вокруг Парижа на целых двадцать минут, чтобы пропустить машину президента. Итальянцы были на удивление склонны к театральности: они ездили в быстрых «альфа-ромео» с открытыми дверцами, из которых чуть не на метр высовывался импозантный карабинер со снятым с предохранителя автоматом. Британцы же были, напротив, незаметными и полагались на эстафету мотоциклистов, которые поочередно вырывались вперед и перегораживали ненадолго определенный короткий участок трассы. Когда Гавел, захотев пройтись по Риджент-стрит, вышел из автомобиля, телохранители растворились в толпе, чтобы у него хотя бы на пять минут возникла иллюзия, будто он и впрямь в одиночестве и никем не узнанный прогуливается по чужому городу.
Днем ранее в республиканском Париже Гавелу был оказан королевский прием. На протяжении двух предыдущих десятилетий французские интеллектуалы были, пожалуй, самыми активными и громогласными из всех тех, кто сочувствовал Гавелу и чехословацкой оппозиции и поддерживал их[847]. Гавел воспользовался возможностью и поблагодарил Франсуа Миттерана за великодушный жест с его стороны: во время официального визита в Чехословакию в 1988 году французский президент устроил завтрак в честь Гавела и других диссидентов. В отличие от Маргарет Тэтчер, оба политика сходились во мнении о необходимости воссоединения Германии с Европой. Однако рациональный и трезвый подход Миттерана к вопросу европейской интеграции как к дифференцированному процессу (концентрические круги, различные степени вовлеченности разных государств) во многом отличался от более доброжелательного и гораздо более широкого представления о единой Европе Гавела. Элегантные сотрудники Миттерана хотя и чуть-чуть, но давали нам понять, что лохматые визави не очень-то им по душе. На вечернем банкете один из самых высокопоставленных французских государственных деятелей неосторожно поинтересовался у гостей, приходилось ли им уже видеть столь роскошный дворец. Гости молчали – как из вежливости, так и из-за плохого знания французского. И вдруг за их спинами, оттуда, где Карел Шварценберг как раз рассматривал какие-то картины, послышалось презрительное фырканье: «Один мой прррредок упился тут до смерррти!» Князь сообщил эту информацию по-французски с замечательным австрийским акцентом. Во времена Меттерниха его предок был австрийским послом во Франции.
На следующий день в Лондоне нам потребовалось предпринять несколько пеших прогулок. Президент и большинство его советников были слегка удручены французской историей – особенно той ее частью, которая касалась их одежды. Счастливчики вроде меня имели костюмы, в которых женились. У президента был костюм, в котором он щеголял на церемонии собственной инаугурации. Но все это никак не годилось для обеда с королевой в Букингемском дворце. Нам всем очень повезло, что в президентской канцелярии был знаток моды Карел Шварценберг. Новый костюм ему не требовался, но зато он знал, где его можно купить. Пока президент осматривал Вестминстерский дворец, небольшая группа советников устремилась следом за Князем в универмаг «Хэрродс», где Князь, потратив собственные средства, сделал все, чтобы делегация на встрече с королевой выглядела достойно. Когда спустя двадцать лет я вручал королеве верительные грамоты, она все еще помнила детали беседы, происходившей во время того давнего обеда.
О британской монархине Гавел упорно думал и за ужином, который в его честь устроила на Даунинг-стрит 10 Маргарет Тэтчер. То ли четыре, то ли пять перемен блюд, перемежаемых речами, – а Гавел уже изнемогал от желания закурить. Его настроение ничуть не улучшилось, когда ему сообщили, что предаться пороку он сможет только после произнесения заключительного тоста верности – «За королеву». Ему еще повезло: нынешний президент вообще не дождался бы такого разрешения.
Ужину предшествовали деловые рабочие переговоры. Маргарет Тэтчер не скрывала своего отношения к Горбачеву (позитивное), к объединению Германии (настороженное), к Европе (сдержанное), демократии (спокойное) и свободному рынку (восторженное). Светская болтовня занимала ее не особо, так же как и театр и философия. В Лондоне она выступила в роли внимательной хозяйки, а вот два месяца спустя в Праге, даже не отложив в сторону сумочку, с порога принялась читать Гавелу подробную лекцию о том, что он сделал правильно (многое), а что – нет (кое-что). Она производила впечатление чуть ли не инопланетянки, однако Гавелу это нимало не мешало восхищаться ею. Но политическая философия, стиль жизни и манеры разительно отличали его от Железной леди. Один из гостей того ужина на Даунинг-стрит даже якобы сказал, что «никогда прежде ему не приходилось видеть друг рядом с другом двух столь различных людей»[848]. Милые реплики и острые словечки, безусловно, помогают усваивать то, что подают к столу на британских официальных ужинах, но в этом случае замечание было неверным. Редкий политик в состоянии руководствоваться собственными убеждениями, невзирая на последствия; Гавелу и Тэтчер это удавалось.
В апреле президент посетил Израиль, прежде приняв в Праге Шимона Переса и возобновив дипломатические отношения между странами во время визита в Чехословакию министра иностранных дел Моше Аренса. В соответствии со своей примирительной миссией Гавел принял и Ясира Арафата. Президент даже хотел воспользоваться своим непререкаемым моральным авторитетом для того, чтобы выступить посредником и попытаться как-то помочь разрешению ближневосточного кризиса, но ни ему, ни его сотрудникам не хватало необходимых конкретных знаний. Разумеется, ни Арафат, ни тогдашний израильский премьер Ицхак Шамир не проявляли особого энтузиазма по поводу инициативы Гавела. «Ориент-хаус» в Восточном Иерусалиме, который тогда еще функционировал как неформальный центр Организации освобождения Палестины в Святом городе, стал свидетелем сердечной, но безрезультатной встречи президента с Ханан Ашрауи, видной деятельницей ООП, которая в то время – благодаря CNN – была главной палестинской звездой, и другими представителями Палестины. Для делегации президента это стало первой попыткой заняться миротворческой деятельностью. Процесс мирного урегулирования в тех местах сопровождается то ослаблением напряженности, то ее эскалацией: мы своими глазами видели на крышах израильских снайперов, наблюдавших через оптические прицелы за передвижением израильских правительственных лимузинов. Ощущение смятения усиливалось еще и из-за своеобразия структуры Старого Города с его запутанной сетью старых улочек, словно отражающей сложность самого ближневосточного конфликта. Во время государственного ужина, устроенного израильским президентом в честь его чешского коллеги, атмосфера еще больше накалилась, хотя напряженность и всеобщее возбуждение никак не были связаны ни с Гавелом, ни с возобновлением дипломатических контактов, ни с крушением железного занавеса. Израильтяне перешептывались на иврите, обменивались записками и выбегали из-за стола как раз тогда, когда пора было приступать к основному блюду. Все, кроме чешских гостей, явно понимали, что происходит. И только утром Гавелу объяснили, что он стал свидетелем неудачной попытки Шимона Переса парламентским путем отправить в отставку правительство Шамира, вошедшей в израильскую историю под названием «зловонный трюк».
Сумятицу вызвал и чуть не ставший роковым инцидент в отеле «Царь Давид», где ночевал Гавел. Утром его личный секретарь Мирослав Квашняк – неистощимый на всяческие выдумки оригинал – переоделся в купленную им накануне галабею, обвязал голову полотенцем и с боевым кличем исламского воина ворвался в соседние президентские апартаменты к ничего не подозревавшему шефу. Гавел сначала немного испугался, а потом рассердился и вытолкал секретаря за дверь, в коридор отеля, где трое израильских представителей службы безопасности мгновенно вытащили пистолеты. Думаю, в тот день от смерти Квашняка спасла только дурацкая улыбка, блуждавшая по его лицу.
Я полагаю, Гавел поступил правильно, когда в своей благодарственной речи в Еврейском университете, присудившем ему звание почетного доктора, вернулся на хорошо знакомую ему почву и заговорил о самом известном пражском еврее – своем коллеге-писателе, высоком образце для многих. Эту его речь стоит цитировать подробно еще и потому, что в ней Гавел попытался – решительно, хотя и с несколько излишним драматизмом – заняться самоанализом. Его слова подкупают необычной – для него, однако, привычной – искренностью, что так отличала Гавела от большинства зажатых, опасавшихся сказать лишнее политиков.
Хотя мне уже не в первый раз присуждают подобное звание, но и сегодня, как и в предыдущих случаях, я принимаю его все с тем же неизменным чувством глубокого стыда. Мучась сознанием того, что при своем незаконченном образовании <…> я не могу отделаться от мысли, что вот-вот появится некто посвященный, вырвет у меня из рук только что полученный диплом и, взяв за шиворот, выведет меня из зала… Вы, конечно, поняли, к чему я клоню в моем столь своеобразно начатом благодарственном выступлении. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить в нескольких фразах свою давнюю искреннюю любовь к великому сыну еврейского народа пражскому писателю Францу Кафке[849].
В Кафке Гавел находил многое из того, что было составной частью его собственного опыта.
Это, во-первых, некое глубокое фундаментальное и потому весьма неясное чувство собственной вины, как будто само мое существование есть своего рода грех. Помимо того, это острое ощущение неуместности меня самого и всего, что невольно образуется вокруг меня. Давящее впечатление невыносимой духоты. Потребность все время объяснять кому-то свои поступки и перед кем-то оправдываться… Я как будто все время бегу за вырвавшейся далеко вперед группой сильных и уверенных в себе людей, но никак не могу нагнать их и уж тем более с ними поравняться. Я в принципе не нравлюсь сам себе, и мне кажется, что я заслуживаю лишь всеобщего осмеяния…
С моей точки зрения именно мое внутреннее чувство изъятости и невключенности, некоей изгнанности и глубокой неуместности является скрытой движущей силой всех моих упорных стараний… Я осмелился бы даже утверждать, что все хорошее, что когда-либо сделал, я, возможно, совершил лишь затем, чтобы заглушить свое почти метафизическое чувство вины. Мне кажется, я потому только все время что-то делаю, что-то организую и за что-то борюсь, что хочу доказать свое право на существование…
Я бы нисколько не удивился, если бы в разгар моих президентских занятий меня вдруг вызвали или доставили в некий сомнительный трибунал, а то и сразу отвели под конвоем в каменоломню. Точно так же я бы не удивился, если бы услышал сейчас слово “подъем!”, проснулся в своей камере и стал со смехом пересказывать соседям все, что со мной случилось за последние месяцы. Чем ниже я падаю, тем более подобающим кажется мне мое место, и наоборот, чем выше я взбираюсь, тем сильнее гложет меня подозрение, что это какая-то ошибка[850].
Его слова потрясают не столько потому, что описывают опыт человека, который оказался среди политиков случайно и очень в себе не уверен, сколько потому, что они извлекают на свет то, о чем многие политики давным-давно подозревают, а именно – что вся эта погоня за властью, почетом и признанием зачастую объясняется их глубинной неуверенностью и комплексом неполноценности. Разумеется, отдать – подобно Гавелу – себе в этом отчет не значит немедленно обзавестись противоядием против всех глупостей и безумств, к которым может привести политическое честолюбие, однако же это первый шаг к его обузданию.
Гавел и сам допускал, что его речь – всего лишь проявление позерства, но ее инфернальная интонация слишком уж подлинная, слишком эмоциональная, почти отчаянная. Кроме того, его слова абсолютно точно не были произнесены лишь из желания угодить еврейской публике, сделав комплимент Кафке. Месяцем раньше в Букингемском дворце Гавел так ответил королеве Елизавете II на вопрос, каково это – за ночь превратиться из арестанта в президента: «Мадам, если бы вот прямо сейчас эти двери открылись и меня бы вывели отсюда, я бы нимало не удивился».
Как это часто бывает, самым сложным делом оказалось восстановление добрых отношений с ближайшими соседями. Общая долгая история чехов и австрийцев, общие предки (о чем свидетельствуют многие чешские, австрийские, а в особенности венские имена и фамилии) и общие притязания на многих известных чешских уроженцев – например, Зигмунда Фрейда или Густава Малера – помогали тут, похоже, мало. Один из основополагающих мифов возрожденной Чехословакии (появление которой означало исполнение вековой мечты чешских патриотов) был прочно связан с историей угнетения чехов австрийцами – как истинного, так и мнимого. Обе страны, разумеется, ничуть не сблизил отказ австрийской стороны взять на себя долю вины за нацизм и Вторую мировую войну. Если добавить к этому психологию холодной войны и протесты против строительства АЭС в Темелине, объясняющиеся нежеланием Австрии развивать ядерную энергетику, то становилось понятно, что нам предстоит ремонтировать многие старые мосты и наводить новые, перебрасывая их через глубокие пропасти. В самом начале своего президентского срока Гавел получил приглашение произнести вступительную речь – в присутствии австрийского и немецкого президентов – на 70-м Зальцбургском фестивале, одном из самых известных музыкальных фестивалей Европы и мира. Выбрать в спикеры мероприятия, проходящего на родине Вольфганга Амадея Моцарта, для которого Прага была духовным убежищем, чешского президента казалось делом вполне естественным. Однако загвоздка заключалась в том, что президентом Австрии был тогда Курт Вальдхайм – человек, во многих странах бойкотируемый из-за его давней службы в частях SS на Балканах[851]. Поездка Гавела в Зальцбург означала обязательную встречу с Вальдхаймом, и эта встреча стала бы для чехословацкого президента моральным компромиссом, а для австрийского – очищающей купелью. Кажется, впервые Гавелу-президенту предстояло совместить мораль с реальной политикой.
«Не ехать ни в коем случае! – твердили ему советники. – С этим человеком никто не разговаривает. В Соединенных Штатах он – persona non grata. Пока ты будешь пожимать ему руку, могут всплыть еще более ужасные факты из его биографии. Он лгал о своей военной службе, лгал о своей причастности, а ты президент правды».
Убедить Гавела им не удалось. Может, он действительно мечтал о поездке в Зальцбург, но скорее всего ему просто не хотелось объединяться с теми, кто окружил несчастного Вальдхайма презрением и атмосферой морального превосходства, – точно так же, как не стал он обвинять и травить своих тюремщиков и соглядатаев. Кроме того, Гавел, как и многие другие, подозревал, что информация о Вальдхайме вовсе не стала новостью для некоторых из тех, кто прежде, когда он был дипломатом и Генеральным секретарем ООН, использовал его в собственных целях. «Послушайте, – рассуждал вслух Гавел, – ну что там со мной может случиться? Я же пожимал руку Ясиру Арафату. Я поеду, но о прошлом молчать не стану».
Это прозвучало как еще один веский довод в пользу отказа от поездки. Становилось жутко от одной только мысли о публичной встрече двух президентов на фестивальной сцене. Однако Гавел уговорам не поддался, и ему, как и всегда, удалось остаться свободным от стереотипов. Он говорил об истории – четко и ясно, но самого Вальдхайма даже не упомянул.
Начал он свою речь со слов о страхе, который у многих жителей новых независимых стран вызывает неопределенное будущее – после прошлых, пусть убогих, но зато определенных десятилетий, а затем резко сменил тему:
Наш страх перед историей никогда не бывает только страхом перед будущим – это всегда и страх перед прошлым. Я бы даже сказал, что оба эти страха каким-то образом обусловливают друг друга: кто боится того, что будет, чаще всего боится взглянуть в лицо тому, что было. А кто боится взглянуть в лицо собственному прошлому должен непременно бояться того, что будет.
Слишком часто в этой части света страх перед одной ложью лишь рождает ложь следующую – в отчаянной надежде, что эта новая ложь защитит от лжи прошлой и лжи вообще. Но ложь никогда не может защитить нас ото лжи…
Представление о том, что можно безнаказанно пропетлять историей и переписать собственную биографию, относится к числу традиционных центральноевропейских заблуждений. Когда кто-то пытается сделать это, он вредит себе и своим согражданам[852].
Насколько мне известно, нет никаких сведений о том, что подумал или сказал о выступлении Гавела сам Вальдхайм. Но рукопожатием они обменялись.
Среди поездок, предпринятых Гавелом в первый год президентства, был и майский визит в Совет Европы – первую организацию, куда стремилась вступить новая Чехословакия. В августе Гавел принял участие в конференции «Анатомия ненависти» в Осло и с ее трибуны предостерег от все возрастающей опасности национализма и этнической вражды. Участие во «Всемирном саммите детей» в Нью-Йорке запомнилось ему прежде всего тем, что там, в квартире Миа Фэрроу на Сентрал Парк Вест он встретился с Вуди Алленом. Это была моя идея: как фанат двух этих людей и автор книги о Вуди Аллене я с огромным трудом организовал эту крайне неудачную «встречу столетия». Оба (и Гавел, и Аллен) были робкими от природы, а общих тем для разговора у них не находилось – главным образом потому, что Гавел не видел ни одного фильма Вуди Аллена, а Аллен не был знаком с творчеством Гавела.
В сентябре Гавел побывал также в Италии. Государственный визит включал в себя встречу с президентом Франческо Коссигой и премьером Андреотти, но в основном нами занимался итальянский министр иностранных дел Джанни де Микелис. Гвоздем того визита стала поездка на остров Капри, где Гавел получил премию имени выдающегося итальянского интеллектуала Курцио Малапарте, после чего де Микелис попотчевал его, можно сказать, разгульной вечеринкой в местной дискотеке, полной красивых молодых женщин. Когда наше официальное путешествие по Италии продолжилось, выяснилось, что некоторые из этих красавиц едут с чехословацкой делегацией в Рим – как члены штаба де Микелиса. Джанни не был типичным аскетичным дипломатом, и позднее у него из-за этого возникли проблемы.
В октябре Гавел вернулся в Париж, на этот раз на встречу на высшем уровне Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, нынешняя ОБСЕ. Главным пунктом повестки стало подписание Парижской хартии для новой Европы, которая должна была подвести черту под периодом холодной войны и провозгласить «новую эру демократии, мира и единства». Новый секретариат Совещания предполагалось учредить в Праге. Самым драматичным моментом встречи оказался тот, когда все мы увидели поникшую и опустошенную Маргарет Тэтчер – всего месяц назад в Праге британский премьер была в блестящей форме, а теперь она не смогла сдержать слез, узнав прямо во время встречи, что собственные коллеги сместили ее с должности. Хотя идейно Тэтчер была куда ближе к Вацлаву Клаусу, избравшему ее своим образцом, Гавел сопереживал ей в этой истории и до самой смерти сохранял к ней чувство искренней симпатии.
После поездок в Швейцарию, Испанию и Португалию годовой план визитов президента был выполнен полностью. В Швейцарии Гавел встретился со своим коллегой Фридрихом Дюрренматтом, с которым познакомился еще в шестидесятые годы и который умер всего через три недели после этой встречи, в декабре 1990-го. Обращенная к Гавелу хвалебная речь Дюрренматта, в которой он сравнил швейцарских противников военной службы с диссидентами коммунистической эпохи, а свою родину – с тюрьмой, пожалуй, смутила бы присутствовавшего при этом главу государства, не знай он – как и большая часть жителей Швейцарии, – чего можно в принципе ожидать от швейцарского национального драматурга[853]. Чехословацкие гости с трудом могли вообразить себе, будто Швейцария – это тюремная камера, однако Гавела должно было порадовать то обстоятельство, что его коллега согласен с ним в оценке современного общества, больного отнюдь не только коммунистическими идеями.
Испанской королевской чете – королю Хуану Карлосу и королеве Софии – их совсем не аристократичный гость полюбился сразу и навсегда. Чувства оказались взаимными, и Гавел потом не раз возвращался в Испанию, чтобы провести в одной из королевских резиденций часть своего отпуска. Во время встречи с главой автономного сообщества Каталонии Жорди Пужолем в Барселоне Гавел узнал, что с национальными проблемами сталкивается не только Чехословакия. Но вот город – и в особенности модернистские изыски Гауди – совершенно очаровал его своей красотой.
В Португалии Гавел возобновил знакомство с президентом Суаресом – первым главой государства, посетившим Прагу после Бархатной революции в декабре 1989 года и встретившимся с Гавелом еще до его избрания. Вторым заметным моментом той поездки была прогулка по пляжу на мысе Рока – именно тогда была сделана фотография неаккуратного президента с мокрыми штанинами.
Некоторые из этих визитов можно назвать триумфальными и все – за одним-единственным исключением – успешными. Это исключение не было частью государственного визита, хотя незадолго до той неприятной поездки и состоялись вполне удачные июльские визиты в Никарагуа и Мексику. Мечтая немного отдохнуть, Вацлав и Ольга приняли приглашение какой-то богатой вдовы чешского происхождения провести две недели в ее вилле на Бермудах. Времени хорошенько проверить и дом, и его хозяйку не было, да президент этого и не требовал. Первая пара страны отправилась в отпуск в сопровождении единственного личного охранника[854]. Дом оказался очень красивым, но вот его хозяйка внезапно обернулась тиранкой со склонностью к алкоголизму; вдобавок ко всему она явно положила на Гавела глаз. Вместо того чтобы полеживать у бассейна или на пляже, президентской чете пришлось сидеть взаперти в своей комнате в ожидании освобождения. Оно явилось в лице самой Мадлен Олбрайт, которая как добрая самаритянка прилетела на Бермуды и отвезла президента осматривать достопримечательности. Когда они вместе посетили местную станцию слежения НАСА, Гавел, показав на гигантские антенны, обратился к своим сопровождающим с невинным вопросом: «Ну что, вы нашли там каких-нибудь инопланетян?»
Неудача с отпуском оказалась всего лишь первой из череды неприятностей, случавшихся с Гавелом в дороге. Он очень любил путешествовать, возможно, пытаясь таким образом наверстать годы, проведенные за железным занавесом и в заключении. Правда, не везло ему тогда, когда в путь он отправлялся ради собственного удовольствия. Его полеты были сопряжены с богатой историей болезней, включавшей в себя депрессии, мигрени, жар, падения, переломы и даже встречи со смертью.
В первый год президентства, несмотря на всю славу Гавела и его мировое признание, поездки никогда не были случайными или избыточными. За исключением летнего полета в Центральную Америку, он ограничил визиты постепенно расширяющимся кругом бывших и будущих партнеров и союзников. То же касалось и официальных посетителей, принимаемых в Праге. Визит президента фон Вайцзеккера в марте и майская встреча с канцлером Колем были ключевыми для будущих отношений с самыми важными соседними странами[855]. Ноябрьский визит президента Буша, символически состоявшийся в первую годовщину Бархатной революции, являл собой следующий шаг в налаживании прочных связей с будущим важнейшим союзником. Вдобавок нам был продемонстрирован чисто американский подход к делу. Буш прилетел в сопровождении 700 человек, на «Боинге» («Борт номер один»); еще один самолет был запасным. С президентом прибыли: личный бронированный лимузин, запасной лимузин, личная бронированная ораторская трибуна, запасная ораторская трибуна. Самому визиту предшествовал приезд сотни членов подготовительной команды, в число которых входили десятки агентов секретной службы; эти последние использовали все возможные аргументы, кроме насилия, чтобы – ради обеспечения безопасности Буша – убедить советников Гавела на неделю покинуть свои кабинеты. Каждый шаг американского президента, каждый угол обзора телекамер и каждое слово его речи подвергались тщательной предварительной проверке. И все же план оказался нарушен. Выступая на Вацлавской площади 17 ноября, Буш, по предложению Гавела, покинул защитный пузырь, сооруженный для него охранниками на время произнесения речи, чтобы поприветствовать восторженную толпу. В ту же секунду один из агентов заметил неподалеку на земле пластиковый пакет. «Бомба! Бомба!» – зазвучало в наушниках, и к президентам бросилась масса охранников, чтобы сопроводить их в безопасное место. А в это время один из телохранителей Гавела подбежал к пакету и заглянул в него. «Какая еще бомба! Сосиски!»[856] Завершилось мероприятие без происшествий.
Два других видных гостя, которые в первый же год президентства Гавела посетили по его приглашению Чехословакию, были лидерами не государственными, а духовными. Первым из них был скромный, улыбчивый и остроумный человек по имени Тэнцзин Гьямцхо, более известный как четырнадцатый тибетский далай-лама. На протяжении нескольких десятилетий Запад выражал свое почтение этому символу духовного сопротивления тибетцев китайскому коммунистическому господству только издалека, чтобы не рассердить современную Срединную империю. Гавел был первым главой демократического государства, пригласившим далай-ламу к себе. Китайский посол громко выражал обеспокоенность, однако Чехословакию не покинул, хотя его протесты и оказались безрезультатными. Визит далай-ламы, носивший скорее частный характер, стал событием принципиальным: Гавел никогда за все тринадцать лет своего президентства не отказывался принять гостя лишь потому, что это было бы политически невыгодно.
Президента волновали совершенно иные проблемы. Он мечтал помедитировать наедине с далай-ламой. Но, согласно буддистскому этикету, никакой человек – пусть даже он и президент – не вправе напрямую попросить гуру о совместной медитации. Пришлось прибегнуть к закулисной дипломатии, и далай-лама явно посчитал своего нового ученика заслуживающим этой чести. Сеанс медитации состоялся (вроде бы незаметно) в римско-католическом костеле Святейшего имени Иисуса в Ланах – летней президентской резиденции.
Второй важной духовной персоной был папа римский. Учитывая длинную, хотя и довольно сложную историю чешского католицизма, у нас стал бы желанным гостем любой папа, но Кароль Войтыла, папа Иоанн Павел II, был поляком из соседней страны, символом, вдохновителем и катализатором веры и храбрости польского народа в его противостоянии с коммунистической ортодоксией, фигурой весьма харизматичной и, в довершение ко всему, в молодости – по счастливому стечению обстоятельств – тоже писавшим пьесы и стихи. Гавел выразил желание пригласить папу еще в своей первой новогодней речи, надеясь, что этот визит поможет духовному пробуждению народа, оказавшемуся на пепелище нигилистических обломков позднего коммунизма. Приезд Иоанна Павла II значил для Гавела очень много, и потому свои приветственные речи в аэропорту и на ужине в Граде он готовил со всей возможной тщательностью. На аэродроме он произнес слова, которые отличала необычная для Гавела эмоциональность:
Я не уверен, что знаю, что такое чудо. Осмелюсь, однако, сказать, что сейчас я – участник творящегося чуда: в страну, разоренную идеологией ненависти, приезжает посол любви; в страну, разоренную властью невежд, приезжает живой символ образованности; в страну, до недавних пор уничтожаемую идеей разделения мира и конфронтации, приезжает посол диалога, взаимной терпимости, мира, уважения, доброты и понимания, провозвестник братского единства в разнообразии[857].
Вечерняя речь звучала уже менее пафосно и была более философской. Гавел посвятил ее теме, мучившей его практически всю жизнь: источнику собственной непреходящей духовности, которая жила в нем, несмотря на то, что он не принадлежал ни к одной организованной религии и даже не имел никакого конкретного представления о божестве. «Я твердо надеюсь, что благодаря вашему визиту все мы вспомним об истинном источнике подлинной человеческой ответственности, то есть об источнике метафизическом <…> об абсолютном горизонте наших устремлений, о таинственной памяти бытия, где записан каждый наш поступок, о памяти бытия, которая одна по-настоящему этот поступок оценивает, пропустив его через себя». А в заключение он обратился к еще одной своей излюбленной теме – к теме общечеловеческой (и его собственной) склонности заблуждаться. «Я приветствую вас, святой отец, среди нас, грешников»[858].
На вечернем приеме в Граде Гавел попросил папу уединиться с ним для беседы с глазу на глаз. Во время государственных визитов такое случается – и, к сожалению, слишком часто. Но, вопреки обыкновению, Гавел никогда не поделился ни со мной, ни с кем-либо еще ни единой деталью этого разговора. Он не проходил католический обряд конфирмации, но тем не менее называл состоявшуюся беседу «моей исповедью».
Поддерживаемые Гавелом тесные связи с папой и с далай-ламой образовывали две стороны единого «духовного треугольника». Далай-лама встречался с папой по меньшей мере восемь раз, гораздо чаще, чем с любым другим иностранным сановником. Все трое имели много общего, включая личный опыт жизни при тоталитаризме, постоянное внимание к защите прав человека в целом и к проблеме обеспечения достойного существования каждому индивиду – в частности, а также универсалистское, объединяющее отношение к трансцендентному. Кроме того, все они заразительно улыбались и обладали тонким чувством юмора, неотъемлемым от чувства абсурда. На вечере с папой Гавел постоянно улыбался – так же, как во время встреч с далай-ламой. По-моему, никогда президент не бывал в лучшем расположении духа.
Четырнадцатый далай-лама в последний раз приехал к нам по приглашению Гавела 10 декабря 2011 года. У визита не было никакой заранее утвержденной программы, хотя они и подписали – каждый в отдельности – заявление группы правозащитников в поддержку диссидентов всего мира. Нам, присутствовавшим при этой встрече, показалось тогда, что далай-лама приехал попрощаться и что Гавел об этом знает. Оба мужчины побеседовали наедине и коснулись друг друга головами и ладонями. Тибетский лидер посоветовал обратиться к традиционной тибетской медицине и пожелал Гавелу «еще десяти лет жизни». Через неделю Гавел умер.
Среди множества парадоксов, окружавших Гавела, был и тот, что он, не являясь религиозным, был все же человеком веры. В некоторых моментах он приближался к тому самому понятию «таинственной памяти бытия», что пронизывало все его философские размышления и лежало в основе его политики, а иногда даже бесстрашно шел дальше. Его богом, если можно так сказать, было существо, не имеющее ни имени, ни конкретного образа. «Свод правил бытия, где навсегда записаны все наши поступки и где они единственно и по справедливости оцениваются»[859], – эта мысль проходит красной нитью через все его произведения, начиная от «Писем Ольге» и заканчивая «Пожалуйста, коротко». От представления о страшном суде она отличается тем, что не обязательно предполагает жизнь после смерти. Наши действия оцениваются независимо от нас и от формы нашего существования.
Гавеловское экзистенциальное чувство личной ответственности как предварительное условие свободы и жизни в правде отводит так много места свободе воли, что это несовместимо с представлением о всемогущем боге. Всеведущим такой бог быть может, как это показывает дилемма человека, размышляющего об оплате проезда в пустом трамвае, но вот всемогущим – нет. Мало того, он тоже может сражаться с собственными дилеммами. Об этом говорит нам то место в Ветхом Завете, где бог сомневается до тех пор, пока Авраам не напоминает ему о его ответственности: «Судия всей земли – разве может судить неправедно?»[860] То же происходит во вселенной Гавела. Ответственность есть у всех.
Это не следует понимать так, что Гавелу был ближе ветхозаветный бог, нежели иные его ипостаси. Любые попытки любой религии «присвоить» Гавела обречены на неудачу. Однако – хотя Гавел иногда и играл с холистическими представлениями философии Нью-эйдж, а слово «тайна» являлось для него ключевым – его мышление не было ни мистическим, ни уж тем более оккультным. Когда Гавел – слегка подталкиваемый и направляемый братом Иваном – сомневается и пробует преодолеть позитивистское понимание науки, это объясняется в основном большей терпимостью современной науки к парадоксам, неоднозначности и неопределенности, диктуемой квантовой теорией, принципом неопределенности и теорией относительности. Однако в отличие от многих, умудряющихся пройти по жизни, не удивляясь, Гавел находил тайну бытия в каждом человеческом поступке, каждом человеческом импульсе и в каждой встающей перед человеком дилемме. И в основе этой тайны лежало нравственное начало. Он не отметал ее как суеверие, не приписывал ее Провидению, Верховному Существу или Супер-Эго. Как он много раз подчеркивал, тайна не перестанет быть тайной, обретя имя или будучи объяснена; напротив, она станет еще таинственнее.
Как приготовить рыбу
Каждый может сварить уху из рыбы, но куда сложнее приготовить рыбу из ухи.
Судя по средствам массовой информации, могло показаться, что президент провел весь первый год своего пребывания в этой должности, разъезжая по миру. На самом деле бо́льшую часть времени и сил он уделял внутренним делам. Ситуация осложнялась. Без поддерживаемой властью монополии система плановой экономики повсеместно рушилась, а новая рыночная экономика была еще слишком слаба для того, чтобы ее заменить. Стало ясно, что рано или поздно стране потребуется кредит стэнд-бай от Международного валютного фонда. Никаких отечественных источников капитала, столь необходимого для инвестиций, не существовало, а иностранные инвесторы пока проявляли осторожность. Ширившаяся лавина слухов о коммунистических агентах на высоких постах отравляла общественное мнение, помогая замаскировать тот факт, что бывшие коммунистические заправилы тем временем по-тихому захватывали ключевые позиции в промышленности и торговле. Гавел старался отвечать на вызовы момента так быстро, как только мог. Во время своих «набегов» он посещал еженедельно (часто без предупреждения) десятки мест в той или иной части страны, пожимал руки тамошним жителям и разговаривал с ними, обращая свое и их внимание на самое главное. По моему предложению он начал каждую неделю записывать радиопередачи под названием «Беседы в Ланах» (навеянные «Беседами у камина» Франклина Делано Рузвельта и «Беседами с Т.Г. Масариком» Карела Чапека), которые служили сотням тысяч семей десертом после воскресного обеда. Гавел по-прежнему был очень популярен. Но на качестве его жизни президентство сказалось отрицательно. И в будни, и в выходные дни он работал до глубокой ночи. Разнообразие задач, связанных с его должностью, не позволяло ему сосредоточиться на чем-то одном, пренебрегая всем остальным. Он чувствовал постоянную усталость и часто болел; тогда ему приходилось вычеркивать в своем календаре отдельные пункты, а иногда и отказываться от всего намеченного на день. Весной ему вырезали грыжу. Ольгу, свою опору в жизни, он видел редко – не только из-за своих президентских обязанностей, но и из-за ее работы в Фонде доброй воли, который она создала и которым с присущей ей самоотверженностью руководила. Положительным моментом во всем этом, во всяком случае с точки зрения советников, было то, что теперь у Гавела оставалось не слишком много времени на подруг. Весной 1990 года он начал встречаться со своей будущей второй женой Дагмар, но пока это были мимолетные, ни к чему не обязывающие отношения.
В это же время к Гавелу пришло понимание, что свет в конце тоннеля все еще не брезжит. В громкой шумихе молодой демократии со слабыми институтами и ненадежными пока рычагами управления он по-прежнему оставался главным общим знаменателем. И по мере приближения к концу его первого президентского срока становилось все яснее, что никто не сможет заменить Гавела: ни стареющий Дубчек, ни обаятельный и популярный Динстбир, ни потрясающе работоспособный и боевитый Клаус.
На парламентских выборах значительное большинство и сильный мандат получили оба движения реформ, стоявшие во главе Бархатной и нежной революции. При этом, однако, проявились и признаки – у каждого из этих движений по-своему – их приближающегося упадка. Это было не так уж неожиданно. Гражданский форум, организация «Общественность против насилия» и их сторонники совпадали в стремлении ликвидировать прежнюю систему со всеми ее атрибутами, утвердить вместо нее власть, опирающуюся на демократический мандат, гарантировать власть закона и соблюдение прав человека, но между ними не было единства взглядов на то, как быть с экономикой или как обеспечить безопасность страны, каковы должны быть ориентиры во внешней политике или как урегулировать отношения двух государствообразующих народов. Остатков единодушия хватило на избрание Гавела подавляющим большинством депутатов Федерального собрания в начале июля. Но когда в конце лета люди стали возвращаться из отпусков, начались проблемы.
Еще до выборов от Форума отпочковались небольшие, но и немаловажные группы отступников. Ряд бывших диссидентов, главным образом консервативных политиков христианской ориентации, часть которых ранее активно действовала в Кампадемии и участвовала в ее собраниях в Градечке, уже в декабре 1989-го основал Гражданский демократический альянс. Другая консервативная группа, состоявшая из католиков во главе с Вацлавом Бендой, вначале присоединилась к Народной партии (которая быстро «забыла» о своем недавнем прошлом пребывании в составе Национального фронта), а потом выделилась в самостоятельную Христианско-демократическую партию. Некоторые активисты Гражданского форума, в том числе Рудольф Баттек, вступили в ряды возродившейся социал-демократии – старейшей и, может быть, почтеннейшей из традиционных партий (хотя капитуляция перед лицом коммунистического путча в 1948 году легла пятном на ее репутацию)[861]. Другие, например, будущий премьер-министр и нынешний президент Милош Земан, примкнули к ней несколько позже. Давние коллеги и оппоненты Гавела из журнала «Тварж» Эмануэл Мандлер и Богумил Долежал в январе 1990 года создали Либерально-демократическую партию – преемницу доноябрьской Демократической инициативы. Большинство членов Форума осталось в организации, но постепенно разделилось на два противоположных лагеря. Один из них образовала группа, включавшая часть основателей Форума, бывших хартистов и диссидентов. Было бы несправедливо называть их «хартистскими патрициями», так как в их прежней жизни было мало патрицианского, и для многих рядовых членов Форума они были моральным авторитетом. Другая группа состояла из новых, большей частью молодых активистов-непражан, которые в ноябрьские дни помогали создавать отделения Форума на местах. Среди них было мало традиционных диссидентов, и в движении они видели не столько продолжение доноябрьской активности, сколько открытую платформу, предлагающую множество головокружительных возможностей. Их не слишком интересовали замысловатые политические и философские дебаты, которые для многих из их старших коллег составляли главный смысл существования Форума. Они хотели продвигать перемены – и тем самым продвигать самих себя. Оба эти представления о характере Форума, в итоге оказавшиеся несовместимыми, были персонифицированы двумя соперниками в борьбе за руководство организацией: Мартином Палоушем – философом, членом Кампадемии, сыном одного из рассудительнейших и философичнейших хартистов старой закалки, и Вацлавом Клаусом – экономистом из «серой зоны», по любому поводу апеллирующим к чикагской школе социологии, человеком по натуре куда более задиристым, чем его визави. Клаус объезжал региональные отделения Форума, добиваясь поддержки рядовых членов, в то время как Палоуш понадеялся на нравственный авторитет диссидентов. После того как в январе 1991 года Клаус победил на внутренних выборах движения, получив две трети голосов, разрыв казался неминуемым. Традиционалисты обратились за помощью к Гавелу.
Но тот уже слишком отдалился от движения, у истоков которого сам стоял, для того чтобы эффективно повлиять на ситуацию. Он пригласил всех ведущих представителей Форума в Ланы на переговоры с целью примирения сторон, но все было напрасно. В конце концов Гавел принял, пусть и нехотя, идею подготовки соглашения о разделении Форума. Его отношения с Клаусом, которые никогда не были сколько-нибудь теплыми, испортились еще раньше, когда Гавел – после жалоб отдельных членов правительства на властные амбиции министра финансов и его неспособность работать в команде (если он ее не возглавлял) – попытался лишить Клауса исполнительных функций. Размышляя после выборов о составе нового правительства, он с подачи некоторых видных членов Форума предложил Клаусу чрезвычайно важную, но не политическую должность управляющего Государственным банком. Попытка полностью провалилась, показав (не в последний раз), что при лобовом столкновении Гавел не умеет противостоять сопернику, для которого те или иные резоны или уважение к президенту ничего не значат. Это было столкновение двух миров: в одном доминировали понятия общественного блага, нравственности, дружбы и личной ответственности, а во втором имели силу претензии отдельных индивидов, власть, конкуренция и политические механизмы. В Вацлаве Клаусе сторонник «неполитической политики» нашел безоговорочно политическое существо.
Мирное разделение Гражданского форума, однако, послужило моделью еще более важного события, которое в тот момент никто не мог себе представить. Клаус, настаивая на разделении Форума, которое развязывало ему руки для преобразования одного крыла движения в самостоятельную политическую партию, где его лидерству никто бы не угрожал, проявил не только жесткость, но и практичность. Он не собирался ввязываться в споры о том, какая из двух партий унаследует название «Форум», какая сохранит за собой его имущество и будет его правопреемницей. Ко всем этим вопросам он подходил разумно, а зачастую и великодушно. Это позволяло ему сосредоточиться на главной цели, состоявшей вовсе не в том, чтобы подчинить себе движение, а в том, чтобы взять в свои руки бразды правления. В глазах своих противников он становился могильщиком революции. В глазах сторонников – глашатаем нового устройства.
Именно такое устройство было теперь основной задачей нового правительства. В соответствии с предсказаниями британского политолога немецкого происхождения Ральфа Дарендорфа касательно annus mirabilis («года чудес»)[862], фундамент новой политической системы был заложен всего-навсего за шесть месяцев. В последующие приблизительно шесть лет должны были быть приняты ключевые решения по вопросам законодательства страны, ее экономики и создания множества институтов, благодаря которым свободное общество может функционировать и процветать. Однако никто пока не вспомнил о последней части прогноза Дарендорфа: что пройдет еще приблизительно шестьдесят лет, пока изменится мышление людей.
Не обязательно было разделять – и Гавел не разделял – экономический детерминизм Карла Маркса и его последователей, чтобы понять, что эффективная реформа экономики необходима для будущего благосостояния страны. Однако само по себе понимание этого еще ни в коей мере не означало, будто кому-то известен верный рецепт. Масштаб проблемы был огромным, а Гавел – вместе с большей частью чехов и словаков – не был достаточно основательно подготовлен к ее решению. Несмотря на то, что он неутомимо читал и занимался самообразованием, для него, как и для большинства из нас, оставались тайной не только основы экономической теории, вместо которой нас насильственно пичкали так называемой политэкономией (дикой смесью марксистской пропаганды и диалектической софистики), – у него вообще было лишь самое отдаленное представление о том, как функционирует настоящая экономика. То, что считали экономикой в коммунистической Чехословакии, где из стран реального социализма, вероятно, было национализировано больше всего, управлялось на треть по правилам казарм, на треть – по правилам трудового лагеря, а последняя треть работала по рыночным законам теневой экономики, и эта-то треть и была относительно эффективной, но, правда, нелегальной. Гавел, конечно, прислушивался к советам экономистов, но эти последние – чтобы все еще больше запуталось – были как минимум двух видов. Одну группу, возглавляемую и контролируемую Вацлавом Клаусом, составляли экономисты из академических кругов, которые в прежних своих исследовательских институтах и академических учреждениях для вида решали задачу квадратуры круга, стараясь при этом привнести в плановую экономику хотя бы мельчайшее рациональное зерно, но вместе с тем пользовались своим доступом к мировой специальной литературе и своими зарубежными контактами, чтобы узнать как можно больше о теоретической базе функционирования свободного рынка. Экономисты из второй группы были по большей части отстраненными менеджерами-реформаторами периода Пражской весны, которые умели обеспечить эксплуатацию завода или предприятия и при следовании догматам социалистической экономики (а часто вопреки им), но у них было весьма смутное представление о том, как функционирует рыночная экономика в нормальных условиях. Эти две группы теперь боролись за душу Гавела. Однако при наличии многих других приоритетов Гавел не располагал достаточным временем и не проявлял необходимого понимания, а может быть, и интереса, чтобы глубоко вникать в проблему.
В правительственном «Сценарии экономической реформы», принятом Федеральным собранием в сентябре 1990 года, цель преобразования системы народного хозяйства была сформулирована так: «Переход от централизованно планируемой к рыночной экономике». Поскольку никто пока не был готов трансформировать всю экономику, вначале в качестве своего рода пилотного проекта была запущена так называемая «малая приватизация», в ходе которой были проданы с торгов тысячи малых предприятий, магазинов, ресторанов и мастерских. Хотя это был самый справедливый и самый прозрачный способ, какой только могло предложить правительство, он не учитывал то очевидное обстоятельство, что в стране существовало крайне неравномерное распределение богатств, возникших не вследствие естественного отбора победителей и проигравших на свободном рынке, но – прямо или косвенно – в результате произвола коммунистических властей. У подавляющего большинства людей попросту не было денег, и они никак не могли их заработать. Шкала заработной платы была весьма недифференцированной, перекошенной в пользу рабочих профессий и в ущерб профессионалам всех видов. Отсутствовали акции, а сбережения приносили лишь минимальный процент. Считалось незаконным иметь в собственности более одного объекта недвижимости для жилья и одного для отдыха. Никакого капитала скопить было нельзя.
Капитал тем самым был сосредоточен исключительно в руках коммунистической номенклатуры и предпринимателей черного рынка – от мелких фарцовщиков до профессионалов, которые поставляли в остальном недоступные товары и услуги. В реальности эти группы составляли единый механизм, так как номенклатура посредством черного рынка превращала свою власть и благосклонность в деньги, а предприниматели на черном рынке зависели от милости или немилости номенклатуры.
Ввиду этого было наперед ясно, что от торгов выиграют только представители обеих вышеназванных групп. Единственной мыслимой альтернативой было бы преобразование собственности на приватизированные предприятия, полное или частичное, в доли их работников. К сожалению, этот метод зарекомендовал себя в полной мере лишь позднее, например, при реструктуризации таких гигантов, как United Airlines, а пока напоминал скорее «особый путь» к социализму, на который – без особого успеха – вступила бывшая Югославия.
Гавел, неизменно чуткий к любым признакам какой бы то ни было дискриминации и неравенства, поддерживал этот второй путь, поэтому он созвал совещание специалистов по экономике, чтобы убедить их в необходимости принимать во внимание интересы работников. Не владея языком экономистов, он опирался в своей аргументации на такие примеры, как неуверенность в завтрашнем дне, которая возникнет в случае торгов у директора его любимого ресторана «На Рыбарне» пани Берановой. Однако настоять на своем он не смог. В ходе торгов около 23 000 малых предприятий досталось преимущественно бывшим коммунистическим деятелям и предпринимателям с черного рынка. Фактический же результат для обеих этих родственных групп был еще лучше. С молчаливого согласия организаторов торгов они создавали картели, чтобы сбить цену, и многие предприятия, до того очищенные от долгов, были приобретены по правилам так называемого голландского аукциона за бесценок. А пани Беранова вскоре лишилась работы.
Помимо этого существовало необъятное множество частной собственности, которую коммунисты национализировали или конфисковали и частично привели в негодность. Это были личные владения, дома, земельные участки, леса, заводы и предприятия. Некоторые объекты первоначально находились в собственности организаций или объединений; среди них самым крупным собственником была католическая церковь. Иные объекты нацисты отобрали у евреев, а их владельцев ликвидировали. Послевоенные власти возвращением имущества наследникам жертв не занимались. В большинстве случаев первоначальных владельцев уже давно не было в живых, наследники эмигрировали или пропали без вести, а имущество пришло в упадок или изменилось до неузнаваемости.
Гавелу и правительству пришлось иметь дело с огромной малопривлекательной грудой обид и несправедливостей. В их решимости исправить хотя бы некоторые из них никто не сомневался, но с чего начать? Не все прошлые обиды и конфликты можно было приписать коммунистам. Некоторые из них восходили к временам Австро-Венгрии или к периоду образования независимой Чехословакии, когда в первую очередь были национализированы дворянские поместья и угодья крупных землевладельцев. Корни иных обид тянулись в XVII век – тогда после битвы на Белой Горе крупные поместья дворян-протестантов конфисковали победители-католики. И наконец, на повестке дня стояла и щекотливая проблема трех миллионов немцев, депортированных из страны после окончания Второй мировой войны.
Кое-кто думал, что лучше бы этих проблем вообще не касаться. Часть этих доводов звучала разумно. И облик, и стоимость имущества со временем изменились. Что-то было безнадежно утрачено или обесценено, что-то обременено долгами. А государство было не настолько богато, чтобы выплатить полную стоимость имущества на момент его конфискации, не говоря уже о процентах. Установление какой-либо временно́й или другой границы было бы неизбежно произвольным и порождало новую несправедливость. Некоторые аргументы имели под собой практические основания. В ряде случаев, прежде всего там, где речь шла о жилых домах и земельных участках, данный объект уже находился в частной собственности других людей. Не могло же государство исправить прежнюю несправедливость, совершив новую! Кроме того, у граждан страны сохранялась атавистическая нелюбовь к крупным собственникам как таковым, подкрепляемая четырьмя десятилетиями коммунистического воспитания, неприязнью к церкви, в особенности католической, и нескрываемой антипатией к эмигрантам, которые «бросили родину, чтобы хорошо жить на Западе, тогда как мы, оставшиеся, страдали от коммунистов».
Если Клаус интересовался главным образом приватизацией, а в вопросе необходимости и объема реституций занимал «сдержанную позицию»[863], то Гавел не придавал столь идеологического значения формам собственности, зато в тем большей степени настаивал на реституции, считая ее делом исторической справедливости. Поскольку тот и другой разделяли принцип неприкосновенности частной собственности, они сошлись также в том, что на государстве лежит обязанность компенсировать обиды, причем оба понимали, что далеко не весь причиненный ущерб можно будет возместить полностью или хотя бы частично. Протесты левых, особенно коммунистов, строились на спекуляции вокруг того факта, что Гавел благодаря реституции сможет вернуть себе «Люцерну», Баррандовские террасы и другое имущество; еще больше досталось бы Карелу Шварценбергу, который тем временем стал руководителем президентской канцелярии (канцлером). Возможно, во избежание малейших подозрений в конфликте интересов сам Гавел не принимал активного участия в законотворчестве, касающемся реституций, разве только предостерегал от новых несправедливостей. И все равно с этого момента левые карикатурно изображали его ревнителем интересов богатых, и в первую очередь своих собственных.
Закон, который Федеральное собрание после долгих дискуссий утвердило, получил в итоге довольно-таки реалистичное название «Закон о смягчении последствий некоторых видов имущественно– го вреда»[864]. Тем самым законодатели констатировали, что возможно лишь смягчить последствия причинения вреда (да и то лишь в некоторых случаях), но не исправить саму несправедливость. В качестве временно́й границы была определена дата 25 февраля 1948 года, и право на компенсацию имели исключительно чехи и словаки, проживающие в Чехословакии[865].
В тот момент названный закон являлся, быть может, самой смелой и последовательной попыткой исправить несправедливость прошлого во всем посткоммунистическом мире. Вместе с тем он открыл ящик Пандоры, откуда стали рваться наружу все новые и новые споры. Муниципальные органы не слишком усердствовали в деле возврата имущества; имели место случаи подделки документов, подтверждающих право собственности; потомки бывших владельцев пытались поскорее восстановить гражданство Чехословакии; наконец, поднялась волна протестов со стороны тех, кому в прошлом также был причинен вред, но, согласно букве закона, они не имели права на возвращение имущества.
Гавел старался играть роль нравственного арбитра, к которой его обязывала нынешняя должность и к которой он был предназначен самим своим характером и своим представлением о морали. Заботиться о реституции семейного имущества он предоставил своему брату и его жене, объявив, что никакой выгоды лично для себя добиваться не станет. Ему хватало доходов от литературного творчества и президентской зарплаты, значительную часть которой он к тому же жертвовал на благотворительность.
Еще меньшим было участие Гавела в следующей волне приватизации, которая стала знаменем всего процесса реформ, но также источником бессчетного количества будущих споров. «Большая приватизация» имела своей целью изменить отношения собственности в значительной части национальной экономики. Подобная операция наталкивалась на невиданные ранее препятствия. Стержневой здесь была проблема, которую экономист Джеффри Сакс и другие охарактеризовали как «превращение рыбного супа в рыбу». Для экономистов это был классический вопрос о том, как позволить рынку распределить собственность квазирациональным способом и тем самым дать экономике возможность эффективно функционировать. Однако в стране не было капитала, который обеспечил бы такое распределение. С политической точки зрения было неприемлемо отдать имущество тому, кто предложит за него больше, поскольку в этом случае практически все было бы продано иностранцам. Так возник остроумный проект «купонной приватизации», при которой настоящие деньги, по существу, заменялись игровыми. Автором идеи являлся последователь Вацлава Клауса, толковый экономист-теоретик Душан Тршиска. Выходец из семьи высокопоставленных коммунистов, он был одним из тех, кто знакомился с современным экономическим мышлением, имитируя попытки разрешения внутренних противоречий плановой экономики. На досуге он с друзьями развлекался, окутанный клубами дыма марихуаны, игрой «Монополия». Игровых денег и рискованных проектов он не чуждался.
В простоте плана был элемент гениальности, но вместе с тем и обмана. Гражданин за тысячу крон приобретал купонную книжку, номинальная стоимость которой была раз в тридцать выше. После этого он мог попытаться или обменять купоны на акции, тем самым самостоятельно играя на рынке и, если повезет, наблюдая, как растет стоимость его акций, или отдать купоны в один из стремительно возникавших «инвестиционных фондов» и поручить ему за небольшую плату инвестировать их вместо себя. Погореть на этом было невозможно, особенно если учесть, что некоторые фонды, начиная с «Гарвардских» поныне находящегося в международном розыске Виктора Коженого, заранее предлагали за купон в несколько раз больше его первоначальной стоимости. А в политическом отношении это было очень выгодно, тем более если инициатор был министром финансов и мог снабдить каждый купон факсимиле своей подписи. Купонная приватизация началась за полгода до выборов 1992 года.
Конец Чехословакии
Среди самых больших препятствий, которые должна встретить новая конституция, можно без труда разглядеть очевидные интересы определенного класса людей в каждом штате, опасающихся уменьшения их власти, доходов и выгод, получаемых от занимаемых ими должностей в учреждениях штата, а также извращенные амбиции другого класса людей, либо рассчитывающих разжиться в обстановке смятения, воцарившегося в стране, либо ласкающих себя надеждой, что перспективы подняться наверх при разделении империи на несколько местных конфедераций куда выше, чем при союзе, где правит одно правительство.
Александр Гамильтон, «Федералист № 1», процитировано Вацлавом Гавелом в его речи, посвященной первой годовщине Бархатной революции, 17 ноября 1990 г.[866]
В своем первом новогоднем обращении к гражданам Гавел сформулировал свою главную задачу так: «Использовать все свои полномочия и все свое влияние для того, чтобы все мы в скором времени достойно предстали перед избирательными урнами в ходе свободных выборов»[867]. С этим все были согласны, однако многие могли усомниться в его приоритетах, когда он назвал вторую цель: «Следить за тем, чтобы перед этими урнами мы предстали действительно как два полноправных народа, которые уважают интересы, национальную самобытность, религиозные традиции и святыни друг друга»[868]. Это были пророческие, хотя и не в полной мере, слова. Стало очевидно, что Гавел давно уже размышляет над тем, что именно с Чехословакией не в порядке, причем касалось это не только правящей идеологии. Так было и в случае с немецким вопросом, когда он сумел под вроде бы прочным слоем чехословацкой географии, демографии и федерального устройства заметить опасные тектонические разломы. Как человек, интересовавшийся историей, Гавел знал, что совместное существование чехов и словаков в едином государстве после Первой мировой войны хотя и могло казаться естественным, однако же не было ни само собой разумеющимся, ни беспроблемным. Новое чехословацкое государство придумали во время войны мечтавший о нем Масарик и чешские и словацкие эмигранты в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, они же согласовали его с руководителями чешских и словацких диаспор в Кливленде и Питтсбурге, заявили о его создании в Вашингтоне и добились для него международного признания на Версальской мирной конференции. Затем последовал жесткий спор об обещаниях и гарантиях, полученных в ходе переговоров меньшим народом от большего, – в виде автономии, самоуправления и пропорционального представительства на чехословацком уровне. Обе стороны вложили в свой брак много доброй воли, но – не взаимопонимания; вдобавок чешской стороне не всегда доставало такта. Хотя чешские учителя, чиновники и директора приходили руководить словацкими школами, учреждениями и банками скорее в силу необходимости, чем из-за некоего колониального высокомерия, местное население воспринимало их как чужаков, а иногда и как хозяев, не слишком отличавшихся от прежних владетелей – венгров. Когда после Мюнхенского сговора Чехословакия под напором нацистов рухнула, словаки не увидели причины хранить верность общему государству, стали самостоятельными и, к несчастью, соединили свою судьбу с судьбой гитлеровской Германии. Когда же после поражения нацизма Чехословакия опять стала единой, ощущение допущенных несправедливостей никуда не делось, просто его, как и многое другое, подмяла под себя жестокая машина тоталитаризма, едва ли не первой целью которой стал «словацкий буржуазный национализм». Краткая оттепель периода Пражской весны позволила открыть дискуссию о национальном вопросе и о конституционной реформе, сделавшей Чехословакию федеративным государством. Хотя реформы и были одобрены, по-настоящему воспользоваться их плодами не получилось: страну накрыл мрак нормализации, которой руководил Густав Гусак – человек, арестованный некогда собственными товарищами по коммунистической партии как словацкий буржуазный националист. Спустя всего несколько дней после Бархатной революции стало ясно, что хотя Чехословакии и были присущи отдельные черты справедливого и защищающего равноправие федеративного государства, однако же суть справедливости и равноправия здесь понимал мало кто. И Гавел как раз принадлежал к этому меньшинству.
Чуть больше времени понадобилось для того, чтобы уяснить неизбежную разницу в приоритетах на разных берегах реки Моравы. Если до Второй мировой войны Чехия и Моравия, представлявшие собой процветающие регионы с развитой промышленностью, оценивали двадцать лет нормализации как самые провальные за последние два столетия, то словаки рассматривали федерализацию как пускай во многом символический, но все-таки успех. Успешной оказалась и индустриализация, движущей силой которой стала прежде всего оружейная промышленность. Возможно, еще и поэтому гораздо меньше словаков открыто выступили против коммунистического режима. Среди изначальных подписантов «Хартии-77» их было всего шестеро, включая друзей Гавела – изумительного рассказчика Доминика Татарку и Мирослава Кусого. В ноябре 1976 года Зденек Млынарж напрасно добивался от Александра Дубчека подписи под уже готовым документом. До 1989 года к «Хартии» присоединились только 40 словаков, всего же подписантов было около 2000. Другими словами, если для Чехии нормализация стала национальной катастрофой, то словацкое общество, невзирая на все существующие проблемы, по-прежнему относилось к себе как к «обществу на подъеме»[869]. Потребность избавиться после «нежной» революции от всех остатков коммунизма словаки ощущали не так уж остро. Да и налаживание связей с Западом, которое было для чехов само собой разумеющимся, традиционное словацкое общество с его издавна ярче, чем у нас, выраженной приверженностью идеям панславизма тоже воспринимало неоднозначно.
Исторические, экономические и политические диспропорции в напряженной послереволюционной атмосфере неизбежно привели к нескольким кризисам во взаимоотношениях. В большинстве своем они не относились к числу судьбоносных, некоторые были совсем мелкими, а некоторые – так и вовсе комичными. Первый кризис – это, конечно, «война за дефис». Второй разгорелся после того, как Гавел публично поддержал министра иностранных дел Динстбира, заявившего, что Чешская и Словацкая Федеративная Республика, бывшая до той поры четвертым производителем и экспортером оружия в мире, прекратит поставлять вооружение кровавым диктаторам и террористическим группировкам. Сказанное относилось и к пластичной взрывчатке «Семтекс», в огромном количестве продававшейся ливийскому полковнику Каддафи, который затем передавал ее Ирландской республиканской армии или палестинскому «Черному сентябрю». Мотивы Гавела и Динстбира объяснялись в первую очередь соображениями гуманизма и морали, но при этом заявление министра демонстрировало готовность страны проводить разумную внешнюю политику, чтобы как можно быстрее заслужить репутацию ответственного и добросовестного члена международного сообщества. Правда, это решение плохо отразилось на сальдо чехословацкой внешней торговли, но в тот момент, когда холодная война только-только завершилась и обе стороны начали получать мирные дивиденды, нам это казалось не слишком важным.
Однако Гавел, к несчастью, не учел национальный аспект. В соответствии со стратегическими планами командования Варшавского договора большая часть чехословацкой военной промышленности переместилась из традиционных промышленных регионов Чехии и Моравии в сельскохозяйственную Словакию, подальше от предполагаемого фронта военного столкновения между Западом и Востоком. И это перемещение привело с собой в запущенные и заброшенные районы Центральной Словакии индустриализацию и относительное благосостояние. Резкий конец процветания и быстрый рост безработицы во многих словацких городах, целиком зависящих от одного-единственного промышленного предприятия, люди ставили в упрек Гавелу, совершившему этот высокоморальный поступок. Попытки объяснить, что времена процветания все равно вот-вот ушли бы в прошлое, потому что рынок сужался и желающих приобрести бронетранспортеры, пушки и противотанковые снаряды советского образца становилось все меньше, ни к чему не приводили. Гавел начал терять в Словакии популярность.
Углубление разногласий между чешскими, словацкими и чехословацкими элитами и – в меньшей мере – между чехами и словаками как таковыми было лишь одной из серьезнейших из тысяч проблем и кризисов, с которыми Гавел столкнулся в первые два с половиной года своего президентства. Подобно Гражданскому форуму словацкая организация «Общественность против насилия» начала распадаться практически сразу после первых победоносных выборов. Там тоже происходили конфликты между давними лидерами движения, имевшими дореволюционные заслуги, и новой группой честолюбивых прагматиков, которые внезапно заняли правительственные и парламентские посты. Пока первая группа, черпавшая свою силу в моральном авторитете, но плохо понимавшая, что ей делать с полученной властью, по-прежнему сотрудничала с президентом и федеральным правительством, вторая, руководимая словацким премьер-министром Владимиром Мечьяром (до революции – незаметный юрисконсульт и боксер-любитель), стремилась всячески усилить свои позиции, не брезгуя при этом использовать национальные разногласия и чувство обиды и неполноценности, которое – оправданно или нет – присутствовало у многих словаков.
После первых демократических выборов июня 1990 года напряжение возросло. Надеясь помочь с решением проблем, чешский премьер Петр Питгарт – то ли из-за нетерпеливости, то ли из-за чрезмерного честолюбия, то ли из-за всего этого сразу – решил взять дело в свои руки и инициировал двусторонние переговоры со словацкой политической элитой, полностью, таким образом, исключив из процесса федеральный уровень. 8 и 9 августа 1990 года оба республиканские правительства впервые публично встретились в городе Тренчьянске-Теплице. Мариан Чалфа – словак, но убежденный федералист, обладающий глубоким конституционным мышлением, – считает, что именно тогда был сделан шаг в ад: до тех пор, пока существовала асимметрия между федеральным уровнем и республиканским представительством, решить проблему – хотя и с трудом – было возможно, а вот окончательно разойтись – нет. Ввод в игру элемента симметрии запустил процесс, в котором федеральное правительство и – хуже того – федеральное законодательство превращались постепенно в третьего лишнего, а это открывало путь к разводу[870]. Некоторые видные представители Гражданского форума, к примеру Петр Ул, выразили свое несогласие весьма резко, предупредив об опасности сепаратизма, что вызвало еще более резкую реакцию словацкой стороны.
И снова участники спора обратились к Гавелу как к спасителю и моральному авторитету. На 17 августа 1990 года президент назначил встречу, в которой участвовали федеральный премьер Чалфа, премьер-министры национальных правительств Мечьяр и Питгарт, а также руководство Гражданского форума и «Общественности против насилия». На этой встрече Мечьяр заявил, что «федерация в таком виде не удержится»[871], и представил достаточно лаконичную программу обретения Словакией экономической независимости, дистанцировавшись, однако, от радикальной позиции, которую занял глава словацких христианских демократов Ян Чарногурский, считавший необходимым создание чехословацкой конфедерации. Гавел апеллировал к аргументам о международном положении Чехословакии и уважении, которым пользуется единая страна. Тем не менее днем ранее словацкое правительство уже приняло решение о создании собственного министерства иностранных дел. Так что встреча оказалась бесполезной.
Более года Гавел во время своих частых, иногда даже незапланированных поездок в Словакию пробовал смягчить противоречия между тамошними «революционерами», среди которых были и его личные друзья, и «оппортунистами». Многие из этих встреч происходили в гостинице «Буорик», бывшей гостинице компартии, торчавшей над городом, подобно гигантскому доту, и пугавшей своим видом не только жителей Братиславы, но и собственных постояльцев. И Гавел раз за разом убеждался, что его обаяние дает сбой, когда приходится сталкиваться с политиками, обладающими иммунитетом к нравственным доводам и предпочитающими популизм и демагогию. Кроме того, он ходил по тонкому льду, когда пробовал разрешать споры внутри одного или другого национального правительства: его часто обвиняли в том, что он поступает неконституционно, вмешиваясь не в свое дело.
Словацкий премьер Владимир Мечьяр совершенно не походил на политиков, с которыми Гавел общался на чешской стороне. Он был одновременно страшно заносчив и страшно не уверен в себе и имел пристрастие к проявлениям сентиментальной преданности, которые перемежались с моментами откровенной и иррациональной враждебности. Все в нем было подчинено безудержной жажде власти. Циклы, управлявшие его натурой, были так сильны, что в критические периоды он несколько раз попросту пропадал из своего кабинета и, страдая от депрессии, бродил тайком по лесам Центральной Словакии. В ноябре 1990 года, когда Гавел в очередной раз приехал в Братиславу, где разразился очередной же правительственный кризис, запаниковавшая верхушка «Общественности против насилия» обратилась к нему с просьбой о неотложной встрече в «Буорике», хотя он уже собирался уезжать. Президенту сообщили, что словацкий премьер-министр покинул днем кабинет, отправив предварительно председателю Словацкого национального совета письмо с извещением о своей отставке и с жалобной фразой: «Я остался один, наедине со словацким народом» – и теперь его нигде не могут отыскать. Сможет ли Гавел как-то отговорить его? Гавел ничего не понимал. Разве не эти же самые люди всякий раз, когда он приезжал в Братиславу (да и в другое время тоже), жаловались ему на Мечьяра? Почему же они не рады тому, что Мечьяр снимет наконец с их плеч тяжкое бремя? Да, конечно, но в Словакии нет никого популярнее Мечьяра, так что в случае его ухода правительство падет, воцарится хаос, им немедленно воспользуются радикальные националисты, а уж тогда последствия точно будут непредсказуемыми – объясняли свою просьбу друзья из ОПН. Гавел согласился уговорить Мечьяра передумать, но для начала его еще предстояло найти. С пропавшим премьером удалось связаться благодаря его русоволосой секретарше Анне Надь[872] – в президентской канцелярии ее прозвали «божественной Анной». Мечьяр согласился на встречу с условием, что про его письмо «забудут». После сумасшедшей гонки по шоссе Братислава – Прага Гавел и Мечьяр наконец встретились в мотеле «У Красного камня» на чешско-словацких пограничных землях; тем временем руководство «Общественности против насилия» укрывалось от глаз Мечьяра в окрестных постройках и за деревьями. Мечьяр хотел встречи тет-а-тет, но Гавел настоял на присутствии Карела Шварценберга[873]. По словам Гавела, словацкий премьер был очень плох, перемежал бурные изъявления чувств с параноидальными вспышками, но в конце концов согласился вернуться во власть, пообещав дружбу и верность до смерти «единственному политику страны, которому я могу верить».
Однако проблемы внутри словацкого руководства все накапливались. Когда в марте 1991 года Мечьяр объявил о создании собственной платформы «За демократическую Словакию», ОПН наконец решилось действовать, отозвало его с поста премьера и заменило Яном Чарногурским – уважаемым, но не пользовавшимся особой любовью словацким католическим диссидентом и националистом. Однако очень скоро в ОПН осознали правоту слов президента Джонсона, сказанных о директоре ФБР Эдгаре Гувере: «Пожалуй, лучше будет, когда он станет мочиться из палатки наружу, чем когда он мочится в палатку снаружи», ибо с этого момента Мечьяр, который немедля основал новую партию – Движение за демократическую Словакию, – целенаправленно и упорно стремился ослабить позиции федерального правительства в целом и Гавела (подозреваемого им в личной измене) – в частности. Это стало серьезной проблемой, обусловленной скорее не действиями самого Гавела, а тем, что многие путали всегдашние вежливость и доброжелательность, проявляемые президентом при личных встречах, с выказыванием им политической поддержки.
С федерацией Мечьяр боролся отнюдь не в одиночку, причем был далеко не самым радикальным. Существовало еще и националистическое, отличавшееся просто-таки неистовостью, крыло словацкой политики, представители которого со временем объединились вокруг Матицы словацкой – центра словацкого национального наследия. Часть словацкого католического духовенства, в определенной степени дискредитировавшего себя – как и некоторые чешские духовные лица – сотрудничеством с коммунистическим режимом, обратилась к Словацкому государству времен Второй мировой войны, рассматривая его как образец национального самоуправления. Зараза национализма проявляла себя в атаках не только на федеративное устройство и на чехов, но и на венгров (в виде неоднократных попыток узаконить словацкий язык как единственный официальный в стране с десятипроцентным венгерским меньшинством), ромов и евреев. Вдобавок среди противников оказались и бывшие союзники Гавела, в том числе и два самых заметных персонажа времен словацкой «нежной» революции – Ян Будай и Милан Княжко, которые посчитали себя преданными и потому озлобились; оба полагали, что с ними обошлись несправедливо и что их недостаточно ценили. Будай, экологический активист и политик телом и душой, был вынужден покинуть свой пост в руководстве ОПН – из-за его вскрывшихся контактов с ГБ. Он клялся в своей невиновности и обратился за моральной поддержкой к Гавелу, однако тот, по совету нескольких близких словацких друзей, ему не помог. Княжко отвернулся от Гавела, обидевшись на неудачную шутку о вице-президентстве. После новых президентских выборов он вернулся в Словакию и стал министром иностранных дел в словацком правительстве, а позднее – человеком № 2 в Движении за демократическую Словакию[874].
Расставание с Мечьяром и Княжко, имевшее значительные последствия, поскольку оба политика были в Словакии очень популярны, иллюстрирует не поддающуюся простому объяснению предрасположенность Гавела создавать себе непримиримых противников. Разумеется, политика – это одна из таких сфер человеческой деятельности, в которой куда легче обзавестись врагами, чем друзьями. Элемент соперничества проявляется здесь даже сильнее, чем в театре, где профессионалы всегда соперничают друг с другом, а борьба за власть пробуждает древнейшие из человеческих инстинктов, особенно среди самцов. И тем не менее из всех политиков Гавел, пожалуй, более других стремился всегда оставаться со своими противниками вежливым и доброжелательным и прислушиваться к чужому мнению. Невозможно было представить, чтобы он публично сказал что-то грубое о ком-то известном, да и за закрытыми дверями он делал это крайне редко. В тот раз это была просто невзначай брошенная, без тени осуждения, шутка.
Думаю, ключ к разгадке лежит в ожиданиях, какие Гавел невольно возбуждал в людях, с которыми он дружил или – в разные периоды своей жизни – сотрудничал; эти ожидания были напрямую связаны с магнетизмом его личности. Объяснялся ли он его невысокой, казавшейся хрупкой фигурой или чуть робкой манерой держаться, или ясно считывавшимся ощущением растерянности, какой-то неосведомленности, неуверенности, усталости либо отчаяния, я в точности не знаю, но у многих окружающих создавалось впечатление, будто Гавел всегда нуждается в помощи, вечно посылает миру сигнал SOS. Это заставляло людей спешить ему на помощь, утешать его, заботиться о нем. Сложно сказать, сознавал ли это сам Гавел, но временами казалось, что он и есть воплощение силы бессильных, человек, который может добиться чего угодно, демонстрируя свою полнейшую неспособность обойтись без посторонней помощи.
Этот феномен затягивал в свою орбиту практически любого, кто сталкивался с гавеловской беспомощностью. Чаще всего это были люди обыкновенного психического склада и с самыми обычными запросами, и после того, как Гавел пробуждал в них симпатию и преданность, зачастую прямо пропорциональные его мнимой беспомощности, они (столь же бессознательно) начинали ждать от него того же, и ждали до тех пор, пока не убеждались, что этого не будет – или, во всяком случае, отдача окажется куда меньше ожидаемой.
С одной стороны, это практически тривиальное рассуждение обо всех выдающихся людях: их уникальность неотрывна от того факта, что они ведут себя не так, как мы, обычные люди, и не руководствуются теми же, что и мы, правилами. Любой личный и эмоциональный контакт с ними по определению асимметричен.
Однако феномен Гавела сложнее: в отличие от множества исторических личностей он абсолютно не был склонен к самолюбованию или к нарциссическому упоению собой и своими потребностями. Он был наивнимательнейшим к нуждам других человеком, который всегда заботился об окружающих, всегда стеснялся подчеркивать собственную значимость и очень боялся кого-либо обеспокоить.
Но и совершенным Гавел не был. Если кто-то обращал его внимание на некую проблему, касавшуюся его окружения, он непременно старался помочь друзьям и никогда не отказывал им в просьбах. Однако он, вечно погруженный в раздумья, частенько запаздывал с реакцией на кризис, на обиду близкого человека и не замечал, что не оправдал чьих-то ожиданий. «Я по натуре не то чтобы эмпатик»[875], – признался он как-то.
Непроизвольно обидев Княжко, он скорее всего даже не понял, что личное честолюбие обманутого в своих ожиданиях словака оказалось неразрывно сплетено с национальным стереотипом о присущем чехам чувстве превосходства.
Опасность, грозившую федерации, Гавел прекрасно осознавал и изо всех сил пытался с ней справиться. Он изменил свой график, чтобы проводить в Словакии больше времени. Он хотел не просто иногда наезжать туда, а жить там каждый месяц по нескольку дней, чтобы исполнять свои президентские обязанности, принимать зарубежные делегации и местных политиков и встречаться и беседовать с как можно большим числом словаков. Результаты этого решения оказались неоднозначными. Встречи Гавела с рабочими во все более «ржавеющем» промышленном поясе Центральной Словакии нельзя было назвать успешными, а его стремление привлечь общественное внимание к отдельным социальным и правозащитным проблемам ромских поселений в Восточной Словакии местные жители отнюдь не приветствовали.
Тем не менее расширять президентское присутствие в Словакии и ее столице было необходимо. На территории Братиславского Града появился филиал Канцелярии президента под руководством бывшего диссидента Мирослава Кусого; этот филиал должен был представлять президента в его отсутствие и оказывать ему протокольную и логистическую поддержку в дни его пребывания в Словакии. О графике президента, о его контактах со словацким правительством и Словацким национальным советом и о сложном процессе налаживания отношений президента со словацкими средствами массовой информации там вместе с Кусым заботилась группка хорошеньких смышленых девушек.
Гавел увеличил и словацкое присутствие в Пражском Граде. Учтя сложную историю, связанную с Миланом Княжко, он назначил Мартина Бутора – социолога, писателя и одного из главных идеологов «Общественности против насилия» – своим советником по правам человека и национальным вопросам. После первых выборов Гавел убедил Милана Шимечку – пожалуй, самого узнаваемого бывшего словацкого диссидента – занять в Граде некую внештатную должность. К сожалению, Шимечка в канцелярии чувствовал себя плохо. Объяснялось ли это его состоянием здоровья, сгущающимися над Чехословакией тучами или способом, каким Гавел пытался решить существовавшую проблему, неизвестно, но спустя всего три месяца Шимечка умер от инфаркта.
Несмотря на то, что обе политические элиты не расходились во мнении относительно «справедливой и равноправной федерации», они не могли договориться о значении этих терминов. В декабре 1990 года Федеральное собрание после бесконечных заседаний приняло закон о разделении компетенций между Федеральным собранием и обоими национальными советами, что, естественно, привело к еще большей децентрализации. Перелом произошел после того, как Гавел лично выступил в парламенте и предложил принять закон о референдуме, конституционном суде и исключительных полномочиях президента, чтобы предотвратить грозящий конституционный кризис. Стратегия сработала, хотя никакого закона об исключительных полномочиях Гавел так и не представил.
После года поездок в Словакию Гавел почувствовал, что нуждается в отдыхе от давящего гетто отеля «Буорик», и попросил братиславскую канцелярию подыскать ему для его регулярных визитов более скромное и более симпатичное жилье. Очень скоро пришли хорошие новости: девушки из канцелярии нашли совершенно новую частную гостиницу на лесистом склоне в предместье словацкой столицы. Президента это обрадовало.
В следующий приезд в Братиславу президентский кортеж остановился перед аккуратным белым зданием, укрывшимся в саду, в стороне от городского шума. Гавелу гостиница понравилась, и он предложил всем нам выпить по бокалу, прежде чем разойтись по комнатам: завтра его ожидал напряженный рабочий день. Напитки принесли дружелюбные, красивые и легкомысленно одетые барышни. Президентские советники побледнели. Нет, они не могли поставить в вину молоденьким девушкам из канцелярии, которые только-только входили в жизнь и, к счастью, не знали пока, как оно бывает во взрослом мире, что они по наивности поселили президента в заведении, предоставлявшем сексуальные услуги. Но советников заранее страшили заголовки в завтрашних словацких националистических газетах. «Президент правды и любви в публичном доме» – это было самое скромное из того, что пришло им на ум. Буря негодования, гроза, которая вот-вот разразится над высокомерным чешским сексуальным империалистом, который приезжает в Словакию, чтобы обесчещивать невинных местных девушек, – вот что было самое страшное. Пытаясь минимизировать уже нанесенный вред, советники попробовали увести Гавела и запереть его в комнате, однако натолкнулись на неистребимое любопытство драматурга, который мгновенно уловил всю абсурдность сложившейся ситуации. Так что он, окруженный защищавшей его от покушений живой стеной из тел советников, не спеша допил свой бокал.
Другие инциденты были уже не столь забавны. Вопреки предостережениям некоторых своих словацких сотрудников, Гавел решил отправиться в Братиславу 14 марта 1991 года – в очередную годовщину провозглашения в 1939 году Словацкого государства. Националисты запланировали демонстрацию на той же площади, где пятнадцать месяцев назад толпа славила Гавела и «нежную» революцию. Президенту казалось, что если он откажется от поездки, то это воспримут как слабость, а националисты вновь получат шанс воспрянуть духом. После напряженной дискуссии со своими советниками Гавел решил остановиться возле Памятника чехословацкой государственности на набережной Дуная, а оттуда отправиться прямиком в братиславскую канцелярию, чтобы избежать встречи с демонстрантами. Но когда он услышал доносившиеся с набережной лозунги и крики с соседней площади, его любознательность вновь одержала верх. «Ну я же только одним глазком! – настаивал он. – Никакой закон не запрещает президенту посещать любое публичное место!» Надежды его переубедить не было – и президент направился на площадь.
То, что он увидел и услышал, его шокировало. Как только люди его узнали, лозунги тут же приняли личностный и агрессивный характер. «Чехи – назад в Прагу!» и «Гавелу позор!» были еще из тех, что можно воспроизводить. Затем инстинкт толпы заставил ее двинуться туда, где стоял Гавел и его сопровождающие. Толпа прорвала кордон словацких полицейских вокруг президента, и президентская служба охраны вынужденно противостояла огромной массе людей. Спасли Гавела пара личных телохранителей и несколько чешских и словацких друзей, сцепившихся вокруг него локтями. Казалось, мы все вот-вот задохнемся. Демонстранты становились все агрессивнее и враждебнее. Какой-то парнишка, на вид лет десяти, пнул Иржи Кршижана, здоровенного мужика из добропорядочной моравской протестантской семьи, в ногу с криком: «Ты, грязный чешский жид!» Мальчишка чуток ошибся. Чех еврейского происхождения стоял рядом, и это был я.
Понадобилось примерно десять минут, несколько не вполне учтивых тумаков и острые локти, чтобы наконец вытащить Гавела из этой давки и по одной из соседних улиц увести подальше от толпы. Все это время он не выказывал ничего, кроме своего обычного любопытства. «Они были какие-то взбудораженные, – говорил он. – Почему мы ушли оттуда так скоро?»
Раны и синяки зажили у нас только через неделю. А вот более глубокие раны в отношениях между чехами и словаками затягиваться не спешили. И хотя тон политических дебатов и споров по-прежнему оставался в основном вежливым и отличался взаимоуважением – поведение примерно трехтысячной националистически настроенной толпы в тот день в Братиславе представляло собой достойное сожаления исключение, – новые свободные СМИ и особенно их прежде не существовавшие бульварные «отпрыски» подбрасывали дров в костер взаимных обвинений, упреков и клеветы и пытались либо выставить чехов тиранами и угнетателями Словакии, либо, наоборот, изобразить словаков участниками большого заговора, составной частью которого являются «друзья старых порядков», ультраправые католические круги или заграничные криптофашистские группы, желающие восстановить словацкое государство времен войны. Некоторые политики-словаки быстро расценили сложившуюся ситуацию как идеальный инструмент для своего карьерного взлета. Конституционная и парламентская системы постепенно начали давать сбои. Несмотря на то что конституция, как в любом федеративном государстве, зиждилась на тезисе о верховенстве федеральных законов над республиканскими, не существовало никакого органа, который мог бы настоять на этом. Соответствующие полномочия Конституционного суда должны были получить одобрение шестидесятипроцентного большинства обеих палат; принятие решения было заблокировано словацкой частью Палаты наций – вплоть до принятия новой федеральной конституции, для чего, однако, конституция не устанавливала необходимого большинства. Это была типичная «Уловка-22».
Гавел и самые выдающиеся умники-политики с обеих сторон с самого начала отдавали себе отчет в том, что проблему невозможно решить ни демонстрациями, ни нападками в прессе. Президент перехватил инициативу и созвал первые из целого ряда переговоров, посвященных «государственно-правовым» вопросам, с участием представителей федеративного центра и национальных республик. Шансы представлялись неплохими. Политики с обеих сторон все еще были настроены дружелюбно, уважали друг друга и ценили мнение президента. Несколько раз казалось, будто переговорщики достигли согласия[876], но это впечатление рассеивалось на ближайшей же пресс-конференции или после возвращения республиканской делегации в свою столицу.
То обстоятельство, что на словацкой стороне национальные требования носили двоякий характер, лишь усложняло ситуацию. Ян Чарногурский и его коллеги из Словацкого демократического и христианского союза, поддерживаемые националистами-традиционалистами, были более открыты для компромиссов, когда речь шла о практических вопросах управления и осуществления правомочий, однако стояли насмерть в своих требованиях непременно «исправить первородный грех» – под этим они подразумевали нарушение обещаний, полученных словаками при образовании Чехословакии в 1918 году. По их мнению, это был основополагающий момент, и, следовательно, все, что случилось потом в процессе строительства общего государства, нелегитимно; поэтому они настаивали на полном обновлении чехо-словацкой государственности, но в этот раз – на основе свободы и полного равноправия. Чехи в принципе не возражали против подобного повторного заключения общего союза, но при этом не могли согласиться с точкой зрения Чарногурского, настаивавшего на том, что для подтверждения добровольности подписания такого акта обеими сторонами Чехословакия должна быть распущена – хотя бы и на мгновение. Неважно по какой причине – то ли из-за кошмарных юридических сложностей, которые непременно возникли бы, пойди мы по этому пути, то ли из-за сомнений относительно намерений словацких коллег (а эти сомнения не могли не появиться при виде нескрываемого честолюбия самого Чарногурского, мечтавшего обзавестись собственной словацкой звездочкой на будущем небосклоне Европейского союза), – но для чехов такое предложение было неприемлемым.
Вторая словацкая концепция, представленная Владимиром Мечьяром, гораздо менее ориентировалась на историю и на отдельные детали конституционного процесса. Сторонники Мечьяра рассматривали разделение власти между республиканскими правительствами и правительством федеральным как игру с нулевой суммой. Им было важно не столько сохранить «истинную» федерацию, сколько передать фактическую власть республиканским правительствам. На самом деле федерализация шла вперед довольно быстрыми темпами. Уже после принятия закона о компетенциях республиканские правительства несли полную ответственность за целый ряд сфер, включая образование, здравоохранение и окружающую среду, и частичную ответственность за экономику, недра и налогообложение. Но этого оказалось недостаточно. Теперь Мечьяр и его коллеги заявляли, что настоящая федерация невозможна, если словацкое правительство не возьмет на себя ответственность и за армейские части на своей территории, и за внешнюю политику Словакии, и за валюту и финансы (включая создание словацкого национального банка). Несмотря на то, что по этим вопросам были достигнуты мелкие компромиссы, например, появились отдельные министерства международных отношений – сначала словацкое, а затем и чешское (не отвечавшие, однако, за внешнюю политику), чехи продолжали отстаивать положение о том, что совместная оборонная и внешняя политика, а также общая кредитно-денежная и фискальная политика являются основополагающими характеристиками государства и что без этого государств будет два – то есть единой страны уже не будет. Однако переубедить Мечьяра не удалось.
Стремясь обеспечить разработчикам соглашения самую благоприятную атмосферу из всех возможных, мы проводили переговоры в красивейших местах Чехии и Словакии: в Ланах, Кромержиже, Славкове, Будмерицах, Жидлоховицах, Карловых Варах и во многих других. Переговоры затягивались, были утомительными и ни к чему не приводили. Чем яснее мы понимали, что для создания федерации двух равноправных республик невозможно найти устраивающее всех решение, тем более бессмысленными они становились. В начале февраля 1991 года, во время очередной подобной встречи, затянувшейся до глубокой ночи, Иржи Кршижан написал мне записку: «Федерация в заднице, дорогой друг». «Знаю», – написал я в ответ[877].
Некоторые детали этой истории были просто трагикомическими. По мере того как словацкие требования множились, а сопротивление чешской стороны ослабевало, в Моравии стало увеличиваться число политиков, явно решивших, что национализм – это вообще-то не так уж плохо. Все, в том числе и их земляки, не могли относиться к подобной идее всерьез, но морависты тем не менее сумели набрать на следующих выборах в Чешский национальный совет десять процентов голосов и поэтому заняли место за столом переговоров. Катарсис наступил 31 мая 1991 года на встрече президента с представителями республиканских парламентов в словацких Будмерицах, где лидер моравистов, пожилой и несколько бестолковый психолог Болеслав Барта, чтобы обосновать притязания мораван, пустился в долгие объяснения, ссылаясь при этом на результаты последней переписи населения. До предела утомив себя и слушателей, он наконец рухнул на стул. И только через несколько минут его соседи заметили, что он мертв[878]. Идеи моравистов пережили его ненадолго.
Имелись все основания предполагать, что если диалог удержится в рамках приличий и пожелания будут сформулированы как предложения, а не как ультиматумы, процесс затянется бог знает на сколько, при этом практически не угрожая политической и общественной стабильности. Но, к сожалению, страна не могла позволить себе такую роскошь. Она находилась в разгаре процесса гигантских преобразований, который закончился бы крахом, если бы мы не согласовали и не реализовали необходимые для проведения реформ шаги. Внешний контекст тоже не выглядел благоприятно. Югославия, страна с подобной нам родословной, уходившей корнями в конец Первой мировой войны, и похожая на нас по этническому (хотя и более сложному) составу населения, начинала распадаться – в корчах националистической ненависти, насилия и зверств. Нам всем казалось немыслимым, что нечто подобное может произойти в Чехословакии, однако это не значит, что такая перспектива не пугала Гавела и прочих, являясь им в ночных кошмарах. И уж совершенно точно она пугала Михала Ковача, будущего первого словацкого президента, который позднее пел дифирамбы разделению Чехословакии за то, что «оно предотвратило конфликт в сердце Европы»[879].
После того как Гавел и другие ведущие чешские и словацкие политики на запланированной в Братиславе манифестации за чешское и словацкое единство 28 октября 1991 года, в день государственного праздника, едва не стали жертвами града из яиц, президент решил, что пора что-то предпринять: иначе страна окажется в тупике – как политическом, так и конституционном.
Третьего ноября 1991 года Гавел пригласил в Градечек ведущих федеральных и республиканских политиков: председателя Федерального собрания Александра Дубчека, федерального премьер-министра Мариана Чалфу, словацкого премьер-министра Яна Чарногурского, чешского премьер-министра Петра Питгарта, председателя Словацкого национального совета Франтишека Миклошека, чешского министра юстиции Дагмар Бурешову, заместителя председателя Чешского национального совета Яна Калводу и федеральных министров Яна Страского и Павла Гоффмана, – чтобы предпринять последнюю попытку сдвинуться с мертвой точки. На волю случая он при этом ничего не оставил. Гости были приглашены с ночевкой, а на стол подали гуляш, собственноручно приготовленный хозяином. Гвоздем вечера была сливовица двадцатитрехлетней выдержки, бутылку с которой сельчане соседних Младых Буков закопали в землю в день советского вторжения в августе 1968 года. О чем говорилось на этой встрече, мы можем узнать из перенесенной на бумагу (200 страниц!) магнитофонной записи. Дискуссия была дружеской, но довольно напряженной. И – без определенных результатов. Вот ее короткий фрагмент, вполне передающий царивший тогда дух абсурдности.
Чалфа: Надо двигаться шажок за шажком. Можно сказать, что мы за общее государство, но не за конфедерацию.
Чарногурский: Пан председатель, боюсь, что вы правы, и по одной простой причине: скоро мы узнаем, что любой шаг к конфедерации неприемлем.
Питгарт: Ратификация – это типичный элемент конфедерации, потому что он будет применен один раз. Мы на нее в знак нашей доброй воли согласились. Так что неправда, будто любой элемент конфедерации неприемлем. Такой шаг приемлем, начиная с Кромержижа.
Бурешова: Элементом конфедерации является, например, и договор, который будет существовать параллельно с конституцией.
Чалфа: Послушайте, я же ясно выразился – общее государство, а не конфедерация. То, что в этом общем государстве будут какие-то элементы, мне совершенно все равно, об этом позаботится конституция. Конфедерация как тип государства нам не подходит. Мы это сказали. Согласны?
Питгарт: Пускай все это скажут.
Чарногурский: Нам представляется, что все в порядке, этот договор будет ратифицирован, и там будет много федеративных элементов, заключающихся в том, что решения федеративного государства будут распространяться непосредственно на граждан. Нам представляется, что каждый случай, например, вступление Чехословакии в Европейский союз… должен быть ратифицирован Словацким национальным советом. Это элемент конфедерации. Сразу вам говорю, что если мы на этом не сойдемся, значит, не сойдемся вовсе. Да, я согласен, что Чехословакия получит международную правовую субъектность, но мы хотим… чтобы было положение… что правительство хочет привести наши народы как равноправные субъекты в сообщество европейских народов… Иными словами, эту перспективу международной правовой субъектности мы не можем просто выбросить и от нее отказаться[880].
И этим своим словам Чарногурский остался верен. Я во время той встречи исполнял роль помощника повара, соавтора гавеловского проекта конституции, отставного психолога и стенографиста заявлений для печати. Четырежды за вечер я зачитывал текст совместного заявления, одобренного президентом, и четыре раза наблюдал, как он тонет в метафизической дискуссии о компетенциях федерации, следующих из договора между двумя государствообразующими народами, который, согласно федеральной конституции, не мог быть договором международным… Затем дискуссия вновь возвращалась к двум курицам, которым предстояло снести одно яйцо, которое до того должна была снести другая курица. И все по кругу, по кругу. Сливовица, правда, оказалась отличной.
Но даже если бы собравшиеся в Градечке сановники и смогли каким-то чудом прийти к согласию, это не имело бы решающего значения. Отсутствие двоих, за исключением Гавела, самых популярных политиков страны – Вацлава Клауса и Владимира Мечьяра – сразу бросалось в глаза. Любая договоренность не имела смысла без их поддержки, на которую – по разным, но взаимно дополнявшим друг друга причинам – рассчитывать не приходилось.
Гавел решил «ударить кулаком по столу» – нетипичный для него поступок! За две совершенно сумасшедшие недели в канцелярии президента возник проект конституционных изменений, которые не предполагали никаких конкретных решений проблем федерации, однако указывали выход из тупика. Наряду с прочими новшествами проект содержал пункт о принятии конституционного закона о референдуме, на котором обе части страны могли бы самостоятельно решить, хотят ли они продолжать и дальше жить в едином государстве, состоящем из двух равноправных автономных республик, или предпочитают этому создание двух независимых стран.
Гавел хорошо знал, что проект не имеет шансов быть принятым оказавшимся в тупике Федеральным собранием, и потому решил обратиться напрямую к гражданам. Он совершил символический жест: как и в дни Бархатной революции обнародовал свои предложения с того же балкона издательства «Мелантрих» на Вацлавской площади, с которого выступал тогда. Только теперь он формально обращался к Федеральному собранию, заседавшему в здании рядом с Национальным музеем. И граждане вновь собрались на площади и вновь поддержали президента.
Но силы бессильных, в чем Гавел опять получил возможность убедиться, в парламентской демократии оказалось недостаточно. Да, конечно, политики растерялись и несколько устыдились, когда услышали недвусмысленно выраженный призыв граждан прекратить чинить препоны и начать искать компромисс, который бы всех устроил. И первые пару дней они вели себя так, будто услышали этот призыв и намерены им руководствоваться. Однако позднее, когда воодушевление спало, предложения Гавела затерялись в лабиринте процедурных возражений, дополнений к проекту и голосований по комитетам. До общего голосования дело так и не дошло.
Кроме того, причина неудачи последней серьезной попытки Гавела сохранить единое государство заключалась и в асимметричной реакции на его предложения. В Словакии его призыв не получил массовой поддержки. Там вышла на демонстрацию пара сотен человек и даже (по словацкой инициативе) возникло движение по сохранению единого государства «Мост», но это было все. Чешские и словацкие политики легко сходились в одном: проблему надо решать не на улицах, а в парламенте. И, в принципе, президент не мог с этим не согласиться. Разве что указать, что проблема никак не решается.
Поскольку попытки президента провести свои идеи через парламент раз за разом заканчивались неудачей, в среде его советников созрела идея создать некий политический механизм поддержки Гавела – то есть что-то вроде президентской партии, которая бы продвигала его предложения и защищала их в законодательном процессе. В начале 1991 года я составил для президента и его ближайшего окружения некий внутренний документ[881]. Речь шла не о классической политической партии, а скорее о коалиции нескольких партий, базирующейся на поддержке друзей и соратников Гавела по дореволюционным и революционным временам, которые теперь принадлежали к разным политическим партиям. Это могла бы быть и одна из существующих политических партий, готовая признать Гавела своим лидером и включить в программу его идеи. Для этой цели вполне подходила, например, осиротевшая часть Гражданского форума, называвшаяся теперь «Гражданское движение», или же это могло быть совершенно новое движение, которое предложило бы политическое пристанище любому, кто продолжал поддерживать идею чехословацкой федерации как демократической, светской, гуманистической, современной и культурной страны.
Гавел был настроен скептически, но выслушать нас не отказался. Ситуация продолжала ухудшаться, и в один из февральских уикендов 1992 года в замке в Ланах было устроено что-то вроде «штабных учений» для гавеловской команды; на этих «учениях», с учетом приближавшихся июньских парламентских выборов, встретились две группы – «партийная» и «антипартийная». Результат оказался неопределенным. «Антипартийной» группе пришлось признать, что без организованной политической силы президент вряд ли сумеет остановить грядущий распад страны или настоять на реализации своих дальнейших планов. «Партийной» же фракции, куда входил и я, пришлось признать, что подобный шаг изменил бы принципиальным образом всю суть гавеловского президентства и вовлек главу государства в каждодневное политическое «перетягивание каната», чего Гавел никогда не хотел.
Через два дня стало ясно, что Гавел и сам против такого шага. На обсуждении прошедших «учений» он перечислил все аргументы в пользу создания партии. Да, подобная сила могла бы пригодиться, сказал он, но тут же добавил, что ему сложно представить, что он ее возглавит. Собственно, во время этого обсуждения он повторил возражения, высказанные им в статье «На тему оппозиции» 1968-го года. И что бы там ни думали советники из обеих фракций, они тоже не видели его в такой роли. Да и, откровенно говоря, это было уже неважно. Время ушло.
Когда последняя попытка подписать одобренный экспертами обоих республиканских правительств в марте 1992 года в Миловах договор между двумя республиканскими парламентами провалилась при голосовании в президиуме Словацкого национального совета, не добрав один голос, стало ясно, что развод неизбежен. Впрочем, даже если бы этот договор между двумя правительствами, быстро терявшими общественную поддержку, и был подписан, после июньских выборов его, скорее всего, все равно оспорили бы. Согласно мнению Мечьяра, миловский документ вообще не мог считаться договором.
На выборах Движение за демократическую Словакию превзошло результаты опросов общественного мнения, ожидания собственных сторонников и надежды на худшее своих федеральных противников, одержав убедительную победу. «Гражданская демократическая партия» Вацлава Клауса столь же безусловно победила в Чешской Республике. Гражданское движение провалилось по всем направлениям и даже не попало в парламент.
Последовал окончательный решающий акт чехословацкой истории – и один из самых упорядоченных процессов разделения страны в истории человечества. Планировал его и руководил им не Гавел, на чью долю выпала невыполнимая задача: сформировать федеральное правительство из представителей двух партий, лидеры которых не могли договориться ни о чем, кроме того, что президент не должен иметь право контроля, и не Мечьяр, который не был стопроцентно уверен, что ему выгоднее: добиваться полной независимости или как можно лучше распорядиться сложившейся ситуацией, а самый рациональный и самый решительный из этой тройки – Вацлав Клаус.
Как экономист чикагской школы Клаус с трудом представлял себе свою работу в правительстве, которым руководит – единолично или вдвоем с ним – Мечьяр, чьи экономические воззрения были близки к корпоративистским представлениям о государственном устройстве. Личные особенности этих двух людей, их упрямство и непоколебимое желание стоять на своем сулили схватку апокалиптического масштаба. А еще Клаус знал, что при новом Федеральном собрании не существует надежды на выход из конституционного тупика и достижение компромисса, который позволил бы продолжить реформы. И этот холодный и логически мыслящий шахматист, отбросив все невозможные решения, понял, что остается лишь одно: разделить государство, которое просуществовало 74 года и которое, возникнув из руин после Первой мировой войны, пережило, хотя и с трудом, еще и Вторую мировую.
Убеждать Мечьяра почти не пришлось. После переговоров в невероятных интерьерах брненской виллы «Тугендхат» спикеры обоих партийных лидеров сообщили, что обе партии договорились о разделении Чехословакии еще до конца текущего года.
По мере того как в президентскую канцелярию приходили сообщения об итогах выборов, и Гавел, и его советники все отчетливее понимали, что по федерации и по президентству Гавела вот-вот прозвонит колокол. Для Гавела это означало не только катастрофическое политическое поражение и крах руководимого им государства, но и удар в самое сердце его собственной философии толерантности и гражданского – в отличие от национального – этоса. Вдобавок перед ним тут же встала сложная конституционная проблема. Как глава государства, присягнувший на верность целостности федерации и ее конституции, он должен был быстро сделать выбор: или выступить против принятого решения, которое в конце концов было всего лишь договоренностью лидеров двух политических партий (хотя оба и были легитимными победителями демократических выборов в соответствующих частях страны), или смириться с неизбежным. И снова мы дни и ночи напролет анализировали различные возможности – и ни одна из них не давала президенту шанса выйти из сложившегося положения с честью. Гавел был внутренне убежден – да и не скрывал этого, – что уж если федерация должна разделиться, то произойти это может только по итогам общенационального референдума, а не на основании закулисных договоренностей, тем более что ни одна из победивших партий во время предвыборной кампании не обозначила четко свое намерение разделить страну. Но вместе с тем он знал, что решение о проведении референдума должно быть принято конституционным большинством обеих палат Федерального собрания и что такое большинство получить невозможно. Вдобавок Гавел ясно отдавал себе отчет в том, что даже если бы каким-то чудом требуемое большинство голосов и было получено и даже если бы большинство избирателей Чехии и Словакии высказалось за сохранение общего государства (о чем по-прежнему свидетельствовали результаты опросов общественного мнения), принципиально бы это ситуацию не изменило. Парламент был бы все так же заблокирован, патовая ситуация с конституцией осталась бы неизменной, а страна была бы по-прежнему парализована. На горизонте маячил призрак распада демократических институций. Референдум может справиться с кризисом только в том случае, если проигравшее меньшинство признает свое поражение. В странах с незрелой демократией, где таких проигравших много, а настроены они решительно, подобные гарантии дать нельзя, а ведь чехословацкий кризис происходил не в вакууме. Продолжавшемуся жестокому кровопролитию в бывшей Югославии референдум как раз предшествовал: он проводился в четырех из шести союзных республик. И хотя Гавел с трудом мирился с необходимостью легитимизировать процесс разделения страны, он знал, что попытка в полной мере воспользоваться всеми преимуществами должности президента для того, чтобы этот процесс остановить, чревата огромными рисками. Свое отношение к ситуации, которая, как он надеялся, никогда не возникнет, Гавел высказал еще год назад: «Чем годами жить в недействующей федерации или в какой-нибудь псевдофедерации, которая только мешает и создает сложности, лучше жить в двух самостоятельных государствах»[882].
Хотя он и знал, что это всего лишь трата времени, он действовал так, как того требовали от него конституция и уважение к правилам политики. Он проводил консультации с политическими партиями в новом парламенте. Он отправился в Словакию – в последний раз как федеральный президент – и посетил только что избранный Словацкий национальный совет. Он пригласил в Пражский Град Мечьяра и глубокой ночью сообщил журналистам на пресс-конференции о результатах этой встречи – а вернее, об их отсутствии. Все эти недели он словно ходил по раскаленным углям, однако ни на мгновение не позволил себе расслабиться, поддаться гневу или фрустрации. Он изо всех сил стремился – и полагал это своей последней задачей в роли чехословацкого президента – сохранить в отношениях между обоими народами как можно больше доброжелательности. Он принял предложение обеих партий создать слабое временное федеральное правительство во главе с премьером Страским, в то время как Клаус и Мечьяр возглавили каждый соответствующее республиканское правительство, не оставив тем самым ни малейших сомнений в том, как именно будут развиваться события. Хотя Гавел и склонился перед неизбежным, осенять его авторитетом президента он не хотел. Семнадцатого июля, спустя несколько часов после того, как словацкий парламент принял декларацию о суверенитете, которая фактически утверждала верховенство словацкой конституции и словацких законов над конституцией и законами федерации, Гавел объявил о своей отставке. Через три дня, жарким и влажным летним днем, он – в рубашке с коротким рукавом, усталый, но примирившийся сам с собой – устроил в Ланах прощальную пресс-конференцию.
Ожидание как состояние надежды
Надежда – это не уверенность в том, что все хорошо кончится, но убеждение в том, что это имеет смысл независимо от того, как это кончится.
Вацлав Гавел
Головокружительная езда Гавела по горной дороге, подхлестываемого адреналином успеха и массовой популярности, бессчетным множеством сигарет, кружек пива и бокалов вина и опасной смесью возбуждающих и успокаивающих средств закончилась аварией. С 20 июля, когда вступила в силу его отставка, прежде переполненный календарь Гавела сразу очистился. Процесс разделения, в ходе которого необходимо было решить проблему правопреемства, разделить имущество, в том числе военное снаряжение, а также посольства по всему миру, согласовать детали отношений между двумя новыми странами, решить вопросы о создании таможенного и валютного союза, а также о взаимном признании дипломов и квалификации, урегулировать проблемы гражданства, занял еще почти полгода, но Гавел в этом не участвовал. По его собственным словам, он был «как сдувшийся воздушный шар». Раньше в подобных ситуациях ему всякий раз удавалось вернуться в игру благодаря исключительно отважному поступку или длительным размышлениям. Теперь же все обстояло иначе. Он не мог участвовать в гонке к разделению – это противоречило его убеждениям, его философии, пониманию демократии и чувству ответственности, но точно так же, с учетом всех рисков и неопределенности, которыми была чревата эта ситуация для пятнадцати миллионов его сограждан, не мог встать по отношению к ней в позу высокомерного героя. Гавел не просто потерпел поражение, к чему он в прошлом привык и чему был обязан некоторыми из своих лучших произведений и самых смелых актов гражданского неповиновения; на сей раз он, по крайней мере на время, был выведен из игры.
Гавел перебрался из Града в «нижнюю канцелярию» в доме на набережной, где мог рассчитывать на группу верных друзей по дореволюционным временам, таких как Анна Фрейманова, Владимир Ганзел и другие, которые занимались его личными делами и могли оказать ему элементарную «офисную поддержку». Но если он хотел продолжать заниматься политикой, ему следовало найти себе новую политическую команду, так как прежняя, по договоренности с самим президентом, достигнутой еще до упразднения должности федерального президента и чехословацкой федерации, самораспустилась и разошлась на все четыре стороны. Расставание было теплым, дружеским, но тем не менее болезненным. Как президент, так и его сподвижники ощущали, что нужны перемены. Советники устали и вымотались. В глазах критиков Гавела они олицетворяли небюрократический, богемный стиль его президентства и легко становились мишенями для нападок, которые на самом деле были направлены против их шефа. И они, и президент воспринимали это как неизбежные издержки своей работы. В связи с этим Гавел часто вспоминал сказки о добром короле, окруженном злыми советниками, и неизменно их защищал. Но и сам он не мог не чувствовать себя измученным, скованным необходимостью действовать всегда с оглядкой на них – не только коллег, но и друзей.
Естественно, во время президентства Гавела между его советниками стали возникать и кое-какие разногласия. Хотя все они оставались по-прежнему верными нравственному ядру гавеловского понимания политики, сутью которой были личная ответственность, права человека и гражданская активность, часть из них начала расходиться с шефом во взглядах на стратегию и используемые методы. У советников создавалось впечатление, будто – хотя идеи Гавела имеют ту же силу, что и раньше, – упорные старания добиться буквально всеобщего их признания, а затем и утверждения в чем далее, тем более трафаретном мире политических партий, парламентских комитетов и закулисного лоббирования не достигают эффекта. С трудом давалось и введение общеобязательных процедур и подходов внутри самой канцелярии, постоянно изменяющейся в зависимости от очередного инсайда или каприза президента. Сплоченный кружок друзей неизбежно действовал наподобие клуба. Творческие прихоти Гавела придавали ему некоторые черты двора, меж тем как президенту приличествовала канцелярия.
И вот «блохи» сбежали из мешка. Советник по вопросам внешней политики Саша Вондра стал заместителем министра иностранных дел, советник по внутренней политике Иржи Кршижан – заместителем министра внутренних дел, советник по безопасности Олдржих Черный – директором Управления по внешним связям и информации, новой чешской разведки, а я отправился послом в Вашингтон. Петр Ослзлый снова занялся театром, Мирослав Масак архитектурой, Эда Крисеова литературой, а Ладя Кантор – музыкой. У Князя наконец-то появилось время, чтобы заняться своим имуществом, которое ему вернули в довольно разоренном состоянии.
На самом деле круг друзей не распался, но скорее расширил сферу своей деятельности. Хотя им недоставало ежедневного общения с Гавелом, все они по-прежнему были рядом, работали вместе с ним над целым рядом проектов, переписывались, обменивались идеями и всегда были готовы поддержать его или дать совет. Президент более или менее регулярно встречался со своим «мешком блох» на вечерах, юбилеях и по другим торжественным поводам. Большинство его сподвижников собралось, чтобы отметить его – последний – день рождения в пражском «ДОКСе» 1 октября 2011 года. Все до единого – кроме умершего Иржи Кршижана – были на его похоронах.
Но решение, к которому Гавел пришел в конце июня 1992 года, он должен был принять сам. Хотя процесс разделения только начался, никто не сомневался, что в конце года Чешская Республика будет самостоятельной и ей потребуется новый глава государства. В игре было слишком много неизвестных для того, чтобы Гавел мог быть твердо уверен, что сможет и захочет выступить в этой роли, и своих колебаний он никогда не скрывал. Тем не менее он решил, что не удалится от дел и не оставит общественное поприще. Так же, как в 1989 году, он дал понять, что готов служить, если это необходимо. Только, в отличие от 1989 года, у него не было уверенности, что его служение понадобится. Лишенный политической силы, пусть даже такой свободно организованной, какой являлся Гражданский форум, он не имел в своем распоряжении инструмента, позволяющего публично выдвинуться на должность президента, и даже не планировал никакой кампании.
В этой ситуации ему оставалось только одно: ждать. В мире политиков умение ждать встречается довольно редко, но в случае Гавела это ожидание не было бесплодным, о чем, помимо прочего, свидетельствует его благодарственная речь по случаю избрания его членом французской Академии гуманитарных и политических наук 27 октября 1992 года.
В этой речи он выделил две разновидности ожидания. Одна – ожидание Годо – проистекает от отчаяния. Люди, чувствующие себя бессильными, неспособными изменить условия своей жизни, связывают свои надежды «с приходом какого-то неясного спасения извне. Однако Годо, во всяком случае как предмет ожидания, не приходит, потому что его просто не существует. Это лишь подмена надежды. Не надежда, а иллюзия. Плод собственной беспомощности. Заплата для зияющей в душе дыры, но заплата и сама насквозь дырявая. Это надежда людей без надежды»[883].
Иное дело – «ожидание, основанное на осознании того, что говорить правду и этим оказывать сопротивление имеет смысл из принципа, просто потому, что так должно быть и что нельзя строить расчет на том, приведет ли это к чему-нибудь… Ожидание как терпение. Как проявление надежды…»[884]
На первый взгляд отсылка к Сэмюэлю Беккету, самому знаменитому из современных франкоязычных драматургов (который, впрочем, был не вполне французом), выглядит как попытка польстить французским академикам. Но в следующей части речи Гавел использовал эту дихотомию для анализа и одновременно суровой критики своего собственного нетерпения в последние три года, в течение которых ничто не было завершено вовремя (если вообще было) и крайне редко завершалось по плану. Гавел видел в этом очередной пример «пагубной поспешности современной технократической цивилизации, основанной на гордом рациоцентризме, с ее заблуждением, будто мир – это просто кроссворд, который надо разгадать…»[885] И далее: «Я тоже, сам того не замечая, фактически разделял ложное убеждение, что являюсь полновластным хозяином положения и единственная моя задача – по какому-то заранее заготовленному рецепту это положение улучшить. И что только от меня зависит, когда я это сделаю; так почему бы, следовательно, не сделать немедленно? Короче, я думал, что время принадлежит мне. Однако это была большая ошибка. Мир, наше бытие и история имеют свое время, и хотя мы можем творчески вмешиваться в его ход, полностью оно не принадлежит никому из нас… Размышляя о своем политическом нетерпении, я с новой ясностью осознаю, что политик настоящего и будущего <…> должен научиться ждать в самом лучшем и глубоком смысле этого слова <…>. Поведение такого политика не может <…> опираться на гордыню, но должно проистекать из смирения <…>. Да, и я, саркастичный критик всех заносчивых толкователей мира, вынужден был напомнить себе, что мир нельзя лишь объяснять, его нужно еще и понимать»[886].
Легко сетовать на высокомерие политиков. Но утверждать, что люди должны выбирать политиков по их способности ждать, было бы невообразимо самонадеянно. Ведь избиратели, возразит кто угодно, выбирают политиков как раз за их способность что-то изменить, достичь какого-то результата, что-то продвинуть вперед, а не потому, что они умеют ждать. А у скольких политиков, добавит другой, ожидания сбываются? Сколько из них на самом деле выполняют то, что обещали? Не обусловлена ли нынешняя волна разочарования избирателей в политиках в значительной части именно несбывшимися ожиданиями? И еще более по существу вопроса: действительно ли избиратели, голосующие все время за одних и тех же политиков, одни и те же партии, одни и те же обещания перемен, верят в то, что перемены наступят? Не делают ли они только вид, будто ожидают перемен, точно так же, как политики делают вид, что осуществят их? Не ожидают ли избиратели в конце концов Годо, который «не придет, ибо его не существует»[887]? Косвенное отрицание Гавелом романтической максимы Маркса «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[888], провоцирует вопрос, как много от марксистской доктрины все еще служит оправданию политики, какова бы она ни была?
Однако не выглядит ли это как ложная скромность со стороны человека, на счету которого немало заслуг в осуществлении одного из крупнейших изменений в новейшей истории? Разве он не боролся и не страдал долгие годы как раз ради того, чтобы добиться такого изменения? Ни в этой своей речи, ни где-либо еще Гавел не говорит о том, как он боролся и страдал, тем более из этих соображений. Скорее он отметил бы самодовлеющий характер жизни в правде, отличающий ее от «инструментального» характера стремления к переменам. Для самого Гавела то, что он делал, было бы столь же осмысленным и в том случае, если бы в течение его жизни – или вообще когда бы то ни было – не произошло никакого изменения. Благодаря своему умению «творчески вмешиваться» в ход истории он, возможно, помогал изменению раскрыться либо даже ассистировал ему, но мысль, будто он осуществил это изменение, показалась бы ему кичливой.
Теперь, став свидетелем перемен иного рода, которых Гавел не планировал и не желал, он сумел принять их как очередное доказательство своей убежденности в том, что пути истории неисповедимы, и смирился с необходимостью ждать.
Новая группа, которую привела к власти победа Гражданской демократической партии (ГДП) на выборах, коренным образом отличалась от прежней элиты. Идеологически и организационно спаянная, она состояла из молодых людей, тесно сплотившихся вокруг своего бесспорного лидера – Вацлава Клауса. Они разделяли его нелюбовь к пространным интеллектуальным рассуждениям, его прагматизм и склонность к быстрым, решительным и простым действиям. Подобно своему лидеру, эти люди были весьма честолюбивы и хотели преуспеть и как политическая сила, и как отдельные личности. Они не обращали особого внимания ни на оппозицию, ни на мнение меньшинства и не вдавались в нюансы. Для многих из них – хотя и не без исключений, к которым относились, например, председатель палаты депутатов, драматург Милан Угде или Ян Румл, оба давние диссиденты и друзья Гавела, – экс-президент Чехословакии был уже фигурой из прошлого. Теперь ключевые позиции в правительстве и парламенте занимали они, и было далеко не очевидно, что эта группа поддержит новое выдвижение Гавела в президенты.
Гавел был готов ждать, но не вполне готов к унизительной ситуации неопределенности, в которой ему предстояло очутиться. Если более мелкие парламентские партии, социал-демократы и христианские демократы, однозначно поддерживали его кандидатуру, то сильнейшая партия, ГДП, недвусмысленно и публично выразила свою позицию в сущности только в день выборов[889]. При этом ГДП хорошо понимала, что «нет никакой альтернативы»[890] репутации и международной известности бывшего президента, поэтому в итоге поддержала Гавела, хотя заранее дала ему ясно понять, что отныне его политическая судьба находится в ее руках, и помогла сформулировать новую конституцию Чешской Республики таким образом, чтобы он никогда не смог выйти из-под контроля. По крайней мере ГДП так думала.
Слом барьеров
Естественный недостаток демократии состоит в том, что тем, кто относится к ней по-честному, она крепко связывает руки, тем же, кто не принимает ее всерьез, позволяет практически все.
Заговорщики
Итак, третий президентский срок Вацлава Гавела с самого начала заметно отличался от двух предыдущих. Он не просто был избран президентом иной, фактически совсем новой страны, а его полномочия и самостоятельность были не просто существенно урезаны, но изменилась также общая атмосфера в обществе. Если тремя годами ранее царили безбрежная эйфория и ощущение неограниченных возможностей, то начало 1993 года было отмечено неуверенностью, сомнениями и чувством утраты. Все это являлось неотъемлемой составной частью бархатного развода; хотя обе стороны рассудительно договорились, что им лучше будет расстаться, та и другая не могли отделаться от мысли о том, сколько они при этом теряют. Понятно, что чувство утраты в чешской части бывшей федерации было сильнее, чем в Словакии, которая как-никак впервые в своей истории получила настоящую независимость. Осознание, что граница страны на юго-востоке теперь проходит по реке Мораве, а национальный гимн кончается посередине, в течение какого-то времени требовало от чехов усилий. Друг Гавела и его внештатный советник Жак Рупник однажды метко заметил: «Чешскую Республику по сути создали словаки». Оба народа начали строить свои отношения на новых основаниях, но ощущение фантомной боли было в Чехии и Моравии неотступным. Огромный запас доброй воли, искреннее дружелюбие, а, может быть, отчасти и чувство вины с обеих сторон позволили – несмотря на первоначальное охлаждение при премьер-министре Мечьяре в Словакии – достичь в конце концов такого уровня отношений, какого, вероятно, не было в эпоху федерации. Если в силу этого, оглядываясь назад, признать разделение правильным решением, то по той же самой причине придется признать его в каком-то смысле ненужным. «Во как в жизни бывает, а?» – сказал бы Сладек.
Поначалу, однако, ситуация выглядела безрадостно. Некоторые друзья Гавела публично размышляли о том, стоит ли ему снова выставлять свою кандидатуру, тем более что в соответствии с новой конституцией он – как президент – хотя и не был бы прямо подчинен премьеру, своему периодическому союзнику, но часто и противнику Вацлаву Клаусу, однако, безусловно, стал бы лишь второй по значимости фигурой. Как обычно в период подготовки важнейших политических документов, Гавел старался играть центральную роль в выработке новой конституции, но так как он не занимал никакой должности и не имел никаких полномочий, делать это ему приходилось тайно. С членами парламентской комиссии по подготовке новой конституции он встречался в Праге и в деревенских ресторанчиках в окрестностях замка в Ланах, куда удалилась комиссия для завершения работы[891]. Ему удалось повлиять на формулировки в преамбуле конституции, но в самом тексте – уже не в такой степени[892]. Кроме того, выяснилось, что он будет не единственным кандидатом на высший пост в государстве. Коммунистическая партия Чехии и Моравии, прямая преемница безраздельных правителей страны в прошедшие сорок лет, сочла уместным выдвинуть безупречную, но не известную общественности женщину-онколога Марию Стиборову. Это был явно пропагандистский ход, который не ставил своей целью получить сколько-нибудь значительное число мест в парламенте. Нечто иное представлял собой третий кандидат, председатель ультранационалистического Объединения за республику – Республиканской партии Чехословакии Мирослав Сладек, бывший работник коммунистической цензуры – Чешского управления по делам печати и информации – и искусный оратор с невинными голубыми глазами на ангельском лице. Свою избирательную кампанию он построил на разжигании ксенофобии и ненависти к ромам, немцам, евреям, американцам и… к Вацлаву Гавелу. Его подручный, депутат Вик, представляя кандидатуру своего шефа в палате депутатов, так высказался о кандидате правящей коалиции: «Ущерб, причиненный его “гуманной политикой”, так огромен, что мы даже не можем оценить все его последствия <…> После его трехлетнего правления мы имеем еще более разоренную экономику, катастрофическую преступность, падение уровня жизни граждан <…> и, что всего хуже, он внес существенный вклад в распад нашей любимой родины, Чехословакии»[893]. Бархатная революция в понимании Вика была лишь «трансформацией коммунистических структур в новых условиях»[894]. Язык цензуры послужил кандидату как нельзя лучше.
Еще менее хвалебно отозвался Вик о команде Гавела: «У нас по-прежнему разгуливают призраки засаленных советников диковинного вида, а президентский канцлер, типичный образчик патриотически настроенного дворянства, гордо предъявляет права на свои поместья и наши национальные памятники. Над нами по-прежнему нависает фантомный силуэт правителя в колпаке с бубенчиками, мегаломана и закомплексованного художника»[895].
Выборы, проходившие 26 января 1993 года, транслировали в прямом эфире радио и телевидение, а Гавел ждал решения высшего законодательного органа дома, меланхоличный и напряженный. Следя за ходом предварявших выборы парламентских прений, он укреплялся в уверенности, что его не выберут[896]. Парламент теперь был поистине сувереном. Эпоха короля-философа закончилась, началась эпоха парламентской демократии.
Наверняка ему было больно выслушивать оскорбления, сравнение с нацистами и постоянные нападки на немцев, евреев и изменников родины, но Гавела, на которого вылились ушаты оскорблений и клеветы еще в коммунистические времена, все это едва ли могло задеть сколько-нибудь глубоко. Значительно больше его беспокоило состояние общества, в котором стал терпимым и вообще возможным язык, какой не звучал в стране с тридцатых годов двадцатого века. Если он когда-либо и усомнился, стоит ли игра свеч, то как раз в эти минуты. И тем не менее у него, возможно, было меньше готовности принять должность и больше сомнений на этот счет, когда он стоял на самой верхушке Бархатной революции, чем сейчас, когда ему предлагали трон чуть пониже. Не мог ли он сам стать жертвой искушения властью, так хорошо описанного им полутора годами ранее, когда ему вручали в Копенгагене премию Соннинга? «Знаем ли мы и способны ли вообще распознать тот момент, когда мы перестаем заботиться об интересах страны, которым мы приносим себя в жертву, терпимо относясь к своим привилегиям, и начинаем заботиться о своих привилегиях, оправдывая их интересами страны?.. В искушении властью есть нечто весьма коварное, обманчивое и двусмысленное. С одной стороны, политическая власть дает человеку исключительную возможность с утра до вечера утверждаться в том, что он действительно существует и обладает своей неоспоримой идентичностью, которая с каждым его словом и с каждым делом оставляет зримый след в окружающем его мире. С другой – та же политическая власть со всем, что к ней логически относится, таит в себе страшную опасность: ту, что она, наоборот, незаметно, но неудержимо лишает нас нашего существования и идентичности, при этом делая вид, будто подтверждает их»[897].
Теоретически такое было бы возможно, но невероятно. В конце концов Гавел был тем человеком, которому предлагали огни рампы, роскошь и все удовольствия Запада, но он выбрал тюрьму, лишь бы остаться верным своей самости. Тем человеком, который за полгода до этого сложил с себя президентские полномочия без какой-либо уверенности в том, что они вновь будут ему предложены. И тем человеком, который в той же речи сказал: «Весь мой прежний опыт ведения политики и ведения дел с политиками и все мои прежние наблюдения заставляют меня начать с подозрением относиться к самому себе»[898].
Друзья, говорившие с Гавелом в те дни, знали, что он не строит никаких иллюзий. Когда я уезжал послом в Соединенные Штаты, он в день своих именин, 28 сентября, пришел проститься со мной на вечеринку в ресторан «На Сламнику», где танцевали на столах под звуки классического рок-н-ролла. «Ты не много тут потеряешь», – сказал он мне. Гавел предвидел, что наступит время, когда он начнет уставать от своей работы. Принять должность его побудил не выпавший шанс, а чувство ответственности, тем более сильное, что оно, по-видимому, сопровождалось еще и чувством вины. Не высказываясь на эту тему, Гавел ставил себе в укор все, что было не так с Чешской Республикой, все плохое, что случилось с Чехословакией, а возможно, и само свое существование. Он знал, что впереди у него великие муки, но скорее всего внутренне ощущал, что он их заслуживает. Если он в это время и думал о себе, то его мысли были продиктованы не стремлением к власти и привилегиям, связанным с высокой должностью, а страхом, что он оставит по себе бездушную, мрачную страну, которую кто-то объявит его наследием.
Тон инаугурационной речи Гавела, произнесенной после того, как его ненавистники отбесновались и парламент 109 голосами из двухсот избрал его президентом, отразил его смирение в тот момент.
В отличие от знаменитого новогоднего обращения 1990 года, когда Гавел шокировал сограждан беспощадной картиной упадка общества и описанием стоявших перед ними трудностей и препятствий, теперь он скорее попытался сосредоточиться на том, что удалось сделать, и на том, что еще могло послужить неплохой отправной точкой для новой страны. Он взывал к лучшим национальным традициям порядочности, взаимоуважения и солидарности. Вместе с тем он предостерегал от худших человеческих качеств, таких как «бесхребетное приспособленчество, провинциальное маловерие, необузданное корыстолюбие и цинизм под маской реализма»[899]. Бесспорно, он отдавал себе отчет в том, что грядет, и понимал, что это будет не очень радостное зрелище.
Пришло время самого серьезного, наверное, изменения отношений собственности за тысячелетнюю историю страны. Оно было неизбежным. Если в соседних Польше и Венгрии хотя бы какая-то доля ремесел, сельского хозяйства и услуг оставалась в частных руках, то в Чехословакии практически все было конфисковано, экспроприировано или национализировано. Теперь для перезагрузки экономики должен был продолжиться процесс «денационализации» с помощью купонной приватизации и далеко идущих реституций. Изменение отношений собственности на сумму в размере сотен миллиардов крон давало шанс, какой представляется один раз на протяжении тысячи жизней. Жажда обогащения – в сочетании с его достижимостью – разбудила неожиданные творческие силы. Было потрясающе интересно наблюдать, как люди, еще два года назад весьма далекие от практического функционирования капитализма и рынка, теперь не упускали ни одного способа быстро заработать миллионы. Распространялись финансовые пирамиды, фальшивые рекомендации и банковские гарантии в виде ничего не стоящих «драгоценных камней», нелегальное разглашение секретной информации, «инцестные» отношения собственности, когда дочерняя фирма одновременно владела материнской, и вывод активов предприятий их менеджерами. Некоторые либеральные теоретики приватизации, убежденные в том, что необходимо любым способом аккумулировать отечественный капитал, требуемый для инвестиций, говорили о «бегстве от юристов»[900], другие – о необходимости «потушить свет»[901]. Сам премьер Клаус заявлял, что не знает, как отличить чистые деньги от грязных. За неполные четыре года обанкротилось несколько малых банков, предлагавших высокие проценты по вкладам, а другие пошли ко дну под бременем безнадежных ссуд, миллионы участников купонной приватизации лишились своих инвестиций, ряд свежеиспеченных миллионеров скрылся в офшорах, и страна потеряла невинность.
Это был период масштабной ломки нравственных барьеров. Гавел страдал от нее, но волей-неволей при ней председательствовал. По существу, в его распоряжении не было никаких инструментов для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить этот процесс, если не считать того, что он вновь и вновь напоминал людям, насколько важны нравственные ценности для процветания любого общества. Но значительная часть народа совершенно не нуждалась в этих внушениях, и популярность Гавела резко упала. Его наставления снискали ему репутацию занудного моралиста, который утратил связь со временем. Новые правители новой страны постоянно указывали ему его место. В первые годы своего нового президентского срока Гавел почти каждую среду принимал у себя премьера Клауса, чтобы – подобно тому, как это делает британская королева, – выслушать его отчет о последнем заседании правительства. Этих встреч он боялся, так как хорошо знал, что его ждет выговор за малейшее высказывание, не вполне отвечающее политике правительства. Премьер Клаус проделывал с ним это систематически, искусно и беспощадно, а Гавел, который так и не научился демонстрировать приличествующую его высокому положению богоравность, не умел за себя постоять[902].
Иногда премьер считал уместным выказать свое недовольство прилюдно. После того как Гавел принял Салмана Рушди в то время, когда этот британский писатель, которому иранский лидер аятолла Хомейни вынес смертный приговор, вынужден был скрываться, Клаус публично раскритиковал президента, утверждая, что он ставит под угрозу интересы и безопасность страны. Когда же Гавел через своего пресс-секретаря Ладислава Шпачека ответил, что министр иностранных дел Зеленец и министр внутренних дел Румл, сам в прошлом политический заключенный, были заранее проинформированы о визите Рушди и не возражали, разразилась буря, и правительство потребовало от Гавела уволить пресс-секретаря. Как и в других таких случаях, когда нужно было выбирать между принципом и человеком, Гавел после этого отозвал свои объяснения, однако пресс-секретаря в жертву принести не дал[903].
Но если Клаус думал, что сумеет втоптать Гавела в землю и сделать послушным, то он недооценил умение президента терпеть обиды. В конце концов Гавелу это было не в новинку. Он по-прежнему держался скромно и учтиво, но не отступал и ждал своего часа. А также отдавал себе отчет в том, что он, хотя и мешает Клаусу и другим, тем не менее все еще незаменим как символ демократических перемен в стране и ее притягательная реклама за границей. Значительная часть реальных властных полномочий, какие остались связанными с президентской должностью, касалась внешней политики. По конституции президент представлял страну за рубежом, заключал международные договоры и соглашения, назначал послов. Некоторые из этих действий требовали согласия премьера, но при этом все еще сохранялось довольно обширное пространство, где президент был фактически сам себе хозяин. Это пространство Гавел теперь намеревался максимально использовать.
В поисках союзников
В 1993 году у большинства чехов в стране было такое чувство, что ничего особенного не случилось. Правда, к востоку от реки Моравы – там, куда раньше ездили без паспортов погулять или покататься на лыжах в горах, – была уже другая страна, однако в Чехии, Моравии и Силезии изменилось мало что. Все оставалось на своих местах, как на протяжении последней тысячи лет: земля, изобилующая молоком и медом, страна трудолюбивых мирных людей, славящихся во всем свете своими умениями, смекалкой и культурой.
Извне эта картинка выглядела несколько иначе. После распада Югославии, Советского Союза и Чехословакии в восточной части Европы – области бурных перемен и этнических конфликтов, населенной людьми, убивающими друг друга в местах с непроизносимыми названиями, – возникла дюжина новых стран. Чехословакия – да, о ней знали, хотя легко было спутать ее с Югославией… Ах нет, пардон, там был Тито, а Чехословакию знали как страну с отличным пивом и мирового уровня сборной по хоккею – страну Александра Дубчека и Вацлава Гавела. А тут вдруг новая страна, непонятно даже, как ее называть: Чехия, Чешская Республика, Чешские земли… В Вашингтоне мне как-то пришло письмо, адресованное «Республике чешского посольства»!
Проблема успешного бренда касается не одних лишь стиральных порошков, но и государств. Потребовалось некоторое время и усилие, чтобы новая страна вернулась на карту мира. Вацлав Гавел, по-видимому, был для Чешской Республики лучшим рекламным флаером. Для сравнения достаточно было заглянуть к соседям и убедиться, насколько труднее приходилось Словакии под властью Владимира Мечьяра[904].
Но, несмотря на это, в годы, когда советская империя распадалась на куда менее упорядоченные части, а война в бывшей Югославии обернулась невиданными в Европе с конца Второй мировой войны жутчайшими зверствами, новорожденной стране с десятимиллионным населением было непросто привлечь к себе какое-то особенное внимание. Так же, как три года тому назад, Гавел верно уловил, что новая страна сможет играть достаточно заметную роль на международной арене только в том случае, если она будет участвовать в решении острых проблем международной политики и безопасности во имя более общих ценностей, не ограничиваясь своими узконациональными интересами.
В речи при открытии памятника Т.Г. Масарику Гавел процитировал первого чехословацкого президента: «Мы похоронили себя, когда перестали жить этой великой жизнью»[905]. И продолжал, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что означают слова Масарика для наших дней: «Если мы захотим как-то соотнести это высказывание с современностью, я бы усмотрел в нем призыв осознать, что, например, безмерные страдания наших ближних в соседней Боснии и Герцеговине внутренне нас касаются, что мы должны выразить однозначное отношение к ним и указать на их главного виновника, должны взять на себя свою долю коллективной ответственности за мир и справедливость в Европе и в случае, если другие способы окажутся неэффективными, поддержать по мере своих возможностей и более решительные меры международного сообщества. Как те, кто некогда стал жертвой позорной мюнхенской уступки насильнику, мы должны лучше, чем кто-либо еще, понимать, что нельзя отступать перед злом – лишь бы оно не совершалось непосредственно в отношении нас. Последствием нашего равнодушия к остальным, впрочем, может быть только одно: равнодушие остальных к нам самим»[906].
Эта в общем-то малозаметная речь по случаю 143-летия Масарика, произнесенная в древнем Оломоуце, содержит в себе в самом что ни на есть цельном виде «гавеловскую доктрину» гуманитарной интервенции, замечательную своей простотой. Гавел подчеркивает коллективный долг человечества давать отпор злу, где бы и когда бы оно ни творилось, и недопустимость умиротворения, бездействия или безразличия перед лицом зла. Это противоположность максимы, приписываемой Эдмунду Бёрку: «Для торжества зла необходимо только одно условие: чтобы хорошие люди сидели сложа руки».
Историческая отсылка к Мюнхену – мост, связующий внешнюю политику, основанную на таких ценностях, с национальными интересами. Эту свою доктрину Гавел применил еще во время первой войны в Персидском заливе, теперь – во время войны в бывшей Югославии, а через несколько лет, хотя и при довольно спорной реакции на нее, – в отношении Косова и Ирака. Ее слабое место – это, конечно же, вопрос о том, кто решит, что есть зло. Не каждому можно доверить определить это без боязни, как Гавелу, который хорошо понимал степень опасности, когда написал: «Защита человека – высший долг по сравнению с уважением к государству. Однако всякий раз необходимо вновь и вновь тщательно взвешивать, не служит ли такой гуманистический аргумент лишь красивой ширмой, за которой скрываются не столь почтенные интересы, властные, экономические или иные»[907].
Чехословацкие подразделения принимали участие еще в операции «Буря в пустыне», в рамках которой международная коалиция во главе с Соединенными Штатами в 1991 году выгнала Саддама Хусейна из Кувейта. Теперь чешские подразделения присоединились к усилиям по прекращению войны в бывшей Югославии, вначале в составе сил UNPROFOR под эгидой ООН, а затем в контингентах IFOR и SFOR под командованием НАТО. В ходе своего первого визита в США в качестве чешского президента в апреле 1993 года Гавел провел немало драгоценного времени, убеждая президента Клинтона, что американская помощь необходима для стабилизации во всем регионе и нужно распахнуть двери НАТО для приема новых членов. Визит был приурочен к открытию в Вашингтоне 22 апреля 1993 года Национального музея Холокоста. Торжественная церемония проходила под открытым небом, шел ледяной дождь, вскоре сменившийся снегом, а гости, в том числе несколько глав государств, ждали прибытия американского президента почти час. Спустя три месяца пребывания в должности график Клинтона все еще подчинялся так называемому «времени Клинтона». Ко всему прочему он вынужден был заниматься катастрофической развязкой операции ФБР против секты давидианцев в техасском Уэйко, которая закончилась тремя днями ранее гибелью 76 членов секты в горящем здании. Приема в Белом доме после открытия Музея Холокоста снова пришлось ждать. Когда же Гавел и Лех Валенса, у которых был ряд общих вредных привычек, стали искать пепельницы, им тактично, но решительно заявили, что по распоряжению первой леди в Белом доме не курят. «Но мы хотим курить! Где тут курят?» – настаивал на своем польский президент, из этой двоицы, бесспорно, более импульсивный. На крыльце, был ответ. В конце концов Вашингтон – это старый город южан. «Пойдем, Вашек», – потянул Валенса за рукав колеблющегося Вашека. Но только они двинулись на поиски крыльца в Белом доме, как пришел президент Клинтон. Позднее Валенса и Гавел имели с ним короткие личные встречи с похожей повесткой. Пока Гавел с Валенсой ждали, у них было время обменяться мнениями и удостовериться в том, что в вопросе о вступлении в НАТО они будут заодно. В тот же вечер на приватном ужине у Мадлен Олбрайт в Джорджтауне Гавел приложил невероятные усилия, чтобы убедить сомневавшегося американского президента в том, что без участия Соединенных Штатов в операции по принуждению враждующих сторон в бывшей Югославии к миру кровопролитие, зверства и этнические чистки могут продолжаться до бесконечности. О том же, только гораздо более сурово, предупреждал и к тому же побуждал Клинтона еще раньше в тот же день, при открытии музея, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель: «Чему мы научились? Нескольким вещам, быть может, второстепенным: что все мы несем ответственность и что безразличие есть грех и кара»[908]. Если не считать подобных же призывов папы Иоанна Павла II, на Клинтона, однако, более всего подействовал именно тот совместный ужин с Гавелом[909].
Президент США стоял перед непростым решением. Свою успешную избирательную кампанию против Джорджа Г. У. Буша, победителя в первой войне в Персидском заливе, он построил в первую очередь на внутриполитических вопросах с упором на лозунг «Это экономика, дурачок». В Конгрессе отсутствовала убедительная поддержка идеи отправки американских военных в Югославию; конфликт воспринимался там как европейская проблема. Сама американская армия под руководством начальника объединенных штабов вооруженных сил Колина Пауэлла тоже не слишком рвалась в Югославию. «Мы умеем воевать в пустынях, но не в горах», – якобы сказал Пауэлл. В 1993 году госсекретарь Уоррен Кристофер не смог убедить европейских союзников в эффективности стратегии lift and strike, которая предполагала угрозу ударов авиации по боснийским сербам при одновременном ослаблении эмбарго на поставки оружия боснийским мусульманам, чтобы те могли защитить себя без необходимости использования сухопутных миротворческих сил. Потери американцев в ходе миротворческой операции ООН в сомалийской столице Могадишо с последующим выводом миротворческих сил, казалось, еще более усилили аргументацию противников политики вмешательства.
Но Гавел стоял на своем, и был в этом не одинок. Ход событий, к сожалению, подтвердил его правоту. После того как боснийские сербы заняли «безопасную» зону в Сребренице, находившуюся под защитой частей ООН, истребив мужскую часть ее населения, и после кровавых обстрелов рынка в Сараеве терпение Соединенных Штатов истощилось. Они инициировали бомбардировку сербских складов вооружения и боеприпасов и других целей авиацией союзников и в конце концов заставили воюющие стороны сесть за стол переговоров в Дейтоне в штате Огайо и подписать там под строгим контролем Ричарда Холбрука соглашение о прекращении огня.
Пример бывшей Югославии хорошо высвечивает возможности и недостатки доктрины гуманитарной интервенции. Ее следует понимать в первую очередь как инструмент для прекращения кровопролития и принуждения враждующих сторон к поиску компромиссов за столом переговоров, а в случае выявления военных преступлений – и к наказанию виновных. Но это только тупое орудие, которое не слишком подходит для разрешения затяжных конфликтов, нередко длящихся столетиями. Если конечной целью подобного вмешательства является создание государства, оно часто не приносит результата, так как одна или несколько сторон конфликта считают миротворцев односторонне предвзятыми, а то и просто врагами, с которыми надо сражаться. Главной проблемой войны в Ираке был скорее всего именно этот неустранимый изъян, а не скрытый умысел или преступная небрежность.
Решительная поддержка Гавелом вмешательства в события на территории бывшей Югославии и в Косове, а позднее – в еще большей степени – открытое одобрение усилий по свержению Саддама Хусейна (но все же не способа, каким это было сделано) серьезно повредили идеализированному образу Гавела как «апостола ненасилия». Речь, конечно, шла не о самом Гавеле, а о его имидже: как для Махатмы Ганди или Нельсона Манделы в зрелый период его политической карьеры, так и для Гавела ненасилие было не только нравственным принципом, но и инструментом политической борьбы.
Взгляды Гавела на безопасность в целом опирались на аналогичные постулаты. Правда, непосредственно после революции он, подобно некоторым своим друзьям, и прежде всего министру иностранных дел Иржи Динстбиру, склонялся к универсалистской концепции коллективной безопасности. Согласно этой концепции, оба крупных военных альянса, организацию Варшавского договора и НАТО, следовало распустить, чтобы создать пространство для новой общеевропейской системы безопасности, основанной на принципах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Доводы в пользу этой концепции не слишком отличались от идеи «общеевропейского дома», которую выдвинул Михаил Горбачев в ходе своего визита в Прагу в 1987 году. В январе 1990 года Гавел высказал мнение, что Чехословакия должна стать «частью Европы как дружественного сообщества независимых народов и демократических государств, Европы стабильной, не разделенной на блоки и пакты, которая не нуждается в защите сверхдержав, так как способна сама себя защитить, то есть выстроить свою собственную систему безопасности»[910]. Однако первые два года президентства убедили его в том, что симметричное отношение к обоим бывшим лагерям было неверным не только во времена холодной войны[911]: оно не могло быть верным и в обозримом будущем. Речь шла не только о Советском Союзе (формально все еще коммунистическом); особый геополитический взгляд на мир и его насущные проблемы сохранила и посткоммунистическая Россия, что проявилось во время первой войны в Персидском заливе или войны в бывшей Югославии. Мало того, Россия демонстрировала в лучшем случае некооперативный подход к решению проблем некоторых постсоветских территорий, будь то балтийские страны, Молдавия или Закавказье. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе меж тем оказалась неэффективным инструментом коллективной безопасности в деле преодоления кризиса в бывшей Югославии, молдавском Приднестровье или Нагорном Карабахе. Варшавский договор не оставил по себе ни общей идеологии, ни единой воли, ни взаимного доверия и уже не мог быть ничем иным, кроме как пережитком истории – или потенциальным источником угроз в будущем. Ввиду этого оставалась только НАТО как единственная действенная организация, которая способна была предоставить реальные гарантии безопасности в быстро меняющемся мире. Ее изначальная, хотя и неофициальная цель в бессмертной формулировке первого генерального секретаря альянса лорда Исмея «не допускать Советский Союз в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать немцев», первыми своими двумя третями как нельзя более отвечала чешским интересам. Что до Федеративной Республики Германии, то она за сорок лет существования НАТО доказала свою приверженность идеалам свободы и демократии и подтвердила свою роль одного из крупнейших «вкладчиков» в европейскую безопасность, поэтому ставилась уже не цель сдерживания объединенной Германии, но удержания ее в качестве активного партнера, ключевого для выполнения миссии НАТО. Вскоре по тому же руслу потекли и мысли коллег Гавела. Они нашли себе внимательных, пусть поначалу и осторожных слушателей в лице своих визави в Белом доме Буша – в Роберте Хатчингсе, курировавшем в Национальном совете по разведке Центральную и Восточную Европу, в Поле Вулфовице, заместителе министра обороны по политическим вопросам и его помощнике Ирв. Льюисе «Скутере» Либби, посетивших Прагу в составе первой делегации США для участия в политических консультациях по вопросам обороны и безопасности[912]. Их решимость укрепляла и поддержка сенатора-республиканца Ричарда Лугара, бывшего и будущего председателя Комитета Сената США по международным отношениям, посетившего Пражский Град в апреле 1991 года.
Вскоре после своего избрания президентом Чехии в январе 1993 года Гавел стал заниматься вопросами расширения НАТО еще энергичнее. Первые сигналы не очень обнадеживали. Европейские страны-члены НАТО радовались окончанию холодной войны, и от них нельзя было ожидать, что они возглавят процесс, который мог вызвать неудовольствие России. Несмотря на утверждение Клинтона, что он планировал расширение НАТО как меру, позволяющую гарантировать завоевания свободы и демократии в Центральной и Восточной Европе, еще в ходе своей предвыборной кампании 1992 года[913], его правление поначалу характеризовалось сдержанностью и не слишком отклонялось от заявленных внутриполитических приоритетов. Многим казалось, что при отсутствии острой угрозы безопасности расширение НАТО не являлось необходимым и могло бы даже повредить. Внешнеполитическое ведомство США под влиянием Строуба Толботта, специального посланника и советника госсекретаря по делам новых независимых государств, а позже заместителя госсекретаря, исходило из убеждения, что Россия должна быть неотъемлемой частью новой архитектуры европейской безопасности. Даже неизменно благосклонная к Гавелу Мадлен Олбрайт, в те годы – постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, входившая в кабинет Клинтона, не проявляла активности в этом вопросе, чтобы ее не заподозрили в лоббировании интересов той части света, откуда она родом[914]. (Впрочем, это не оградило ее от шутливого замечания Клинтона по адресу Гавела, что Чешская Республика – единственная страна, у которой в Вашингтоне два посла[915].) Администрация США не была готова пойти дальше поддержки «Партнерства во имя мира» – программы укрепления доверия и ограниченного сотрудничества с посткоммунистическими странами, принятой НАТО в октябре 1993 года.
Но некоторые события помогли переломить ситуацию. Под впечатлением войны, свирепствующей на территории бывшей Югославии, администрация Клинтона начала сознавать, что в посткоммунистической части Европы необходимо выстроить действующие и надежные структуры безопасности. Дикие эксцессы и отдельные всплески ксенофобии в ельцинской России показали, что на ответственную роль будущего гаранта европейской безопасности эта страна была бы неподходящим кандидатом. Некоторые из европейских стран-членов НАТО ясно понимали, что без разрешения проблем безопасности в Центральной и Восточной Европе трудно будет предотвратить грозящую дестабилизацию и конфликты. Манфред Вёрнер, тогда генеральный секретарь НАТО, проникся к Гавелу симпатией еще во время его первого визита в брюссельскую штаб-квартиру альянса в марте 1991 года и не скрывал своего расположения, когда по должности обязан был выражать позицию Североатлантического совета. Ряд ведущих американских специалистов по вопросам внешней политики и безопасности, в частности, эксперты «мозгового треста» RAND, пришел к выводу, что расширение НАТО, независимо от актуальных угроз, должно быть составной частью стратегии укрепления стабильности и объединения Европы[916] – словно бы вдохновленные речью Гавела в СБСЕ.
Для успеха планов расширения НАТО была важна поддержка обеих политических партий в американском Конгрессе. Поначалу не многие из конгрессменов готовы были за них ратовать. Ни один из потенциальных претендентов на вступление в НАТО не имел в Вашингтоне ни достаточного веса для ведения в Конгрессе затяжной кампании лоббирования, ни достаточных финансовых средств, чтобы нанять профессионалов, которые вели бы ее за них. Вскоре чешский, венгерский и польский послы в Соединенных Штатах поняли, что им следует объединить силы и заниматься лоббированием сообща, чтобы иметь шанс на успех. Идея создания Вишеградской группы, высказанная Гавелом в Братиславе и поддержанная лидерами тогдашних трех стран в историческом венгерском замке на берегу Дуная, где в 1335 году три короля – чешский Иоанн Люксембургский, венгерский Карл Роберт Анжуйский и польский Казимир III Великий – встретились, чтобы заключить союз, теперь начинала приносить плоды. В том числе благодаря многочисленной и политически активной чешской и венгерской диаспоре и еще более многочисленной польской диаспоре в штатах на Восточном побережье и на Среднем Западе, во Флориде и в Техасе американские законодатели начали наконец к нам прислушиваться. Конгресс ратифицировал несколько законов, среди них – Закон о сотрудничестве с НАТО 1994-го и Закон о поддержке расширения НАТО 1996 года.
Хотя президент Клинтон вначале колебался, он, как настоящий политик, быстро понял необходимость расширения НАТО. В значительной степени именно настойчивые призывы Гавела и Валенсы во время его встреч с каждым из них в отдельности и с обоими вместе тогда, в апреле 1993 года, побудили его «начиная с этого дня, относиться к расширению НАТО положительно»[917]. В глазах Клинтона, который признавал влияние на него Гавела задолго до их встречи, чешский президент «олицетворял неотложность вызова» привести процесс в действие[918]. Чаша весов постепенно склонялась к поддержке проекта расширения НАТО. Советник Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейк, невзирая на возражения некоторых своих коллег[919], стал продвигать идею расширения активнее, чем внешнеполитическое ведомство и Пентагон. Администрация не хотела быть застигнутой врасплох растущей поддержкой расширения НАТО в республиканской части Конгресса. Когда в сентябре 1994 года помощником госсекретаря по европейским делам стал Ричард Холбрук, внешнеполитическое ведомство также поддержало эту идею.
Вместе с тем она наталкивалась и на серьезное сопротивление. Многие представители американской администрации видели в ней нежелательный уход в сторону от внутриполитических приоритетов, ведя хотя и закулисные, но тем не менее действенные арьергардные бои против новой политики. Значительная часть внешнеполитического истеблишмента вокруг Совета по международным отношениям опасалась, что расширение НАТО негативно скажется на отношениях с Россией, которые эти политики считали более важными. Ведущие обозреватели, такие как Ричард Коэн из «Вашингтон пост» или Томас Фридман из «Нью-Йорк таймс», относились к идее расширения откровенно враждебно[920]. Было ясно, что борьба предстоит нешуточная.
Но Клинтон уже принял решение объявить об изменении политического курса, причем совершенно недвусмысленно, в ходе своей поездки в Европу на саммит НАТО в январе 1994 года. Вперед он выслал с блиц-визитами в центрально– и восточноевропейские столицы Мадлен Олбрайт и нового начальника объединенных штабов вооруженных сил Джона Шаликашвили, родившегося в Варшаве потомка старинного грузинского рода, для поднятия духа стран, которым предстояло пока учиться сотрудничеству с НАТО, стремясь к военному и политическому взаимодействию в рамках «Партнерства во имя мира». Свое основополагающее заявление, что «теперь уже вопрос не в том, примет ли НАТО новых членов, а в том, когда и как это произойдет»[921], Клинтон после тонкого дипломатического «перетягивания каната» решил сделать на живописном фоне Праги.
Гавел, естественно, был воодушевлен тем, что американский президент выбрал местом для своего заявления и своей встречи с группой высших представителей государств Центральной и Восточной Европы столицу Чешской Республики – несмотря на огромные организационные и логистические трудности, с какими это было сопряжено для страны, которой исполнился ровно год. Если Джордж Г. У. Буш в ноябре 1990 года прилетел с семьюстами сопровождающими, то в делегации Клинтона их насчитывалось девятьсот, и это не говоря о делегациях глав остальных государств региона. Тем не менее Гавел, как всегда, хотел придать визиту еще и неформальный, человеческий и интеллектуальный характер. В пражском ресторане «У Синей уточки» над тарелками с одноименными – но, к счастью, поджаренными до золотистой корочки – пернатыми мы ним и Мадлен Олбрайт целый вечер плели интригу и в конце концов решили приготовить Клинтону накануне его речи сюрприз[922].
План чуть было не сорвался, так как за несколько дней до визита скончалась долго болевшая мать Клинтона. Понятно, что американская команда, готовившая визит, настаивала на том, чтобы из программы были исключены все мероприятия, которые можно было бы счесть легкомысленными. Поэтому, пока президентский борт летел в Прагу, сценарий визита, который Гавел составлял с таким же вниманием к деталям, как писал все свои пьесы, в буквальном смысле висел в воздухе. Но в самолете с позывным Air Force One у Гавела был союзник, отстаивавший его планы. Когда американский президент со своей свитой спускался по трапу на летное поле аэропорта Рузыне, Гавел высматривал на ступеньках не только самого Клинтона, но также постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН Мадлен Олбрайт. После того как она показала ему направленный вверх большой палец, Гавел улыбнулся. Из уважения к своему чешскому коллеге Клинтон согласился с первоначальным вариантом программы, хотя и с небольшими изменениями. Вслед за официальным приветствием и первым раундом переговоров в Пражском Граде Гавел показал Клинтону свой кабинет с примечательными образчиками современного искусства, включая два ню. «Представляете, что сказали бы люди, если бы нечто подобное висело в моем кабинете?» – сказал на это Клинтон с легкой завистью[923]. Если бы он знал, что ему предстоит! Дальнейшая программа привела обоих президентов через Карлов мост в знаменитую пражскую пивную «У Золотого тигра», где король чешских рассказчиков Богумил Грабал со своей компанией в тот вечер, как уже не один десяток лет, разматывал клубок историй, запивая их бессчетными глотками пива. Затем через Национальный проспект они перешли в джаз-клуб «Редута», название которого являлось символом великой эпохи малых пражских театров в шестидесятые годы и в числе отцов-основателей которого был один из учителей Гавела Иван Выскочил. В честь обоих президентов сыграла джаз-группа во главе с саксофонистом, флейтистом и импровизатором Иржи Стивином. Когда музыканты доиграли сет, Гавел встал и преподнес американскому президенту свой дар – новехонький чешский тенор-саксофон с выгравированным сердечком и своей подписью[924]. Клинтон сразу сообразил, чего от него ждут. Дунув пару раз для пробы, он вместе с группой без репетиций, но в целом удачно исполнил My Funny Valentine. После чего расставил собственную ловушку, пригласив Гавела сопроводить его на ударных в Summertime.
Гавел продемонстрировал восторженное, хотя и не столь филигранное исполнение. Вечер чуть не закончился инцидентом: как раз когда американский президент выходил из клуба, раздался выхлоп какой-то из проезжавших мимо машин. Личные телохранители Клинтона из Секретной службы, опасаясь чего-то посерьезнее, бесцеремонно запихнули президента в его бронированный лимузин и в тот же миг умчались.
Но борьба пока далеко не закончилась. Заявление Клинтона, умышленно неопределенное в отношении дат и присоединяющихся стран, все еще оставалось наполовину политической декларацией, а наполовину риторическим выражением намерения. Для того чтобы оно превратилось в реальность, требовалось согласие правительств и парламентов остальных 15 стран-членов НАТО и – в завершение, но не в последнюю очередь – Конгресса США. В европейских странах НАТО преобладали сомнения, а то и нежелание осуществлять этот план. Программа «Партнерство во имя мира» представляла собой компромисс, который мог интерпретироваться как первый шаг к расширению НАТО теми, кто склонен был такое расширение поддержать, или как перевалочный пункт на неопределенно длительный срок – его противниками. Вторая группа стран составляла значительное большинство. В нее входили такие важные государства, как Франция, которая издавна сопротивлялась всему, что могло укрепить Альянс, и Великобритания, которая, занимая прагматические позиции, не видела никакой явной причины затевать широкомасштабное, дорогостоящее и, быть может, спорное предприятие. Решающей стала однозначная поддержка министра обороны ФРГ Фолькера Рюэ, хотя канцлер Коль и коалиционная Свободная демократическая партия колебались несколько дольше.
В Соединенных Штатах борьба продолжалась с прежней интенсивностью вплоть до момента, непосредственно предшествовавшего саммиту НАТО в Мадриде в 1997 году, где было дано официальное согласие на вступление в Альянс Чешской Республики, Польши и Венгрии. Администрации Клинтона и странам-кандидатам пришлось противостоять мощной коалиции тех, кто ставил выше интересы России (так называемых Russia firsters) и геополитических реалистов. Ни одна из этих групп не хотела упустить шанс вывести отношения между главными противниками в холодной войне на новый уровень ради не слишком значимого с военной точки зрения, политически рискованного и экономически накладного пополнения НАТО нищими и все еще хрупкими демократиями Центральной и Восточной Европы. Один из корифеев американской дипломатии писал: «Расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики после окончания Второй мировой войны»[925].
Гавел вступил в прямую полемику с противниками расширения НАТО. Отвергая понимание Альянса как сторожа при каком-нибудь земельном участке, он видел в нем в первую очередь гаранта ценностей и принципов, на которых основывается либеральная демократия. И сейчас, когда государства Центральной и Восточной Европы заявляли о своей приверженности этим ценностям и принципам, отсутствовали основания не дать им возможность разделить преимущества безопасности и обязанности, какие вытекают из членства в Альянсе. Отказать им в этом значило бы искусственно сохранять демаркационную линию, которую окончание холодной войны стерло с лица Земли. Это было бы не просто нелогично, но также несправедливо и аморально. По сути это равнялось бы посмертному признанию победы врагов демократии, развязавших холодную войну.
Важнейшее для Гавела понятие совместной ответственности, физически скрепленное участием чехословацких, а позже чешских подразделений в освобождении Кувейта и их присутствием в рядах миротворческих сил на территории бывшей Югославии, ограждало Чешскую Республику от подозрений, будто чехам (равно как и остальным центрально– и восточноевропейцам) нужен лишь зонт безопасности, прикрывающий от России, что когда-нибудь могло оказаться кстати. Хотя и это соображение – ничуть не удивительное в контексте опыта Центральной Европы в предшествующие сорок лет – занимало в наших умах не последнее место, мы могли доказать, что готовы быть не только потребителями безопасности, но и ее производителями.
Гавел и его польский коллега и друг – пусть иногда небеспроблемный – Лех Валенса были, несомненно, самыми эффективными пропагандистами идеи вступления в НАТО. С их незапятнанной нравственной репутацией и аурой вождей революции они не могли быть просто так списаны со счетов как русофобы, старающиеся найти себе безопасное укрытие. Но при всех сходствах между их подходами имелись и некоторые различия. Если Валенса являл собой воплощение героического прошлого польского народа с его мужественным, хотя часто тщетным сопротивлением иноземным угнетателям, то Гавел символизировал коренное культурное, философское и политическое единство Центральной и Западной Европы. Несмотря на то, что ему были хорошо известны прошлые катастрофы и потенциальные будущие угрозы, исходящие от России, его отношение к ней, как это прозвучало еще в речи в американском Конгрессе в 1990 году, – было непредвзятым и дружелюбным. Билл Клинтон высоко ценил поддержку Гавелом Бориса Ельцина как «лучшей надежды русских на неагрессивное, демократическое государство»[926]. Именно благодаря различию между ними Гавел и Валенса дополняли друг друга лучше любой другой пары со времен Лорела и Харди[927]. Трудно вообразить, чтобы расширение НАТО могло произойти без участия одного из них. В дискуссию, которая скорее всего велась бы в любом случае, они привнесли настойчивость, что позволило завершить весь процесс до конца столетия, то есть в период, когда расширение НАТО оставалось одним из главных приоритетов в области внешней политики и безопасности Альянса и Соединенных Штатов. Если бы противники расширения преуспели в своей тактике затягивания и процесс не закончился бы до 11 сентября 2001 года, верх, вне всякого сомнения, взяли бы иные приоритеты.
Другой вопрос – внес ли победоносный поход Гавела и Валенсы долгосрочный вклад в европейскую и атлантическую безопасность, или же, начатый в силу инерции мышления времен холодной войны, он завел в геополитический тупик, как утверждают люди, так и не смирившиеся с расширением НАТО. Для того чтобы ответить на этот вопрос, полезно отследить итоги одного из крупнейших ненасильственных экспериментов в европейской истории. Страны Центральной и Восточной Европы, вступившие в НАТО в результате двух волн в 1999 и 2004 годах, ныне представляют собой зону политической и экономической стабильности с населением в 100 миллионов человек, и чем дальше, тем труднее отличить их от западноевропейских соседей. Стабилизирующий эффект процесса предварительных переговоров и самого вступления в НАТО помог подготовить почву для их более медленной и трудной – ввиду большей сложности – интеграции в Евросоюз. Напротив, страны, которые расположены между Центральной Европой и Россией, а именно Белоруссия, Украина и Молдавия, по-прежнему находятся в геополитическом вакууме, раздираемые противоречивыми влечениями и устремлениями, и, будучи склонными к резким поворотам, характеризуются нестабильностью при слабости политико-экономического руководства. То же относится к странам Юго-Восточной Европы, которые остались вне гравитационного поля расширения НАТО, и к государствам Закавказья. Ввиду нарастающей экспансивности России и ослабления Европы в результате финансового кризиса окно возможностей, во всяком случае в данное время, уже закрыто.
Да и Россия никогда не стала бы менее сложным партнером, независимо от того, произошло бы расширение НАТО или нет. Травма, вызванная крушением крупнейшей мировой державы и крахом самого дерзкого идеологического эксперимента в Европе со времен раннего христианства, была неизбежной. С ее укоренившимися традициями тирании и ксенофобии и издавна противоборствующими славянофильскими и западническими умонастроениями Россия могла вновь обрести равновесие лишь в противостоянии и противодействии тому, что часто ею трактуется как «наступающий Запад». Здесь ничего не изменили бы ни экономическая помощь Запада, какая была предложена, предоставлена и растранжирена в девяностые годы минувшего столетия, ни гарантии безопасности, которые дали Соединенные Штаты в лице госсекретаря Олбрайт в рамках Совета Россия – НАТО и политики трех «ни», заявленной Альянсом в 1996 году[928], ни «перезагрузка отношений», о которой договорились президенты Медведев и Обама в 2009 году[929].
Если Европа – включая ее геополитический центр – стала в наши дни безопаснее, чем когда-либо в своей истории, то этим она не в последнюю очередь обязана мышлению таких государственных деятелей, как Билл Клинтон, Лех Валенса и Вацлав Гавел.
Возвращение в Европу
Теми же рассуждениями об основополагающей схожести ценностей, характере общественного устройства и культуры, которые стояли за стремлением вступить в НАТО, Гавел руководствовался при процессе сближения с Европейским союзом. Это была очевидность. Во время революционных месяцев в Центральной и Восточной Европе лозунг «Обратно в Европу!» спонтанно появился в Чехословакии, Венгрии и Польше. Уже в январе 1990 года Гавел говорил о совместном возвращении в Европу, обращаясь к польским Сейму и Сенату[930]. В мае 1991 года в Ахене, где Гавел получал международную премию имени Карла Великого за свой вклад в объединение Европы, он озвучил желание Чехии стать полноправным членом Европейского союза[931]. Прошли долгие тринадцать лет, прежде чем Чешская Республика и другие страны Центральной и Восточной Европы добились этой цели.
Именно старания Гавела были одной из главных движущих сил, направлявших Чешскую Республику и посткоммунистическую часть Европы в общее русло. Всю свою жизнь он был противником разделительных линий и национализма, так что ему, приверженцу универсальных ценностей и широко понимаемой ответственности, идея европейской интеграции казалась абсолютно естественной. Следующие десять лет, да и позднее, когда он уже покинул пост президента, Гавел оставался непоколебимым сторонником вступления Чешской Республики в ЕС и всегда критиковал воззрения некоторых своих евроскептически настроенных сограждан, трактуя их как зашоренность.
Однако он вовсе не восхищался Европейским союзом безоглядно и бездумно, как иногда, к сожалению, приходится слышать. С самого начала он воспринимал общеевропейский проект не как некий закрытый эксклюзивный клуб или тем более крепость под названием «Европа», но как часть единого целого, демонстрирующего «фундаментальную цивилизационную неразрывную связь Европы с североамериканским континентом»[932]. Он шел даже дальше, заявляя, что «никакие будущие европейские организации немыслимы без европейских народов Советского Союза, являющихся неотъемлемой составной частью Европы»[933], предвидя, таким образом, не только скорый распад советской империи, но и упорные европейские попытки открыть двери народам Украины, Белоруссии, Молдавии и самой России – попытки, остающиеся пока, по большому счету, безуспешными. Гавел раз за разом повторял, что «вера в определенные ценности» является необходимым, но недостаточным условием для успешной интеграции и что весь процесс в целом обречен на неудачу, если он не будет сопровождаться «глубинным и общепризнанным чувством его нравственной обязательности»[934]. В своей первой речи, обращенной к европейскому парламенту 8 марта 1994 года, – причем прекрасно отдавая себе отчет в том, что его собственной стране предстоит пройти долгий путь, что на этом пути ей придется преодолеть не одно препятствие и что очень многое зависит от желания европейских институтов и самого парламента прислушаться к ней, – он не просто выразил восхищение европейским проектом, но и высказал несколько критических замечаний, которые нам сегодняшним могут показаться провидческими. Оценив Европейский союз как «достойное восхищения творение человеческого духа и рационального ума»[935] и отметив его успехи в области построения системы общеевропейских институтов, общего рынка и создания основ для появления общей валюты, Гавел продолжил: «Однако к этому восхищению и почти преклонению у меня все же упорно примешивается и иное, куда менее радостное чувство <…>. Оказался задет мой разум, но не мое сердце»[936].
В европейском проекте Гавелу недоставало «духовного, или нравственного, или эмоционального измерения»[937]. «Разнообразные великие империи <…>, которые в свое время так или иначе, но несли миру добро, характеризовались не только такой или сякой административной структурой либо такой или сякой организацией, нет, они всегда обладали неким духом, некоей идеей, этосом, даже, не побоюсь этого слова, харизмой, из чего затем и вырастала их структура <…>. Они предлагали людям некий ключ, открывающий дверь к общей эмоциональной идентификации, некий идеал, который мог воспламенить человеческие чувства, мог “достучаться” до людей, некий набор общепонятных ценностей, что были в состоянии объединить всех, и за эти ценности люди готовы были принести общности, их воплощающей, жертвы – иногда даже собственную жизнь»[938].
Хотя Европейский союз базируется на «целом комплексе цивилизационных ценностей, – продолжал Гавел, – тем не менее у некоторых может создаться вполне понятное впечатление, будто Европейский союз <…> занят лишь бесконечными спорами о том, какое количество моркови можно откуда-то куда-то вывезти, кто именно устанавливает это количество, кто его контролирует и кто накажет условного нарушителя этих предписаний. Поэтому мне представляется, что сегодня, возможно, наиважнейшей задачей Европейского союза является отчетливое осознание того, что можно назвать европейской идентичностью, отчетливое, ясное озвучивание понятия европейской ответственности, усиление интереса к самому смыслу европейской интеграции и ко всем ее взаимосвязям в современном мире и воссоздание ее этоса или – если хотите – ее харизмы. Текст Маастрихтского договора <…> вряд ли добавит Европейскому союзу истинных горячих сторонников, патриотов, то есть людей, которые будут относиться к этому сложному организму как к своей родине, как к своему настоящему дому – либо же как к части своего дома»[939].
Гавел снова и снова подчеркивал, что процесс европейской интеграции дает огромный шанс для «принципиальной цивилизационной саморефлексии», и продвигал идею «Европы как задачи»[940]. В течение первой декады нового тысячелетия шел невероятно сложный и политически весьма щепетильный процесс приема в ЕС новых десяти (теперь одиннадцати) посткоммунистических стран; он уже успешно завершен, но голос Гавела так и остался гласом вопиющего в пустыне. Каждому, кто сомневался в возможностях Маастрихтского договора вдохновить европейцев, стоит прочитать (или хотя бы попытаться прочитать) Лиссабонский договор. В настоящее время Европейский союз, в частности, те страны, что перешли на евро, находятся в кризисе, ясно продемонстрировавшем границы желания правительств – и в еще большей степени граждан – идентифицировать себя с «этосом» Союза и чем-то ради него поступиться.
В 1999 году Гавел, обращаясь к французскому Сенату, и восхищался европейским проектом, и критиковал его. В поисках истоков европейской концепции он предложил обратиться к античности, иудаизму и христианству, а затем подробно остановился на специфическом европейском понимании природы времени как динамической, устремленной вперед величины, которое (понимание), считал он, в значительной мере ответственно за европейскую одержимость прогрессом и модернизацией и за экспансивный характер европейской цивилизации. В этом храме европейского рационализма Гавел высказал радикальную идею о том, что коммунизм был только «сбивающей с толку ширмой», загораживавшей гораздо большую опасность, грозящую «планетарной цивилизации в целом. Ту цивилизацию, у колыбели которой стояла Европа, мотором которой она была на протяжении целых столетий и которая давно уже переросла ее и несется теперь очертя голову куда глаза глядят»[941]. Но поскольку на эту дорогу вывела мир именно европейская цивилизация, то Европа – точнее Европейский союз – и должна была бы взять на себя ответственность и лицом к лицу встретиться с этой грозной опасностью. «Ответственность за мир рождается в нас при взгляде в лицо Другого», – перефразировал Гавел французского еврейского философа Эммануэля Левинаса, чьи мысли дарили ему утешение и вдохновение в годы тюремного заключения.
Европейский союз, взявшийся за решение такой гигантской задачи, должен, по мнению Гавела, являть собой нечто большее, чем «очень сложный административный орган, суть работы которого понимает лишь особый слой евроспециалистов»[942]. Гавелу не нравилось подписание все новых и новых договоров и создание все новых и новых институций и бюрократических аппаратов; он видел Европу федеративной, объединенной на основе простой и понятной конституции и управляемой избранным гражданами двухпалатным (подобным американскому Конгрессу) парламентом, а не никем не избираемой бюрократией, с которой никто из граждан той или иной страны Европы спросить не может. Любопытно, что эти его мысли очень схожи с предложениями последнего времени, когда видные европейские политики пытаются найти выход из кризиса[943], но не менее любопытно и то, что все эти идеи пока очень далеки от реализации.
В апреле 2002 года, в последний год своего президентства и в то время, когда волна упоения чувством своей избранности достигла у европейцев пика, Гавел снова напомнил, что «неимоверно заразная, даже агрессивная идея постоянных перемен, размаха, увеличения, расширения, достижения, бесконечного роста и бесконечного роста, как и идея совершенного мира, который надо создавать по-хорошему, а если не получается, значит, по-плохому, все это – типичные европейские идеи»[944]. Он критиковал как тогдашнюю европейскую одержимость тщеславным стремлением непременно «догнать и перегнать Соединенные Штаты», что, разумеется, Гавелу и его согражданам напоминало вечную гонку из недавнего прошлого, так и лицемерные «приступы европейского антиамериканизма», которых после 11 сентября 2001 года было немало. Приняв за исходные точки одну из базовых характеристик своего менталитета и одну из своих важнейших личных особенностей, Гавел напомнил почтенным итальянским сенаторам и самому себе: «Но в европейской истории бывали скептики, критики, боязливые души, души, сомневающиеся во всем и в первую очередь в себе, и при этом способные свои сомнения четко сформулировать! Или такие личности, как Альбер Камю, Франц Кафка, Сэмюэль Беккет, Умберто Эко и многие другие, не олицетворяли собой как раз эту традицию европейского умения удивляться и традицию европейского смирения, на которые мы сейчас и должны прежде всего ориентироваться?»[945]
Могло создаться впечатление, будто один из великих европейцев двадцатого века превратился в конце концов в обличителя института, за который он всегда ратовал, над созданием которого усиленно трудился и идеи которого неуклонно продвигал и пропагандировал. Однако же Гавел оставался сторонником и защитником европейского проекта до самой своей смерти. Дискуссии нового столетия, в ходе которых он встречался с все более многочисленными и все более влиятельными евроскептиками из среды чешской политической элиты, происходили в основном в те все более редкие моменты, когда он возвращался в общественную жизнь.
Инь и Ян
Лучшая мысль – та, которая всякий раз оставляет какую-то щель для допущения, что все вместе с тем обстоит совсем иначе.
Вацлав Гавел
Быть услышанным у себя дома президенту парадоксальным образом оказывалось гораздо труднее. Когда он время от времени высказывал – пусть даже очень мягко – какое-либо мнение, которое не вполне совпадало с позицией правительства, возмущенные депутаты и проправительственные СМИ не слишком деликатно напоминали ему, что свою должность он занимает благодаря расположению парламента, который легко может изменить точку зрения. Еще более неприятными были регулярные встречи с премьером по средам после заседаний правительства, всякий раз начинавшиеся с подробного разбора обиженным премьером последнего президентского прегрешения. На политическом жаргоне это называется «разнос». Гавел же был человеком слишком вежливым, слишком неконфликтным и, наконец, слишком сомневающимся в самом себе, чтобы после того или иного, даже невиннейшего, своего поступка или высказывания не чувствовать себя хотя бы отчасти виноватым. Встречи Клауса с Гавелом были своего рода копией диалогов Сладека с Ванеком, с той разницей, что Клаус, в отличие от Сладека, пил очень умеренно. Так же, как в «Аудиенции», встречи эти неизменно заканчивались победой Клауса и смирением Гавела – до следующей встречи, ибо единственное, на что Гавел не мог пойти, это изменить своим взглядам.
В принципе Гавел поддерживал и приветствовал экономические реформы, которые в ускоренном темпе проводило правительство Клауса. У него имелся ряд частных возражений против способов их проведения, но – ввиду его конституционно ограниченных полномочий и слабой экономической подкованности – в этой области ему трудно было тягаться с Клаусом. Поэтому полем битвы стало то, что Гавел, в отличие от Клауса, считал само собой разумеющимся.
«Масштабное разгосударствление, протекающее в нашем обществе, по моему мнению, должно возможно скорее найти соответствие в сфере гражданской и общественной жизни. Веру в человека как истинного творца экономического процветания нам следовало бы по-настоящему целенаправленно и намного смелее, чем прежде, дополнять верой в человека-гражданина, способного брать на себя свою долю ответственности за общее дело»[946].
Клаус придерживался иного мнения. В его консервативной картине мира единственной политической ответственностью гражданина было избирать своих представителей. После этого управление обществом и государством становилось уже делом избранных представительных органов. Различные же гражданские объединения и организации он считал самозваными лоббистскими группами, которые, выражая частные интересы, не могли и не должны были представлять интересы всего общества. Отношение к ним могло быть в лучшем случае терпимым. Иногда Клаус называл эти группы «левыми» или «правозащитными», хотя многих подобные характеристики (в особенности первая) задевали. Клаус обладал немалым даром окарикатуривания, поэтому придумывал всевозможные «-измы», которые умел предъявить публике и заклеймить их, причем так искусно, что слушатель порой невольно задавался вопросом, не склоняется ли он и сам в душе к какому-нибудь такому «-изму».
В отличие от Гавела с его концепцией «неполитической» и «неидеологической» политики, Клаус полагал, что политика на практике означает столкновение идеологических альтернатив, воплощенных в политических партиях, которые борются за власть. В его понимании альтернатива была по сути одна: социалистический уклад и «несоциалистический», консервативный, либеральный капитализм. Существовали лишь два пути: социалистический и другой, то есть неправильный и единственно правильный, «они» и «мы». Как он любил повторять, «третий путь – это самый быстрый путь в третий мир»[947]. Сторонником «третьего пути» – представителем «аполитичной политики»[948] – он считал и Вацлава Гавела.
Были между ними и другие различия. Некоторые из них касались внешней политики. Клаус дисциплинированно поддерживал усилия Чешской Республики по вступлению в НАТО, сознавая «огромную символичность этого шага»[949], но восторга по этому поводу не выражал. «Не буду вам мешать», – более сильных слов поддержки сторонники вступления страны в НАТО, среди которых был и я, от него не слышали. Еще меньше радости он выказывал в связи с вступлением Чехии в Европейский союз, хотя, в отличие от некоторых своих последователей, понимал, что это единственный реальный путь развития страны[950]. Как экономист он приветствовал преимущества общего рынка и единого экономического пространства, но с глубоким недоверием относился как к усилению власти европейских учреждений с сомнительным демократическим мандатом и ответственностью, так и к их социальной, экологической и институциональной программе, усматривая в ней левацкую социальную инженерию и время от времени сравнивая ее с программой бывшего Совета экономической взаимопомощи стран социалистического блока. Будучи значительно более «чехоцентристом», германофобом и русофилом, чем большинство прозападных чешских политиков, он упорно считал основной единицей геополитической системы национальное государство, а в наднациональных институтах видел рвущихся к власти самозванцев без истинно демократического мандата. Он был в числе первых критиков проекта единой европейской валюты из-за его структурной слабости, которая действительно в большой степени стала причиной недавнего кризиса в еврозоне. Расхождения в понимании европейской интеграции, ее выгод и потерь для Чешской Республики в течение десяти лет, пока Гавел был чешским президентом, приводили к десяткам публичных столкновений между ним и Клаусом. Победителем из этих споров, в отличие от тех, что касались исключительно внутренних вопросов, выходил обычно Гавел, опиравшийся на более существенную часть чешского политического спектра, общественное мнение и международную поддержку, тогда как Клаус часто вынужден был ограничиваться ироническими замечаниями.
Другой, причем потенциально опасной, сферой разногласий между обоими в плане внешней политики были их часто противоположные подходы к различным очагам напряженности, которые возникали в течение этого десятилетия. Гавел во всех таких случаях стоял за гуманитарную интервенцию и защиту прав человека, тогда как Клаус придерживался линии радикального реализма, сторонясь всех конфликтов, не затрагивавших напрямую чешские интересы, а иногда даже таких, которые их затрагивали. Олицетворяя собой тип «сильного» лидера, хотя и играющего по демократическим правилам, Клаус, кроме того, питал слабость к другим таким лидерам, иные из которых не особенно заботились о демократии. Ему был не слишком по душе демократичный, но ошибавшийся и сумбурный Борис Ельцин; куда лучше он понимал методичное манипулирование инструментами власти со стороны Владимира Путина. Он выступал против публичного осуждения Гавелом войны России с раскольнической Чечней и массового нарушения прав человека в ходе этой войны. Клаус обвинял Гавела и Запад в предвзятой позиции в отношении конфликта в бывшей Югославии и публично возражал против бомбардировки Югославии Милошевича авиацией НАТО с целью остановить этнические чистки в Косове.
Но самую серьезную борьбу Гавел и Клаус вели по вопросу о характере чешского общества, его ценностей и принципов, на которых оно должно зиждиться. По мнению Клауса, эти ценности можно было свести к экономическим и политическим свободам человека и к некоей принадлежности этого последнего к национальному сообществу – носителю истории, культуры и традиций. Для Гавела к таким ценностям относились еще и солидарность, толерантность, права человека и меньшинств, защита окружающей среды и гражданская активность. Эта пропасть между ними с годами расширялась, порождая карикатурные стереотипы Клауса как бездушного циничного технократа и Гавела как воплощения «левизны», «энвиронментализма», «хьюманрайтизма» и «правдолюбия»[951].
Тем не менее между ними обоими было больше взаимного уважения, чем окружающие, а по сути и они сами, готовы были открыто признать. Клаус немало завидовал международной славе Гавела, но при этом очень хорошо понимал, что означает такая слава для репутации страны. Вместе с тем ради справедливости следует констатировать, что без помощи Клауса Гавел едва ли стал бы чешским президентом. В свою очередь Клаус не скрывал, как он обязан Гавелу за приглашение в «Гражданский форум» в ноябре 1989 года. Наконец, хотя знают об этом немногие, Клаус был и остается культурным человеком с неподдельным интересом к литературе, музыке и кино. На него как на несколько младшего современника Гавела не мог не произвести впечатления его талант драматурга и эссеиста, которого самому Клаусу недоставало. «Просмотр постановок пьес Гавела в театре “На Забрадли” был бесспорным элементом формирования моего мировоззрения»[952]. И несмотря на то, что в интересах политической выгоды он готов был критиковать «элитарность» диссидентов, принижать важность их роли в свержении коммунизма и подменять ее в значительной мере мифологической картиной пассивно сопротивлявшегося большинства, к которому он относил и самого себя, в душе он восхищался «бесстрашной борьбой с коммунистическим тоталитаризмом»[953], какую вел Гавел в годы нормализации. В отличие от многих других, он понимал, что «заключение его в тюрьмы и преследование коммунистами сделали из него символ сопротивления тоталитаризму и предназначили ему ключевую роль лидера ноябрьской революции»[954].
Что касается Гавела, он по-настоящему ценил великую роль организатора и менеджера, какую сыграл Клаус в деле перехода к рыночной экономике, хотя критически относился к сребролюбию, личному обогащению и коррупции политиков, которые сопровождали этот процесс[955]. Он признавал фундаментальную академическую образованность Клауса и, может быть, даже немного завидовал ему. Восхищался его неутомимостью, энергичностью и умением всецело сконцентрироваться на стоявших перед ним задачах, его железной самодисциплиной, позволявшей ему выходить победителем из дебатов в три часа утра, когда его оппоненты один за другим падали в полном изнеможении. Гавел понимал, что во всем этом ему с Клаусом не сравниться. И он был достаточно чутким наблюдателем, чтобы заметить, что в своем отношении друг к другу и в том, что каждый из них мог внести в общее дело, они взаимодополняемы, подобно извечным китайским началам Инь и Янь. В личном письме к шестидесятилетию Клауса Гавел написал: «Вижу, что ты опять стал на пять лет моложе меня. Желаю тебе в дальнейшие годы здоровья (поменьше сломанных ног), а главное – мира в душе!»[956]
Если различия во взглядах, взаимная критика и расходящиеся цели Гавела и Клауса никогда не перерастали в открытую и разрушительную публичную борьбу, а большей частью ограничивались комментариями «на полях», оставаясь под контролем благодаря их готовности продолжать диалог, то в этом была заслуга скорее их самих, нежели их окружения. И в лагере Клауса, и в лагере Гавела имела место далеко идущая демонизация второй стороны, усиленная СМИ, которым было выгодно максимально подогревать конфликт. Гавел, несмотря на все свои возражения, способен был видеть в своем противнике часть самого себя. Остается вопросом, можно ли сказать это и о Клаусе, но и он не без сожаления признавал: «Если бы мы чаще сидели друг подле друга, мы поняли бы, что общих точек зрения у нас довольно много»[957]. Ответственность за их взаимный антагонизм он возлагает на «миры» Гавела и окружавших его людей. Что-то в этом, возможно, есть, хотя опять-таки «миры» Клауса тоже были гораздо более подобны «мирам» Гавела, чем он сам осознавал.
Многие поверхностные журналисты и даже некоторые солидные наблюдатели[958] не устояли перед искушением усмотреть аналогию борьбы Гавела с Клаусом в последней пьесе Гавела «Уход». Такой вывод действительно чуть ли не напрашивается, но он таит в себе серьезную опасность. Если скользкий жадный карьерист Властик Клейн – это и впрямь Вацлав Клаус, то Гавел тогда – столь же непривлекательный канцлер Ригер, человек, который позорно изменяет своей семье, своим друзьям, своим идеалам и самому себе. Если же мы склонны признать, что Гавел был не таким, то мы должны оправдать и Клауса. Гавел, по его собственным словам, начал писать свою пьесу в духе «Короля Лира», как он сам ее характеризовал, в 1987 году; в последующие двадцать лет она дозревала. В ней, бесспорно, отразилось близкое знакомство Гавела с переменчивой политической верностью, с искушениями и коррупцией власти, которые он так точно описал в речи по случаю вручения ему премии Соннинга, с двойственностью политического языка и неологизмами в нем, с хамством средств массовой информации и ценой, какую за все это приходится платить в личной жизни. Но эта пьеса – не о сведении счетов, как, собственно, и ни одно из его эссе или интервью. Клейн и Ригер – это не Клаус и Гавел, а карикатуры, какие хотел бы сделать из них окружающий мир.
Между жизнью и смертью
В Граде он потерял жизнь.
Людвик Вацулик
Первый период пребывания Гавела на посту президента Чехии прошел не только под знаком борьбы за выживание его политического мировоззрения, но и под знаком серьезных личных испытаний. Все эти пять лет Гавел провел, практически не выходя из состояния легкой депрессии, которая повлияла и на его оценку окружающей действительности, и на качество жизни. На политическом уровне он сталкивался с новым балансом сил в стране, с постоянными несправедливыми обвинениями и со значительным возрастанием роли денег в политике, в отношениях между людьми да и в обществе в целом. Его уныние было тем сильнее оттого, что он полагал (оправданно или нет – это другой вопрос), будто несет за это ответственность, будто должен этому сопротивляться. В своем, кажется, последнем обширном интервью 11 ноября 2011 года – телевизионном «взаимном допросе», устроенном им и его бывшим тюремным сотоварищем, новым пражским архиепископом (а вскоре и кардиналом) Домиником Дукой друг другу, – своей самой серьезной ошибкой на посту президента Гавел назвал недостаточно энергичное продвижение им его собственного представления о гуманном и нравственном обществе[959]. Большинство людей, впрочем, считало, что делал он именно это.
Мог ли он сражаться со все возраставшими корыстолюбием, коррупцией и индивидуальным эгоизмом более действенно? Может, и да, но не в качестве президента, ограниченного статьями конституции, рамками своей должности и неблагоприятной политической средой. Чтобы попытаться сделать это, ему следовало – и именно в этом заключаются суть и смысл критических замечаний тех, кто говорил, что он задержался на посту президента, – вернуться к силе бессильных и повести борьбу вовне политической системы. Благодаря свойственному ему сочетанию творческих способностей, смирения и упорства он, возможно, был бы в конце концов услышан, однако это могло продолжаться еще пару десятков лет, а он, между тем, чувствовал, что этих двадцати лет у него нет. Он не замолчал, но теперь его протесты звучали несколько донкихотски.
Ухудшилось и его физическое состояние. Спортсменом с железным здоровьем Гавел никогда не был. Держался он за счет двух (порой) выкуренных в день пачек сигарет, крепкого алкоголя, большого количества белого вина и все большего количества медикаментов, что выписывал ему личный врач. Вот список 1998 года: стилнокс (снотворное), парален, алнагон или атоналгин (все – болеутоляющие), ананасный Power Drink (кофеиновый энергетический напиток), оикамид (стимулятор) и «волшебные белые пилюльки для хорошего настроения» (?)[960]. Он принимал стимуляторы, когда чувствовал усталость, успокоительное, когда не мог заснуть, и еще какое-нибудь снотворное, когда просыпался среди ночи. Через несколько недель такой жизни у него наступал частичный коллапс, чаще всего проявлявшийся в виде заболевания дыхательных путей, и ему требовалось немедленно отправляться в Ланы или в Градечек, чтобы восстановиться[961]. В канцелярии из-за сотен иных дел заняться писательским трудом он не мог, так что писать ему приходилось только в дни отдыха, причем это превратилось для него в борьбу, которой он страшился. Если лучшие его произведения, созданные за время, когда он был президентом Чехословакии, можно отнести к вершинам мировой эссеистики, то в дальнейшем его язык стал несколько вымученным, мысли нередко повторяли одна другую, а композиция лишилась прежней элегантности.
Строгая внутренняя дисциплина, помогавшая ему исследовать и разоблачать самые разнообразные мифы о человеческом уделе и обществе, тоже немного ослабла. Отстаивая крайне спорные постмодернистские позиции, как это, к примеру, было в июле 1994 года в Филадельфии[962], когда он подробно анализировал антропный космологический принцип[963] и гипотезу Геи[964], он напоминал даже самым что ни на есть доброжелательным слушателям «растерянного хиппи или, возможно, одного из тех помешанных теологов, что бродят по страницам романов Джона Апдайка»[965].
Споры вызывал и его график встреч. Хотя и сам Гавел, и его сограждане в первые годы его президентства наслаждались светом софитов во время визитов суперзвезд, приезжавших, чтобы особо отметить мировую известность и моральный авторитет хозяина Пражского Града, то теперь далеко не все гости казались желанными. Когда в сентябре 1996 года дать свой первый концерт в чешской столице приехал Майкл Джексон, некоторые близкие друзья Гавела отговаривали его от встречи с именитым певцом, который чем дальше, тем больше попадал во власть собственных внутренних демонов. Однако гавеловское любопытство перевесило, и президент не только принял Джексона, но и пришел на его концерт.
Спустя месяц, когда в Прагу прилетел соученик Гавела Милош Форман с предпремьерной копией своего нового фильма «Народ против Ларри Флинта» (причем прилетел на личном самолете Флинта, где были сам Флинт и кинозвезды Вуди Харрельсон, Кортни Лав и Эдвард Нортон, а также журналист Кристофер Хитченс с женой Кэрол и их дочуркой Александрой), их встреча, напротив, едва не сорвалась. Находясь под впечатлением от скандальной славы главного героя фильма и от развязанной против него в американских СМИ истеричной кампании, во главе которой стояла легенда феминизма Глория Стайнем, практически вся президентская канцелярия взбунтовалась, живо представив себе святотатственную картину встречи президента правды и любви с издателем порнографического журнала «Хастлер» – да еще в святыне чешской государственности. Тут Гавел, разнообразия ради, нажиму поддался и приватный показ фильма в кинозале Пражского Града отменил.
Гавеловские познания в области обычаев и традиций голливудской аристократии ограничивались памятной встречей с Джейн Фондой в 1990 году, вечеринкой в Беверли-Хиллз в ноябре 1991-го, которую хозяин дома преподнес как «встречу президента Гавела с видными голливудскими интеллектуалами» (такими, например, как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, слегка утомленный Джек Николсон и престарелые Джин Келли и Билли Уайлдер), пикником с Барброй Стрейзанд на ферме Мадлен Олбрайт в Вирджинии и нежной дружбой с Миа Фэрроу, с которой он свел знакомство в доме Уильяма и Роуз Стайронов в коннектикутском Роксбери. Возможно, поэтому он не понял, что ставит организовавшего эту поездку Милоша Формана в очень неловкое положение. Милош никак не мог объяснить своим звездам и в первую очередь самому Ларри Флинту, которому в конце концов принадлежал доставивший их всех самолет, почему чешский президент – его близкий друг – не хочет их принять, и отказывался соглашаться с доводами Гавела, считая их ханжескими. В конце концов его Ларри Флинт был благородным хулиганом, последним в длинной череде отверженных, таким же, как Джордж Бергер в «Волосах», Рэндл Патрик Макмёрфи в «Пролетая над гнездом кукушки» или Моцарт в «Амадее», – примером личного мужества в обществе заговоров, трусости и притворства. Форман разъярился настолько, что их давняя с Гавелом дружба оказалась под угрозой.
Наконец – при моем незаметном участии – дипломатия победила. После длительных переговоров между Градом и компанией Формана Гавел – хотя приглашение в Град Флинт так и не получил – согласился встретиться с Форманом, Флинтом и актерами в отеле «Хоффмейстер» и дружески побеседовать за рюмкой вина. Но эту встречу вряд ли можно было счесть удачной. Поскольку Гавел фильма пока не видел, а актеров ничто другое не интересовало, говорить оказалось не о чем. Вежливые президентские фразы заглушались криками трехмесячной дочки Вуди Харрельсона, а Кортни Лав каждые пятнадцать минут скрывалась в туалете. Эдвард Нортон, закончивший Йельский университет, с презрением интеллектуала взирал абсолютно на всех, не исключая и президента, который к тому же не видел и, соответственно, не мог обсуждать «Первобытный страх». Все, в том числе и малышка, хотели сфотографироваться с Гавелом, чем вводили его в состояние еще большей растерянности. Спокойствие сохранял один Ларри Флинт.
Тем не менее лед был сломан, и дружба Гавела и Формана продолжилась. Как обычно, Гавел, почувствовав себя виноватым, уступил. Вскоре в Граде состоялся показ фильма. Флинт тоже присутствовал на сеансе. Переводчиком был я. Гавелу фильм понравился. Град не рухнул.
Как ни осторожен был Гавел в том, что касалось опасности, проистекавшей из преимуществ и соблазнов его положения, в отношениях с женщинами пассивной жертвой этих своих страхов он не являлся. Он и в прошлом не был образцом супружеской верности, а уж теперь любовные победы давались ему куда легче – о чем он время от времени с удовольствием упоминал. И все благодаря власти, которую Генри Киссинджер назвал как-то лучшим афродизиаком! Нет-нет, ничего скандального, разве что парочка кратких романов и парочка неудачных попыток. Насколько мне известно, Гавел никогда не пользовался своим положением для давления и тем более домогательств. Ряд его приключений остался на платоническом уровне, а то, что можно было бы считать одержанными победами, зачастую больше напоминало крик о помощи, чем радость заядлого сердцееда. Его соратникам оставалось только пытаться охранять его частную жизнь и отгонять от него множество фанаток и корыстолюбиц.
Но Гавел, как и раньше, мечтал о более постоянных и более глубоких отношениях. Уже весной 1990 года он начал встречаться с Дагмар Вешкрновой. Они познакомились еще перед Бархатной революцией, на праздновании тридцатилетия театра «Семафор», где ее представил Гавелу Иржи Сухий. Гавел пришел в спортивной куртке, вел себя таинственно и советовал Даше держаться от него подальше, чтобы не попасть в неприятности. Даша, со своей стороны, заметила, что он много курит и что у него «красивые застенчивые голубые глаза»[966]. Что-то явно назревало, хотя гавеловские советники и телохранители с успехом воспрепятствовали всем попыткам парочки побеседовать в интимной обстановке на нескольких театральных премьерах. Однако они оказались бессильны, когда Гавел пригласил Дашу на танец на ежегодном балу «Прага – Вена» в день своего возвращения из Израиля. Затем он напросился к ней домой на конфиденциальную «чашечку кофе», чтобы «никто ничего не просек»[967]. Благодаря его выдающимся конспиративным талантам нельзя было, разумеется, избежать того, что когда Дагмар вечером приехала к себе домой на такси, на улице уже стояло несколько машин охраны с проблесковыми маячками, а все обитатели многоэтажки прилипли к окнам, чтобы понять, что происходит. Через пять дней она нашла в своем почтовом ящике листок без подписи: «Таинственный мужчина будет ждать вас в “Монастырском винном погребке” в 8 вечера 30 апреля»[968]. Гавел не изменился – начало большому любовному роману было положено.
Советники Гавела чувствовали себя не в своей тарелке. Даша была красавицей и превосходной актрисой, но интеллектуалкой ее никто не считал, а уж диссиденткой – тем более. Ее имя, наряду с именами большинства ее коллег, находилось в списке подписантов «Антихартии»[969]. Она наверняка чувствовала холодок, с которым встречали ее некоторые сотрудники президентской канцелярии, и никогда о нем не забыла.
В драме любовной жизни Гавела его друзьям предстояло пройти испытание на верность. Многие были преданы Ольге. Кто-то переживал за реноме президента. Но были тут вещи еще более сложные – ведь приязни Гавела добивались не одна и не две женщины. Результатом этого было появление достаточно сложного президентского расписания с фальшивыми пунктами, псевдовстречами, обходными маневрами, секретными маршрутами и заговорами молчания[970]. Несколько человек из ближнего круга президента совершили большую ошибку, выложив ему без обиняков свои претензии к Даше. Другие, знавшие его лучше, оказались умнее. Они приняли выбор Вацлава, успокаивая себя тем, что пока Ольга жива, Даше будет отведена роль любовницы.
К несчастью, прожить долго Ольге было не суждено. Во второй половине 1994 года ей диагностировали рак, и через полтора года она умерла. Ей тоже пришлось заплатить высокую цену за свое длительное пристрастие к курению. После известия о ее кончине множество скорбящих пришло попрощаться с ней и отдать дань уважения ее памяти. «/Ольга/ навсегда останется незаменимой и важнейшей частью моей души», – сказал Гавел спустя год, в день, когда женился вторично[971].
О последних годах жизни Ольги известно мало. Вскоре после переизбрания Гавела на новый срок в 1993 году Вацлав и Ольга решили подыскать себе новое жилье и – хотя и не сразу – купили виллу в пражском районе Оржеховка. Спустя почти шестьдесят лет Гавел наконец покинул родительское гнездо на набережной Влтавы и продал свою часть квартиры брату Ивану и его семье. Причины такого решения коренятся в событиях личной жизни Гавела того периода. Ни Вацлав, ни Ольга не ладили со второй женой Ивана Дагмар – словачкой, математиком и любительницей икебаны. После того как Иван перевел на нее практически все свое имущество, между двумя ветвями семьи начался спор, кому владеть «Люцерной». Решение Вацлава продать свою половину «Хемаполу», фирме с коммунистическим прошлым, которая к тому же вскоре обанкротилась, поставило последнюю точку в конфликте с Иваном и Дагмар, которые полагали, что у них есть преимущественное право покупки. Когда же после смерти Ольги на сцену вышла вторая Дагмар, отношения испортились вконец. Ни один из братьев не был домашним тираном, который мог бы вмешаться и сказать свое решительное слово. Оба покорно подчинялись женам, хотя от этого страдали их братские отношения. Так что переехать из родительского дома было разумно.
Ольга помогла обустроить и украсить их новое жилище. Туда Гавел привез ее из больницы за три дня до смерти, чтобы она могла умереть дома. Однако для него эта вилла домом так и не стала. С тех пор как его избрали президентом, он непрерывно переезжал, причем не всегда только в силу внешних обстоятельств. В Граде он вечно играл в «горячие стулья», пока не подыскал себе кабинет, в котором прочно и с радостью обосновался. Точно так же обстояло дело и с его частными жилищами. В квартире на набережной он проводил все меньше времени и иногда прикидывал, не переселиться ли ему в замок в Ланах – любимое место отдыха Масарика. Подражая первому президенту, он даже пробовал ездить верхом, но быстро отказался от этой затеи. Потом он ненадолго поселился в так называемой квартире Масарика за президентским кабинетом, но превратить ее во что-то уютное и годное для удобной жизни так и не смог – и из-за обилия людей, что сновали по Граду, и по соображениям безопасности, и из-за возражений охранителей архитектурных памятников. Оттуда Гавел на какое-то время перебрался в так называемый домик Гусака – виллу в стиле ампир в садах Пражского Града, практически разрушенную после многолетних попыток приспособить ее под вкусы и стиль жизни коммунистов. Гавел мало того, что терпеть не мог это место, так вдобавок чуть не погиб там, когда заперся в раскаленной президентской сауне и не смог ни открыть дверь, ни дозваться своих телохранителей, которые смотрели телевизор; к счастью, собравшись с последними силами, он все-таки сумел выбить дверь. В конце концов он поселился в помпезной, однако не слишком привлекательной вилле на Делостршелецкой улице, в десяти минутах ходьбы от Града – с бассейном и небольшим спортзалом. Позднее, уже после свадьбы с Дашей, он купил дом в португальском Ольюш-ди-Агуа – открытом всем ветрам прибрежном городке, где у него не было знакомых и где он не знал, чем себя занять[972].
Гавел всякий раз начинал с воодушевлением обустраивать очередное новое жилье, но вскоре запал иссякал – и место переставало ему нравиться. В результате всегда получался какой-то полуфабрикат, полный памятных вещиц, предметов искусства и современнейших приспособлений, но холодный, не согретый теплом домашнего очага и, пожалуй, неудобный. Исключение составляли Градечек и президентский кабинет Гавела – два его истинных обиталища. Только там царил дух гармонии и ощущалось любовное – граничившее с одержимостью – внимание к деталям и мелочам, будь то незаменимая чашка Гавела в Градечке или тибетская танка, полученная в подарок от далай-ламы и висевшая на стене кабинета. Все прочие дома и квартиры выглядели какими-то незавершенными, временными, служащими перевалочной базой, с которой хозяин сбежит, чтобы ненадолго обосноваться где-то еще.
В середине девяностых годов Гавел колебался между чувством долга перед сопровождавшей его всю жизнь, а теперь смертельно больной подругой и своей все более сильной тягой к женщине, в которую влюбился. Дилемма эта явно не имела четкого решения, и он, человек в высшей степени порядочный, поделать с этим ничего не мог. Но тут Ольга умерла.
Нет никаких сомнений в том, что, потеряв Ольгу, Гавел глубоко и искренне скорбел, но прилюдно демонстрировать свои чувства было не в его характере. Он выглядел почти спокойным, однако его истинное состояние выдавала некая заторможенность, эмоциональная невозмутимость, совершенно не свойственная тому, кто всегда был склонен к глубочайшему самоанализу. Так или иначе, но его дилемма разрешилась. Теперь он мог уделить все свое внимание Дагмар, тем более что Ольга с обычной прямотой сказала ему перед смертью, что жить один он не может и потому ему следует снова жениться[973].
Но прежде Гавелу пришлось самому взглянуть в лицо смерти. В начале ноября 2006 года хронические проблемы с дыханием внезапно обострились, резко подскочила температура и появилось непреходящее чувство усталости. Его личного врача Михала Шерфа это особенно не обеспокоило. Бронхит с предрасположенностью к пневмонии регулярно повторялся каждую весну и осень. Но в этот раз Дагмар настояла на независимом обследовании. Новые рентгеновские снимки и проведенное МРТ (все это – на имя Антонина Манены, начальника полиции Града, из-за опасений утечки информации) показали затемнение в легких. Дальнейшие исследования выявили раковую опухоль. Знаменитый пражский хирург профессор Пафко рекомендовал немедленную операцию. Гавел как раз должен был отправляться с государственным визитом в Украину, и его советники убеждали его не отменять визит, однако Даша выступила решительно против.
Операция, проведенная 2 декабря 1996 года, длилась четыре с половиной часа, и опухоль вместе с половиной правого легкого удалось убрать. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько она была успешна – ведь до самой своей кончины в 2011 году Гавел оставался в состоянии ремиссии. Но потом последовали события, едва не стоившие президенту жизни, породившие множество медицинских и общественных дискуссий и способствовавшие появлению скандальных слухов и обвинений в неэтичном поведении, выдвинутых против средств массовой информации, а также выходу книги одного бульварного журналиста[974], которая вовсе не была ни так точна, как утверждал ее автор, ни так оскорбительна, как заявляла президентская канцелярия.
Через два дня после операции пациенту стало хуже, и врачам пришлось произвести санацию дыхательных путей, чтобы устранить мокроту из легких. Однако лучше Гавелу не становилось, и Пафко решился на трахеостомию, что дало бы президенту возможность дышать при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Но в больнице на Лондонской улице аппарата ИВЛ не было – вот вам иллюстрация к ситуации в системе чешского общедоступного здравоохранения, где работали отличные высококвалифицированные врачи и медсестры, но в первые годы после Бархатной революции ощущался острый недостаток средств на модернизацию инфраструктуры, зданий и медтехники. В больнице отсутствовала центральная разводка кислорода. Когда давление в кислородном баллоне возле президентской кровати упало, потребовалось время, чтобы отыскать мастера для его замены. Из-за дыхательной трубки в трахее президент не мог говорить и был вынужден объясняться с персоналом при помощи записок, написанных с огромным трудом, но всегда вежливых и заканчивающихся именем Гавела и его излюбленным сердечком. Жаловался он только на то, что не может разговаривать и потому ему приходится гримасничать. «Люди такие непонятливые», – нацарапал он с долей иронии на одном листочке[975].
В конце концов Дагмар, снедаемая страхом за жизнь друга, решила взять дело в свои руки. Поскольку она разочаровалась в способности традиционной медицины помочь пациенту, то пригласила к нему гомеопата, которой удалось проникнуть в больницу и без ведома охраны и персонала переориентировать койку президента и поместить туда несколько «целебных камней». О новом методе лечения стало известно, когда президент пожаловался, что лежит на чем-то жестком. Разразился страшный скандал между персоналом больницы, гомеопатом, Дашей и сотрудниками президентской канцелярии. Уж не знаю, помогло ли лечение камнями, однако 7 декабря Гавел почувствовал себя немного лучше. Кризис миновал.
А вот Дашины тревоги – нет. Она больше не верила больнице, врачам и советникам президента и твердо решила искать помощи в другом месте.
Когда она позвонила мне и сообщила, что президент умирает и я должен немедленно найти для него лучших врачей, в Вашингтоне, где я по-прежнему работал послом, было три часа утра. Ни одного американского специалиста по болезням легких я не знал, но тем не менее взялся за телефон и принялся накручивать диск, абсолютно не уверенный в том, что сонные люди вообще захотят со мной разговаривать, а не швырнут сразу трубку. Венди Луерс нашла доктора Пола А. Маркса – директора знаменитого «Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга» в Нью-Йорке, который перезвонил мне с тем, что готов отправить в Прагу своего лучшего хирурга, заведующего отделением торакальной хирургии д-ра Роберта Гинсберга.
Когда Гинсберг на следующий день после ночного перелета добрался до Праги, он обнаружил, что пациент стабилен и окружен командой врачей, которые хотя и были (что естественно) озабочены, но ситуацию контролировали. Гинсберг осмотрел президента, провел несколько процедур, выступил на пресс-конференции, где похвалил работу своих чешских коллег, и на следующий день вернулся в Нью-Йорк[976]. Спустя два дня я навестил Гавела в больнице. Говорить он хотел не о своем здоровье, а о последнем кризисе в чешском правительстве[977] и о назначении Мадлен Олбрайт государственным секретарем Соединенных Штатов. Из больницы его выписали на второй день Рождества.
Переполох, подогреваемый разнообразнейшими сообщениями, их опровержением, неподтвержденными слухами и утечками информации, продолжался несколько недель и в известной мере способствовал тому, что Дашу стали воспринимать как эмоциональную, непредсказуемую и мстительную фурию, взявшую на себя роль гавеловской защитницы и ревнующую к любому, кого можно заподозрить в намерении как-то навредить ей – женщине, занимающей столь исключительное положение. Врачи же имели претензии к ее любительским и, по их мнению, даже опасным попыткам вмешаться в лечение высокопоставленного пациента.
Так или иначе, но вполне возможно, что именно непрерывное Дашино дежурство возле больного, ее просьбы, призывы и взрывы гнева помогли справиться с ситуацией, когда Гавел совершенно точно был на пороге смерти. Она неутомимо следила за тем, чтобы каждый делал то, что было в его силах, и даже больше, хотя и рисковала стать непопулярной. Сам Вацлав Гавел был убежден, что именно она его «спасла, да еще и несколько раз»[978].
Разумеется, должен был последовать хеппи-энд голливудских масштабов. Изначально предполагалось, что события станут развиваться согласно сценарию, который Гавел, после того как попросил в апреле 1996 года Дашиной руки и Даша согласилась, разработал, по своему обыкновению, в мельчайших подробностях[979]. В то лето в Градечке он составил список гостей, нарисовал для невесты идеальное свадебное платье и букет и, как и двадцать лет назад в истории с Иткой, подготовил список из семи мероприятий, во время которых намеревался представить свою новую подругу жизни[980]. Сама свадьба была запланирована на 26 апреля 1997 года и должна была состояться в маленьком деревенском храме в Младых Буках, неподалеку от Градечка[981]. Однако болезнь Гавела не просто сорвала его программу, но и настолько недвусмысленно напомнила ему о том, что все мы смертны, что он решил не ждать до весны.
В новогодней речи 1997 года президент говорил не только о сгущающихся над чешской политикой и экономикой тучах, но и о собственных неоднократных встречах со смертью в ушедшем году: сначала умерла Ольга, а потом он сам неделю находился между жизнью и смертью. Гавел сказал: «И я снова остро осознал, что единственным истинным источником воли к жизни является надежда, надежда как внутренняя уверенность; даже то, что поначалу кажется нам чем-то бессмысленным, может иметь глубокий смысл. И наша задача состоит в том, чтобы отыскать его. А еще я осознал отчетливее, чем прежде, почему без любви к ближнему человеческая жизнь лишается чести именоваться человеческой жизнью»[982].
Третьего января 1997 года он подтвердил свои слова действием и сочетался браком с Дагмар Вешкрновой в той же ратуше пражского Жижкова, где более сорока лет назад женился на Ольге. Свидетелем со стороны жениха опять стал Ян Тршиска. Свидетельницей со стороны Дагмар была ее коллега-актриса Таня Фишерова. Предполагалась скромная гражданская церемония, однако из-за утечки информации она превратилась в беснование телевизионщиков и бульварных медиа[983].
Плохое настроение
Кроме обычных пожеланий – еще одно: никогда не становись президентом.
Поздравления Вацлава Гавела Гарольду Пинтеру к семидесятилетию, 10 октября 2000 г.
Изменение семейного положения Гавела вызвало неожиданную реакцию иммунной системы народа, которая давала о себе знать больше года. По какой-то, видимо, не вполне рациональной причине средства массовой информации, общественность и политические круги с трудом свыкались с новым браком президента. Одни упрекали его в отсутствии такта и вкуса за то, что он заключил новый брак меньше чем через год после смерти Ольги. Другие отмечали – не в пользу Даши – несходство между обеими женщинами, одна из которых всю жизнь избегала публичности, а вторая сделала себе карьеру на сцене. Средства массовой информации, пользуясь своей способностью воздействовать на подсознание, намекали, не говоря этого прямо, что в новой первой леди есть что-то от заезжей выскочки. Прозвучало и напрашивавшееся, но несправедливое сравнение с аргентинским диктатором Хуаном Пероном и его Эвитой, притаившейся за кулисами.
Какое-то время казалось, что президентская чета все делает неправильно. «Никто тогда толком не знал, как должна выглядеть первая дама страны и что должно входить в ее обязанности, но все знали, что она не должна выглядеть так, как я», – скажет Даша по этому поводу спустя годы[984]. Ее критиковали как за неготовность к этой роли, так и за то, что она слишком рвется ее играть. Ее гардероб не нравился, потому что был недостаточно креативным и – одновременно – вызывающим. В канцелярии президента ей приходилось пускать в ход все средства для того, чтобы ее пропускали к мужу и помогали в офисных делах. Когда президент публично дал понять, что первая дама должна иметь официальный статус, который определял бы ее положение и права, это предложение встретило шквал протестов, словно он затевал путч. Идея официального статуса быстро отпала, но Гавел в конце концов возмутился и написал своим сотрудникам резкое письмо, в котором недвусмысленно заявил, что «свою долю ответственности несет и Канцелярия Президента Республики, заметная часть которой внутренне так и не смирилась с моим новым браком… Но, нравится это кому-либо или нет, с 4 января 1997 года Пражский Град вновь является резиденцией супружеской четы. Это один избранный Парламентом конституционный деятель и одна его супруга, которую избрал себе он сам (и, само собой, она – его)»[985].
Оправившись от болезни и женившись на Даше, Гавел хотел внести в свою жизнь порядок и гармонию. Но это было нелегко. В стране понемногу назревал политический кризис. Гавелу трудно было делать выбор между официальными обязанностями и естественным желанием провести какое-то время со своей новой женой. На его душевном состоянии довольно неблагоприятно сказывалось то, что врачи строго запретили ему курить. Спустя более сорока лет с тех пор, как он обзавелся этой вредной привычкой, ему стоило большого труда не нарушать этот запрет.
Весной президентская чета наконец-то решила отправиться в первый совместный отпуск, чтобы провести запоздалый медовый месяц. Как и много раз до и после того, поездка напоминала игру в «горячие стулья». Гавелу с Дашей не понравилось в элегантной и, несомненно, романтической вилле, которую подыскал для них Карел Шварценберг в Тирольских Альпах близ Больцано. «Выбрал то, что наилучшим образом удовлетворяло его аристократическому вкусу, то есть дом, где, вероятно, бродит особенно много привидений его предков», – скупо прокомментировал это Гавел[986]. Супруги, которые сочли виллу, с одной стороны, вселяющей ужас, а с другой – слишком дорогой, перебрались в пансион в живописной высокогорной местности, где Гавела мучила лишь одна дилемма: следует ли ему готовить очередную речь или отдыхать. «Делать одновременно то и другое просто невозможно»[987]. Похоже, он не делал ни того, ни другого. Не прошло и недели, как супруги внезапно спустились с гор и, совершив марш-бросок через пол-Европы, осели «в комфортабельном и прекрасно оборудованном бунгало посреди леса»[988] в Голландии. «Прошу в дальнейшем не выяснять причины такого шага и поверить, что у нас имелись для этого основания», – таково было единственное данное Гавелом объяснение[989].
Болезнь или женитьба – а скорее всего то и другое – как будто повлияли на подход Гавела к работе. Хотя на загруженность он жаловался практически с первого дня пребывания в Граде, теперь эти жалобы перешли в открытый бунт. Отказываясь проводить в канцелярии столько же времени, как прежде, он требовал оставить в его рабочем графике только самые важные встречи и мероприятия. Просил ограничить количество официальных зарубежных визитов, чтобы сосредоточиться на внутренних делах. И хотел проводить больше времени с Дашей – дома или за границей. Он придумал себе «тур за премиями»: поездку с Дашей за свой счет, чтобы собирать различные премии и награды, которых его удостаивали. В редкую для него минуту расточительности он настаивал на том, чтобы проделать часть этого путешествия в Соединенные Штаты на сверхзвуковом «Конкорде».
Все это было вполне понятно. Общество Даши радовало Гавела больше, чем работа в канцелярии и встречи с иностранными государственными деятелями. Ему был шестьдесят один год, а достиг он куда большего, чем основная масса людей достигла бы за тысячу жизней. Сознавал он это или нет, но сделать свой жизненный путь еще лучше он уже не мог. Гавел утратил возможность контролировать политическое развитие страны и определять его направление, как он это делал после Бархатной революции, и вынужден был довольствоваться ролью морального авторитета на родине и за рубежом. Демократия и капитализм победили и теперь демонстрировали свое повседневное обличье со всеми его изъянами. Гавел рисковал тем, что его критика недостатков общего процесса будет воспринята как гроздь кислого винограда, да еще и преподнесенная победителем. Чешская Республика уже прочно стояла на пороге вступления в НАТО и Европейский союз. Он сам уже не нуждался ни в какой должности; мало того, возможно, и должность не нуждалась в нем. Однако Гавел не отступал. 13 июля 1997 года, ссылаясь на совместную рекомендацию четырех демократических парламентских партий[990] и свое чувство ответственности, он объявил, что через полгода вновь выставит свою кандидатуру на президентский пост[991]. На этот раз – никаких признаков колебания. Напротив, некоторые факты, например, исключительное внимание, какое он уделял своей будущей речи в парламенте за пять месяцев до ее произнесения, позволяют думать, что он пришел к выводу, что страна развивается не в том направлении, и решил быть уже не только «неисчерпаемым источником надежды в безнадежной ситуации», но вновь вступить в игру, чтобы помочь поправить дело. И в очередной раз ему предстояло биться в одиночку.
В ноябре 1997 года Гавел опять попал в больницу с воспалением легких. Все опасались за его жизнь, и Даша снова была рядом с ним. С политической точки зрения он не мог выбрать более неподходящего времени для болезни. Президентские выборы должны были состояться через два месяца. А страна, что было хуже всего, чем дальше, тем больше погружалась в политический кризис, вызванный гигантским торговым дефицитом, сбоями в банковской системе, сообщениями о тайных фондах политических партий в зарубежных банках и утратой доверия граждан политикам вообще и тогдашнему правительству – в частности. Кризис назревал весь год. Гавел проводил конфиденциальные переговоры с председателями коалиционных партий и парламентских клубов, для того чтобы составить представление о сплоченности коалиции и возможных альтернативах политического устройства[992]. Кульминацией же кризиса стал распад правящей коалиции в конце ноября на фоне появившейся информации о тайных счетах партии премьера за границей. Политическая карьера Вацлава Клауса и других политиков, которые контролировали страну в предыдущие пять лет, казалось, рухнула. Вполне возможно, что Гавел одобрял такое развитие событий, даже не очень это скрывая. Иное дело – утверждать, будто он принимал активное участие в заговоре с целью свержения Клауса. Этот миф стал «символом веры» для некоторых сторонников Клауса, но сам Клаус его не разделяет, хотя в то время и винил Гавела в том, что президент способствовал созданию общей атмосферы напряженности[993]. Даже беглый взгляд на календарь Гавела в 1997 году показывает, что между болезнью, женитьбой, запоздалым медовым месяцем и официальными визитами у него оставалось не особо много времени, чтобы заниматься внутриполитическими проблемами, а тем более участвовать в чем-то столь времязатратном, как политические интриги. Самое большее, в чем его можно обвинить, это то, что он, зная о готовящемся бунте коалиции против премьера, не сделал ничего для его предотвращения, но это явно не тот проступок, который дает повод обратиться с жалобой в Конституционный суд. Одно можно утверждать наверняка: сам Гавел никаких счетов за границей не открывал.
Декабрьское выступление президента в парламенте вошло в историю как речь «плохого настроения», хотя это выражение, введенное в оборот экономистом Павлом Кисилкой, заместителем управляющего Чешским государственным банком, Гавел употреблял уже несколькими месяцами ранее. Речь эта оказалась действительно памятной, как Гавел того и хотел, пускай ему и не удалось изменить ход событий так, как он надеялся. В любом случае это была определенно смелая речь. Известно не так много примеров, когда претендент на политическую должность посвящает сорок минут критике своих потенциальных избирателей. Через десять дней после падения правительства и обрушения политической иерархии Гавел представил мрачную картину страны и ее политической системы:
У многих людей <…> нынешняя политическая обстановка в нашей стране вызывает беспокойство, разочарование либо даже отвращение; многие думают, что, демократия-не демократия, а у власти опять стоят недостойные доверия политики, которых больше заботит собственная выгода, чем общественный интерес; многие убеждены, что у честных предпринимателей дела плохи, тогда как мошенникам-нуворишам дан зеленый свет; распространено мнение, что в этой стране имеет смысл врать и красть, что многие политики и государственные служащие коррумпированы, а политическими партиями – хотя все они красиво говорят о своих честных намерениях – тайно манипулируют сомнительные финансовые группировки; многие удивляются, почему через восемь лет с начала строительства рыночной экономики она у нас на таком низком уровне, что правительству приходится принимать на скорую руку различные пакеты мер жесткой экономии, почему мы задыхаемся от смога, если столько денег якобы выделяется на экологические цели, почему растут цены на все, включая аренду и энергию, при том что пенсии и другие социальные выплаты не повышаются соразмерно этому, почему мы боимся ходить по ночам по центру наших городов, почему не строятся почти никакие здания, кроме банков, гостиниц и вилл для богатых, и т. д., и т. д., и т. д.[994]
За этими риторическими вопросами, которые можно было бы с тем же успехом отнести к положению дел спустя шестнадцать лет, что и к ситуации в 1997 году, последовал диагноз. Гавел справедливо приписал часть вины «посткоммунистическому маразму», неизбежным последствиям быстрых перемен, неопытности и отсутствию правил и институтов – явлениям, общим для всех посткоммунистических стран. Во второй части диагноза, однако, чувствовался уже настоящий Гавел:
Мне кажется, что нашей главной ошибкой была гордыня… Мы вели себя как лучшие ученики, отличники, избалованные дети, которые вправе ставить себя выше других и всех поучать. Эта гордыня странным образом комбинировалась с какой-то мещанской провинциальностью, чуть ли не местничеством… Многие из нас смеялись над теми, кто говорил о глобальной ответственности, долю которой в современном цивилизационно взаимосвязанном мире несет каждый, твердя, что нам, как маленькой стране, следует заниматься лишь нашими маленькими чешскими проблемами… Мы были страной, восхищенной своими макроэкономическими показателями, которую не интересовало, что эти показатели рано или поздно покажут также и то, что находится за пределами макроэкономической или технократической концепции мира: а именно – что есть вещи, значение или вес которых хотя и не просчитает никакой бухгалтер, но которые образуют единственно мыслимую среду для любого экономического развития: правила игры, правовое государство, моральный кодекс, на котором зиждется всякая система правил и без которого ни одна такая система не может работать, климат сосуществования в обществе[995].
В конце года, после раскрытия подозрительного финансирования политических партий и обусловленного этим падения правительства, настроение было и впрямь неважное, и Гавел уже не был уверен, стоит ли ему вновь выдвигать свою кандидатуру и сможет ли он в этом случае рассчитывать на избрание[996]. О его по-прежнему непререкаемом нравственном авторитете более, чем что-либо, свидетельствует тот факт, что 20 января 1998 года парламент – хотя многие депутаты и чувствовали себя униженными и оскорбленными его речью – в четвертый раз избрал его президентом, правда, большинством с перевесом всего лишь в один голос[997] и после долгих дебатов, которые заключались в основном в нападках со стороны депутатов от компартии и республиканцев, чей лидер Мирослав Сладек тогда находился под стражей, ожидая суда по обвинению в разжигании национальной розни. Многие же выступления в поддержку Гавела, прозвучавшие из уст депутатов от демократических партий, были несколько половинчатыми. Даже те, кто, как я, безоговорочно поддерживал избрание Гавела, чувствовали себя обязанными предварить голосование такой преамбулой: «Сегодня мы понимаем, что не избираем ни полубога, ни короля-философа. Мы избираем одного из нас, человека небезгрешного, как и все мы, но такого человека, который принес большие жертвы, посвятив немалую часть своей жизни, в том числе последние восемь лет, служению обществу и этому народу <…>. Наша страна не очень любит великанов, но многие из нас, как и значительная часть мира, видят среди нас по меньшей мере одного человека-великана – ошибающегося, так как другими люди-великаны не бывают, – и этот человек – Вацлав Гавел»[998].
После оглашения результата выборов раздался выкрик депутата-республиканца Яна Вика: «Пан Гавел, пусть вам будет стыдно!» Ответом ему был пронзительный свист с галерки. Свистела Даша Гавлова, которая хотела подбодрить мужа. В любом случае Гавел понимал, что это его последние выборы. По конституции он больше не мог выдвигать свою кандидатуру.
Второго февраля 1998 года Гавел вновь был введен в должность президента Чешской Республики. Дела как будто шли на лад. Перед ним – новый президентский срок, и у него новая жена. Последний кризис, связанный с состоянием здоровья, отступил так же, как кризис политический. Клаус, его самый нелюбимый политик в лагере реформаторов, покинул пост премьера. Его место до проведения досрочных выборов занимал Йозеф Тошовский (до того – управляющий Чешским национальным банком), в равной мере обязанный своим авторитетом и легитимностью как президенту, так и политическим партиям.
Но вместо того чтобы испытывать удовлетворение, Гавел впадал в хандру. «В эти выходные у меня была одна из самых глубоких депрессий за долгое время», – писал он через месяц после своей инаугурации[999]. Реагируя на упреки в том, что он становится «заурядным политиком», Гавел признавал, что его выступления уже не такие «хлесткие и написанные с удовольствием»[1000]. Верным признаком его разочарования в том, как идут дела, была очередная затеянная им реорганизация президентской канцелярии. Необычным для прежнего Гавела было в этот период то, что он часто терял самообладание, осыпая своих служащих упреками в том, что они недостаточно поддерживают его усилия, и выдвигая необдуманные обвинения, часть из которых ему затем приходилось брать назад, как в случае, когда он перед телекамерами посетовал на «леность» сотрудников канцелярии в его отсутствие. «Я весь на нервах, часто раздражаюсь и при этом не раз кого-то неумышленно обижаю», – извинялся он письменно, как ему было привычнее, перед коллегами, приписывая свою раздражительность отказу от курения[1001]. Это было вполне естественное, однако, наверное, не единственное объяснение. Гавел не только страстно мечтал о сигарете – его попытка изменить ход вещей, у истоков которого он стоял, не принесла желаемого результата.
Его политический противник Вацлав Клаус, восставший из небытия, вел эффективную избирательную кампанию под лозунгом «мобилизации» перед лицом якобы грозящей опасности прихода к власти левых сил. ГДП на билбордах ставила избирателей перед однозначным выбором: «Влево или с Клаусом». А когда левая социал-демократическая партия во главе с Милошем Земаном все же выиграла и ГДП заняла только второе место, Клаус заключил ошеломляющую политическую сделку под названием «оппозиционный договор», или – более возвышенно – «договор о создании стабильного политического пространства», в котором обязался поддерживать составленное Земаном правительство меньшинства в обмен – хотя это и не было сформулировано – на места в наблюдательных советах государственных компаний для представителей ГДП. Страна качнулась влево – причем с Клаусом.
Всем этим событиям предшествовала еще одна встреча президента со смертью. Четырнадцатого апреля 1998 года, на пятый день очередной незадавшейся романтической поездки с Дашей в австрийские Альпы, Гавела доставили на вертолете в больницу в Инсбруке с резкими болями в области живота. Лучший австрийский хирург профессор Эрнст Боднер диагностировал перфорацию толстой кишки и сразу же провел операцию. По всей видимости, Гавел был всего в нескольких часах от смерти в результате сепсиса, и спасли его только искусство хирурга, его собственная исключительная воля к жизни и заботы Даши, не отходившей от него ни на шаг. Гавел поправился и в середине мая вернулся в Прагу.
Однако нелады со здоровьем преследовали его до конца года. Когда в августе он лег на операцию по удалению фистулы, оставшейся после предыдущего хирургического вмешательства, у него опять начались проблемы с дыханием и стало отказывать сердце. В течение двух лет ему четыре раза делали трахеотомию.
Весь этот ад сопровождался навязчивым и неусыпным вниманием средств массовой информации. Многие журналисты искренне волновались о состоянии здоровья президента, но было и другое: множество типографской краски ушло на советы по оказанию ему медицинской помощи, далеко идущие обобщения насчет чешской и австрийской систем здравоохранения и завуалированные выпады против Даши, как будто именно она была виновата в ухудшении здоровья мужа.
Все это не имело бы значения, если бы не тот факт, что как раз тогда в некоторых кругах правой части чешского политического спектра возник миф о Вацлаве Гавеле как о жаждущем власти интригане-маккиавелисте, чьи происки привели к досрочной отставке Вацлава Клауса. Симпатии и антипатии Гавела были абсолютно ясны, но несущественны. Важно было то, что из двух лет, когда его интриги якобы достигли кульминации, он полные двенадцать месяцев был серьезно болен или оправлялся от болезни. Даже если бы он хотел бороться с Клаусом, который был в отличной физической форме, слишком много сил отнимала у президента борьба за собственную жизнь.
Не будет преувеличением сказать, что большинство сограждан в то время не ожидало, что Гавел после этого проживет долго. Уже составлялись некрологи и шли дискуссии о преемнике. Даже те, кто хорошо его знал, подавляли в себе готовность смириться с неизбежным, хотя и не были склонны недооценивать выносливоcть борца, скрывавшегося в этом хрупком теле.
Страдало не только здоровье Гавела – страдала и его популярность. Из неприкасаемой некогда иконы он сделался мишенью: с одной стороны его атаковали – и имели на то право – критики из числа политиков, с другой – мерзейшие распространители сплетен из числа охотников на знаменитостей. Кто-то негативно реагировал на второй брак президента и его привлекательную супругу. Однако большую часть негатива создавали целенаправленные, а местами, видимо, и скоординированные нападки продажных писак, подчас служивших определенным политическим кругам. Эта неотъемлемая составная часть политического процесса в Чешской Республике, как и везде в мире, была по-своему понятна: ведь чешский президент по традиции должен был в каком-то смысле стоять над повседневной политической суетой. Но картина была бы неполной без упоминания о том, насколько неудачно складывались отношения президента – и скорее именно его самого, а не президентской канцелярии – со средствами массовой информации в 1996–1998 годах.
Как человек, работающий со словом, Гавел всякий раз очень бурно реагировал на бьющие в глаза неточности, ложь и несправедливую критику. При этом он старался убедить критиков, что они ошибаются, и объяснить им, в чем именно состоит их ошибка. Члены команды президента часто пытались отговаривать его от этого, зная наверняка, что многих критиков любые убеждения или объяснения совершенно не трогают. «Воспринимай то, что о тебе пишут, как дождь, – робко советовал я ему. – Он может тебе не нравиться или быть неприятным, но поделать с ним ты ничего не можешь». По моему мнению, на пользу публичному имиджу президента наверняка пошли бы беспристрастность и открытость по отношению к средствам массовой информации. Ложь и манипулирование Гавелу совершенно не подходили.
Большей частью он следовал этим советам, но не всегда. Как он уже давно показал в «Письмах Ольге», у него возникало непреодолимое желание оправдываться там, где это было совершенно не нужно. В бытность его пресс-секретарем я всегда боялся той минуты, когда Гавел предлагал мне в очередной раз публично отчитаться о работе его канцелярии, а еще больше – когда он решал раскрыть актуальное состояние своих личных финансов. Мотив вины был очевиден для всех, кроме президента, который чувствовал себя обязанным примерно раз в полгода обнародовать размер своей президентской зарплаты (около ста двадцати тысяч крон в месяц), положенных ему надбавок (персональный фонд в один миллион крон в год плюс издержки), доходов от литературного труда (гораздо больше) и от продажи возвращенных по реституции объектов недвижимости (несколько десятков миллионов крон) с указанием отчислений на благотворительные и другие богоугодные цели (вся его президентская зарплата и многое сверх того). Результат был предсказуем. Половина населения была шокирована тем, как много он получает, а вторую половину коробила его щедрость, потому что он вот так запросто мог ее себе позволить. С точки зрения пиара это был кошмар.
Но все это оказалось цветочками по сравнению с войной, которую отныне вели со средствами массовой информации Гавел и Дагмар. Редко возвышая голос в защиту самого себя, Гавел ощущал глубокую потребность защищать Дашу и резко – причем иногда несоразмерно резко – реагировал на каждый выпад против нее. Он не слишком хорошо представлял себе, как функционируют СМИ, и потому строил несбыточные планы – например, о протаскивании заранее написанного интервью с его женой в газету «Право». Интервью так и не было напечатано.
Затем Гавел попросил Лиду Ракушанову, бывшую сотрудницу «Свободной Европы», чтобы та написала «правдивую» историю Даши и его отношений с ней. После выхода книги в свет[1002] она была подвергнута тотальной – и не вполне незаслуженной – критике как агиографическое сочинение, недостойное литературного и нравственного уровня Гавела.
Таких случаев становилось все больше. Когда Гавелу как-то раз показалось, что о нем несправедливо отозвались на телеканале «Нова», который никогда не был его большим поклонником, он от отчаяния сам позвонил в десять часов вечера в редакцию Чешского агентства печати с телефона полиции Града в Ланах и заявил, что хочет продиктовать опровержение. Мало того, он забыл проинформировать об этой выходке своего пресс-секретаря Ладислава Шпачека, и тот на другой день публично отрицал вчерашний инцидент. СМИ веселились от души.
Когда первая леди выступила с инициативой, чтобы во время государственного визита в Великобританию ее сопровождал персональный журналист из газеты «Блеск», Шпачек взбунтовался[1003]. Однако бульварный журналист – в итоге это оказалась журналистка – все равно поехал.
Дела шли чем дальше, тем хуже. Гавел, не понимая, что он сам подливает масла в огонь, обвинял всех вокруг – СМИ, политических противников и даже свою собственную канцелярию. Наконец осенью 1998 года он принял самое простое решение: «Я перестал листать газеты, смотреть телевизор и читать сводки! Какая чудесная жизнь!!!»[1004]
Она и впрямь была бы чудесной, если бы продлилась подольше. Спустя месяц Гавел ввязался в очередную медийную перестрелку, на сей раз с нравственным подтекстом. В списке выдающихся личностей, которым президент собирался вручить государственные награды по случаю празднования Дня возникновения самостоятельной Чехословакии 28 октября, оказался и бывший бургомистр Вены Хельмут Цильк, многолетний пропагандист добрососедских отношений между чехами и австрийцами. За несколько дней до торжественного вручения наград в газете «Зюддойче Цайтунг» и других СМИ появилось сообщение, что в середине шестидесятых голов Цильк был платным агентом чехословацкой разведки. Сам Цильк эти обвинения отверг. В неразберихе противоречивой информации Гавел отозвал награду, что не пошло на пользу чешско-австрийским отношениям, которые и без того подвергались суровым испытаниям в связи со спорами из-за атомной электростанции Темелин. Вацлав Бенда, в старые диссидентские времена товарищ Гавела по заключению, а теперь сенатор от ГДП[1005] и директор недавно созданного Управления документирования и расследования преступлений коммунизма, упрекнул Гавела: мол, тот и раньше знал о неблаговидном прошлом Цилька, мало того – даже получил соответствующую информацию, основанную на документах ГБ, от самого Бенды. В ответ Гавел обвинил Бенду во лжи. Между тем заведующий канцелярией президента, безусловно достойный Иван Медек публично заявил, что по указанию Гавела проверял кандидатов на получение награды по базам Управления. Медеку пришлось уйти в отставку. Над этим скандалом милосердно опустили завесу очередное легочное заболевание Гавела и приближающееся Рождество[1006].
Прощай, оружие
Я был внезапно заброшен в сказку – чтобы потом долгие годы падать на землю…
Речь в Городском университете Нью-Йорка, 20 сентября 2002 г.
На популярности Гавела не могли не отразиться проблемы предыдущих двух лет. Опросы общественного мнения в декабре 1998 года показали, что на вопрос «Должен ли президент подать в отставку?» положительно ответили 55 процентов респондентов, хотя, конечно, вопрос был наводящим и попахивал политической ангажированностью.
Если в то время Гавел и задумывался о своей отставке, виду он не подавал. Его ждал очередной трудный год, но в этот раз он был готов к бою. Двенадцатого марта 1999 года, после почти десяти лет, прошедших под знаком упорства и настойчивости, исполнилось одно из заветных желаний президента – Чешская Республика вступила в НАТО. В январе 1994 года Гавел сумел получить от Билла Клинтона обещание, касавшееся расширения Североатлантического альянса. Вопрос будет ли? сменился на вопрос когда? Подражая Леху Валенсе, он кормил и поил Бориса Ельцина в ресторане «Под золотым тринадцатым номером» на Нерудовой улице в Праге до тех пор, пока тот не перестал отличать НАТО от Варшавского договора, либо же пока ему вообще не стало все безразлично. В июле 1997-го Гавел принял участие в мадридском саммите Альянса, где было подтверждено решение о включении в его состав трех центральноевропейских стран. И дома, и за границей он продолжал поддерживать процесс расширения НАТО и всячески его поторапливал. Помня слова одного из братьев Маркс (Граучо), которые я как посол часто цитировал, о том, что не хотел бы он сделаться членом клуба, куда берут таких, как он, Гавел пытался убедить НАТО, что Чешская Республика будет ему полезна. За три месяца до даты расширения он добавил к своей благодарности госсекретарю США Мадлен Олбрайт сделанную от руки псевдоизменническую приписку: «Конфиденциально! Секретно! Будьте строги при приеме нас в НАТО! Мы народ болтунов!»[1007]
Итак, Чешская Республика, наряду с Венгрией и Польшей, стала одной из первых трех посткоммунистических стран, вступивших в Североатлантический альянс. Это случилось в момент передачи документов о вхождении в НАТО на торжественной церемонии в президентской библиотеке и музее Гарри С. Трумэна в Индепенденсе, штат Миссури, всего в двух часах езды от Фултона, где Черчилль заявил, что через весь европейский континент, «от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике», опущен железный занавес[1008]. Если роспуск Варшавского договора формально завершил холодную войну, то расширение НАТО погрузило в глубокий сон длинные тени Ялтинской конференции февраля 1945-го, которая рассматривалась – резонно или нет – как сдача союзников Запада в Центральной и Восточной Европе на милость либо немилость Сталина. «Древние государства Центральной и Восточной Европы»[1009] вновь объединились со своими западными соседями.
Если Гавел и большинство его сограждан представляли свое вступление в зону стабильности и безопасности Альянса как нечто степенное и церемонное, то их ожидал сюрприз. Спустя всего двенадцать дней самолеты НАТО начали бомбардировку территории бывшей Югославии, чтобы остановить акты устрашения и этнические чистки в Косове. Новые члены, располагавшие лишь устаревшими советскими летательными аппаратами, не могли активно участвовать в воздушной операции и были несколько ошарашены таким развитием событий. Чешское правительство долго дискутировало о целесообразности военной операции, а самолеты НАТО все это время стояли с запущенными двигателями на итальянской военной базе Авино в ожидании единодушного согласия членов Альянса. Гавелу, со своей стороны, уже довольно давно стало ясно, что именно следует предпринять. «Стороны конфликта должны осознать, что у них нет иного выхода, кроме как сесть за стол переговоров. Должно стать очевидным, что для Белграда альтернативой переговоров может быть только применение силы Североатлантическим альянсом. А для косовских албанцев – полная дискредитация их требований, в том числе и справедливых»[1010]. Хотя предстоящая операция Гавела совершенно не радовала и он называл ее «экстремальным решением», тем не менее он счел «неизбежно необходимым»[1011] выразить ей свою безоговорочную поддержку. Как обычно в случае необходимости принять сложное решение, Гавел, руководствовавшийся моральными критериями, нашел простое решение: «Наш исторический опыт показал, что злу необходимо противостоять, а не уступать»[1012]. Он проигнорировал возражения обоих партийных лидеров, подписавших «оппозиционный договор», и министра иностранных дел Яна Кавана, который (одновременно с греческим премьер-министром и министром иностранных дел Георгиосом Папандреу) по собственной инициативе принялся саботировать оперативный план НАТО, предлагая сначала прекратить бомбардировки и лишь затем приступать к переговорам. Гавел был разочарован: «Правительство провело два совещания, касавшихся нашего участия в войне, и никто из его членов не удосужился снять трубку и позвонить верховному главнокомандующему. Это делает меня свободным. Теперь я вправе не испытывать к этим людям никаких сантиментов»[1013].
Судя по всему, он не понимал, что переходит своего рода Рубикон. Ему казалось, что он ведет себя как государственный деятель и верховный главнокомандующий, который не может отвлекаться на «философские рассусоливания», а обязан принимать четкие и однозначные решения. В результате его непримиримым врагом стала коалиция чешских и иностранных противников интервенции – начиная с изоляционистов-консерваторов и сторонников холодной «реальной политики» и заканчивая конспирологами из рядов экстремальных левых, которые рассматривали всю эту военную операцию как составную часть планов американских империалистов по захвату мира. Именно крохотное, не очень важное Косово, не имевшее для Запада никакой явной стратегической или экономической ценности, повлияло – даже более, чем война в Боснии или в Персидском заливе, – на выработку доктрины гуманитарной интервенции, военной операции, единственной целью которой является прекращение убийств невинных мирных граждан. Эта доктрина с самого начала вызывала споры, и они не утихли до сих пор, когда доктрина уже называется «Обязанность защищать» (responsibility to protect – R2P). Вацлав Гавел – вместе с еще одной уроженкой Чехии и жертвой мюнхенской травмы Мадлен Олбрайт – заслуженно считается одним из ее идейных вдохновителей. По мнению же постсталинских мыслителей, таких как Славой Жижек[1014], или либертарианских социалистов, таких как Ноам Хомский – закоренелый враг Гавела еще с речи последнего перед американским Конгрессом в 1990 году[1015], – Гавел выказал себя «полезным идиотом» американского империализма. Теми же словами заклеймил Гавела обычно симпатизировавший ему Тони Джадт[1016]. В отличие от нравственной дилеммы, которую представляла для Гавела поддержка смертоносного насилия ради того, чтобы уберечь от страданий гораздо большее число людей, подобная брань, насколько я знаю, сна его никогда не лишала.
Однако его страшно раздражали непрекращающееся вмешательство в его частную жизнь и любая критика – оправданная или нет – его личных дел и прежде всего его брака. После того как президентская чета посетила осенью 1998 года Соединенные Штаты, бульварная пресса принялась писать о возможных семейных проблемах, а то и о супружеских изменах.
Ни один из этих слухов не находит подтверждения в независимых источниках, и большинство их можно смело отправлять в кучу бульварного мусора, где в нашу постмодернистскую эпоху свалены статьи обо всех известных людях. Но бесспорен тот факт, что Гавел впал тогда в глубокую депрессию и начал даже всерьез раздумывать о возможности своей отставки[1017]. Чем дальше, тем чаще по нему было заметно, что он поддается фрустрации и испытывает разочарование, – а ведь именно к этим двум эмоциям у него всегда был иммунитет. В одном из таких приступов депрессии он написал в очередной инструкции для Града: «Дорогой Град, чаша переполнилась. Что-то сгнило то ли во мне, то ли в КПР (Канцелярии Президента Республики), то ли в обществе. Так или иначе, но я больше не могу. Я мечусь как угорелый, дел у меня все больше, каждый день в моем графике по сто пунктов, ни одного дня для настоящего отдыха, и что в итоге? Все держат меня за дурака, причем чем дальше, тем больше… Я поднимаю бунт. Я давно уже кричу об этом, и меня бесит, что никто этого не заметил… Я хочу покоя. Хочу писать, читать и отдыхать. Я не заслужил этого ежедневного унижения после всего, что я сделал для этой страны. И кстати, мы с Дашей покупаем домик у моря в Испании… и я там буду подолгу жить. А родина моя пускай расцветает под Клаусом»[1018].
Психологический кризис усугубляли продолжавшиеся проблемы с дыханием и частые болезни. В нескончаемом круговороте дел Гавел перемежал выполнение своих обязанностей президента с пребыванием в больницах и следовавшими за ними периодами восстановления в Ланах или Градечке, где он набирался сил для очередного официального зарубежного визита, после которого опять заболевал и вынужден был приходить в себя дома или за границей. Проблемы со здоровьем отнимали у него теперь по крайней мере половину времени. «После нескольких этих операций и сражений мне больше не хочется сражаться[1019]», – признался он однажды своей секретарше в минуту слабости. И все же он осознавал, что выбора у него нет и что надо двигаться дальше. Слишком много людей полагалось на него, и за слишком многих он нес ответственность. «Прошу тебя, не отказывайся ни от чего. Ни от публичного, ни от личного», – написал ему коллега-писатель и друг Иржи Странский, председатель чешского Пен-клуба. При коммунистах Странский провел в тюрьмах в два раза больше времени, чем Гавел, так что о личностных кризисах знал не понаслышке[1020].
Итак, Гавел продолжал сражаться, постоянно отбивая различные атаки, но – без прежнего энтузиазма и уже не столь энергично. Опросы общественного мнения в апреле 2000 года показали, что 53,5 % респондентов, в основном принадлежавших к левому политическому спектру, считали, что Гавел должен уйти в отставку[1021]. В середине 2000 года Гавел вместе с остатками парламентской оппозиции выступил против изменения правил избрания Палаты депутатов, на чем настаивали обе партии «оппозиционного договора», что привело бы к фактическому уничтожению маленьких парламентских партий и возникновению в стране двухпартийной системы. Бой в парламенте оппозиция проиграла, президентское вето Палата преодолела, однако Гавел не мешкая обратился в Конституционный суд, и спорные положения закона были отменены.
Гавел не уступил и в еще более остром споре с правительством, разгоревшимся при назначении нового управляющего и вице-управляющего Национальным банком. Президент принял решение назначить управляющим Зденека Туму – вопреки недвусмысленному желанию прежнего управляющего и бывшего премьера Иозефа Тошовского, считавшегося союзником Гавела. Тогдашний премьер и нынешний президент Милош Земан настаивал вместе с остальными членами правительства на своем праве участвовать в выдвижении кандидатур на пост управляющего. Во время личной встречи премьера и президента, когда Гавел отказался отступить, прозвучали и нецензурные слова[1022]. Хотя Гавел действовал в строгом соответствии с конституцией, ему все же пришлось вытерпеть ядовитые нападки в прессе и обвинения в диктаторских замашках и даже в государственной измене. «Он заявил, что переедет в Португалию, а чешский народ пускай правит здесь сам», – записала его секретарша[1023].
Этот не слишком приятный период в жизни Гавела можно рассматривать либо как доказательство его упрямства и решимости придерживаться установленного порядка, даже если в результате он может умереть, либо как героическую жертву во имя взятой на себя ответственности и долга служить обществу. Возможно, верно и то, и другое. Нельзя забывать, что в промежутке между ноябрем 1996 года, когда появились первые серьезные проблемы со здоровьем, и концом тысячелетия Гавел целых двадцать два месяца – то есть примерно половину этого срока – то лежал в больницах, то восстанавливался после них, да и в остальное время чувствовал себя не лучшим образом. Однако верно и то, что за эти месяцы он провел страну – без каких-либо серьезных для нее последствий – через самый серьезный правительственный кризис в ее короткой истории; помог спасти конституцию от внесения в ее текст изменений, которые привели бы к появлению двухпартийной системы; защитил независимость Центрального банка; завершил процесс вступления Чешской Республики в НАТО и добросовестно – правда, без особой охоты – поспособствовал ее участию в первой (после того как Чехия стала членом Альянса) военной операции НАТО; твердой рукой вывел нашу страну на путь, ведущий в Европейский союз, – и при этом по-прежнему остался символом демократической и гуманной Чешской Республики в глазах большей части мира. И у меня вопрос: удалось ли бы кому-нибудь другому в его положении и в условиях ограниченных конституционных полномочий добиться более значимых – или хотя бы таких же – результатов?
Хотя конец девяностых годов вряд ли можно назвать по-настоящему плодотворным, тем не менее Гавел кое-чего добился и на творческой ниве. Он искал и обрел интеллектуальное пристанище для своей жизненной философии в виде конференции «ФОРУМ 2000», задуманной им в 1997 году совместно с лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем и при финансовой поддержке японского филантропа Ёхея Сасакавы. Поначалу речь шла об одноразовой акции, но эти двухдневные дискуссии о глобальных политических, общественных и духовных вопросах пережили своего основателя и с все большим размахом проходят вот уже семнадцатый год[1024]. Материальным же воплощением данной философии явилась – благодаря взносам в благотворительный фонд VIZE 97 Вацлава и Дагмар Гавелов – реконструкция десакрализованного храма святой Анны, духовного центра с более чем тысячелетней историей, расположенного напротив театра «На Забрадли», и превращение его в «Пражский перекресток» – пространство для встреч и дебатов мыслителей и интеллектуалов со всего света, представляющих любые сферы жизни и любые мировоззрения. В 2004 году «ФОРУМ 2000» проводил свою церемонию открытия в «Пражском перекрестке», что символически объединило оба проекта. На протяжении последних пятнадцати лет Прага благодаря Гавелу стала свидетельницей того, как тибетский далай-лама, Билл и Хиллари Клинтоны, Эли Визель, Мадлен Олбрайт, Шимон Перес и Джордж Сорос дискутируют о современных и будущих проблемах нашей планеты с Рихардом фон Вайцзеккером, Фрэнсисом Фукуямой, Полом Вулфовицем, Джеймсом Вулси, Григорием Явлинским, Генри Киссинджером и многими другими. Аун Сан Су Чжи, с которой Гавел лично никогда не встречался, но тем не менее считал родственной душой – так же, как и она его[1025], – находясь в Мьянме в принудительной изоляции, выступала на конференции по видеосвязи[1026].
Себе же Гавел преподнес в декабре 1999 года особый подарок: «маленькую зеленую коробочку» – изданное «Торстом» семитомное собрание избранных сочинений[1027]. Проект, которому автор посвятил много времени и заботливое внимание, мог показаться кому-нибудь способом пощекотать авторское самолюбие и даже напомнить о некоторых иных политиках или об эпохе, когда куда более многотомные собрания болтовни Ленина и Сталина теснились на полках библиотек и на полу складов и шли потом под пресс бумажных фабрик. Однако качество и объем текстов, тот факт, что все издание разошлось за несколько недель, а также нескрываемое авторское желание, скорее, удовлетворить свою страсть к порядку, чем потешить delusion de grandeur (манию величия), демонстрируют всю неверность такого суждения. В конце концов впервые Гавел издал свои «Сочинения» в семнадцать лет.
Иногда он публично говорил о своих творческих планах – на будущее, когда он перестанет быть президентом. Не раз упоминал новую пьесу, иногда рассказывал о возвращении к мотиву «короля Лира», который заинтересовал его еще до революции, иногда – о пьесе на абсолютно новую и неожиданную тему, «не имеющую никакого отношения к политике». Гавел ясно давал понять, что не намерен писать президентские мемуары, хотя и заговоривал временами о книге, базирующейся на его опыте президента: «нечто среднее между Генри Киссинджером и Чарльзом Буковски»[1028].
Оставаясь верным своей всегдашней потребности в интеллектуальных стимулах, Гавел впервые за много лет провел несколько неформальных и непубличных встреч, в которых участвовали примерно две дюжины человек, обсуждавших самые разные актуальные темы. С 1994 по 2010 год таких встреч-дебатов, проходивших сначала в охотничьем домике «Амалия» в парке Ланы (отсюда их название), а потом в других местах, состоялось восемьдесят четыре, а круг тем, которые на них обсуждались, был очень широк – от войны в Ираке и конституционных вопросов до проблем окружающей среды. Эти встречи продолжались и после ухода Гавела с поста президента.
Последние два года своего президентства Гавел прикладывал массу усилий к тому, чтобы удержать под контролем проблемы со здоровьем и направить оставшуюся энергию на небольшое количество избранных им приоритетов. Большинство их не касалось сферы внутренней политики: после стычек 1999-го и 2000-го годов в отношениях между президентом и политическим истеблишментом сохранялось некое подобие напряженного перемирия. И хотя Гавелу удалось не допустить нарушения конституционного равновесия, он был, можно сказать, бессилен в том, что касалось текущих политических дел, которые целиком находились в ведении обеих партий «оппозиционного договора». Исключение составляла внешняя политика, где Гавел, благодаря конституции и своему высокому международному авторитету, одерживал верх над бесконечно интригующим министром иностранных дел Каваном. Гавел испытал большое облегчение, когда министр решил выставить свою кандидатуру на церемониальный пост Председателя Генеральной Ассамблеи ООН (2002–2003), и охотно (хотя и по специфическим соображениям)[1029] поддержал выдвижение Кавана.
Так что не было ничего удивительного в том, что в свой последний президентский год Гавел сосредоточился на двух важных международных мероприятиях. Первое – его последний официальный визит в Соединенные Штаты, страну, где он пережил лучшие моменты своей политической карьеры и которая оставалась для него маяком свободы и демократии. Вторым была встреча глав государств и правительств стран-участниц Севроатлантического договора в Праге в ноябре 2002 года – первая подобная встреча в столице бывшей коммунистической страны, встреча, которой предстояло открыть путь второй волне расширения НАТО: в Альянс собирались вступить следующие семь посткоммунистических стран, включая Словакию и страны Балтии. Престижная встреча активно и неустанно лоббировалась как самим Гавелом, так и Сашей Вондрой, его старым верным соратником, бывшим до недавнего времени послом в США; именно он взял на себя все хлопоты по устройству саммита. Свои планы относительно этой важной встречи Гавел, воспринимавший ее не только как формальную беседу государственных деятелей и генералов, ведавших оборонной стратегией Запада, но и как грандиозный поэтический спектакль, принялся строить еще за полтора года до саммита.
На атмосферу подготовки к визиту и саммиту принципиальным образом повлияли два события. Первое – это 11 сентября 2001 года. Когда Гавел прилетел в Вашингтон, Америка уже ступила на тропу войны в Афганистане, и начался отсчет времени до ее вторжения в Ирак. Прием Гавела в Овальном кабинете Белого дома стал не просто прощальным жестом, подведением итогов и вынесением высокой оценки его исторической роли, но и наградой за непоколебимую моральную и материальную поддержку, которую Чешская Республика оказала Соединенным Штатам после террористической атаки на Всемирный торговый центр. «Ваш голос был первым среди всех голосов поддержки. Вы кое-чему меня научили. Человек обязан говорить нравственно и недвусмысленно, – сказал Гавелу Буш[1030]. – У Саддама есть оружие массового уничтожения. Я не сомневаюсь, что у него будет и ядерное оружие, что он продолжит убивать своих граждан»[1031].
Заверения, прозвучавшие из уст лидера единственной на тот момент супердержавы, оказались для Гавела достаточным основанием, чтобы выразить безоговорочную поддержку выбранному Бушем пути конфронтации с Ираком. «Злу надо противостоять с самого его зарождения (1938)… ЧР ощущает свою совместную с США ответственность»[1032].
Всего за два дня до своего ухода с поста президента в 2002 году Гавел подписал заявление восьми европейских государственных деятелей с выражением поддержки решительным действиям администрации президента Буша против режима Саддама Хусейна в Ираке, чем заслужил публичное замечание от французского президента Жака Ширака: мол, «пропустил прекрасный повод промолчать» – грубый великодержавный анахронизм, поразительный для политика XXI века.
Поддержка Гавелом американской позиции оставалась последовательной на протяжении всего периода, предшествовавшего иракской войне, но она вовсе не была безоговорочной. Рассуждая об Ираке на конференции в Институте Аспена, состоявшейся незадолго до пражского саммита НАТО, он был абсолютно откровенен в том, что касалось моральных дилемм подобной поддержки:
Лично я обычно склонен полагать, что зло нужно пресекать в зародыше, а не тогда, когда оно уже разрослось, и что человеческая жизнь, человеческая свобода и человеческое достоинство – это более важные ценности, чем государственный суверенитет. Думаю, именно эта моя склонность и дает мне право поднять данный вопрос – вопрос очень сложный и очень серьезный.
При моей жизни наша страна прошла через два испытания, причем оба они имели далеко идущие и глубокие последствия: первое испытание – это мюнхенская капитуляция, когда две главные европейские демократии уступили, якобы ради сохранения мира, давлению Гитлера и позволили ему изуродовать тогдашнюю Чехословакию. Никакого мира они, разумеется, этим не сохранили. Наоборот, в конечном счете именно их поведение в Мюнхене было расценено Гитлером как верный признак того, что он может развязать кровавую сначала европейскую, а потом и мировую войну. Думаю, не только для меня, но и для большинства моих сограждан мюнхенский опыт является подтверждением идеи о том, что со злом нужно бороться с самого начала.
Но у нас за плечами есть и иной опыт: оккупация странами Варшавского договора в 1968 году. Тогда весь народ твердил слово «суверенитет» и проклинал официальное советское заявление о «братской помощи», оказанной во имя целей более высоких, чем государственный суверенитет, а именно – во имя социализма, которому у нас якобы грозила опасность, заключавшаяся в том, что людей лишат надежды на лучшую жизнь. Тогда практически каждый у нас понимал, что речь идет только о советской гегемонии и экономической эксплуатации, но тем не менее миллионы жителей Советского Союза, судя по всему, верили, что наш государственный суверенитет подавляется во имя высших целей – во имя ценности человека.
И вот этот-то второй пережитый нами опыт и вынуждает меня быть очень аккуратным и осторожным. И мне представляется, что мы вновь и вновь, намереваясь выступить против какого-то государства ради спасения человеческих жизней, обязаны – пускай лишь на мгновение и лишь в глубине души – задаваться вопросом: а не идет ли тут случайно речь о некоей версии «оказания братской помощи»[1033].
Вторая трагедия, повлиявшая на атмосферу той осени, случилась в Чехии, и тут уже обошлось без вмешательства человека. В августе 2002 года множество чешских населенных пунктов и берега Влтавы в Праге были разорены наводнением, какое случается раз в пять сотен лет. Результатом разгула стихии стали гибель семнадцати человек, миллиардные убытки и водное трехсоткилометровое путешествие морского льва Гастона из пражского зоопарка в немецкий Лютерштадт-Виттенберг. Катастрофа случилась в середине сентября, когда Гавел отдыхал в Португалии. Хотя сведения о наводнении и нанесенном им ущербе у него были самые что ни на есть разрозненные и ему пришлось импровизировать, придумывая, как улететь в Прагу из провинциального аэропорта, не имевшего прямого сообщения с Чехией, обратный путь занял у президента всего 48 часов. Тем временем пресс-секретарь Гавела, также не располагавший подробной информацией, выступил с заявлением – искренним, но не совсем удачным, – что ничего не знает о намерении президента вернуться.
Это напоминало ураган «Катрина» в Соединенных Штатах, только тремя годами ранее. Хотя полномочия чешского президента при ликвидации последствий стихийных бедствий подобного масштаба куда более ограниченны, чем у президента США, ряд средств массовой информации изощрялся в изобличениях президента, который нежится на пляже, пока его сограждане тонут в грязи. Буря в СМИ улеглась гораздо быстрее, чем были ликвидированы следы наводнения, но Гавел чувствовал себя до предела униженным, тем более что, по его мнению, он в этих обстоятельствах действовал настолько решительно, насколько мог. Упрекнув свою канцелярию в том, что она его подвела, он принял решение отменить все свои оздоровительные поездки вплоть до момента ухода с поста президента. «Ощущение бесконечного позора в конце жизненного пути вреднее для моего здоровья, чем пражский смог»[1034].
Страна оправилась от несчастья быстрее, чем ее президент. Когда в сентябре 2002 года Гавел прилетел в США на свой последний ужин в Белом доме, его все еще засыпали выражениями сочувствия и поддержки, однако мыслей о том, чтобы просить о поддержке материальной, у него не появилось. Когда же в Прагу начали съезжаться участники саммита НАТО, большая часть следов наводнения уже исчезла.
Гавел приложил много усилий к тому, чтобы событие, которое должно было стать его лебединой песней, не прошло незамеченным. Безусловно, кульминацией саммита был прием в члены Альянса новых членов – Словакии, Румынии, Болгарии, Словении, Эстонии, Латвии и Литвы, – чему он немало поспособствовал. Имея за плечами бесчисленное количество разнообразных саммитов, Гавел отлично знал, что речи, заявления и сам ход мероприятий обговариваются и консервируются задолго до их проведения, так что вкус у них потом, как у самолетной еды. Готовило и организовывало саммит правительство, а также Александр Вондра в качестве уполномоченного последнего, так что у президента не было особой свободы маневра в плане отклонения от сценария, тем более что он не намеревался заставлять глав государств напрягаться, вслушиваясь в словесную эквилибристику ораторов. Однако Гавел хотел внести и собственную лепту. Единственное для этого окно возможностей открывалось во время торжественного ужина в первый день саммита, который, в отличие от самого мероприятия, проходил в Пражском Граде и не имел никакого заранее утвержденного формата.
Подготовка к этому важному вечеру отражала и сильные, и слабые стороны гавеловского правления. За полтора года до саммита президент уже придумал тему вечера, создал драматургию всего мероприятия и принялся работать над тем, чтобы Град оправдал его ожидания. Перфекционист Гавел, по своему обыкновению, не мог ни от чего оставаться в стороне и потому занимался и составлением меню, и цветами на столах, и оттенками подсветки Широкого коридора. При этом он не упускал из виду и всю панораму в целом. Ему хотелось превратить встречу государственных деятелей, бюрократов, стратегов и генералов в ослепительный триумф свободы – не только в политическом смысле, но и в смысле возможностей наслаждаться свободой собственной, внутренней. Первое, что увидели участники саммита, въехавшие в Град, было огромное неоновое сердце (давно уже фирменная подпись Гавела) – это творение скульптора Иржи Давида сияло высоко над замком.
Ужин, изысканная трапеза о четырех переменах блюд, с речами и тостами генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона и французского президента Жака Ширака, а также очень коротким приветственным словом хозяина вечера, был сервирован не там, где обычно устраивались государственные ужины – в Галерее Рудольфа или Испанском зале, – а во Владиславском зале, где еще в пятнадцатом веке проходили коронации, королевские банкеты и балы и где в 1989 году Гавел был впервые избран президентом. Но главное блюдо подали уже после еды – это было великолепное представление «Чествование свободы», с современным балетом хореографа Иржи Килиана, пражского уроженца и художественного руководителя Нидерландского театра танца (Nederlands Dans Theatre), и с невероятным постмодернистским песенным попурри, куда вошли Power to the People Леннона, «Ода к радости» Бетховена, спиричуэлс Oh, freedom, написанные вскоре после окончания американской гражданской войны, и даже «Марсельеза». Аранжировал музыку Михал Павличек, а интерпретировали лучшие чешские рок-звезды. Некоторая проблема возникла лишь с «Одой к радости»: ее английский перевод XIX века Гавел счел для целей вечера слишком архаичным. Он попросил меня – тогда уже почтенного председателя Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности чешского Сената, но в молодости (наряду с многими другими грехами) еще и достаточно успешного рок-текстовика – сделать новый перевод «Оды». Я пришел от этого поручения в ужас. «Вацлав, ну скажи, что ты не всерьез. Это же Шиллер, Бетховен, а не какие-то там Mamas & Papas. Нет, ничего не выйдет». «Я все понимаю, – ответил мне толерантный как всегда президент. – Делай, как знаешь. Но разве твою песенку когда-нибудь исполняли для пятидесяти глав государств?» Я убрал из «Оды» херувима и дочь рая и написал текст.
Судя по аплодисментам, представление имело успех у большинства присутствующих… хотя и не у всех. Когда один из гостей спросил американского вице-президента, понравилось ли ему зрелище, Чейни ответил: «Видите ли, я из Небраски»[1035].
После саммита НАТО состоялось еще одно роскошное представление, которое на этот раз не было творением Гавела. Даша, готовясь к уходу мужа с поста президента, тайком от него придумала, собрала и продюсировала действо под названием «В честь Вацлава Гавела». Самые популярные актеры, музыканты и певцы воздавали на сцене хвалу великому человеку; их выступления перемежались с заранее записанными славословиями, звучавшими из уст Мадлен Олбрайт, Кофи Аннана, Шона Коннери и обоих Бушей – отца и сына. Спектакль только для избранной публики прошел в «Золотой часовенке»[1036].
Даша приложила очень много усилий к тому, чтобы представление в Национальном театре прошло удачно, и его участники были, бесспорно, на высоте, однако реакция на событие оказалась неоднозначной. Хотя список выступавших включал в себя популярнейших звезд, многие друзья Гавела посчитали, что представление имеет мало отношения и к его жизни, и к тому, какой он человек. В программе оказались потрепанные звезды периода нормализации во главе с бессменными «Золотыми соловьями» Карелом Готтом и Геленой Вондрачковой и даже парочка агентов ГБ. С другой стороны, там не было некоторых верных гавеловских сподвижников. «С Геленой Вондрачковой я на сцену не выйду», – заявил Вратислав Брабенец, саксофонист и – после смерти солиста группы Милана («Мейлы») Главсы – фронтмен The Plastic People of the Universe, выразив тем самым мнение всей группы[1037]. «В программе есть люди, которых я не уважаю», – объяснил свое отсутствие Власта Тршешняк[1038]. А некоторым все это представление вообще показалось одним гигантсктим китчем.
Многие из тех, кто не пришел в Национальный театр, ждали президента после представления в ресторане «Парнас», через улицу от театра, чтобы выпить с ним и сказать ему несколько теплых слов. Как это типично для подобных людей, их изъявления благодарности оказались настолько замаскированными, что непосвященный ничего бы не понял.
Второе февраля 2003 года стало последним днем пребывания Гавела на службе и отличным примером его смирения. Он намеренно посвятил этот день делам, из-за которых – как он всегда утверждал – ему не хотелось быть президентом, а именно – возложению венков. Первый предназначался Т.Г. Масарику возле его памятника перед Градом, два – жертвам коммунистического режима, а третий лег к подножию памятника Святому Вацлаву, где сжег себя Ян Палах и взошли ростки Бархатной революции.
Вечером он простился с согражданами. Поблагодарил «всех, кто мне доверял, кто симпатизировал мне либо тем или иным способом поддерживал»[1039], поблагодарил свою жену Дашу. Заверил слушателей «в единственном: я всегда стремился руководствоваться диктатом той инстанции, которой я и давал свою клятву: то есть диктатом лучших побуждений и своей совести»[1040]. Циник мог бы сказать, что это самые обычные слова прощания, однако затем Гавел добавил фразу, которая была воистину, единственно и безусловно только его и совершенно не годилась для мира «реальной политики»: «Всем тем, кого я так или иначе разочаровал, тем, кто не был согласен с моими поступками, или же тем, кому я был просто-напросто противен, приношу свои искренние извинения и верю, что они меня простят»[1041]. На этом он закончил.
Условное освобождение
Как прекрасно… быть, например, писателем! За пару недель вы что-то напишете, и это останется на века! А что останется от президентов или председателей правительства? Строчка в учебнике, где наверняка будет все перепутано.
Пожалуйста, коротко
За тринадцать лет президентства Гавела его статус, популярность и влияние заметно снизились, и многие уже считали его человеком прошлого. Но так можно было думать, только не принимая в расчет внушительный перечень его достижений на президентском посту. Нельзя было не признать его заслуги в мирном переходе страны от тоталитарного правления к демократии и выстраивании стабильной системы демократических и политических институтов, сравнимых по большинству параметров, включая изъяны, с устоявшимися системами на Западе. Он с успехом вернул страну обратно в Европу, сделав ее органичной составной частью западных политических объединений и структур безопасности. Остался источником вдохновения и неутомимым активистом в борьбе за права человека во всем мире. В пассив ему можно записать пребывание у кормила власти при разделении Чехословакии, но этот крах был компенсирован мирным и дружелюбным протеканием самого процесса. Ему, безусловно, не удалось заставить общество в целом руководствоваться его принципами нравственности, терпимости и гражданственности, однако это говорило не только о нем самом, но и об обществе. Кроме того, он не мог рассчитывать, да и не рассчитывал добиться на этом пути полного успеха.
Сложение им полномочий и избрание Вацлава Клауса в качестве его преемника ознаменовали собой конец целой эпохи. Кончилось время импровизаций и инициатив, диктуемых минутным порывом. Ушел в прошлое и идеализм революционных дней. Новая эра принадлежала прагматикам, политическим менеджерам и медийным экспертам. На международной арене не вполне заслуженный ореол страны как некоей платоновской республики, где правят в демократическом духе философы и художники (хотя сам Платон отнюдь не был демократом), несколько потускнел. Новый президент был, несомненно, яркой личностью с четкими взглядами и способностью пропагандировать их у себя на родине и за рубежом, но в международном плане он сам и его взгляды отвечали вкусам явного меньшинства. А может быть, скорее его жесткий, несговорчивый стиль, нежели сами по себе взгляды, заставляли многих с ностальгией вспоминать робкого, терпимого и вместе с тем смелого Гавела.
Гавел не собирался осложнять Клаусу жизнь, понимая, что по крайней мере поначалу должен оставаться незаметным. Тем более что ему очень нужен был отдых. Тем не менее он и не думал отходить от активной жизни ради того, чтобы играть в гольф или выращивать цветы. Его календарь был перегружен предложениями поездок и встреч, на которые у него не оставалось времени, пока он был президентом, а голова полнилась идеями, какие он годами копил в ожидании освобождения.
Впервые со времени революции правительство и парламент столкнулись с проблемой, как быть с экс-президентом страны. Предшественники Гавела, начиная еще с Масарика, умерли или на посту, или вскоре после того, как его покинули. После затянувшейся на год дискуссии парламент со второй попытки утвердил для Гавела и всех его преемников ежемесячную ренту в размере 50 000 крон плюс средства на собственный офис в том же размере, а также право на использование служебного автомобиля и на личную охрану[1042].
Синдром, который Гавел много раз описывал после своего освобождения из тюрьмы и, в более широком масштабе, после освобождения страны от оков тоталитаризма, теперь повторился в случае его освобождения от обязанностей президента. «Мои мечты о том, каким свободным я буду, оказались большой иллюзией»[1043]. Он чувствовал себя выбитым из колеи и растерянным. Кроме того, тринадцать лет в должности президента предельно его измучили. Его здоровье пошатнулось, главным образом в результате утраты сопротивляемости легких после пневмонии, перенесенной в тюрьме, и онкологической операции в конце 1996 года. Любая мелкая инфекция дыхательных путей ставила под угрозу его жизнь. Он снова ощущал себя «сдувшимся воздушным шаром». Через пару месяцев он понял, что условия обретенной им свободы не так просты и однозначны, как он думал. Выяснилось, что полностью свободным, как Гавел ни пытался, быть уже невозможно. Если он и освободился, то скорее условно.
По крайней мере первый год после ухода с должности он старался беречь себя. У него наконец-то появилось время, которое он мог проводить с Дагмар, и он мог делать вещи, о каких годами мечтал. Например, водить машину (как убежденный защитник окружающей среды он купил себе большой «мерседес»-внедорожник) и сам готовить. В то лето они с Дагмар отправились на машине в турне по всей Европе – вплоть до самой Андалусии. Там их роскошный трактор сломался, и им пришлось возвращаться поездом и самолетом. Еще они побывали на Барбадосе, дважды – в своем доме в Португалии, в Тирольских Альпах и в конце года – на Канарских островах. Кроме того, Гавел провел почти месяц в Градечке. «Командировок» у него было лишь несколько, и все короткие – такие как трехдневный визит в Соединенные Штаты для получения Президентской медали Свободы, высшей награды, вручаемой главой государства. В числе других, получивших в тот год эту медаль из рук президента США, были создатель водородной бомбы Эдвард Теллер и актер Чарлтон Хестон, лауреат премии «Оскар» за фильм «Бен-Гур».
Однако Гавел не был бы Гавелом, если бы долго оставался в бездействии. Стряхнув с себя накопившуюся за последнюю четверть века усталость, он опять сделался непоседой. И стал еще острее на язык, так как больше не ощущал необходимости тщательно подбирать слова с тем, чтобы не пострадало достоинство президентской должности. Его раздражал материалистический, мелочный, замкнутый на себя настрой, как будто возобладавший в частной и общественной сферах Чешской Республики. Когда в декабре 2003 года перед Испанской синагогой в Праге открывали авангардистский памятник Франца Кафки-«наездника», произведение скульптора Ярослава Роны, Гавел произнес на церемонии, казалось бы, безумно серьезную речь, обращенную напрямую к знаменитому земляку-пражанину, пародируя в ней vox populi и риторику некоторых видных политиков: «Мы живем в такое время, когда каждый сознательный чех, добросовестно работающий или занимающийся бизнесом, с новой настоятельностью осмысляет значение наших чешских национальных интересов и нашей борьбы за эти интересы. Борьба за наши национальные интересы – в наших интересах, и нас не может не волновать то, как они защищаются, и действительно ли все то, что делается, делается в наших интересах. Поэтому я, как добросовестно трудящийся и занимающийся бизнесом чех, задаюсь вопросом, может быть, непопулярным, но таким, который отвечает нашим интересам. Этот вопрос таков: разве мало у нас истинных – нет-нет, я не против меньшинств! – чехов, добросовестно работающих или занимающихся бизнесом, кому до сих пор в Праге не поставлен памятник, хотя благодаря своим заслугам перед нашим народом и своему патриотизму они заслуживали бы его больше вашего?» Диссидент Гавел вернулся.
Вернулся его юмор, утрата которого – правда, вряд ли когда-либо полная – являлась скорее всего признаком мрачной неудовлетворенности, какой были отмечены последние годы его президентства, и неважного состояния здоровья. Впрочем, кажется, что и здоровье Гавела, в свою очередь, страдало от его неудовлетворенности службой. В отличие от предшествующих пяти лет, с того момента, как он оставил должность, Гавел до самого конца года ни разу серьезно не болел. Он начал снова встречаться с друзьями, ходить в театры и в кино, побывал на концертах Роллинг Стоунз и Боба Дилана; время от времени его можно было видеть в одном из его любимых пражских кабачков. Постепенно к нему вернулось и желание работать.
Гавел хотел закончить несколько проектов, чтобы заняться следующими. «Пражский перекресток» пробуждался к жизни. «Форум 2000» функционировал, с каждым годом разрастаясь под компетентным руководством Олдржиха Черного, некогда советника Гавела по вопросам безопасности и директора чешской разведки. Дагмар занималась текущими делами фонда Vize 97.
И еще две вещи заботили экс-президента. Первой из них было его творческое наследие. По любым литературным или политическим меркам Гавел был чрезвычайно плодовит. Кроме дюжины драматических произведений и десятков основополагающих эссе, он написал более сотни коротких сочинений, сценок, речей и статей, был главным действующим лицом тысяч интервью и автором или адресатом обширной корреспонденции. Еще длиннее был список исследований о нем, документации к постановкам его пьес, его решений и указаний в бытность президентом и других материалов, связанных с президентской канцелярией. И все это нужно было включить в широкий контекст радикальных исторических перемен, в ходе которых он играл такую важную роль.
Здесь явно требовалось специальное учреждение, которое собирало бы этот материал, сортировало его, анализировало и представляло общественности. Гавела, как часто и раньше, вдохновил американский опыт, и он стал вынашивать мысль о создании президентской библиотеки. Оформиться этой идее особенно помог американский посол в Праге Крейг Стэплтон. У Гавела она родилась еще в тот момент, когда он покидал свою должность. Собственный офис и деньги на его эксплуатацию ему нужны были прежде всего в этих целях. Развитие и долговременный ход этого проекта – по инициативе общего друга Бесселя Кока – в значительной степени финансировал предприниматель Зденек Бакала. Библиотека Вацлава Гавела открылась в июле 2004 года. С тех пор ею проделана большая работа по сбору, публикации и оцифровке всех первичных и в большой мере вторичных материалов, связанных с Гавелом.
Второе дело, о котором думал Гавел, было намного сложнее. Все свои президентские годы он старался, часто отчаянно, сохранить себя как литератора и драматурга. В духе изречения Яна Паточки, что человек познается не по тому, как он справляется с поставленными перед самим собой задачами, а по тому, как он отвечает на вызовы, которые перед ним ставит жизнь, Гавел считал свою политическую карьеру чем-то таким, во что он оказался втянут на поворотах истории, то есть временным – хотя, безусловно, важным и почетным – отступлением от своего истинного предназначения в жизни. Теперь наступила пора вернуться к тому, чем он действительно всегда хотел заниматься.
Конечно, об этом легче было говорить, чем сделать. Кроме друзей и коллег по цеху, окружающий мир не слишком-то и помнил о прежней карьере Гавела в сфере искусства, и мало кто брал в расчет потребность экс-президента как литератора в уединении и покое. Притязания на время и внимание Гавела не ослабевали, а его способность удовлетворить их без поддержки президентской канцелярии и государственного протокола была теперь более ограниченной. Отчасти он был виноват в этом сам. Гавел никогда не умел с ходу отказывать людям, поэтому многие приглашения, предложения выступить и просьбы что-то написать он откладывал до тех времен, когда его перестанут обременять обязанности президента. Сейчас приходилось возвращать долги.
Однако больше всего Гавел хотел писать! В прощальном обращении к гражданам он признал, что за ним остается долг дать «отчет» о своей деятельности, но предупредил, что для этого ему потребуются «время, вдумчивость, здоровье и сосредоточенность»[1044]. Два года не обеспечивали достаточной дистанции. Его здоровье балансировало на грани, постоянно существовала опасность внезапного кризиса. Времени на то, чтобы писать, он имел не так много – и опасался, что жить ему вообще осталось недолго. Но хуже всего было то, что многочисленные обязанности государственного деятеля на пенсии не давали ему сосредоточиться. Будучи в должности президента, он часто уезжал в Ланы, где был отгорожен от мира высокой стеной и вооруженной охраной, после чего возвращался с почти готовым текстом. Теперь он понимал, что не может сделать то же в своем офисе или в пражской вилле. Вскоре Гавел осознал также, что он – единственное существо мужского пола в сплошь женском семейном кругу, состоявшем из Даши и – временами – ее дочери Нины, у которой была своя дочь, Дашиной престарелой матери и двух Дашиных девочек-боксеров, Шугр и ее дочки Мадленки[1045]. В огромной вилле, которую Гавел покупал с Ольгой, он постепенно уступал место дамам и в конце концов втиснулся в крохотную спаленку на втором этаже, которая напоминала монастырскую келью. Среди друзей он порой называл свое жилище «домом ужаса».
В дом, приобретенный супругами в Португалии, трудно было выбраться, повинуясь настроению минуты. Гавел покупал его, романтически воображая, как они с Дашей будут держаться там за руки, потягивать красное вино и смотреть на закаты над океаном, но это, конечно, была довольно-таки сумасбродная мечта. Ехать туда на машине оказалось далеко, лететь самолетом до ближайшего города Фаро – сложно, вдобавок они там никого не знали, пляж продувался ветрами, а вода в океане бо́льшую часть года была слишком холодной. Только в Градечке Гавел мог писать спокойно, но и это оказалось под вопросом. Ездить туда один он не хотел, Даше же не доставляло такого удовольствия бывать там так часто и подолгу, как ему. А после возвращения на сцену она нередко и не могла уехать. К тому же она требовала к себе со стороны мужа больше времени и внимания, чем самодостаточная Ольга. И осознавала, что соседи по Градечку и многие друзья Гавела из местных ее не любят и не признают так, как Ольгу.
Так что в который уже раз Гавелу пришлось решать для себя проблему убежища. Отдыхать и восстанавливать силы он мог в Португалии или в летней королевской резиденции на Канарских островах, куда его с Дашей вновь и вновь приглашала испанская венценосная чета. Но для того чтобы писать, ему нужен был доступ к источникам, библиотекам и – людям.
Так же трудно было Гавелу соответствовать разнообразным требованиям и ожиданиям в собственной семье. Он действительно любил свою жену, романтичнее и чувственнее, чем когда-то Ольгу, и нет оснований сомневаться в том, что и чувства Даши тоже были настоящие. Она сама называла Гавела мужчиной ее жизни. Но ему было шестьдесят восемь, он устал от постоянного напряжения и тягот всей его жизни, да еще и частенько хворал. Остаток дней он хотел побыть литератором, мыслителем и отчасти государственным деятелем на заслуженном отдыхе. Даша же, будучи восемнадцатью годами моложе его, оставалась прежде всего прирожденной актрисой, нуждавшейся в свете рампы и лучах внимания зрителей и поклонников. Возможно, она представляла себе свое и мужнино будущее среди звездной элиты общества, в перелетах частными чартерами с одного кинофестиваля на другой, на конкурсах красоты, при королевских дворах и – время от времени, для разнообразия – на благотворительных акциях. Вскоре ее благорасположения и внимания стали добиваться миллиардеры, соперничавшие с простыми миллионерами; ее осыпали подарками, предлагали отправиться в зарубежное турне или прокатиться на частном самолете. Взамен ее поклонники могли показаться вместе с экс-президентской четой на театральной премьере, на концерте или кинофестивале. Среди их привилегий было также право сделать в числе первых взнос в фонд Vize 97 или пожертвование на иные благотворительные цели. Гавел отнюдь не принадлежал к отшельникам, и мало кто любил вечеринки так, как он, но его вкусы были, с одной стороны, проще, а с другой – интеллектуально взыскательнее. Тем не менее, будучи искренне предан Даше, он принимал различные приглашения, ездил за границу и тратил время на встречи, которые при других обстоятельствах не счел бы необходимыми. В итоге после какого-нибудь великосветского мероприятия, прошедшего накануне вечером, он не раз чувствовал себя еще более утомленным, угнетенным и потерянным.
Решение всего этого клубка проблем и несовместимых запросов Гавел вновь нашел в Америке. Уже некоторое время назад он получил приглашение поработать в качестве зарубежного исследователя в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. После не удавшейся в 2004 году первой попытки он в конце концов отправился туда весной 2005-го. Вояж был непростым. Гавел взял с собой не только жену и личного телохранителя, но и обеих девочек-боксеров. Так как Даша категорически отвергала мысль, чтобы ее любимицы путешествовали в багажном отсеке рейсового самолета, пришлось найти богатого друга, который оплатил перелет на частном реактивном лайнере.
Супружеская пара обосновалась вместе с собаками в специально снятом для нее доме в Джорджтауне. Мадлен Олбрайт, жившая за углом, часто водила их обоих по местным кабачкам и вводила в дома всевозможных вашингтонских знаменитостей. Библиотека Конгресса обеспечила Гавела кабинетом и стипендией. В остальном он мог проводить время по собственному усмотрению.
Гавел ничуть не скрывал причин своего выезда в Штаты. В его книге «Пожалуйста, коротко», бо́льшую часть которой он написал во время пребывания в Вашингтоне, они указаны уже в первом абзаце: «Я сбежал. Сбежал в Америку… В надежде, что у меня здесь будет больше времени и я смогу сосредоточиться, чтобы что-то написать»[1046].
Книга эта представляет собой своего рода президентские мемуары, впрочем, такие же необычные и уникальные, каким был ее автор в роли президента. На первый взгляд смесь авторских размышлений о времени, проведенном в этой должности, в форме интервью с Карелом Гвиждялой, выдержек из его «инструкций для Града», которые в те годы, когда Гавел был чешским президентом, стали едва ли не главным способом его общения с сотрудниками канцелярии, и случайных заметок о том, как поступить с летучей мышью, что поселилась в чулане, или как приготовить преподнесенную кем-то в дар щуку, производит почти несерьезное впечатление. Вместе с тем это также дневник с записями Гавела о жизни в Вашингтоне, впечатлениях от Америки и днях после возвращения домой, проведенных в основном в Градечке. Глубинный слой книги, однако, образуют экзистенциальные медитации о смысле жизни, политики и любви, для которой президентство составляет не более чем фон.
В некоторых вашингтонских дневниковых записях Гавела отражены встречи во время различных приемов и ужинов с видными американцами, такими как бывший президент Клинтон и его жена Хиллари, тогдашний сенатор и нынешний госсекретарь Джон Керри и многие другие, Некоторые представляют собой забавные миниатюры о жизни в Америке или, скорее, о впечатлениях Гавела о жизни в Америке: «Вообще после нескольких дней в Вашингтоне мне кажется, что люди здесь в целом гораздо приветливее друг к другу, чем у нас. Они терпеливы (сколько часов они способны покорно просидеть в пробке за рулем, чтобы продвинуться всего на пару метров!), предупредительны (характер общества познается по отношению водителей к пешеходам: помню, как в Москве водители считали пешеходов за насекомых, которые либо отпрыгнут, либо их переедут), улыбчивы, вежливы, участливы, у них чистая кожа, они хорошо пострижены, видно, что у них есть время следить за собой, все друг с другом здороваются, а главное – они трудолюбивы»[1047]. Гавел был не настолько наивным или неинформированным, чтобы отождествлять улицы Джорджтауна со всей Америкой; здесь, как и в других местах книги, его текст незаметно возвращает нас назад, домой.
Из книги видно, с какой огромной любовью и уважением Гавел относился к Америке. Даже его критические замечания о «египетской» архитектуре американской столицы, об американских гастрономических привычках и эксцессах общества потребления написаны с пониманием и с юмором. Единственное, что Гавелу пришлось совсем не по вкусу, была сплошь несоленая еда, но и тут он нашел решение: «Я раздобыл соль и ношу ее в кармане. Теперь меня уже ничто не проймет»[1048].
На втором плане в тексте даются ответы на вопросы, которые автор сформулировал зачастую сам. В них Гавел возвращается к своим президентским временам, начиная с революции вплоть до своего ухода, разъясняя, обосновывая и отстаивая позиции, которые он занимал в тех или иных случаях. В этой части можно видеть тот самый «отчет», какой он обещал дать согражданам, когда покидал свою должность.
Третий план составляет экскурс «за кулисы». Здесь Гавел использует свои записки, указания или комментарии, адресованные сотрудникам, за десять лет – с 1993 года до окончания его последнего президентского срока. Это наброски программ всевозможных визитов и поездок, черновые варианты различных выступлений, сетования по поводу своей неспособности соблюсти график и удивленные, ошеломленные или раздраженные возгласы: «Дорогой В., все документы, старые и новые, у меня записываются странной английской азбукой. Твои инструкции, как это исправить, не помогают. Спустя полчаса я уже готов был писать от руки, как вдруг у меня как-то случайно выскочил нормальный шрифт. Пожалуйста, никогда больше не заменяй мой компьютер более новым и не устанавливай на нем обновленные версии программ»[1049]. Некоторые его заметки граничат с комедией: «Как вы все знаете, я человек из пивной, мне все любопытно, и ничто меня не шокирует. Поэтому, когда я шел по той старой авеню в Бангкоке, которую вы все знаете, у меня сердце изболелось при взгляде на эротические улочки, что я миновал. Как бы я хотел разок в жизни побывать там! Но я понимал, что я гость короля, который информирован о каждом моем шаге, и что я просто не могу себе этого позволить. Однако клоню я вот к чему: мне кажется неподобающим, что почти вся моя делегация во главе с министром финансов посетила эти места… и мало того, сфотографировалась там… Что об этом думает король Таиланда, мне неведомо»[1050]. Иные же отражают огорчение Гавела из-за несоответствия наружного блеска высокого учреждения и назойливых мелких деталей повседневности: «В чулане, где стоит пылесос, поселилась еще и летучая мышь. Как ее выгнать? Лампочка выкручена для того, чтобы не будить и не раздражать ее»[1051].
Но в книге присутствует и более мрачный план, свидетельствующий об экзистенциальном страхе автора. После всех своих триумфов и тягот он остается глубоко неуверенным в том, чего стоит он сам и в чем смысл той комедии абсурда, в которой он так долго играл главную роль. И хотя о событиях, в которых ему довелось быть важным действующим лицом, он вспоминает без сожаления и даже с известным удовлетворением, состояние чешского общества и мира в целом не вселяет в него особого оптимизма. Намекает Гавел и на нарастающее отчуждение в собственном супружестве, из-за чего он еще больше замыкается в себе перед лицом усиливающихся признаков того, что он смертен. В самых впечатляющих строках, написанных в Градечке 5 декабря 2005 года, уже после возвращения домой, он обращается к заявленной в начале книги теме: «Я бегу. Все больше бегу… На самом деле бегу от необходимости писать. Но не только от этого. Бегу от публики, бегу от политики, бегу от людей и, может быть, даже от своей спасительницы, а главное – бегу от самого себя»[1052].
Этот взрыв экзистенциального страха тут же переходит в настоящее эсхатологическое рассуждение, которое демонстрирует уникальную способность Гавела к самоанализу и к соединению земного с неземным:
Чего я в сущности боюсь? Трудно сказать. Интересно, что хотя я тут один и буду один, никого не жду и никто ко мне не собирается, я по-прежнему поддерживаю в доме надлежащий порядок, все вещи у меня на строго определенном месте, все ко всему должно быть подогнано, ничто не должно торчать или лежать криво. И холодильник должен быть всегда полон разнообразной еды, которую мне одному и не съесть, а в вазах должны быть свежие цветы. Иными словами: я словно все время кого-то жду. Но кого? Неизвестного и могущего появиться без доклада гостя? Незнакомую красавицу или поклонницу? Свою спасительницу, которая иногда любит приехать без предупреждения? Каких-то старых друзей? Как так, что я никого не хочу видеть, но при этом все время кого-то ожидаю? Кого-то, кто оценит по достоинству, что все здесь на своем месте и правильно разложено? У меня есть только одно объяснение: я стараюсь быть каждую минуту готовым к страшному суду. К суду, перед которым ничто не будет скрыто, который все, что до́лжно оценить, оценит как до́лжно, и все, что передвинуто, куда не следует, само собой, заметит. Я, конечно, предполагаю, что верховный судия – такой же педант, как и я. Однако почему мне так важно, как меня в итоге оценят? Ведь мне это могло бы быть безразлично. Но мне не безразлично, поскольку я убежден, что мое существование – как и все, что когда-либо имело место, – взволновало гладь бытия, которое после моей маленькой волны, какой бы маргинальной, незначительной и мимолетной она ни была, стало и по самой своей природе уже навсегда останется иным, чем до нее[1053].
Может показаться странным, что тот, кто способен написать процитированные только что строки, утверждает, будто он бежит от необходимости писать. То, что Гавел имеет в виду и что мучит его также и в других местах книги, – это его неспособность закончить произведение, которое было начато им много лет назад и к которому он хотел вернуться, когда перестанет быть президентом. Речь шла не о той книге, которую он писал в данный момент: ею он только платил долг. Речь шла о театральной пьесе.
Уход
Ты был не лучше нас.
Но дар твой превозмог тебя…
Уистен Хью Оден. Памяти Йейтса(перевод И. Бродского)
Работа над «Уходом» долго была для Гавела растянутым на годы удовольствием. Свою вариацию на тему шекспировского «Короля Лира» в более мягкой чеховской тональности он начал писать в 1987 году. Время от времени он упоминал об этой пьесе в частных разговорах с друзьями, жалуясь, что не может как следует сосредоточиться на ней, пока занимается общественной деятельностью. В конце восьмидесятых годов он написал пространные предварительные заметки к пьесе и набросал некоторые диалоги, но позже решил, что эти черновики пали жертвой постреволюционного хаоса. Сейчас же он нашел их в Градечке – в шести школьных тетрадках и на листочках, напечатанных на допотопной пишущей машинке с игольчатой головкой[1054]. Исполнение Дашей роли Раневской в театре «На Виноградах» натолкнуло его на мысль вписать «Короля Лира» в антураж чеховского «Вишневого сада»[1055].
Собственная практика Гавела как государственного деятеля, теперь уже в отставке, дала ему неповторимый кругозор и богатейший комедийный материал для размышлений над общей дилеммой публичной и личной идентичности человека и над процессами старения, коллапса и ухода. Некоторые побочные линии, как, например, мучительное принятие канцлером Ригером решения о том, какие из копившихся годами подношений принадлежат государству, а что можно считать подарками лично ему, без сомнения, основаны на опыте самого Гавела[1056]. Этим же продиктовано чуть ли не физическое отвращение к бульварной прессе, которая в то время, когда у Гавела впервые зародилась идея пьесы, была еще неизвестным явлением. Однако при сравнении окончательного текста произведения с набросками, сделанными много лет назад, обращает на себя внимание то, насколько сохранился в пьесе первоначальный замысел и как прозорливо изобразил автор среду, которой в 1987 году он еще совершенно не знал.
В истории недавно вышедшего на пенсию канцлера Ригера описаны приметы отлучения от власти. Шаг за шагом он лишается своего аппарата, своих привилегий и символических атрибутов своей былой должности, и в конце концов его выселяют из правительственной виллы, которую он годами считал своим домом. Все это происходит при самодовольном участии Властика Клейна, его старого политического противника, на угнетающем фоне мелких предательств самых близких Ригеру людей и окружено садистским вниманием бульварных СМИ.
Пьеса сплошь пронизана цитатами, парафразами и аллюзиями. Некоторые фрагменты взяты непосредственно из «Короля Лира» и «Вишневого сада». Яростный монолог Лира «Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!» Ригер декламирует в вишневом саду, что несколько ослабляет драматический эффект. Где-то за кулисами слоняется пьяноватый Епиходов из пьесы Чехова. Иные аллюзии, в частности, цитаты из произведений Сэмюэля Беккета и других драматургов, не так заметны. Встречаются и отсылки к более ранним пьесам самого Гавела, и цитаты из его знаменитых выступлений. Некоторые же пассажи, особенно из интервью для бульварного листка «Фуй», звучат как беспощадная пародия на Гавела-политика: «Государство существует ради гражданина, а не гражданин ради государства… К примеру, я придавал большое значение правам человека. Во имя свободы я заметно сократил цензуру. Я уважал свободу собраний – ведь при мне не разогнали и половины проводившихся демонстраций!»[1057]
Ригер, как быстро становится понятно, вовсе не тот персонаж, что заслуживает восхищения. Он такой же тщеславный и эгоистичный, как и прочие политики. Он позер, он изменяет своей жене, и он совершенно не способен отказаться от власти. Когда в финале пьесы ему предлагают занять унизительный пост «советника советника советника», он соглашается, приводя в свое оправдание столь же трагикомические рациональные доводы, какими Гавел смачно иллюстрировал нравственную капитуляцию своих героев в пьесах коммунистических времен:
У меня сейчас лишь две возможности. Первая: отныне и навсегда жить лишь тем, что было, беспрерывно вспоминать об этом, снова и снова по кругу возвращаться к этому, анализировать минувшее, объяснять, отстаивать, опять и опять сравнивать прошлое с настоящим, доказывая, что тогда было лучше, то есть всецело сосредоточиться на своих следах в истории, своих былых заслугах, своей памяти и обелиске ей, установленном у обочины нашего исторического пути… Многие сочли бы меня озлобленным гордецом, отвергающим великодушное предложение поставить свой опыт на службу дальнейшей плодотворной работе на благо страны… Однако у меня есть и другая возможность: продемонстрировать всем, что служба родине для меня выше моего личного положения. Из этого принципа, пан редактор, я исходил всю свою жизнь и не понимаю, почему должен был бы отказаться от него из-за такой мелочи, из-за того, что я буду занимать – формально – пост, который будет чуть ниже того, на каком я долгое время находился[1058].
С этого момента комедия нравов превращается в трагедию идентичности. Каким бы высоконравственным, скромнейшим и готовым к самопожертвованию ни был соблазняемый властью человек, он не сможет, единожды вкусив, полностью от нее освободиться. Власть влияет на него и тогда, когда она есть, и тогда, когда ее уже нет. Чем большего он добился и чем выше поднялся, тем сильнее сжимает она его в своих объятиях. Он не может оставить ее за собой – во всяком случае не в демократической стране, – и тем не менее внутренне он никогда полностью от нее не откажется. До конца его дней главным для него будет не то, что он делает сейчас, а то, кем он был прежде. Он приговорен к тому, чтобы остаться бывшим канцлером, бывшим секретарем и бывшим президентом[1059].
И этой опасности Гавел старался также избежать. В самой пьесе он добился этого, максимально используя драматургическую вольность, играя цитатами и анахронизмами, нарушая ход действия вставными разъяснениями и рекомендациями актерам, которые произносит создатель текста как некий deus ex machina, пародируя самого себя и прибегая к «чистому авторскому произволу». Тем самым драматург – и единственно он – вновь полностью взял под контроль свое ремесло и своих персонажей.
В реальной жизни подобное было невозможно. Окружающий мир с его требованиями не давал Гавелу покоя, а его чувство ответственности не позволяло не обращать на эти требования внимания. Он вынужден был постоянно принимать все новых и новых посетителей и участвовать в различных мероприятиях. Даже при постановке его пьесы возникли проблемы театральной политики, ничуть не менее коварной и суровой в сравнении с политикой партийной. Так же, как зачастую и раньше, Гавел писал эту пьесу, имея в виду конкретных исполнителей главных ролей. Канцлера Ригера должен был играть давний друг Гавела Ян Тршиска, а многолетнюю и многострадальную подругу Ригера – не кто иной, как Даша.
Гавел – может быть, не слишком продуманно – обратился в Национальный театр, руководство которого, по-видимому, сомневалось, уместно ли будет пригласить Дашу в труппу, состоящую из десятков актеров, большинство из которых давно не выступало в главных ролях. В свою очередь, в ее родном театре «На Виноградах» возражали против Тршиски и стороннего режиссера.
В конце концов пьеса нашла сценическое воплощение в хорошо соответствующей ей обстановке театра «Арха», одного из главных центров пражского альтернативного театра, в режиссуре Давида Радока, сына старого наставника и друга Гавела. Радок-младший, выросший в эмиграции в Стокгольме и занимавшийся в основном оперной режиссурой, выбрал строгий подход и в своей постановке постарался верно передать замысел автора. Впрочем, у исполнителей главных ролей были и свои собственные представления. Тршиска прибегнул к драматическим жестам и декламации из классических трагедий на грани полного окарикатуривания Ригера, который уже и сам по себе был карикатурным персонажем. Даша не хотела оставаться в тени, однако из-за возникших проблем, в том числе со здоровьем, ей пришлось отказаться от участия в постановке, и ее заменила разносторонняя Зузана Стивинова – комическая актриса и хорошая певица. Премьера спектакля, которая состоялась 22 мая 2008 года, вызвала реакцию, от восторженной до почтительно восхищенной, несмотря на то, что кое-кто усмотрел в пьесе намек на отношения между Гавелом и Клаусом. Сам Гавел был доволен результатом, хотя сожалел, что ему не довелось увидеть Дашу в главной женской роли в одной из своих пьес.
Это могло послужить одной из причин – несомненно, не единственной, – почему Гавел решил экранизировать свою пьесу. Еще одной причиной было пронесенное им через всю жизнь желание стать кинематографистом. Определенную роль могла сыграть также его глубокая внутренняя потребность освободиться от всяческих ограничений и стереотипов.
Написать на основе пьесы сценарий оказалось делом несложным, хотя, быть может, и не слишком благодарным. Гавел последовал принципу единства места действия и весь фильм – кроме заключительной сцены отъезда Ригера – снял на пленэре на территории виллы Черихов в Ческой Скалице. Помогала ему в этом элита чешской киноиндустрии. Оператором был Ян Малирж, монтажером Иржи Брожек, продюсером – Ярослав Боучек, а музыку сочинил Михал Павличек. Роль Вилема Ригера исполнил Йозеф Абргам – вероятно, самый популярный актер своего поколения. Даша Гавлова играла его подругу Ирену, а Ярослав Душек выступил в роли Властика Клейна. Бабушку воплотила гранд-дама чешского театра и кино, одна из героинь антикоммунистического сопротивления Власта Храмостова. Лучшие актеры чешского кинематографа, такие как Эва Голубова, Татьяна Вильгельмова, Иржи Лабус, Олдржих Кайзер, Иржи Бартошка и Иржи Махачек, удовольствовались второстепенными ролями. Старый собутыльник режиссера Павел Ландовский сыграл кучера дилижанса (заимствованного из одноименного фильма Джона Форда 1939 года), который увозит опозоренного канцлера прочь.
Редко когда начинающий режиссер оказывался в более завидном положении. Его окружала команда друзей, которые одновременно были лучшими в своих профессиях, и он был полностью избавлен от финансового давления, так что мог идти туда, куда вели его творческие замыслы. «Режиссер вообще-то сам делает не очень много. Большую часть времени он ждет», – комментировал Гавел свою роль[1060]. Однако в съемки фильма он погрузился с той же самозабвенностью и той же сосредоточенностью, какие были присущи ему, когда он занимался творчеством или выполнял обязанности президента. Какое-то время с ним было трудно говорить на любые другие темы. Он полностью отдавался проекту и на стадии обработки отснятого материала, а затем даже поставил несколько сцен в церемонии торжественной премьеры фильма 22 марта 2011 года. Премьера символически состоялась в кинотеатре «Люцерна», построенном столетие назад дедушкой Гавела, конфискованном коммунистами и принадлежавшем теперь невестке Гавела Дагмар.
До самой последней минуты Гавел не был уверен, что сможет лично присутствовать на премьере. Из-за очередного приступа регулярного весеннего обострения проблем с дыханием он оказался в военном госпитале в Стршешовицах. Выписали его только 20 марта.
И на него сразу обрушился поток рецензий, преимущественно отрицательных. В самых мягких из них в целом справедливо отмечалось, что это всего лишь экранизация пьесы. Куда более болезненным было разделяемое многими суждение, что результатом всего этого нагромождения талантов и творческих способностей стал неровный, посредственный фильм. Менее великодушные даже говорили об игрушке, снятой желавшим потешить свое самолюбие Гавелом лишь для себя и для друзей, а то и вовсе утверждали, что «“Уход” Гавела терроризирует абсурдностью»[1061].
В отличие от этих рецензий, авторы которых держались в границах – хотя иногда скорее балансировали на грани, – кинокритики, некоторые личности и враждебные Гавелу СМИ воспользовались подвернувшимся случаем, чтобы буквально атаковать его. Витезслав Яндак, бывший министр культуры от социал-демократов и актер, воплотивший ряд жизнерадостных сказочных персонажей, назвал фильм «халтурой», типичной для «притона Правды и Любви – рассадника фальшивого псевдогуманизма и мелкотравчатого чешского юмора, заливающего республику немыслимым лицемерием и притворством»[1062]. Петр Гаек, журналист, литератор и заместитель заведующего канцелярией Клауса, который пару лет тому назад наделал много шума заявлением, будто события 11 сентября 2001 года происходили не так, как их описывают, присоединился к Яндаку, заметив, что фильм, обошедшийся в 44 миллиона крон, отчасти финансировало чешское общественное телевидение[1063]. И подобных выпадов было много.
Гавел внешне не подавал виду, что эта реакция его задевает. «Предоставляю критикам судить о том, где этому фильму место», – сказал он на премьере. Но в душе он был глубоко уязвлен, причем даже не столько низкой оценкой его таланта кинорежиссера, сколько откровенной ненавистью, выплеснувшейся в некоторых рецензиях и – позднее – в интернет-дискуссиях.
Долгое время эта ненависть оставалась под спудом, проявляя себя то в сдержанных похвалах, больше похожих на осуждение, то в скрытых намеках, то в нападках на советников Гавела, его политических сторонников или его вторую жену. Все они не были «заповедными животными», тогда как самого Гавела защищало от залповой стрельбы из всех орудий достоинство президентства, подобного монархическому правлению. Да и после того как он ушел со своего поста, критические голоса против него, в силу остаточного почтения к его должности, звучали всегда учтиво, сдержанно и деловито. И вот теперь плотина не выдержала и дала излиться целому потоку оскорблений.
Понять, где психологические истоки этой ненависти, довольно сложно. Отчасти они в нашей достойной сожаления склонности, присущей нации с крестьянскими и мещанскими корнями, не позволять никому перерасти себя. В свое время Масарика тоже осыпали подобными оскорблениями, причем делали это те чешские политики и журналисты, для которых «Град» был не то чтобы неприступным ночным кафкианским кошмаром, а гнездом снобов, интеллектуалов-космополитов и моралистов-крючкотворов. Однако в богемном, свободомыслящем денди Гавеле было нечто такое, что раздражало некоторых людей даже больше, чем возмущал бы их отлично образованный и пуритански строгий Масарик. Ключевым словом здесь было «лицемерие». Какое право имеет человек, целые годы изменявший своей жене, даже когда она была уже смертельно больна, человек, выступавший против мафиозного капитализма и одновременно получающий доходы от капиталов своих предков-эксплуататоров, проповедовать другим нормы морали? И не только он, но и все эти его испитые, распутные, напыщенные друзья, все эти правдолюбы, агнцы невинные, читавшие нам нотации, вместо того чтобы оставить нас в покое. И вот подвернулся шанс свести счеты с самым невинным из них.
Душевная рана не затягивалась. Гавел, хворавший весь месяц перед премьерой, опять нашел прибежище в болезни. Друзья уже раньше начали замечать признаки того, что он готов сдаться, что было совершенно не свойственно бойцу, какого все мы знали. «Меня утомляет борьба», – признался он своему ассистенту[1064]. Порой, убедившись, что Даши рядом нет, он затягивался сигаретой, а когда друзья протестовали, просто пожимал плечами[1065], добавляя иногда: «Сейчас это уже не важно».
Шквал оскорблений после премьеры «Ухода» стал последней каплей. Следующие пять месяцев Гавел отменял почти все ранее назначенные встречи и мероприятия, бо́льшую часть времени проводя в одиночестве в Градечке. Едок из него давно уже был неважный, а теперь он совсем отказался от пищи. Ослабел так, что едва мог двигаться без посторонней помощи. Заботились о нем поочередно несколько сестер милосердия из ордена святого Карла Борромейского. Друзья понимали, что, вероятно, подошло время прощаться. У Даши было много актерских обязанностей, она занималась делами благотворительного фонда и в основном жила в Праге. Гавел, как преданный муж, приехал на репетицию и присутствовал на первых двух спектаклях музыкальной обработки «Сирано», где Даша играла Роксану, но потом вернулся в Градечек.
В то лето у него было не слишком много посетителей. Дважды он встречался со своим старым товарищем по заключению Домиником Дукой – теперь пражским архиепископом и будущим кардиналом, – которого по давней привычке называл мирским именем Ярослав. Сходил в местный кинотеатр на фильм «Древо жизни».
Следующий удар обрушился на него в конце лета. Писательница Ирена Оберманнова выпустила «Тайную книгу» – якобы историю ее романа с «величайшим чехом», в котором легко угадывался экс-президент. Гавел яростно отрицал достоверность этой истории, да и большинство критиков отнеслось к книге как к попытке писательницы поживиться за счет славы Гавела. Факт их отношений, которые будто бы завязались в 2010 году, когда Гавел работал с отснятым материалом для «Ухода», невозможно подтвердить данными из независимых источников, однако кажется вполне допустимым, что тогда Гавел проникся к своей коллеге теплыми чувствами и пару раз с ней встретился. Даша была вне себя от гнева: может быть, не столько из-за предполагаемой измены мужа, сколько из-за своего публичного унижения. Враги же Гавела сочли новым свидетельством лицемерия его слабые попытки отпираться. Человек, который однажды с сожалением заметил, что у президента Клинтона такой дурной вкус на подружек, что он крутит роман с девушкой, которая готова потом разгласить интимные подробности о нем, теперь подорвался на собственной мине. Его жена с ним не разговаривала, а его мнимая подруга была, надо полагать, смертельно оскорблена тем, что он от нее отрекся.
Когда в конце лета здоровье Гавела немного улучшилось, он смог посетить свою последнюю конференцию «ФОРУМ 2000». Пятого октября 2011 года ему исполнилось семьдесят пять лет. До того, в субботу, в пражском Центре современного искусства «ДОКС» собралось, чтобы поздравить его с днем рождения, несколько близких друзей. Некоторые из них, в том числе Мадлен Олбрайт, Адам Михник и Том Стоппард, прилетели из-за границы. Даша явилась в сопровождении многочисленной родни и вскоре ушла. Гелена Вондрачкова и Карел Готт в этот раз отсутствовали. В программе были The Plastic People of the Universe, Monkey Business и исполнители фольклорной музыки и песен протеста давних диссидентских времен. Гавел бо́льшую часть вечера сидел на галерее, принимая поздравления. Он был, как всегда, вежлив и ни на что не жаловался, но пиджак был велик ему на два размера, а глаза на осунувшемся измученном лице смотрели тускло. Каждого из подходивших к нему друзей он приветствовал слабой улыбкой в знак того, что узнал и благодарит. «Майкл, – обратился он ко мне по-английски, а когда я спросил, как он себя чувствует, несколько оживился, но притворяться не стал. – Майкл, я разваливаюсь».
Неделю спустя Гавел вновь встретился с кардиналом Дукой. Вообще в 2011 году оба товарища по заключению встречались чаще, чем в течение долгих лет, прошедших с того дня, когда их выпустили из тюрьмы. В ноябре они записали в архиепископском дворце телевизионный «допрос», посвященный теме воспоминаний и надежды. Десятого декабря, через двадцать три года после первой официально разрешенной демонстрации на площади Шкроупа, Гавел принял своего друга, четырнадцатого тибетского далай-ламу Тэнцзина Гьямцхо. Тот заметил ухудшение здоровья Гавела и порекомендовал ему обратиться к традиционной тибетской медицине. «Я обещал, что теперь буду для своего старого друга тибетским врачевателем», – рассказывал он потом[1066]. Гавелу он пожелал еще десять лет жизни. Дальнейшие полчаса оба провели за беседой, обходясь большей частью без слов. Прощаясь, они соприкоснулись лбами.
Путь в машине «скорой помощи» из Градечка на эту встречу и обратно совсем истощил силы Гавела. Следующую неделю он провел в основном в постели, слишком слабый и измученный даже для того, чтобы самостоятельно вставать. Тем не менее он общался с ухаживавшими за ним сестрами милосердия и несколько раз созванивался по телефону с друзьями. О своем скором конце он говорил без обиняков, смирившись с ним. В субботу 17 декабря ему стало чуть лучше, и он решил обсудить с приехавшей в тот день Дашей приближающееся Рождество. Праздничные дни он хотел провести в Градечке и просил ее быть с ним.
В воскресенье утром монахиня Веритас Голикова увидела, что ее пациент уже проснулся, и предложила ему встать для утреннего туалета. «Я хочу еще поспать, приходите через часок», – ответил он ей. Когда же через час сестра вернулась, он по-прежнему спал, и дыхание его становилось все слабее. Приблизительно между 9:45 и 9:50 он совсем перестал дышать. «Это было так тихо, как будто погасла свеча»[1067].
Благодарности
Единственное, чего я опасаюсь при составлении списка людей, которых я обязан поблагодарить, это того, что по невнимательности могу кого-то пропустить. Если подобное произойдет, я заранее прошу у них прощения.
Вацлава Гавела уже нет в живых, но я безгранично благодарен ему за вдохновение и за то, что он незримо руководил мною, пока я писал эту книгу (вина за все ошибки, разумеется, лежит на мне). Его вдова Дагмар все это время оказывала мне содействие, отвечала на вопросы и никак не пыталась ограничить в том, что я пишу, хотя наверняка знала, что читать некоторые пассажи ей будет неприятно. Мои старые друзья Иван Гавел и его жена Дагмар Гавлова-Илковичова великодушно делились со мной своим временем, воспоминаниями и документами и не отказывали мне, когда я вновь и вновь возвращался к ним.
Я очень благодарен тем, кто беседовал со мной, и тем, кто делился со мной информацией письменно. В основном это были друзья – Гавела и мои, – и это превращало мою работу в удовольствие. В их число входят Мадлен Олбрайт, Тимоти Гертон Эш, Джоан Баэз, Зденек и Михаэла Бакалы, Иржи Бартошка, Павел Братинка, Мартин Бутора, Билл Клинтон, Мариан Чалфа, Вера Чаславская, покойный Олдржих Черный, Давид Душек, Лубош Добровский, Ярослав Доминик Дука, Миа Фэрроу, Милош Форман, Анна Фрейманова, Федор Гал, Томаш Галик, Владимир Ганзел, Стивен Гейнц, сообщество «Горностан», Петр Янчарек, Франтишек Яноух, Ленка Юнгманнова, Ладислав Кантор, Гелена Кашперова, Билл и Памела Киль, Вацлав Клаус, Михаэл Коцаб, Павел Когоут, Бессель Кок, Павел Коларж, Эда Крисеова, Павел и Петр Кралы, Андрей Кроб, Даниэл Кроупа, Павел Ландовский, Билл и Венди Луерсы, Иво Мате, Владимир Мерта, Владимир Млынарж, Мартин Палоуш, Петр Питгарт, Ян Румл, Жак Рупник, Брент Скоукрофт, Роджер Скрутон, Карл Шмидт, Карел Шварценберг, Ладислав «Агнес» Снопко, Ян Сокол, Лиз Стоун, Том Стоппард, Алоис Стрнад, Иржи Сук, Аун Сан Су Чжи, Иржина Шиклова, Ладислав Шпачек, Бара Штепанова, Нгагванг Ловзаанг Тэнцзин Гьямцхо, Мартин Видлак, Итка Воднянская, Александр Вондра и Пол Вильсон.
Я безмерно благодарен Марте Смоликовой, Яну Гронзе, Яну Махачеку, Ондржею Немецу, Эрике Зламаловой и всему коллективу пражской Библиотеки Вацлава Гавела – без их поддержки и электронного доступа к нескольким десяткам тысяч оцифрованных документов из ее архива я вряд ли смог бы работать над своей книгой в Лондоне. Также я благодарю Штепана Гилара и архивный департамент Министерства иностранных дел, Музей национальной письменности, Институт современной истории, д-ра Виту Сметану и другие учреждения. Мой старый друг и бывший шеф из агентства «Рейтер» Колин Макинтайр и архивист Дэвид Катлер любезно допустили меня к архивам агентства конца восьмидесятых годов прошлого века.
Я докучал множеству фотографов, разыскивая снимки, – причем, к сожалению, смог использовать далеко не все из них. Они дали мне замечательную возможность вновь пережить некоторые памятные моменты из жизни Гавела, а иногда и моей собственной. Я благодарен за это Карелу Цадлину, Богдану Голомичеку, Ярославу Коржану, Томеку Немецу, Томашу Новаку, Алану Паеру, Иво Шилгавому, недавно ушедшему от нас Олдржиху Шкахе и другим.
Я никогда прежде не писал книг по-английски, и мне очень повезло обрести в лице Эндрю Нюрнберга и всей его замечательной команды агента, который охотно и дружески поддерживал меня в моих усилиях. Также я счастлив, что у меня были такие доброжелательные издатели, как Тоби Мунди из лондонского Atlantic Books, Морган Энтрекин из нью-йоркского Grove Atlantic и Милан Гелнар из пражского Argo. Неоценимую помощь оказали мне высокопрофессиональные и безмерно любезные редакторы Маргарет Стид, Коринна Барсан и Петр Онуфер.
Особую благодарность я выражаю своей ассистентке Дане Пшеницовой, которая вот уже четверть века терпеливо успокаивает меня своим присутствием, являясь моей запасной памятью и моим кризисным менеджером.
Моим первым читателем стал мой обожаемый зять Эрик Ормсби. Благодаря его виртуозному знанию английской грамматики и стилистики мне не пришлось много раз краснеть за свой текст. Подозреваю, что во время чтения ему через плечо заглядывала моя сестра Ирена.
В заключение – однако же в первую очередь! – моя любовь и моя благодарность – моей жене Яне, которая еще два с половиной года назад объяснила мне, во что именно я ввязываюсь, но тем не менее всегда была со мной рядом.
Библиография
Albrightová M. Madeleine. Přeložil M. Žantovský. Praha: Práh, 2003.
Albrightová M. Pražská zima. Přeložil Tomáš Vrba. Praha: Argo, 2012.
Asmus R.D. Opening NATO’s Door. New York: Columbia University Press, 2002.
Bartuška V. Polojasno. Pátrání po vinicích 17. listopadu 1989. Praha: Ex libris, 1990.
Benčík A. Téma Alexander Dubček. Praha: Křesťansko sociální hnutí, 2012.
Blažek P., Bursík T. Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2010.
Boučková T. Indiánský běh. Praha: Fragment K, 1991.
Bratinka P., Havel I.M., Neubauer Z.,Kroupa D., Palouš M., Palouš R., Webrová H. Faustování s Havlem. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
Bútora M. Odklínanie. Bratislava: Kaligram, 2004.
Císařovská B., Prečan V. (eds.). Charta 77: Dokumenty 1977–1989. 3 díly.
Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007.
Čelko V. (ed.). Václav Havel – Vilém Prečan: korespondence 1983–1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2011.
Dahrendorf R. Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě. Přeložil K. Kovanda. Praha: Evropský kulturní klub, 1991.
Dayová B. Sametoví filosofové. Přeložila B. Müllerová. Praha: Doplněk, 1999.
Forman M., Novák J. Co já vím? Přeložili J. Josek a J. Novák. Praha: Argo, Paseka, 2013.
Freimanová A. (ed.). Příležitostný portrét Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013.
Freimanová A. Síla věcnosti Olgy Havlové. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013.
Freimanová A. Václav Havel: O divadle. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012.
Garton Ash T. Rok zázraků. Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze. Přeložil M.. Drozd. Praha, Litomyšl: Paseka 2009.
Gerová I. Vyhrabávačky. Praha, Litomyšl: Paseka, 2009.
Gjuričová A. et al. (eds.). Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.
Goldgeier J.M. Not Whether But When. The U.S. Decision to Enlarge NATO (Nikoli zda, ale kdy. Americké rozhodnutí o rozšíření NATO.) Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1999.
Hanzel V. (ed.). Zrychlený tep dějin. Praha: Galén, 2006.
Havel I.M. et al. Dopisy od Olgy. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
Havel V. Citizen Vaněk / Občan Vaněk. Přeložil J. Novák. Praha: Levné knihy, 2009.
Havel V. et al. Cirkus Havel. Brno: Větrné mlýny, 2008.
Havel V., Landovský P., Kohout P., Dienstbier J. V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha: Academia, 2006.
Havlová B. Didasko – Učím. Naučné obrázky Boženy Havlové. Praha: KANT, 2003.
Havlová-Ilkovičová D. (ed.). Podněcování a trest. Praha: Knihovna Václava Havla, 2009.
Hejdánek L. Havel je uhlík. Filosof a politická zodpovědnost. Praha: Knihovna Václava Havla, 2009.
Hiršal J., Grögerová B. Let let. Pokus o rekapitulaci. Praha: Torst, 1994.
Historický ústav akademie věd České republiky, historická komise Koordinačního centra Občanského fо́ra. Deset pražských dnů. 17–27 listopad 1989. Dokumentace. Praha: Academia, 1990.
Horáček M. Jak pukaly ledy. Praha: Ex libris, 1990.
Hutchings R.L. American diplomacy and the end of the Cold War: an insider’s account of U.S. policy in Europe, 1989–1992. Washington, D.C.: The Woodrow Wilson Center, 1997.
Jirous I.M. Magorův zápisník. Praha: Torst, 1997.
Jirous I.M. Pravdivý příběh Plastic People. Praha: Torst, 2008.
Juráček P. Deník 1959–1974. Praha: Národní filmový archiv, 2003.
Kaiser D. Disident, Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009.
Kaplan K. Všechno jste prohráli. Praha: Ivo Železný, 1997.
Keane J. Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích. Přeložil J. Vaněk. Praha: Volvox Globator 1999.
Kipke R., Vodička K. Rozloučení s Československem. Praha: Československý spisovatel, 1993.
Klíma I. Moje šílené století. Praha: Academia, 2009.
Kohout P. Kde je zakopán pes. Memoáromán. Brno: Atlantis, 1990.
Kohout P. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Praha: Academia, 2011.
Komeda V. V. et al. (eds.). Hnědá kniha o procesech s českým undergroundem.
Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.
Kosatík P. Člověk má dělat to, nač má sílu. Život Olgy Havlové. Praha: Mladá fronta, 2008.
Kosatík P. Ústně více. Brno: Host, 2006.
Kriseová E. Václav Havel. Životopis. Brno: Atlantis, 1991.
Landovský P. Soukromá vzpoura. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Galén, 2010.
Matějková J. Děda se taky nebál, Rozhovor s Alexandrem Vondrou. Praha, Litomyšl: Paseka, 2012.
Müllerová A., Hanzel V. et al. Albertov 16:00, Příběhy sametové revoluce. Praha: Česká televize, Lidové noviny, 2009.
Neubauer Z. Consolatio philosophiae hodierna. Nad šestnácti dopisy Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
Patočka J. Kacířské eseje o filosofii. Praha: Academia, 1990.
Pithart P. Devětaosmdesátý. Praha: Academia, 2010.
Prečan V. (ed.). Charta 77 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Scheinfeld-Schwarzenberg, Bratislava: Československé středisko nezávislé literatury, ARCHA, 1990.
Prečan V. (ed.). Praha – Washington – Praha: Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2004.
Pryce-Jones D. The Strange Death of the Soviet Empire (Podivná smrt sovětského imperia). New York: Henry Holt & Co., 1995.
Putna M.C. (ed.). Měli jsme underground a máme prd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2009.
Putna M.C. Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.
Rakušanová L. Václav and Dagmar Havlovi, Dva osudy v jednom svazku. Praha: Gallery, 1997.
Rocamora C. Acts of Courage. Václav Havel’s Life in the Theater (Jednání odvahy. Život Václava Havla na divadle). Hanover, NH: Smith and Kraus, 2004.
Rupnik J. Jiná Evropa. Přeložila Adriena Borovičková. Praha: Prostor, 1992.
Rychlík J. Rozdělení Česko-Slovenska 1989–1992. Praha: Vyšehrad, 2012.
Shawcross W. Dubcek. New York: Simon and Schuster, 1990.
Simmons M. The Reluctant Prezident, A Political Life of Vaclav Havel. (Zdráhavý prezident: Politický život Václava Havla). Londýn: Methuen, 1991.
Smetana V. (ed.). Historie na rozcestí. Brno: Barrister and Principal, 2013.
Stein E. Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup. (Česko-Slovensko: Etnický konflikt, ústavní spor, dohodnuté rozdělení). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.
Stoppard T. Rock’n’roll. New York: Grove Press, 2006.
Suk J. (ed.). Občanské fо́rum II, listopad – prosinec 1989, Dokumenty. Brno: Doplněk, 1998.
Suk J. Labyrintem revoluce. Praha: Prostor, 2003.
Suk J. Občanské fо́rum I, listopad – prosinec 1989, Události. Brno: Doplněk, 1998.
Suk J. Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989. Praha: Paseka, 2013.
Svora P. Sedm týdnů, které otřásly hradem. Praha: Svora s.r.o., 1998.
Škvorecký J. Mirákl. Praha: Plus, 2009.
Špaček L. Deset let s Václavem Havlem. Praha: Mladá fronta, 2012.
Tichý Z A., Ježek V. (eds.). Šest z šedesátých. Praha: Radioservis, 2003.
Tucker A. Fenomenologie a politika: od J. Patočky k V. Havlovi. Přeložila Klára Cabalková. Olomouc: Votobia, 1997.
Tůma O. Zítra zase tady. Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha: Maxdorf, 1994.
Uhl P., Pavelka Z. Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Praha: Torst, 2013.
Urbánek Z. Stvořitelé světa. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012.
Vacek M. Proč bych měl mlčet. Praha: NADAS, 1991.
Václav Havel – František Janouch, Korespondence 1978–2001. Praha: Akropolis, 2007.
Václav Havel – Vilém Prečan.: Korespondence 1983–1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2011.
Vaculík L. Český snář. Brno: Atlantis, 1990.
Vladislav J. Otevřený deník 1977–1981. Praha: Torst, 2012.
Wilson P. Bohemian Rhapsodies. Přeložil Martin Machovec. Praha: Torst, 2012.
Zábrana J. Celý život. Výbor z deníků. Praha: Torst, 1992.
Работы Вацлава Гавела цитируются по его сочинениям: Václav Havel.
Spisy. Sv. 1–7. Praha: Torst, 1999 и Václav Havel. Spisy. Sv. 8. Praha: Torst, 2007.
Примечания
1
Prosím stručně // Spisy. Sv. 8. S. 674.
(обратно)2
Наиболее интересны, с моей точки зрения, следующие из них: «Acts of courage: Václav Havel’s Life in the Theater» Кэрол Рокаморы; «Вацлав Гавел. Духовный портрет в контексте чешской культуры XX века» (Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století) Мартина Ц. Путны и «Политика как драма абсурда: Вацлав Гавел в 1975–1989 годах» (Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975–1989) авторства Иржи Сука. Первая, к сожалению, только на английском языке. Ввиду множества приводимых деталей и любопытных наблюдений заслуживают прочтения и три обобщающие, хотя и неполные биографии: «Вацлав Гавел: Жизнь» (Václav Havel: Život) Эды Крисеовой, англоязычная «Václav Havel: A Political Tragedy in Six Acts» Джона Кина и «Диссидент: Вацлав Гавел 1936–1989» (Disident: Václav Havel 1936–1989) Даниэла Кайзера. Автор с благодарностью использовал все названные работы.
(обратно)3
В мои намерения не входило рассказывать о Гавеле и о себе самом. Если у меня когда-либо возникнет ощущение, что на эту тему стоило бы что-то опубликовать, я напишу другую книгу. В этой же, в тех нескольких местах, где мое присутствие или мое отношение к Гавелу существенны для повествования, я попытаюсь вкратце обозначить это в самом тексте или в постраничных примечаниях.
(обратно)4
Prohlášení prezidenta republiky k úmrtí prezidenta Václava Havla, 18. prosince 2011 // http://www.klaus.cz/clanky/3000
(обратно)5
Motley J.L. The Rise of the Dutch Republic. Vol. III. New York: Harper & Brothers, 1858. Р. 267.
(обратно)6
Pamětní večer na počest Václav Havla, Royal Institute of British Architects, 1.03.2012.
(обратно)7
Epitaf za tyrana. 1949.
(обратно)8
«Václav Havel zemřel 18. prosince 2011» 19. prosince 2011. S. 17 // www.lidovky.cz
(обратно)9
Ibid. S. 27.
(обратно)10
Ibid. S. 26.
(обратно)11
Ibid. S. 21.
(обратно)12
Projev prezidenta republiky na smutečním shromáždění k uctění památky prezidenta Václava Havla, 21.12.2011// http://www.klaus.cz/clanky/3004.havel_556.indd 23 25.8.2014 8:11:01
(обратно)13
В 2012 г. международный аэропорт Праги Рузине был переименован в Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела. – Прим. ред.
(обратно)14
Dies irae (лат. «День гнева», т. е. день Страшного суда) – секвенция в католической мессе. – Прим. ред.
(обратно)15
Projev prezidenta České republiky během pohřební bohoslužby ve Svatovítské katedrále, 23. prosince 2011 // http://www.klaus.cz/clanky/3006.havel_556.indd 24 25.8.2014 8:11:02
(обратно)16
«Всяк в клетке самого себя» («And each in the cell of himself is almost convinced of his freedom») – цитата из стихотворения У.Х. Одена «Памяти Йейтса» в переводе И. Бродского.
(обратно)17
В апреле 1969 г. Иван Гавел, обучавшийся тогда в докторантуре университета Беркли, послал отцу открытку, на которой были изображены Клифф-Хаус и соседние Тюленьи скалы, с текстом: «Морские котики – настоящие. Я их видел и слышал, как они лают». А сбоку он приписал: «Изнутри это еще больше напоминает Баррандов» // Archiv Ivana M. Havla. KVH ID 18301.
(обратно)18
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 791.
(обратно)19
Ibid. S. 794.
(обратно)20
Ibid. S. 791.
(обратно)21
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, farma Košík, 20. srpna 2012.
(обратно)22
Rodinné album 1938 // Archiv Ivana M. Havla. KVH ID 1788.
(обратно)23
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, 20. srpna 2012.
(обратно)24
Rodinné album. 1938.
(обратно)25
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, 20. srpna 2012.
(обратно)26
Rýma jako slon, kresba, zima 1946 // Archiv Ivana M. Havla. KVH ID 1389.
(обратно)27
Dopis manželům Vavrečkovým, 11. ledna 1946. KVH ID 1472.
(обратно)28
Dopis manželům Vavrečkovým, 11. ledna 1946. KVH ID 1472.
(обратно)29
Dopis manželům Vavrečkovým, 2. února 1946. KVH ID 1473.
(обратно)30
Dopis manželům Vavrečkovým, 9. ledna 1946. KVH ID 1472.
(обратно)31
KVH ID 1390.
(обратно)32
Dopis Hugo Vavrečkovi, 25. ledna 1947. KVH ID 1480.
(обратно)33
Dopis Boženy Havlové Josefíně Vavrečkové, 22. ledna 1947. KVH ID 1456.
(обратно)34
Dopisy manželům Vavrečkovým, 18. února 1946. KVH ID 1474; 7. února 1947. KVH ID 1481.
(обратно)35
Dopis Boženy Havlové Josefině Vavrečkové, 22. ledna 1947. KVH ID 1456.
(обратно)36
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 702.
(обратно)37
Ibid.
(обратно)38
Ibid.
(обратно)39
Ibid. S. 703.
(обратно)40
Ibid.
(обратно)41
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 702.
(обратно)42
Havlová, Božena (2003).
(обратно)43
Archiv Ivana M. Havla, nedávný nález.
(обратно)44
Ibid.
(обратно)45
Из сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс» (1883). Текст высечен на бронзовой доске, помещенной в пьедестале Статуи Свободы.
(обратно)46
Potvrzení o beztrestnosti bratří Havlů, 18. června 1945 // Archiv Ivana M. Havla. KVH ID 18241.
(обратно)47
Továrna dobra // Archiv Ivana Havla. KVH ID 16271. В Библиотеке Вацлава Гавела этот документ отнесен к 1950-м годам, что представляется маловероятным.
(обратно)48
Так в оригинале. – Прим. пер.
(обратно)49
Ibid. S. 1.
(обратно)50
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, 20. srpna 2012.
(обратно)51
Фирма «Шкода» получила свое название по фамилии ее основателя Эмиля Шкоды (1839–1900), в чешском языке совпадающей по звучанию с нарицательным существительным, которое означает «убыток», «ущерб» и «зло». В названии города Злин также явственно просматривается корень слова «зло». – Прим. пер.
(обратно)52
Továrna dobra. S. 3.
(обратно)53
См.: Smetana (2013). S. 81–123.
(обратно)54
Йозеф и его брат Цтирад, также учившийся в подебрадской школе, принадлежали к тем немногим чехам, которые с оружием в руках боролись с коммунистическим режимом. В конце концов оба прорвались в американскую зону оккупации в Берлине. Жертвами организованных ими в группе сопротивления убийств стали несколько полицейских и одно невооруженное гражданское лицо. После падения коммунистического режима президент Гавел отклонил предложения представить их к государственным наградам.
(обратно)55
Rozhovor s Aloisem Strnadem, Skype, 25. listopadu 2012.
(обратно)56
Rozhovor s Milanem Jiráskem, Londýn, 8. srpna 2012.
(обратно)57
Forman a Novák (1994). S. 47.
(обратно)58
Ibid.
(обратно)59
Ibid. Милош Форман повторил это в личной беседе в Уоррене (Коннектикут) 13 апреля 2013 г. Ирасек в личной беседе 8 августа 2012 г. также вспоминал этот эпизод, но без подробностей.
(обратно)60
Rozhovor s Milanem Jiráskem, Londýn, 9. srpna 2012.
(обратно)61
См., например: Albrightová (2012).
(обратно)62
Kaiser (2009). S. 32.
(обратно)63
ЧСМ был создан в апреле 1949-го, за год до закрытия школы. Двенадцатилетнему на тот момент Гавелу было бы рано вступать в него. Однако в 50-е годы Гавел состоял в ЧСМ.
(обратно)64
Kronika 1.A, 30. května 1948 // Аrchiv Aloise Strnada.
(обратно)65
По-чешски Chrobák. Этим прозвищем он, вероятно, был обязан Милошу Форману, хотя тот впоследствии не признавал свое авторство // Rozhovor s Milošem Formanem, 13. dubna 2013; rozhovor s Milanem Jiráskem, 9. srpna 2012.
(обратно)66
Osobní rozhovor s Milanem Irascem 9. srpna 2012.
(обратно)67
Skautská kronika, 29. června – 25. července 1948 // Archiv Ivana M. Havla. KVH ID 1654.
(обратно)68
Копецкий был сыном довоенного дипломата, а Махачек происходил из состоятельной пражской семьи.
(обратно)69
Значительная часть сведений о клубе, приводимых в данной главе, взята из замечательного, основанного на подлинных фактах и посвященного этой группе романа «Подробности устно», который написал Павел Косатик.
(обратно)70
Предисловие Вацлава Гавела к «Ústně vice».
(обратно)71
Dopis Radimu Kopeckému // Archiv Radima Kopeckého. KVH ID 1782.
(обратно)72
Ibid.
(обратно)73
Dopis Radimu Kopeckému, 12. prosince 1952 // Archiv Radima Kopeckého. KVH ID 1779. Этот пассаж ввиду его контраста с позднейшими мыслями Гавела цитируют Косатик и Кайзер. См.: Kosatík (2006); Kaiser (2008).
(обратно)74
Dopis Jiřímu Paukertovi, bez data 1953. KVH ID 1514. Хотя это и другие письма ему хранятся в архиве под взятым Паукертом псевдонимом «Иржи Кубен», я привожу фамилию адресата, указанную на конверте.
(обратно)75
Dopis Jiřímu Paukertovi, 4. října 1953. KVH ID 1517.
(обратно)76
Dopis Jiřímu Paukertovi, bez data, srpen 1953. KVH ID 1658. S. 7.
(обратно)77
Ibid. S. 8.
(обратно)78
Dopis Jiřím Paukertovi, 24. října 1953. KVH ID 1520. S. 4.
(обратно)79
Dopis Jiřím Paukertovi, 24. října 1953. KVH ID 1520. S. 4.
(обратно)80
Роль Черного как основоположника группы, которую часто приписывают Иржи Коларжу, подтверждает Зденек Урбанек. См.: Dopis Václavu Havlovi, 3. října 1997. VHL ID 6905.
(обратно)81
Dopis z románu Karla Trinkewitze «1472 kroků» // Spisy. Sv. 4. S. 605.
(обратно)82
Věra Linhartová v rozhovoru s Martinem C. Putnou, 29. března 2010. Archiv KVH.
(обратно)83
Dopis Františku Pressovi, 1. září 1957, neodeslaný. KVH ID 17628.
(обратно)84
Spisy. Sv. 3. S. 54–59.
(обратно)85
Rozhovor s Theodorem Wildenem, Londýn, 18. června 2012.
(обратно)86
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, farma Košík, 20. srpna 2012.
(обратно)87
KVH ID17725.
(обратно)88
Ibid.
(обратно)89
На полях пометка: «Починили, насколько удалось» // KVH ID17725.
(обратно)90
KVH ID17725.
(обратно)91
В «Заочном допросе» (См.: Spisy. Sv. 4. S. 728) Гавел специально отмечает роль Кундеры, опровергая «глупость» насчет его якобы личной вражды с Кундерой из-за их спора о «чешской доле» в 1970 году. Тем не менее отношения между этими двумя самыми известными в мире чешскими авторами оставались напряженными по не вполне понятным причинам.
(обратно)92
Spisy. Sv. 4. S. 730.
(обратно)93
Ibid. S. 731.
(обратно)94
Jiřímu Paukertovi, 18. září 1957. KVH ID1610.
(обратно)95
Ibid.
(обратно)96
Rozhovor s Andrejem Krobem a Annou Freimanovou, 21. října 2012.
(обратно)97
Ibid.
(обратно)98
Jiřímu Paukertovi, 1. listopadu 1957. KVH ID1614.
(обратно)99
Jiřímu Paukertovi, 25. září 1957. KVH ID1611.
(обратно)100
Ibid.
(обратно)101
«Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben» («Поэзия и правда: из моей жизни») – автобиографическое сочинение И.В. Гете. – Прим. пер.
(обратно)102
1959. KVH ID7110. В вольной обработке под названием «Мельницы» эту пьесу поставил театр «Склеп» в 1994 г.
(обратно)103
См., например: Rocamora (2004). S. 23.
(обратно)104
Karel Brynda, цит. по: Keane (1999). S. 145.
(обратно)105
Jiřímu Paukertovi. KVH ID1619. Письмо датировано 17 марта 1958 г., но, судя по контексту («Уже только 219 дней!»), написано в 1959 г.
(обратно)106
Keane (2004). S. 147–148.
(обратно)107
D álkový výslech. S. 737. Здесь и далее цит. по: Гавел В. Трудно сосредоточиться: Пьесы / пер. С. Скорвида. М.: Художественная литература, 1990.
(обратно)108
Scénář. 1958. KVH ID17627.
(обратно)109
Jiřímu Paukertovi, 21. Prosince 1958. KVH ID1623.
(обратно)110
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 759.
(обратно)111
Уже став успешным драматургом, Гавел наконец смог поступить на заочное отделение театрального факультета Академии искусств. Без особого интереса к учебе он окончил его в 1966 г.
(обратно)112
D álkový výslech, Spisy. Sv. 4. S. 862.
(обратно)113
Rozhovor se Zdenou Pospíchalovou // Freimanová (2013). S. 60.
(обратно)114
«Žádná harlekýnka», rozhovor s Olgou Havlovou // Wilson (2011). S. 143.
(обратно)115
Rozhovor s Andrejem Krobem, 21. Října 2012.
(обратно)116
D álkový výslech. S. 863.
(обратно)117
Dopis Jiřímu Paukertovi, poštovní razítko 28. srpna 1958. KVH ID1622.
(обратно)118
Rozhovor s Ivanem M. Havlem, 20. srpna 2012.
(обратно)119
Dopis Václavovi M. Havlovi, 14. července 1964 // Freimanová (2013). S. 12.
(обратно)120
Ibid. S. 9–10.
(обратно)121
Ibid. S. 12.
(обратно)122
Dopis Václavovi M. Havlovi, 14. července 1964 // Freimanová (2013). S. 12.
(обратно)123
Ibid.
(обратно)124
Ibid. S. 13.
(обратно)125
Гавел придерживался оригинальной теории, согласно которой не люди теряют вещи, а вещи – людей.
(обратно)126
Так, например, он создал незабываемый образ присяжного-иммигранта в «Двенадцати разгневанных мужчинах» Сидни Люмета.
(обратно)127
«Несколько заметок по следам “Шведской спички”» (1962), переработано под названием «Работа Радока с актерами» (1963) // Spisy. Sv. 3. S. 416–461, 571–588.
(обратно)128
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 738.
(обратно)129
Erml R., Kerbr J. «Krásná doba mého života», rozhovor s Václavem Havlem // Divadelní noviny. № 1–2. 2004.
(обратно)130
«Пражский перекресток» – место для проведения различных мероприятий, концертов, конференций и т. д. Деньги от аренды помещений идут на поддержание в должном состоянии старинных церковных зданий. – Прим. пер.
(обратно)131
Erml R., Kerbr J. «Krásná doba mého života», rozhovor s Václavem Havlem // Divadelní noviny. № 1–2. 2004.
(обратно)132
Пьеса, которая в наши дни представляет разве лишь исторический интерес, опубликованная в собрании сочинений Гавела (Spisy. Sv. 2. S. 7–35), в 2000 г. была поставлена в театре «На Виноградах».
(обратно)133
Иван из скромности отрицает какую-либо свою заслугу в создании «Уведомления», кроме подсказанной идеи. По его словам, первоначально он и не подозревал, что Вацлав разрабатывает эту тему // Rozhovor s Ivanem M. Havlem, 20. srpna 2012.
(обратно)134
Erbr R., Erml J. Krásná doba mého života // Divadelní noviny. №. 1–2. 2004.
(обратно)135
Rukopis // KVH ID16266.
(обратно)136
Rukopis // KVH ID17615.
(обратно)137
Hulec V Rozhovor s Ivanem Vyskočilem // Šest z šedesátých / Tichý Z.A., Ježek V. (eds.). Radioservis: Praha, 2003. S. 61.
(обратно)138
Почему эта драматическая форма получила название по городу на юго-востоке Франции, остается для автора – и, может быть, не для него одного – загадкой.
(обратно)139
Erbr R., Erml J. Krásná doba mého života // Divadelní noviny. № 1–2. 2004
(обратно)140
D álkový výslech. S. 762.
(обратно)141
Hulec V Rozhovor s Ivanem Vyskočilem // Šest z šedesátých. S. 61.
(обратно)142
Пьеса «Комедия в трех действиях и одном интермеццо». – Прим. ред.
(обратно)143
Komedie o třech jednáních a jedné mezihře. Rukopis 1961. KVH ID17614.
(обратно)144
Keane (1999).
(обратно)145
Kriseová (1991). S. 41.
(обратно)146
Dopis Marie Málkové Václavu Havlovi, 5. října 1996 // Archiv Marie Málkové. KVH ID6786.
(обратно)147
Dopis Jana Grossmana Marii Málkové, duben 1963 // Ibid.
(обратно)148
На основании сообщения Зденека Урбанека, см.: Kriseová (1991). Эта история известна и в других версиях, причем некоторые их них исходили от самого Гавела, например, та, которую пересказывает Даниэл Кайсер (2008). По словам Андрея Кроба (интервью от 21 октября 2012 г.), в этом «убийстве в “Восточном экспрессе”» участвовал и Крейча.
(обратно)149
Цензура под оруэлловским наименованием «Главное управление по надзору за печатью» действовала профилактически. После того как ее проверку проходил печатный вариант, можно было ожидать, что текст, адаптированный для театра, уже не вызовет возражений.
(обратно)150
Zahradní slavnost // Spisy. Sv. 2. S. 99. Здесь и далее цит. по: Праздник в саду // Гавел В. Трудно сосредоточиться: Пьесы. М.: Художественная литература, 1990. С. 60. Перевод И. Безруковой.
(обратно)151
Автор этой книги признается, что сам смотрел «Праздник в саду» 7 или 8 раз.
(обратно)152
Zahradní slavnost // Spisy. Sv. 2. S. 79.
(обратно)153
Ibid. S. 63.
(обратно)154
Этот термин Гавел употребил в своем бунтарском выступлении на конференции Союза писателей 8 июня 1965 г.
(обратно)155
Zahradní slavnost // Spisy. Sv. 2. S. 81–82.
(обратно)156
Zahradní slavnost // Spisy. Sv. 2. S. 55–56.
(обратно)157
Ibid. S. 21.
(обратно)158
Ibid. S. 59.
(обратно)159
Antikо́dy // Spisy. Sv. 1. S. 45–46.
(обратно)160
Ibid. S. 97–98.
(обратно)161
Zahradní slavnost // Spisy. Sv. 2. S.176.
(обратно)162
Сinema vérité (фр.) – «правдивое кино», направление, возникшее в кинодокументалистике Франции. – Прим. ред.
(обратно)163
Кафка начал писать роман только пять лет спустя и скорее под впечатлением от пребывания в южночешской деревне Плана с находящимся поблизости замком Штрков.
(обратно)164
Хотя исследователи и литераторы часто характеризуют Кафку как визионера-мистика, многие жители Праги XX века могли бы по праву назвать его приземленным реалистом.
(обратно)165
http://www.english.illinois.edu/maps/poets/g_l/ginsberg/life.htm
(обратно)166
Майалес («майский») – праздник чешского студенчества, радующегося приходу мая. – Прим. пер.
(обратно)167
Ginsberg A. King May // Selected Poems. Harper Collins, 2001. P. 147.
(обратно)168
Dopis Janu Grossmanovi, nedatováno, počátek šedesátých let. KVH ID 6538.
(обратно)169
Kaiser (2009). S. 56.
(обратно)170
Rozhovor s Pavlem Landovským, 20. října 2012.
(обратно)171
Kopecký J. Čtyři divadelní večery // Rudé právo. 14.12.1963.
(обратно)172
Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů, 9. června 1967 // Spisy. Sv. 3. S. 676.
(обратно)173
Ibid.
(обратно)174
Josef Čapek. 1963 // Spisy. Sv. 3. S. 547.
(обратно)175
Ibid. S. 542–543.
(обратно)176
Ibid. S. 546.
(обратно)177
Тext do katalogu výstavy Jiřího Janečka, 1963 // Spisy. Sv. 3. S. 613–614.
(обратно)178
Зав. отделом международной политики ЦК КПЧ.
(обратно)179
Название журнала было навеяно одноименным сборником Франтишека Галаса 1931 г. «Лицо» (по-чешски Tvář), характеризующимся метафизическим настроением, ср: «Ночь вопрошает меня / не забыл ли ты – дай ответ – / того полного тайны дня / когда вышел из тьмы ты на свет…»
(обратно)180
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 777.
(обратно)181
Ibid. S. 778.
(обратно)182
Kaplan (1997), цит. также в: Kaiser (2008). S. 57.
(обратно)183
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 789.
(обратно)184
Ibid.
(обратно)185
Ibid. S. 790.
(обратно)186
Об этом см., например, беседу с Петром Питгартом 28 августа 2012 г.
(обратно)187
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 778.
(обратно)188
Ibid. S. 784.
(обратно)189
Типографскую бумагу, как и типографское дело вообще, режим считал стратегическим инструментом и распределял ее в соответствии со строго регламентированными квотами на конкретные цели.
(обратно)190
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 779.
(обратно)191
Ibid. S. 792.
(обратно)192
Ibid. S. 794.
(обратно)193
TOMIS III. Archiv bezpečnostních sborů. Praha, № 597862. S. 23.
(обратно)194
Smlouva: Filmové studio Barrandov – Václav Havel, 03.02.1964. KVH ID 17759.
(обратно)195
Ibid, 14.02.1964. KVH ID 17759.
(обратно)196
Ibid, 25.11.1963. KVH ID 17760.
(обратно)197
Smlouva: Filmové studio Barrandov – Václav Havel, 04.05.1964. KVH ID 17755.
(обратно)198
Ibid, 01.06.1964. KVH ID 17753.
(обратно)199
Zahradní slavnost. Literární scénář. KVH ID 16222.
(обратно)200
Dopis Jiřímu Kolářovi, 29. listopadu 1964. Památník národního písemnictví. KVH ID 13795.
(обратно)201
Vyrozumění // Spisy. Sv. 2. S. 152.
(обратно)202
Opavský J. Vyrozumění v jazyce ptydepe // Rudé právo. 29.09.1965.
(обратно)203
Černý J. Lidová demokracie. 1965.
(обратно)204
Vyrozuměni // Spisy. Sv. 2. S. 187–188.
(обратно)205
Ibid. S. 195.
(обратно)206
Vyrozuměni // Spisy. Sv. 2. S. 169.
(обратно)207
Larkin F. Annus Mirabilis.
(обратно)208
4. Sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 1968.
(обратно)209
Kaplan (1997).
(обратно)210
4. Sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 1968 (курсив автора).
(обратно)211
D álkový výslech // Spisy. Sv. 2. S. 801.
(обратно)212
Ibid.
(обратно)213
Ibid.
(обратно)214
Ibid. S. 804.
(обратно)215
Spisy. Sv. 3. S. 830–843.
(обратно)216
Это на страницах журнала «Тварж» предлагал молодой экономист по имени Вацлав Клаус.
(обратно)217
Уже в мае 1968 г. статья была подвергнута критике в «Литературной газете».
(обратно)218
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 802.
(обратно)219
Ibid. S. 801.
(обратно)220
Spisy. Sv. 2. S. 257–320.
(обратно)221
Rozhovor s Andrejem Krobem a Annou Freimanovou, 21.října 2012.
(обратно)222
Не надо быть психоаналитиком, чтобы задаться вопросом, почему имя робота совпадает с домашним прозвищем брата Вацлава Гавела, Ивана.
(обратно)223
Ztížená možnost soustředění // Spisy. Sv. 2. S. 317. Здесь и далее цит. по: Гавел В. Трудно сосредоточиться. М.: Художественная литература, 1990. С. 168. Перевод И. Бернштейн.
(обратно)224
Gussow М. Theater: Ironic Computer // The New York Times. 5.12.1969.
(обратно)225
Dopis Josefu Šafaříkovi, 1. února 1968 // Archiv Masarykovy university v Brně. KVH ID 13801.
(обратно)226
Rozhovor s Janem Procházkou // Divadelní noviny. 14.02.1968.
(обратно)227
Spisy. Sv. 2. S. 197–218.
(обратно)228
Ibid. S. 219–256.
(обратно)229
Prosím stručně. Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Praha: Galén 2011. S. 177.
(обратно)230
Zpráva o mé účasti na plese železničářů // Spisy. Sv. 4. S. 199.
(обратно)231
Настоящее имя Джорджа Оруэлла.
(обратно)232
Хоть и неправда, но хорошо придумано (ит.). – Прим. пер.
(обратно)233
Videointerview Petra Jančárka, 17.08.2008 // www.ihned.cz
(обратно)234
Keane (1999). S. 139–144.
(обратно)235
Дедушку Вацслава наверняка порадовало бы, что театр был назван по имени одной благотворительницы, которая прославилась как медиум, передающий стихи своего покойного мужа посредством спиритической таблицы.
(обратно)236
Videointerview Petra Jančárka, 17.08.2008 // www.ihned.cz
(обратно)237
Kaiser (2009). S. 74.
(обратно)238
Literární listy. № 18. 1968.
(обратно)239
Ibid.
(обратно)240
Брежнев, по-видимому, настолько верил собственной пропаганде, что опасался за свою безопасность в случае, если бы он пересек границу и ступил на землю обезумевшей страны. Опасения его чехословацких коллег в отношении другой стороны могли основываться на более веских исторических прецедентах.
(обратно)241
Videointerview Petra Jančárka, 17.08.2008 // www.ihned.cz
(обратно)242
Stanice Vltava, zřejmě 26. srpna 1968 // http://www.rozhlas.cz/historie/1968/ zprava/socialisticky-hlas-pravdy-siril-bludy-773265
(обратно)243
Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968 // Spisy. Sv. 3. S. 848.
(обратно)244
Všem občanům! // Spisy. Sv. 3. S. 857–858.
(обратно)245
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 815.
(обратно)246
Dopis Alfredu Radokovi, 14. března 1969. KVH ID10863.
(обратно)247
Antikо́dy II, сентябрь 1989 // Spisy. Sv. 1. S. 335.
(обратно)248
Ibid. S. 338.
(обратно)249
Vystoupení V áclava Havla k Palachovi, 21. ledna 1969, Československá televize. KVH ID6495.
(обратно)250
Ibid.
(обратно)251
Ibid.
(обратно)252
Kundera M. Český úděl // Listy. 1968. № 7–8.
(обратно)253
Ibid.
(обратно)254
Ibid.
(обратно)255
Ibid.
(обратно)256
Český úděl? // Tvář. № 2. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 889.
(обратно)257
Ibid. S. 893.
(обратно)258
Ibid. S. 894–895.
(обратно)259
Ibid. S. 895.
(обратно)260
Český úděl? // Tvář. № 2. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 896.
(обратно)261
Masaryk T.G. Česká otázka // Spisy. Sv. 6. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2000.
(обратно)262
Kundera M. The Tragedy of Central Europe // The New York Review of Books, 26.04.1984 (по просьбе автора статья не включена в цифровой архив The New York Review of Books).
(обратно)263
Dopis Janu Vladislavovi, 30. 06.1984 // Národní muzeum, Československé dokumentační středisko. KVH ID13966.
(обратно)264
Hradilek A. Třešňák P. Udání Milana Kundery // Respekt. № 42. 2008.
(обратно)265
Respekt. 21. října 2008.
(обратно)266
Zvláštní příhoda // Listy. № 4. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 880–885.
(обратно)267
Kaiser (2009). S. 81–82.
(обратно)268
Dopis Alexandru Dubčekovi, 9. srpna 1969 // Spisy. Sv. 3. S. 928–929.
(обратно)269
D álkový výslech // Spisy. Sv. 3. S. 820–821.
(обратно)270
Ludvík Vaculík v dopise Ústavu pro soudobé d ějiny, 8. srpna 1990 // Ústav pro soudobé dějiny.
(обратно)271
D álkový výslech // Spisy. Sv. 3. S. 817.
(обратно)272
Dopis Jiřímu Paukertovi, 22. dubna 1970. KVH ID1645.
(обратно)273
Впрочем, фамилии Затопека на копии документа в KVH ID17709 нет.
(обратно)274
M ěstský soud Praha, 6. července 1970. KVH ID17779; Nejvyšší soud, 26. srpna 1970. KVH ID17780; Městský soud Praha, 4. září 1970. KVH ID17718.
(обратно)275
Аntonín Kašpar Václavu Havlovi, 14. Října. KVH ID17638.
(обратно)276
Dopis Alfrédu Radokovi, 9. ledna 1971. KVH ID10862.
(обратно)277
Dopis Alfrédu Radokovi, 25. prosince 1969. KVH ID10861.
(обратно)278
Dopis Jiřímu Paukertovi, 26. prosince 1970. KVH ID1647. О смерти матери говорится и в переписке обоих братьев (см.: Rozhovor s Ivanem M. Havlem 14. května 2014).
(обратно)279
Listář I // Spisy. Sv. 3. S. 898.
(обратно)280
Juráček (2003). S. 801.
(обратно)281
Ibid. S. 802.
(обратно)282
Kaiser (2009). S. 87. Поскольку в обоих случаях местом действия выступает салон Мухи, вполне возможно, что речь идет об одном и том же инциденте, который тот или другой автор описал неверно.
(обратно)283
Dopis Alfrédu Radokovi, 25. prosince 1969. KVH ID10860.
(обратно)284
1970. KVH ID16223.
(обратно)285
1970. KVH ID25597.
(обратно)286
«Тузекс» (Tuzex) – сеть государственных магазинов, существовавшая в Чехословакии с 1957 по 1992 г., аналог советской «Березки». В магазинах не принималась чехословацкая крона – все покупки осуществлялись на ваучеры (боны), покупаемые за иностранную валюту. В продаже были предметы роскоши: товары, находившиеся в дефиците, в частности, иностранные. – Прим. пер.
(обратно)287
«Трата денег, создание “очага”, о которых я писал, это, конечно же (я не так глуп, чтобы этого не видеть), своего рода бегство» // Dopis Alfrédu Radokovi, nedatováno, 1972 г. KVH ID10850.
(обратно)288
Dopis Václavu M. Havlovi ze sedmdesátých let // Archiv Ivana M. Havla, (недавняя находка).
(обратно)289
Dopis Alfrédu Radokovi, bez data, 1972. KVH ID10849.
(обратно)290
Dopis Alfrédu Radokovi, 3. října 1972. KVH ID10859.
(обратно)291
Dopis Josefu Šafaříkovi, 3.října 1972. KVH ID13811.
(обратно)292
В очередном письме Альфреду Радоку от 1972 г. без даты (KVH ID10850) Гавел благодарит А. Радока за то, что тот прислал ему соевый соус, и просит еще загадочную смесь пряностей под названием salad seasoning, которая ему понравилась в США, впрочем, не будучи уверен, можно ли ее достать в Швеции.
(обратно)293
Rozhovor s Pavlem Kohoutem 22. října 2012.
(обратно)294
Dopis Jiřím Paukertovi, 15. června 1970. KVH ID1646.
(обратно)295
Почти полный список гостей Гавела в этот период содержит «Заочный допрос». См: Dálkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 823.
(обратно)296
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 821.
(обратно)297
Ibid. S. 824.
(обратно)298
Ibid. S. 822.
(обратно)299
Dopis Alfredovi Radokovi, 1. Února 1972. KVH ID10849.
(обратно)300
Dopis Alfrédu Radokovi, bez data 1972. KVH ID10850.
(обратно)301
Послесловие автора к книге: Hry 1970–1976. Toronto: 68 Publishers, 1977. Перепечатано в: Spisy. Sv. 4. S. 152.
(обратно)302
Dopis Tomovi Stoppardovi, 28. ledna 1984. KVH ID22548. См. также: Dálkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 822.
(обратно)303
Рlus ça change (plus c’est la même chose) – Чем больше что-то изменяется (тем больше это остается тем же самым) (фр.) т. е. «ничто не ново под луной». – Прим. пер.
(обратно)304
Komentář ke hře Spiklenci // Spisy. Sv. 4. S. 7–60. Оригинал хранится в архиве Веры Блэкуэлл, переводчицы Гавела, состоявшей с ним в переписке, в собрании редких книг и рукописей Колумбийского университета в Нью-Йорке.
(обратно)305
Dopis Josefu Šafaříkovi, 3. října 1972 // Archiv Masarykovy Univerzity, Brno. KVH ID13811.
(обратно)306
Dopis Olze №. 71. 13. března 1981 // Spisy. Sv. 5. S. 272.
(обратно)307
Rocamora (2004). S. 112.
(обратно)308
Komentář ke hře Spiklenci // Spisy. Sv. 4. S. 11.
(обратно)309
Ibid. S. 12.
(обратно)310
Ibid. S. 17.
(обратно)311
Komentář ke hře Spiklenci // Spisy. Sv. 4. S. 39–40.
(обратно)312
См., например, «Премия Соннинга» (Sonningova cena) // Spisy. Sv. 6. S. 360–367.
(обратно)313
Dopis Alfrédu Radokovi, 27. рrosince 1993 // Archiv Davida Radoka. KVH ID10851.
(обратно)314
Horský hotel // Spisy. Sv. 2. S. 615. Здесь и далее русский перевод цитируется по книге: Гавел В. Гостиница в горах / пер. И. Безруковой. М.: МИК, 2000.
(обратно)315
Horský hotel,// Spisy. Sv. 2. S. 595.
(обратно)316
Dopis Olze № 71 // Spisy. Sv. 5. S. 275.
(обратно)317
Послесловие автора к книге «Пьесы 1970–1976» (Toronto: 68 Publishers, 1977) перепечатано в: Spisy. Sv. 4. S. 157.
(обратно)318
В России получила известность немецкая версия этой чешской польки, «Розамунда». – Прим. пер.
(обратно)319
Dopis Alfrédu Radokovi, 27. prosince 1973. KVH ID10851.
(обратно)320
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 824.
(обратно)321
Ibid.
(обратно)322
На эту тему Гавел написал в день первого апреля 1978 г. заметку «§ 203». Cм.: Spisy. Sv. 4. S. 206–214.
(обратно)323
Dopis Alfrédu Radokovi, 18. února 1973. KVH ID10852.
(обратно)324
Kaiser (2009). S. 94.
(обратно)325
Dopis Alfrédu Radokovi, 2. prosince 1974. KVH ID10854.
(обратно)326
Ibid.
(обратно)327
Audience // Spisy. Sv. 2. S. 548. Русский перевод здесь и далее цит. по: Аудиенция // Гавел В. Трудно сосредоточиться / пер. М. Семеновой. М.: Художественная литература, 1990.
(обратно)328
Ibid. S. 550.
(обратно)329
Merta V.Natáčení // Audience. 17.10.2012 (архив автора).
(обратно)330
Ibid.; см. также: Dálkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 826.
(обратно)331
В английском переводе и в англоязычных постановках Бедржих, который, несомненно, является «двойником» главного персонажа-интеллектуала из «Аудиенции», именуется Ванеком. Обе эти одноактные пьесы часто и ставятся вместе, иногда еще с третьей «ванековской» пьесой под названием «Протест».
(обратно)332
Pražský rozhlas kritizuje Vídeň kvůli Havlovi // Svobodná Evropa. 19.10.1976.
(обратно)333
Громкая история (фр.) – зд. известная личность. – Прим. пер.
(обратно)334
«Seine Freiheit, unsere Freiheit» // Die Presse. 11.10.1976. S. 5.
(обратно)335
Dopis Pavlu Kohoutovi, duben 1976 // Moravské zemské muzeum. KVH ID32921.
(обратно)336
Dopis Alfrédu Radokovi, 8. ledna 1972. KVH ID10850.
(обратно)337
Interview s Janem Kačerem // Rocamora (2004). S. 126.
(обратно)338
Роберт Уолпол (1676–1745) был первым лордом казначейства и лидером палаты общин британского парламента (должность премьер-министра тогда еще официально не существовала).
(обратно)339
Gay J. The Beggar’s Opera. London: William Heinemann, 1921. S. 91.
(обратно)340
Dopis Alfrédu Radokovi, 3. července 1975. KVH ID10855.
(обратно)341
Žebrácká opera // Spisy. Sv. 2. S. 517.
(обратно)342
Dopis Alfrédu Radokovi, 3. července 1975. KVH ID10855.
(обратно)343
Dopis Gustavu Husákovi, 8. dubna 1975 // Spisy. Sv. 4. S. 69.
(обратно)344
Ibid. S. 71.
(обратно)345
Ibid. S. 72.
(обратно)346
Ibid. S. 79.
(обратно)347
Ibid. S. 75.
(обратно)348
Ibid. S. 82.
(обратно)349
Ibid. S. 95.
(обратно)350
Ibid. S. 97.
(обратно)351
Ibid. S. 98–99.
(обратно)352
Fukuyama Y.F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.
(обратно)353
Shawcross (1990). S. 211; Benčík (2012). S. 101–103.
(обратно)354
Benčík (2012). S. 104.
(обратно)355
Le Monde. 29.06.1975.
(обратно)356
The New York Review of Books. 30.10.1975.
(обратно)357
Benčík (2012). S. 111.
(обратно)358
Kaiser (2009). S. 99.
(обратно)359
Usnesení předsednictva ÚV KSČ z 18. dubna 1975 // Benčík (2012). S. 100.
(обратно)360
Ibid.
(обратно)361
29 сентября 1975 г. Гавел написал Кробу письмо, в котором к радости от того, что пьеса будет поставлена, примешиваются едва скрываемые сомнения относительно способностей режиссера-любителя и его любительской же труппы. См.: Freimanová (2012). S. 500–510.
(обратно)362
Svazek StB vedený na Andreje Kroba // Kaiser (2009). S. 100.
(обратно)363
Kriseová (1991). S. 63.
(обратно)364
Dopis Zdeňkovi Urbánkovi, 15. října 1975. KVH5495.
(обратно)365
Rozhovor s Annou Freimanovou a Andrejem Krobem 15. prosince 2012.
(обратно)366
Fakta o představení Žebrácké opery, 25. prosince 1975 // Spisy. Sv. 4. S. 124.
(обратно)367
Например, он играл в спектаклях «Регтайм», «Народ против Ларри Флинта», «Мастер и Маргарита» в нью-йоркском «Публичном театре», «Largo Desolato» в Йельском репертуарном театре и др.
(обратно)368
Žebrácká opera // Spisy. Sv. 2. S. 514–515.
(обратно)369
Этот термин используется здесь в расширительном смысле: им обозначается рок, современный блюз, фолк-рок и целый ряд гибридных жанров и смешанных форм.
(обратно)370
Ptáčník P. První festival druhé kultury // Sborník Archivu bezpečnostních složek. 5/2007. S. 343–351.
(обратно)371
Jirous I.M. Zpráva o třetím českém hudebním obrození // Jirous (1997). S. 197. Здесь и далее цит. по: Ироус И.М. Отчет о третьем чешском музыкальном возрождении / пер. И. Безруковой // Книжное обозрение. 2007. С. 103.
(обратно)372
D álkový výslech // Spisy. Sv. Sv. 4. S. 829.
(обратно)373
Ibid. S. 829.
(обратно)374
Ibid. S. 830.
(обратно)375
Vullamy E. Children of the Revolution // The Observer. 6.09.2009.
(обратно)376
D álkový výslech // Spisy. Sv. Sv. 4. S. 832.
(обратно)377
Zbytečná starost // Rudé právo. 8. dubna 1977. Этот перечень смертных грехов в действительности был позаимствован из восторженного описания Ироусом концерта группы Милана Книжака «Аккорд», которой волна арестов вообще не коснулась. Видимо, это никого не смущало.
(обратно)378
Otevřený dopis Dr. Gustávu Husákovi. 8. dubna 1977. KVH ID5519.
(обратно)379
Prohlášení. 12.06.1976 // Komeda et al. (2012). S. 145.
(обратно)380
Dopis Henrichu Böllovi. 28.08.1976 // Перепечатка в: Komeda et al. (2012). S. 146.
(обратно)381
Dopis H. Bölla J. Seifertovi, 6.09.1976 // Ibid. S. 148.
(обратно)382
Dopis Henrichu Böllovi // Ibid. S. 146–147.
(обратно)383
«Proces», 11. října 1976 // Spisy. Sv. 4. S. 135–142.
(обратно)384
Ibid. S. 135.
(обратно)385
Ibid. S. 136.
(обратно)386
Ibid. S. 139.
(обратно)387
Ibid. S. 138.
(обратно)388
Ibid. S. 140–141.
(обратно)389
Kohout P. A to byl můj život? Kohout (2011). Sv. 2. Kindle Edition, loc. 5904.
(обратно)390
Согласно Когоуту (Ibid., loc. 5914), окончательный вариант для распространения был завершен 17 декабря.
(обратно)391
C ísařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P1/1. S. 4–7.
(обратно)392
Ibid. P1/3. S. 9–12.
(обратно)393
C ísařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P1/1. S. 11.
(обратно)394
Ibid.
(обратно)395
Ibid. P1/2. S. 8–9.
(обратно)396
Kaiser (2009). S. 117.
(обратно)397
18–19. prosince 1996, Císařovská – Prečan (2007). P1/4. S. 12–15.
(обратно)398
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 838.
(обратно)399
Ibid. S. 839.
(обратно)400
Kaiser (2009). S. 117.
(обратно)401
Vladislav (2012). S. 641.
(обратно)402
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 841.
(обратно)403
Uhl (2013). S. 165.
(обратно)404
Kaiser (2009). S. 119; Suk (2013). S. 51. В «Заочном допросе» Гавел говорит о «приблизительно» десяти сборщиках, однако в книге, опубликованной до 1989 г., такая неопределенность могла быть намеренной, чтобы сбить с толку госбезопасность.
(обратно)405
В книге Кина (Keane,1999) эта встреча перенесена в квартиру на набережной, где Вацлав и Ольга уже несколько лет не жили.
(обратно)406
Число подписавших первую декларацию указывают по-разному: 243, 242 и 241. Последняя цифра, основанная на тщательном исследовании (Císařovská – Prečan. 2007), заслуживает наибольшего доверия.
(обратно)407
Ср., например: Kaiser (2009). S. 118.
(обратно)408
C ísařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P7/11. S. 169.
(обратно)409
Ср.: Uhl (2013). S. 165.
(обратно)410
По сообщению историка Петра Блажека, который имел доступ к архивам Корпуса национальной безопасности, один из трех спикеров, философ Ян Паточка, был вызван на допрос уже 5 января (Historický magazín. Česká televize. 6.06.2007).
(обратно)411
Kaiser (2009). S. 121.
(обратно)412
Не исключено также, что у госбезопасности был и свой осведомитель. Однако в таком случае она все равно ссылалась бы скорее на данные прослушивания, чтобы не раскрывать этот источник.
(обратно)413
Rozhovor s Pavlem Kohoutem, 22. října 2012.
(обратно)414
Гавел вообще-то написал стостраничный отчет об истории создания «Хартии» и ее продолжении, но спрятал его так надежно, что потом уже больше не нашел (Dálkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 845–846).
(обратно)415
Kriseová (1991). S. 76–77. Другие, почти совпадающие описания можно найти в кн.; Landovský (2010). S. 227–230, и в беседе с Павлом Ландовским от 20 октября 2012 г. Последующее изложение основано на всех трех источниках.
(обратно)416
Rozhovor s Pavlem Landovským, 20. října 2012.
(обратно)417
Zvláštní informace. № 7. 13. ledna 1977 // Archiv Ministerstva vnitra. V-33766 MV. S. 239–260, Císařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P9/3. S. 212.
(обратно)418
Kriseová (1991). S. 76.
(обратно)419
Ibid.
(обратно)420
Kriseová (1991). S. 77.
(обратно)421
Ibid.
(обратно)422
Ibid.
(обратно)423
Ibid. S. 78.
(обратно)424
Kohout (2011), loc. 5924‒5932; Rozhovor s Pavlem Kohoutem, 22. října 2012.
(обратно)425
Kaiser (2009). S. 122.
(обратно)426
Usnesení předsednictva ústředního výboru KSČ k Prohlášení Charty 77 s úkoly pro představitele justice a prokuratury ČSSR č. VIII FG a 0022/77. Císařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P7/3. S. 143, facsimile. S. 408.
(обратно)427
Čí je to zájem // Rudé právo, 7.01.1977. S. 2.
(обратно)428
Ibid.
(обратно)429
Ibid.
(обратно)430
Ztroskotanci a samozvanci // Rudé právo, 12.01.1977.
(обратно)431
26 января 1977 г. свою подпись отозвал Иржи Заруба (См.: Císařovská – Prečan, 2007. Sv. 3. S. 377).
(обратно)432
Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru // Rudé právo. 29. ledna 1977. S. 1.
(обратно)433
Interní expertíza k možnosti pracovně-právně postihnout signatáře Charty 77. Císařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P9/5. S. 216.
(обратно)434
Merta V. O nahrávání «Audience» // Archiv autora.
(обратно)435
Usnesení o zahájení trestního stíhání, 16.01.1977; Vyšetřovací a trestní spis proti obviněnému Václavu Havlovi. V32021MV/7. S. 3 // KVH ID 3015.
(обратно)436
Vladislav (2012). S. 21.
(обратно)437
Čím je a čím není «Charta 77». 7.01.1977 // Císařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P3/4. S. 36–38.
(обратно)438
Ibid. S. 36.
(обратно)439
Poslední rozhovor (текст написан в тюрьме в Рузине). 1.05.1977 // Spisy. Sv. 4. S. 171–176.
(обратно)440
Ibid.
(обратно)441
Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování // Císařovská – Prečan (2007). Sv. 3. P3/7. S. 54.
(обратно)442
Stanovisko k prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. února 1977 o nezákonnosti Charty 77 // Ibid. P3/8. S. 55–57.
(обратно)443
Агент ГБ, который в течение четверти века следил за профессором, будто бы предлагал произнести речь над его могилой, так как он знал о покойном больше всех остальных. Этот малодостоверный рассказ приведен в книге Э. Крисеовой, см.: Kriseová (1991). S. 85.
(обратно)444
При этом, однако, из «Плана следствия» в Следственном и уголовном деле обвиняемого Вацлава Гавела следует, что ГБ подумывала о том, чтобы вменить ему также письмо доктору Гусаку от 1975 г. в соответствии с § 103 УК.
(обратно)445
V32021MV/7. KVH ID 3015. S. 32.
(обратно)446
Dopis Olze № 138 // Spisy. Sv. 5. S. 564.
(обратно)447
Vyšetřovací a trestní spis proti obviněnému Václavu Havlovi // V32021MV/7. S. 162.
(обратно)448
Rudé právo, 21. května 1977. S. 2.
(обратно)449
Dopis Olze № 138 // Spisy. Sv. 5. S. 564.
(обратно)450
Ibid. S. 567.
(обратно)451
Vyšetřovací a trestní spis proti obviněnému Václavu Havlovi // V32021MV/7. S. 26–27. Курсив автора.
(обратно)452
Ibid. S. 28, 28a, 29.
(обратно)453
Ibid. S. 165.
(обратно)454
Landovský (2010). S. 226. Несколько иначе этот эпизод подан в книге Кайзера, см.: Kaiser (2009). S. 139.
(обратно)455
Archiv Ministerstva vnitra. V-33766. Sv. 10. S. 161–164. Цит. по: Císařovská – Prečan (2007). Sv.1. D15. S. 44.
(обратно)456
C ísařovská – Prečan (2007). Sv.1. D15. S. 44.
(обратно)457
Sdělení o rezignaci Václava Havla na funkci mluvčího Charty // Císařovská – Prečan (2007). Sv. 1. D15. S. 43.
(обратно)458
Prohlášení Václava Havla k souvislostem rezignace na funkci mluvčího Charty 77. 21. května 1977 // Císařovská – Prečan (2007). Sv. 1. D15. S. 43–44.
(обратно)459
Československý rozhlas. 9. března1977.
(обратно)460
Diskuse s Timothy Gertonem Ashem a studenty Oxfordské univerzity, 22. října 1998. KVH ID 17274.
(обратно)461
Kaiser (2009). S. 138.
(обратно)462
Dopis Olze № 138 // Spisy. Sv. 5. S. 565.
(обратно)463
Ibid.
(обратно)464
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 848.
(обратно)465
Dopis Janu Werichovi, 24. července 1977// Národní archiv. KVH ID 20754. Письмо процитировано также в кн.: Kaiser (2009). S. 141.
(обратно)466
§ 202 // Spisy. Sv. 4. S. 190.
(обратно)467
Kohout (2011), loc.16920.
(обратно)468
Kohout (2011), loc.16920.
(обратно)469
Zpráva o mé účasti na plese železničářů // Spisy. Sv. 4. S. 193.
(обратно)470
Sdělení o policejní akci a uvěznění tří signatářů Charty 77 v souvislosti s událostmi na plesu železničářů v Praze 28. ledna 1976 // Císařovská – Prečan (2007). Sv. 1. D43. S. 119.
(обратно)471
Zpráva o mé účasti na plese železničářů // Op. cit. S.199. Вся эта история была достаточно драматической и без ее «сенсационного» и крайне неточного описания, согласно которому Гавел свалился на землю, «оглушенный и истекающий кровью» (см.: Kean 1999. S. 256–257).
(обратно)472
Название группе дало сокращенное обозначение психиатрического диагноза «временное реактивное психическое расстройство лица без ранее диагностированного психического расстройства». Кукул в группе играл на «мусороуборочных инструментах».
(обратно)473
Кайзер в своей книге (Kaiser 2009. S. 142) утверждает, что Гавел и другие были в судебном порядке признаны невиновными, отчасти благодаря «на редкость объективной женщине-прокурору». Здесь, однако, прав другой автор (Kean 1999), который пишет, что суд так и не состоялся. Это уголовное дело в итоге было прекращено только в апреле 1979 года, когда Гавел находился под стражей за соучастие в создании Комитета защиты противоправно преследуемых (см.: Suk (2013). S. 113).
(обратно)474
КОС-КОР (польск. KOS-KOR, Komitet Oporu Spolecznego – Komitet Obrony Robotnikow) – Комитет общественной самообороны – Комитет защиты трудящихся. – Прим. ред.
(обратно)475
Kaiser (2009). S. 114.
(обратно)476
Pavel Landovský. Hovory v Lánech, 30. Listopadu 1990. Praha: Knihovna Václava Havla. S. 360.
(обратно)477
См., например: Suk (2013). 117–120.
(обратно)478
С января 1978 г. проводилась тайная операция госбезопасности с пугающим названием «Санация», вынудившая десятки хартистов уехать за границу. Позже Гавел назвал так одну из своих пьес. (В русском переводе – «Реконструкция». – Прим. пер.)
(обратно)479
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 245. Здесь и далее русский перевод цит. по: Гавел В. Сила бессильных // Мораль в политике. Хрестоматия / пер. И. Шабловской, Л. Вихревой. М., 2004.
(обратно)480
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 236.
(обратно)481
Ibid. S. 249.
(обратно)482
Dizi-rizika. O svobodě a moci. Index: Köln, 1980. S. 281.
(обратно)483
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 295.
(обратно)484
Ibid. S. 303.
(обратно)485
Ibid. S. 293.
(обратно)486
Ibid. S. 303.
(обратно)487
Day (1999); Scruton (2014).
(обратно)488
Kroupa (2011).
(обратно)489
На второй встрече «Хартии-77» в лице Гавела, Бенды, Динстбира и др. с польским КОС-КОРом, который представляли Куронь, Михник, Ромашевский и др., прошедшей в сентябре 1978 г., было решено создать постоянные рабочие группы и пригласить к сотрудничеству правозащитников из всего советского блока. (Komuniké Charty 77 a Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) o druhém československo-polském setkání, Císařovská – Prečan (2007). Sv. 1, D66. S. 163).
(обратно)490
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 306.
(обратно)491
B útora M. Vyvzdorúvanie alebo každodennosť pozitívnych deviantov // Lesk a bieda každodennosti / ed. M. Ač. Bratislava: Smena, 1990.
(обратно)492
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 328.
(обратно)493
Projev prezidenta republiky na smutečním shromáždění k uctění památky prezidenta Václava Havla, 21. рrosince 2011 // www.klaus.cz
(обратно)494
Rozhovor prezidenta Václava Klause pro polský týdeník Do Rzeczy, 11. února 2013 // www.klaus.cz. Когда я обратил его внимание на это противоречие, он ответил, что никакого противоречия здесь не усматривает // Rozhovor s Václavem Klausem 30. srpna 2013.
(обратно)495
См., например: Kaiser (2009). S. 157.
(обратно)496
Moc bezmocných // Spisy. Sv. 4. S. 320.
(обратно)497
Ibid. S. 322.
(обратно)498
Ibid. S. 325.
(обратно)499
Ibid. S. 307.
(обратно)500
Kaiser (2009). S. 159.
(обратно)501
První zpráva o mém domácím vězení, 6. Ledna 1979 // Spisy. Sv. 4. S. 335–336.
(обратно)502
Ibid. S. 335–344; Druhá zpráva o mém domácím vězení // Spisy. Sv. 4. S. 363–374.
(обратно)503
Kriseová (1991). S. 85.
(обратно)504
«Ванековские пьесы» стали настолько популярны, что их героя из чувства солидарности и творческого родства с Гавелом заимствовали для своих текстов и другие авторы: например, Павел Когоут («Аттестат», 1978; «Мокредь», 1981; «Сафари», 1985), Павел Ландовский («Арест», 1983), Иржи Динстбир («Контест», 1978), а позже и Том Стоппард (Рок-н-ролл. 2006). Всего было написано одиннадцать таких пьес, которые исполнялись в десятках постановок и выдержали сотни спектаклей.
(обратно)505
Poznámky o statečnosti // Havel V. O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy, 1990. S. 201.
(обратно)506
Milý pane Ludvíku // Spisy. Sv. 4. S. 345–349. Об уважении, какое оба питали друг к другу, говорит и то, что они подчеркнуто обращались один к другому «пан Людвик» и «пан Вацлав».
(обратно)507
Rozhovor s Annou Freimanovou a Andrejem Krobem 12. prosince 2012.
(обратно)508
Когда Когоута после «Хартии» выселили из квартиры на Градчанах, он нашел временное пристанище в большей частью пустующей квартире Гавелов в Дейвицах.
(обратно)509
Дьюла – собака семьи Гавелов. – Прим. пер.
(обратно)510
Dopis Anny Kogoutové, bez data. KVH ID4210.
(обратно)511
«У нас была очень неплохая “последняя вечеря”, жаль только, что я чересчур “оторвался”, может быть, кому-то это было неприятно» // Dopisy Olze № 1 // Spisy. Sv. 5. S. 13.
(обратно)512
В своей книге Кин загадочно пишет, что гебисты разбудили Гавела рано утром, причем вся эта история сдобрена подробностями, которые расходятся с фактами. Если Гавел и спал, то разве только вздремнул после обеда. См.: Keane (1999).
(обратно)513
Режиссером экранизации этого романа (фильм получил название «Пролетая над гнездом кукушки») стал в 1975 г. подебрадский однокашник Гавела Милош Форман; это первая за 41 год кинолента, собравшая все основные «Оскары».
(обратно)514
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 849.
(обратно)515
Hladovka. Materiály vězeňského systému. KVH ID18121.
(обратно)516
Rocamora (2004). S. 175.
(обратно)517
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 862.
(обратно)518
Kaiser (2009). S. 167.
(обратно)519
Kosatík (2008). S. 147.
(обратно)520
Vladislav (2012). S. 595.
(обратно)521
Kaiser (2009). S. 167.
(обратно)522
Anna Freimanová // Ibid.
(обратно)523
Dopis Olze № 10, facsimile // Památník národního písemnictví. KVH ID2833.
(обратно)524
Следующую строку Гавел зачеркнул, но слова видны: «напр., если бы я какое-то время выждал» // Ibid.
(обратно)525
Dopis Olze № 13 // Spisy. Sv. 5. S. 49.
(обратно)526
Ibid. S. 50.
(обратно)527
Dopis Olze № 15 // Spisy. Sv. 5. S. 76.
(обратно)528
Dopis Olze № 18 // Spisy. Sv. 5. S. 94.
(обратно)529
Kašpar – шут (чеш.). ‒ Прим. пер.
(обратно)530
Spisy. Sv. 5.
(обратно)531
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 851.
(обратно)532
Ibid.
(обратно)533
Ibid. S. 852.
(обратно)534
Kaiser (2009). S. 161.
(обратно)535
Иван М. Гавел и др. (2010).
(обратно)536
Характеристика на заключенного Вацлава Гавела во время отбывания наказания в тюрьме Острава-Гержманицы, Материал службы охраны, 17 июля 1981 г., Национальный архив, KVH ID18061.
(обратно)537
Dopis Olze № 13, 3. listopadu 1979 // Spisy. Sv. 5. S. 56.
(обратно)538
Dopis Olze № 12, bez data // Spisy. Sv. 5. S. 48.
(обратно)539
Dopis Olze № 9, 8. září 1979 // Ibid. S. 31.
(обратно)540
«В мой день рождения ровно в 19 час. вспомни обо мне! Я тоже буду о тебе думать!» // Dopis Olze № 10, 25. září 1979 // Spisy. Sv. 5. S. 38.
(обратно)541
«Никакой я не арлекин», интервью с Ольгой Гавловой // Wilson (2012). S. 142.
(обратно)542
О любовном романе своей матери и Гавела в беллетристической (никак не в документальной!) форме рассказывает бывшая тогда двадцатилетней Боучкова, дочь Павла и Анны Когоутовых. Ее книга вышла в 1991 г.
(обратно)543
Dopis Olze № 13 // Spisy. Sv. 5. S. 61 (курсив автора).
(обратно)544
Dopis Olze № 1 // Ibid. S. 11–14.
(обратно)545
Ibid. S. 14.
(обратно)546
Dopis Olze № 2, faksimile // Památník národního písemnictví. KVH ID2825.
(обратно)547
Dopis Olze № 3, faksimile // Ibid. KVH ID2826.
(обратно)548
Dopis Olze № 4, faksimile // Ibid. KVH ID2827.
(обратно)549
Ivan M. Havel et al. (2010). S. 41.
(обратно)550
Dopis Olze № 6, faksimile // Památník národního písemnictví, KVH ID2829.
(обратно)551
Dopis Olze № 12, faksimile // Spisy. Sv. 5. S. 47.
(обратно)552
Wilson (2012). S. 155.
(обратно)553
Dopis Olze № 13 // Spisy. Sv. 5. S. 56.
(обратно)554
Dopis Olze № 14 // Ibid. S. 66.
(обратно)555
Слушая беседу Гавела на «Би-би-си» с Джоан Блейкуэлл, «любимицей интеллектуалов», а позднее – подругой поклонника и коллеги Гавела Гарольда Пинтера, состоявшуюся в конце июня 1968 г., нельзя избавиться от впечатления, что английский Гавела лучше с тех пор не стал.
(обратно)556
Pedagogickopsychologická charakteristika odsouzeného Václava Havla, 15. ledna 1980 // Národní archiv. KVH ID18114.
(обратно)557
«Václav Havel a Dominik Duka: společný v ýslech», Česká televise // http:// www.ceskatelevize.cz/porady/10389664200-vaclav-havel-a-dominik-duka-spolecny-vyslech/31129838012/
(обратно)558
Urgence ohledně způsobu trestu Václava Havla, 24. února 1981 // ÚSNV-9658-Z/41-81. KVH ID; Městský soud v Praze, 1 T 11/77, 5 března 1981. KVH ID18090.
(обратно)559
Archiv Zdeňka Urbánka, nedávný nález.
(обратно)560
Osobní karta odsouzeného // Národní archiv ČR, KVH ID18040.
(обратно)561
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 858.
(обратно)562
Hodnocení vězně Václava Havla, ÚSNV – 018829 – Z/409,921-81, 14. září 1981 // Národní archiv ČR, VHL ID18063.
(обратно)563
Dopis Olze № 25, 8. března 1980 // Spisy. Sv. 5. S. 106.
(обратно)564
Dopis Olze № 60, // Spisy. Sv. 5. S. 214.
(обратно)565
Дука (korespondence s Ivanem M. Havlem, 29. května 2014) вообще не уверен, что они действительно играли в шахматы, а не делали вид, что играют.
(обратно)566
В своих воспоминаниях о совместном с Гавелом пребывании в Борах Дука в шутку замечает, что суббота была «самым счастливым днем», возможно, потому, что «тюремное начальство состояло из криптосионистов», однако о богослужениях не упоминает // Ivan M. Havel et al. (2010). S. 466–468.
(обратно)567
Dopis Olze № 123 // Spisy. Sv. 5. S. 502.
(обратно)568
См. например: Zdenek Neubauer, Ivan M. Havel et al. (2010). S. 418–419.
(обратно)569
Глубокий анализ этого вопроса можно найти в: Putna (2011). S. 215–221.
(обратно)570
Dopis Olze №. 159, nepublikovaný // Památník národního písemnictví. KVH ID2978.
(обратно)571
Dopis Olze № 68 // Spisy. Sv. 5. S. 255.
(обратно)572
Dopis Olze № 13 // Spisy. Sv. 5. S. 59.
(обратно)573
Havel I.M. et al. (2010). Скромность Ивана лучше всего иллюстрируется названием сборника «Письма от Ольги». Ольга не была автором ни одного из этих писем.
(обратно)574
Либор Фара (1925–1988) – чешский художник, скульптор, сценограф, педагог и дизайнер одежды. – Прим. пер.
(обратно)575
Dopis Olze № 135 // Spisy. Sv. 5. S. 551.
(обратно)576
Dopis Olze № 143 // Spisy. Sv. 5. S. 599.
(обратно)577
Dopis Olze № 138 // Spisy. Sv. 5. S. 565.
(обратно)578
Ibid. S. 567.
(обратно)579
Dopis Olze № 138 // Spisy. Sv. 5. S. 570–571.
(обратно)580
Dopis Olze № 143 // Spisy. Sv. 5. S. 599.
(обратно)581
Dopis Olze № 144 //Spisy. Sv. 5. S. 605.
(обратно)582
Dopis Olze № 145, 11. září 1982, nepublikováno // Památník národního písemnictví. KVH ID2966.
(обратно)583
Dopis Olze № 153 6. listopadu 1982, nepublikováno // Památník národního písemnictví. KVH ID2973.
(обратно)584
Dopis Olze № 154, 13. listopadu 1982, nepublikováno // Památník národního písemnictví. KVH ID2974.
(обратно)585
Dopis Olze № 164, 30. ledna 1983, nepublikováno // Památník národního písemnictví. KVH ID2984.
(обратно)586
Eskortní příkaz, 28. ledna 1983// Národní archiv ČR. KVH ID18125.
(обратно)587
Dopis Olze № 165, 5. února 1983, nepublikováno // Památník národního písemnictví. KVH ID2985.
(обратно)588
Dopis Pavlu Kohoutovi, 20. března 1983 // Národní muzeum, Československé dokumentační středisko. KVH ID13988.
(обратно)589
Dopis Samuelovi Beckettovi, 17. dubna 1983 // Archiv Františka Janoucha. KVH ID5852.
(обратно)590
Dopis Pavlu Kohoutovi, 27. června 1983. KVH ID13979.
(обратно)591
Spisy. Sv. 2. S. 675–684.
(обратно)592
Plamen. № 6. 1964. S. 115–116. KVH ID608.
(обратно)593
Dopis Pavlu Kohoutovi, 27. června 1983 // Národní muzeum. Československé dokumentační středisko. KVH ID13979.
(обратно)594
В 1988 г. как-то утром, возвращаясь с очередной вечеринки, Гавел разоткровенничался (что частенько случается, когда двое мужчин останавливаются у забора) и сказал: «Когда я хотел всех этих женщин, меня хотела одна только Ольга. А теперь, когда я могу получить едва ли не каждую, именно Ольга меня и не хочет».
(обратно)595
См., например: Dopis Věry Blakewellové Tomu Stoppardovi, 28. září 1983 // Národní archiv ČR. KVH ID26497.
(обратно)596
Dopis Olze № 40 // Spisy. Sv. 5. S. 146.
(обратно)597
Poznámky ke hře «Largo desolato» // Spisy. Sv. 4. S. 499.
(обратно)598
Poznámky ke hře «Largo desolato» // Spisy. Sv. 4. S. 502.
(обратно)599
Все, что изложено в предыдущем и последующем абзацах, написано, главным образом, на основании нескольких бесед с Иткой Воднянской (2012). У Ольги, которая к тому времени уже умерла, и у Анны, которая на момент написания моей книги плохо себя чувствовала, могли быть, разумеется, иные взгляды на ситуацию.
(обратно)600
Dopis generálnímu prokurátovi, 25. srpna 1985 // Národní muzeum. Československé dokumentační středisko. KVH ID10955.
(обратно)601
Rozhovor s Rogerem Scrutonem, 24. ledna 2013.
(обратно)602
Kaiser (2009). S. 184.
(обратно)603
Bech in Czech (1985), опубликовано как составная часть Bech at Bay (1998).
(обратно)604
Рот увековечил свою поездку в Прагу в «Пражской оргии» (1985), которая являет собой эпилог трилогии о Цукермане.
(обратно)605
Еще раньше, в 1969 г., в квартире Либора Фары Гавел встретился с Артуром Миллером, чья пьеса «Потолок архиепископа» (1977) основана на встрече с Гавелом, Павлом Когоутом и другими «банкротами».
(обратно)606
Rozhovor s Williamem a Wendy Luers // Washington Depot. 13.04.2013; Korespondence s Williamem Luersem, 19. a 22. dubna 2013.
(обратно)607
Gussow M. Edward Albee: A Singular Journey. New York: Simon and Shuster, 1999. S. 332–333; Rozhovor s Williamem a Wendy Luers // Washington Depot. 13.04.2013; аutorská korespondence s Williamem Luersem, Karlem Schmidtem a Billem Kehlem, 2013.
(обратно)608
Tureček R. Neoficiální informační kanály mezi Československem a Západem v období 1969–1989 se zaměřením na tzv. kurýrní cestu, magisterská práce.Masarykova univerzita: Brno 2010. S. 72.
(обратно)609
Čelko V. 244 plus dva dopisy; Havel a Prečan (2011).
(обратно)610
В то время – примерно 100 000 чехословацких крон.
(обратно)611
Suk J. Podrobná zpráva o paralelní polis // Havel а Janouch (2007). S. 9–29.
(обратно)612
Ibid. S. 14.
(обратно)613
Однако вышесказанное было в полной мере справедливо только для жителей Праги и других крупных городов. Судя по вспыхнувшим после революции дискуссиям, многим провинциальным диссидентам доступ к этим источникам финансирования был затруднен.
(обратно)614
Конечно, в этой теневой разветвленной финансовой сети, в которой участвовали очень многие щедрые и храбрые частные лица и целые группы, наряду с каналом Яноуха существовали и другие, но его канал был самым важным и – для рассказа о Вацлаве Гавеле – основным.
(обратно)615
Dopis Františku Janouchovi. № 153, 12. října 1987 // Havel a Janouch (2007). S. 345.
(обратно)616
Seznam trvalých příkazů pro rok 1986 // KVH ID5444.
(обратно)617
Сокращение от имени Винцент. – Прим. пер.
(обратно)618
Havel a Janouch (2007). S. 289. «Друзья-специалисты» – это, разумеется, брат Иван и его жена Дагмар, оба математики и специалисты по компьютерам. Несчастный пан Б. – это Вацлав Бенда. EPROM – это Erasable Programmable Read-Only Memory, чип памяти, который сохраняет информацию и после отключения питания.
(обратно)619
Dopis Františka Janoucha Václavu Havlovi № 78, 23. dubna 1985 // Havel a Janouch (2007). S. 167.
(обратно)620
Dopis Františku Janouchovi č. 80, 14. května 1985 // Ibid. S. 174.
(обратно)621
Rozhovor s Rogerem Scrutonem, 24. ledna 2013.
(обратно)622
Dopis Františku Janouchovi № 122, 3. srpna 1986 // Havel a Janouch (2007). S. 268.
(обратно)623
Dopis Františku Janouchovi № 126, 6. září 198 // Ibid. S. 281.
(обратно)624
30. května 1983 // Císařovská a Prečan (2007); Sv. 1. D243. S. 519.
(обратно)625
12. června 1983 // Císařovská a Prečan (2007); Sv. 1. D244. S. 520.
(обратно)626
Spisy. Sv. 4. S. 523–561.
(обратно)627
Ibid. S. 548.
(обратно)628
Ibid. S. 549.
(обратно)629
Spisy. Sv. 4. S. 549–550.
(обратно)630
Ibid. S. 550.
(обратно)631
Ibid. S. 551.
(обратно)632
Разрядка и Восточная политика, т. е. политике разрядки международной напряженности и нормализации отношений между ФРГ и ГДР. – Прим. пер.
(обратно)633
13. srpna 1984. // Havel a Prečan (2011). S. 216–217.
(обратно)634
Vaculík (1990). S. 325.
(обратно)635
Dopis Josefu Škvoreckému, 1. září 1983 // Hoover Institution Archives, KVH ID33246.
(обратно)636
Odpovědnost jako osud // Spisy. Sv. 4. S. 407.
(обратно)637
Людвик Вацулик скончался в 2015 г. в возрасте 88 лет – Прим. пер.
(обратно)638
Dopis Františku Janouchovi № 95, 8. prosince 1985 // Havel a Janouch (2007). S. 200.
(обратно)639
Dopis Vilému Prečanovi č. 121, 14. září 1985 // Havel a Prečan (2011). S. 353.
(обратно)640
Dopis Pavlu Landovskému, 16. března 1986. KVH ID16216.
(обратно)641
Ibid.
(обратно)642
Ibid.
(обратно)643
Bratinka et al. (2010).
(обратно)644
Например, Иван М. Ироус, см.: Jirous I.M. Havlovy hlubiny, Vokno 11.1986, KVH ID4302.
(обратно)645
Подробнее о журнале «О дивадле» см.: Kriseová (1991). S. 133–135, а также письмо Гавела Яноуху от 7 июля 1986 г. (Havlův dopis Janouchovi, 7. čevence 1986 // Havel a Janouch (2007). S. 263).
(обратно)646
Projev na slavnostním předávání cen Erazma Rotterdamského, 22. ledna 1986 // Spisy. Sv. 4. S. 612.
(обратно)647
«У меня самого достаточно популярности и наград, больше, чем я того заслуживаю» // Dopis Františku Janouchovi № 67. 25. ledna 1985 // Havel a Janouch (2007).
(обратно)648
Vyjádření k udělení ceny Erasma Rotterdamského, 1986. KVH ID5456.
(обратно)649
Dopis Františku Janouchovi № 126, 6. září 1986 // Havel a Janouch (2007). S. 281.
(обратно)650
Rede unerwünscht // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 20.10.1986.
(обратно)651
D ěkovná řeč // Spisy. Sv. 4. S. 616.
(обратно)652
Setkání s Gorbačovem, červenec 1987 // Spisy. Sv. 4. S. 963. Русский перевод цит. по: Встреча с Горбачевым // Иностранная литература. № 9. 2013 (перевод И. Безруковой).
(обратно)653
Как и в других своих пьесах, Гавел называл персонажей именами друзей и знакомых. На самом деле Плеханов был чешским системным аналитиком русского происхождения. Позднее Гавел поручил ему создать первую компьютерную сеть и систему для обработки документации в президентской канцелярии.
(обратно)654
Freimanová А. O Asanaci. 2012. S. 587.
(обратно)655
Ibid. S. 589.
(обратно)656
Кафка Ф. Размышления о грехе, страдании, надежде и об истинном пути.
(обратно)657
Prase, aneb Václav Havel’s Hunt for a Pig. Praha // Gallery 2010. S. 11.
(обратно)658
Включая и автора этих строк, одного из первых обитателей лагеря.
(обратно)659
Kolektivní rozhovor v Hornosíně, 23. července 2012.
(обратно)660
Первые номера этого издания, когда его авторы еще не знали, куда это все может их завести, назывались «Одной ногой» (Jednou nohou).
(обратно)661
Pospihal P. Nekrolog Augustina Navrátila // http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_ navratila.php
(обратно)662
Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, 2. března 2012.
(обратно)663
Popis mého psacího stolu. Hradeček, 1988 // Spisy. Sv. 4. S. 1070.
(обратно)664
Wise M. Police round up dissidents to block protest // Reuters News. 27.10.1988.
(обратно)665
Криесова в своей книге указывает другую дату, 10 ноября (см.: Kriseová. 1991. S. 139).
(обратно)666
Приведенная цитата и другие детали взяты из статьи «Пражская реклама» (см.: Ash T.G The Prague Advertisement // The New York Review of Books. 22.12.1988).
(обратно)667
Police roundup to block Prague seminar nets over 40 dissidents) // Reuters News. November 13. 1988.
(обратно)668
Два раза по сорок восемь часов, максимальный допустимый срок задержания без предъявления обвинения.
(обратно)669
Dopis předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi, 4. listopadu 1988 // Spisy. Sv. 4. S. 1086.
(обратно)670
Wise M. Thousands cheer dissidents at authorized rally // Reuters News. 10.12.1988.
(обратно)671
Wise М. Prague police attack thousand chanting demands for freedom // Ibid. 15.01.1989.
(обратно)672
Svědectví o manifestaci 15. ledna // Spisy. Sv. 4. S. 1111–1113.
(обратно)673
Wise М. Police attack demonstrators in Prague for second day // Reuters News. 16.01.1989.
(обратно)674
Wise M. Police used batons and water cannons to disperse the crowd // Reuters News. 17.01.1989.
(обратно)675
Wise М. Prague police let thousands demonstrate after US protest // Ibid. 18.01.1989.
(обратно)676
Wise М. Truncheon-wielding police crush Prague protest // Reuters News. 19.01.1989.
(обратно)677
Wise М. 900 detentions in biggest wave of protests in 20 years // Reuters News. 22.01.1989.
(обратно)678
По иронии судьбы, позднее Деватый стал директором невольной преемницы ГБ – Службы безопасности и информации.
(обратно)679
Фактически это были две петиции: январская декларация деятелей культуры и более поздняя петиция Комитета в поддержку ходатайства Вацлава Гавела об условнодосрочном освобождении.
(обратно)680
Wise М. Czech dissident Havel freed after serving half jail term// Reuters News. 17.05.1989.
(обратно)681
Telegram velvyslanectví USA v Československu ministerstvu zahraničních věcí USA 07892, 9. listopadu 1989 // Prečan (2004). S. 45.
(обратно)682
Ibid. S. 47.
(обратно)683
Ibid.
(обратно)684
Žantovský M. Návrat dějin a Annus Mirabilis (Resumption: The Gears of 1989) // World Affairs Journal. Leden-únor 2010.
(обратно)685
Prosím stručně // Spisy. Sv. 8. S. 362.
(обратно)686
Я тогда поработал кем-то вроде «телефонного коммутатора»: набирал номера гавеловских друзей-эмигрантов и иностранных СМИ.
(обратно)687
Petr Vizina. Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 22. června 2009 // art.ihned.cz/ c137533960-autori-nekolika-vet-prepnuli-jsme-na-vyssi-rychlostni-stupeň
(обратно)688
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 9. srpna 2012.
(обратно)689
Заголовок, отсылающий к знаменитым «2000 слов» 1968 г., был предложен Кршижаном, которому казалось, что пары фраз будет вполне достаточно. В итоге в тексте оказалось всего 458 слов.
(обратно)690
Urban J. Několik vět // Paměť a dějiny. 2010–2011. S. 39–41.
(обратно)691
Rudé právo. 30. června 1989. S. 2.
(обратно)692
Вы легко сможете порадовать себя, зайдя по адресу www.youtube.com/ watch?v=4KPzOT9qKVw
(обратно)693
B árta M. K zajištění klidu a veřejného pořádku… // Paměť a dějiny. № 4. 2009. S. 8.
(обратно)694
Vyjádření k v ýročí srpnové intervence roku 1968, 14. srpna 1989 // Spisy. Sv. 4. S. 1142–1146.
(обратно)695
Wise М. Prague riot police charge protesters on invasion anniversary // Reuters News. 21.08.1989.
(обратно)696
Two Hungarians involved in Prague protests to be tried // Ibid. 26.08.1989.
(обратно)697
Zvuková nahrávka № 6 // Gerová (2009).
(обратно)698
Ibid.
(обратно)699
Беседа с Эдой Крисеовой, которая участвовала в той вечеринке, хотя и не присутствовала лично при том, как Гавел едва не утонул, 23 марта 2013 г. Гавел точно помнил, что был тогда «абсолютно трезв», а напился только после своего спасения. О мистическом смысле происшествия см.: Dopis Jiřímu Grušovi Edy Kriseové, 28. září 1989, KVH18167.
(обратно)700
В июле к Гавелу в Градечек приехала делегация «Солидарности» во главе с Адамом Михником, это был безусловный жест «боевой» солидарности.
(обратно)701
Tůma O. Exodus východních Němců přes Prahu v září 1989 // Soudobé d ějiny. № 2–3. 1999. S. 147–164.
(обратно)702
Telefonický rozhovor s Františkem Janouchem, 4. října 1989 // Havel a Janouch (2007). Příloha XVIII XVIII. S. 529.
(обратно)703
Havel a Janouch (2007). Příloha XIX. 5. října 1989. S. 531–534.
(обратно)704
Gerová (2009). S. 99. Гавела столько раз номинировали на Нобелевскую премию мира, что как-то его назвали «вечным кандидатом». Ближе всего он был к ней в 1991 г., когда находился на вершине популярности, но тогда премию получила Аун Сан Су Чжи из Мьянмы – политик и демократическая активистка. Наряду с другими ее кандидатуру поддержал и сам Гавел. Позднее, когда его имя стало ассоциироваться с некоторыми спорными моментами во внутренней и прежде всего во внешней политике, его шансы упали. Теперь никто уже не узнает, был ли он разочарован тем, что так и не удостоился премии, но сна это его наверняка не лишило.
(обратно)705
Rozhovor s Joan Baezovou, 20. října 2012.
(обратно)706
Gerová (2009). S. 85 и далее.
(обратно)707
Ibid. S. 108.
(обратно)708
Slovo o slově. 25. července 1989 // Spisy. Sv. 4. S. 1139–1141.
(обратно)709
Ibid. S. 1142.
(обратно)710
Rozhovor s Danielem Kroupou, 1. března 2013.
(обратно)711
Wise M. Čeští disidenti zadrženi před demonstrací za demokracii // Reuters News. 27. 10.1989.
(обратно)712
Police break up rally of over 10 000 in Prague // Reuters News. 28. 10.1989.
(обратно)713
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 9. srpna 2012.
(обратно)714
Rozhovor s Jitkou Vodňanskou, Hornosín, 12. července 2012.
(обратно)715
Millerová a Hanzel (2009). S. 31–35. Организаторы называли иные цифры – более 30 000 человек, но это плохо соотносится с физическими параметрами позднейших стадий демонстрации.
(обратно)716
Паула Буттурини, корреспондентка «Чикаго Трибьюн», попала в больницу с разбитой головой. Но ей еще повезло: ее муж Джон Тэглибью из «Нью-Йорк Таймс» спустя месяц получил в румынской Тимишоаре тяжелое огнестрельное ранение.
(обратно)717
Žantovský M. Czechoslovak student beaten to death in protest, activist says // Reuters News. 18.11.1989. Неверная информация была получена журналистами от Петра Ула и Вацлава Бенды и изначально исходила от двух свидетелей, которые в конце концов превратились в одну-единственную и весьма ненадежную свидетельницу. Гавел не имел к этой истории никакого отношения.
(обратно)718
«Новый форум» – политическое движение в Германской Демократической Республике, созданное в сентябре 1989 г., примерно за год до объединения двух Германий. – Прим. пер.
(обратно)719
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 9. srpna 2012.
(обратно)720
Национальный фронт Чехословакии – объединение политических партий и общественных движений, существовавшее с 1945 по 1990 год. – Прим. пер.
(обратно)721
ЧКД (Чешско-моравская Колбен-Данек) – одна из старейших и крупнейших в Чехии марок в области машиностроения и электротехники. – Прим. пер.
(обратно)722
M üllerová a Hanzel (2009). S. 25.
(обратно)723
Hejdánek L. Havel je uhlík // Sešity. KVH 3/2009.
(обратно)724
Rozhovor s Ladislavem Kantorem, 27. února 2013.
(обратно)725
Ibid.
(обратно)726
Rozhovor s Ladislavem Kantorem, 27. února 2013.
(обратно)727
Ibid.
(обратно)728
Projev k demonstrantům na Václavském náměstí, 22. listopadu 1989 // Spisy. Sv. 4. S. 1160.
(обратно)729
Ibid. S. 1161.
(обратно)730
Rozhovor s Mariánem Čalfou. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1994. S. 33.
(обратно)731
Ibid. S. 34.
(обратно)732
Петр Ул, соучредитель Восточноевропейского информационного агентства, был задержан органами безопасности 19 ноября 1989 г. по подозрению в распространении ложных сведений о смерти студента Мартина Шмида.
(обратно)733
Originální videojournal, 24. listopadu 1989.
(обратно)734
Dopis Ludvíka Vaculíka Václavu Havlovi, 27. listopadu 1989. KVH ID4833.
(обратно)735
Hanzel (2006). S. 44.
(обратно)736
Преемник Адамеца на посту премьера Мариан Чалфа сейчас – в отличие от предшествующего интервью (Ústav pro soudobé dějiny, 1994. S. 29) – допускает, что президентские амбиции были у Адамеца с самого начала, хотя Чалфа никогда не давал ему повода предполагать, что он может надеяться на успех. (Rozhovor s Mariánem Čalfou, 29. srpna 2013.)
(обратно)737
Hanzel (2006). S. 179.
(обратно)738
В какие-то моменты это рождало черный юмор: «Будай у нас истопник, верно? Может, стоило бы назначить его министром топлива и энергетики» (Nahrávka zasedání Občanského fо́ra, kazeta № 6 // Аrchiv Vladimíra Hanzela).
(обратно)739
Rozhovor s Mariánem Čalfou, Praha, 29. srpna 2013.
(обратно)740
Rozhovor s Petrem Pithartem, 28. srpna 2012.
(обратно)741
Rozhovor s Mariánem Čalfou, Praha, 29. Srpna 2013. «Бондовская» версия, в которой фигурируют таинственные «датские профессионалы» (Suk, 2013. S. 393), запущенная, по-видимому, Питгартом, кажется выдумкой.
(обратно)742
Rozhovor s Mariánem Čalfou, Praha, 29. Srpna 2013.
(обратно)743
Единственное важное распоряжение, изданное заместителем министра внутренних дел ЧССР Алоисом Лоренцем, курировавшим работу ГБ, содержало приказ об уничтожении актуальной документации, что осложнило новым властям и будущим историкам выявление агентов прежнего режима.
(обратно)744
Müllerová – Hanzel (2009). S. 37.
(обратно)745
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 9. srpna 2012.
(обратно)746
«Послушайте, я не согласился ни на какую должность. У нас множество кандидатов!» См.: Suk (1998).
(обратно)747
Tigrid P., Otava J. Zpráva o situaci ve střední Evropě // Svědectví. № 87.1989. S. 525.
(обратно)748
Rozhovor s Pavlem Kohoutem, Praha, 22. Října 2012.
(обратно)749
Rozhovor s Danielem Kroupou, Praha, 1. března 2013.
(обратно)750
Одним из них был Петр Питгарт, который, по его словам, просто не мог поверить в то, что Гавел и впрямь хочет быть президентом // Rozhovor s Petrem Pithartem, 28. srpna 2012.
(обратно)751
Расширенный кризисный штаб, 8 декабря 1989 г. // Archiv Ladislava Kantora.
(обратно)752
Вацлав Клаус допускает, что, услышав об идее выдвижения Гавела в президенты, он «поднял бровь», но не припоминает, чтобы когда-либо принимал участие в голосовании по этому вопросу // Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)753
Rozhovor s Jiřím Bartoškou, Praha, 1. Března 2013.
(обратно)754
Suk (2003). S. 142.
(обратно)755
Rozhovor s Mariánem Čalfou, 29. srpna 2013.
(обратно)756
Suk (2003). S. 62.
(обратно)757
«Я думаю, что никто из выселенных не должен сюда возвращаться, но полагаю, что мы должны извиниться перед немцами, которые были отселены после Второй мировой войны». Česká televize, 23. Prosince 1989 г.
(обратно)758
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 10. srpna 2012.
(обратно)759
«Чешская сторона сожалеет, что послевоенное изгнание, а также принудительное выселение судетских немцев из тогдашней Чехословакии, экспроприация их имущества и лишение гражданства привели к многочисленным страданиям невиновных и несправедливостям, допущенным в их отношении, в том числе ввиду коллективного характера вменяемой им вины» // Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, 21. ledna 1997.
(обратно)760
Уильям Луерс, выступление на симпозиуме «Лев и Орел», Нью-Йорк, 8 мая 2012 г.
(обратно)761
О своих методах Чалфа говорить отказался // Rozhovor s Mariánem Čalfou, 29. srpna 2013.
(обратно)762
Keane (1999). S. 382.
(обратно)763
Simmons (1991). S. 196.
(обратно)764
«Мешок блох» (U stropu je pytel blech) – название документального фильма Веры Хитиловой, снятого в 1962 г.
(обратно)765
«Вы вокруг меня, точно цыплята вокруг наседки, из-за этого я чувствую себя обессиленным и у меня заболевает голова прежде, чем я дойду до своего кабинета» // Zápis z Kolegia, 21. května 1990. Archiv Báry Štěpánové.
(обратно)766
Например, Signum laudis (1980).
(обратно)767
К примеру, для успешного «истерна» Je třeba zabít Sekala («Надо убить Секала») (1998).
(обратно)768
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 9. srpna 2012.
(обратно)769
Аббревиатура слов Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (Содружество инженеров и архитекторов в г. Либереце). – Прим. пер.
(обратно)770
Решимость Гавела избавиться от всех предметов мебели, всех картин и декоративных элементов, напоминавших об эпохе коммунизма, была его личной характерной особенностью, за которую его частенько – и иногда совершенно справедливо – критиковали. Даже некоторые соратники полагали, что он тратит слишком много времени, воюя с коммунистической эстетикой, вместо того чтобы воевать за привлечение преступников эпохи коммунизма к суду.
(обратно)771
Изначально театр назывался «ГуСа на провазку». И хотя «ГуСа» (от чешских слов Humor a Satira – юмор и сатира) занималась юмором и сатирой, ассоциации, возникавшие с фамилией президента ЧССР времен нормализации (Густав Гусак), стоили ГуСе головы.
(обратно)772
В эту группу входили также Мирослав Масак и автор этих строк.
(обратно)773
Пьеса «Завтра выступаем» была опубликована в сборнике «Гостиница в горах», который вышел в издательстве «МИК» в 2000 г. Она воссоздает события, предшествовавшие образованию Чехословацкой Республики 28 октября 1918 г. Действующие и упоминаемые в пьесе лица – представители участвовавших в чехословацком национальном движении сил; в частности, А. Рашин был членом президиума Пражского национального комитета. – Прим. пер.
(обратно)774
Так в социалистическую эпоху называли второсортные эстрадные концерты; в команде это название прочно закрепилось за всеми выступлениями Гавела перед широкой публикой.
(обратно)775
В 2016 г. Вера Чаславская скончалась. – Прим. пер.
(обратно)776
http://www.lidovky.cz/havluv-pritel-joska-skalnik-donasel-na-americany-f6[-/ zpravy-domov.aspx?c=a091201_213155_In_domov_ani
(обратно)777
Например, в: Keane (1999). S. 410–412.
(обратно)778
Prosím stručně. Spisy. Sv. 8. S. 411. Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, это была не такая уж плохая идея, которая могла бы пригодиться в дальнейших спорах. Я помню, как мы дискутировали на эту тему с Гавелом и другими, но никак не могу вспомнить, почему все мы сошлись на том, что данная идея неосуществима. Утверждение Гавела, что не исключено, будто идея о введении должности вице-президента попала в проект предложенной им парламенту конституции, по-моему, неточно.
(обратно)779
Его полное имя (в немецкой огласовке) Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антониус Вратислав Мена фон Шварценберг; в чешской: Карел Ян Непомук Йосеф Норберт Бедржих Антонин Вратислав. Там, где это позволяют законы, он 12-й князь Шварценбергский, герцог Крумловский, граф Зульц и ландграф Клетгау.
(обратно)780
Неофициальное антикоммунистическое движение, возникшее во второй половине 1980-х гг. и устраивавшее веселые перформансы, высмеивавшие бессмысленные законы последних лет социализма. – Прим. пер.
(обратно)781
Сам Гавел «травкой» никогда не баловался, однако она была неотделима от среды представителей андеграунда и оппозиционеров. В основном ее выращивали дома, поэтому сильного воздействия она не оказывала, и все делились ею бесплатно.
(обратно)782
В действительности Гавел мудро записал свою речь на видео еще накануне, 31 декабря.
(обратно)783
Novoroční projev, 1. ledna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 9. Русский перевод новогоднего обращения президента Вацлава Гавела здесь и далее цит. по кн.: Гавел В. Гостиница в горах. М.: МИК, 2000 (перевод И. Безруковой).
(обратно)784
Беседа с Павлом и Петром Кралами, 22 декабря 2013 г.
(обратно)785
Novoroční projev, 1. ledna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 11.
(обратно)786
Instrukce Hradu, archiv autora.
(обратно)787
Рrojev k demonstrantům na Václavském náměstí, 10. prosince 1989, Ústav pro soudobé dějiny // http://www.89.usd.cas.cz/en/documents.html
(обратно)788
«Václav Havel. Praha-Hrad», dokumentární film Petra Jančárka. Česká televize, 2000.
(обратно)789
Кроме всего прочего, он хорошо знал суровые и унизительные условия в переполненных пенитенциарных учреждениях и ощущал инстинктивную потребность выпустить пар. Действительно, в марте 1990 г. новая власть столкнулась с крупнейшим в чехословацкой истории бунтом заключенных печально известной Леопольдовской тюрьмы для самых опасных преступников, где в свое время отбывал наказание Петр Ул.
(обратно)790
По иронии судьбы заграничный паспорт Гавелу вернули через неделю после начала Бархатной революции на основании его заявления месячной давности о разрешении ему выезда в Швецию для получения премии Улофа Пальме. В тот момент, конечно, поездка в Швецию отодвинулась для него на второй план, и премию ему передал у него дома шведский посол.
(обратно)791
Pithart (2009). S. 248.
(обратно)792
В наши дни требуется некоторое усилие, чтобы вспомнить, что тогда еще существовали две Германии. В Мюнхене Гавел встретился с представителями руководства ФРГ, а в Берлине – ГДР.
(обратно)793
Операция «Удар» предусматривала, что будут задействованы 7 632 офицера, 476 грузовых автомобилей, 92 бронетранспортера и 155 танков. См.: Závěrečná zpráva Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989, Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky // http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1236_01.htm
(обратно)794
Zákon № 451/1991 Sb.
(обратно)795
Повод для одной из таких теорий, возникшей в связи с отставкой депутата Бартончика, дала в том числе и моя глупая, хотя и совершенно невинная фраза, которую уловили микрофоны на пресс-конференции 9 июня 1990 г. Когда заместитель министра внутренних дел и мой друг Ян Румл попытался уклониться от ответа на вопросы журналистов касательно финансовых подробностей этого дела, я нетерпеливо шепнул ему: «Ну, подкинь им что-нибудь».
(обратно)796
Rozhovor s Petrem Pithartem, 29. srpna 2012.
(обратно)797
Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 8. srpna 2012.
(обратно)798
Петр Питгарт в своей книге (Pithart 2009), глядя на прошлое из наших дней, доказывает, что при мажоритарной системе первых демократических выборов парламент состоял бы из двух партий: «Форума» и коммунистов в Чешской Республике и «Общественности против насилия» и коммунистов – в Словакии. Это заблуждение. Реальные результаты, согласно которым «Форум» в Чешской Республике получил чуть более 50 % голосов, дают понять, что при мажоритарной системе коммунисты не имели бы шансов ни на один депутатский мандат. В Словакии коммунисты не стали даже второй по числу голосов партией.
(обратно)799
Rozhovor s Petrem Pithartem, 29. srpna 2012.
(обратно)800
Для этого они должны были создать самостоятельную политическую партию в другой республике, пускай даже с тем же названием, как это сделала, например, Гражданская демократическая партия.
(обратно)801
Подарки Ширли Темпл Блэк президенту вообще были не слишком удачными. Чучело пираньи с надписью «Вацлаву Гавелу от ГБ» попало в конце концов в мой кабинет. В другой раз она принесла ему пластмассовый цветок в горшке с кнопкой, после нажатия которой тот начинал извиваться под звуки танцевальной мелодии. Гавел кнопку нажимал редко. Во время прощального приема перед своим отъездом из Чехословакии госпожа Блэк предложила оставить президенту своего пса-боксера по кличке Горби, которого не хотела мучить транспортировкой в Калифорнию. «Но у меня уже есть собака», – робко отнекивался Гавел.
(обратно)802
Неисправимо любопытный Гавел решил сразу же испытать аппарат. Ему удалось дозвониться до некоей русскоговорящей дамы и попросить соединить его с президентом Горбачевым. Дама предложила ему подождать, после чего аппарат умолк навеки.
(обратно)803
Pokyny hradu, 2002 // Аrchiv Jaroslavy Dutkové. KVH ID 5657.
(обратно)804
Rozhovor s Jiřím Křižanem, 19. srpna 2006, Ústav pro soudobé dějiny.
(обратно)805
«Симфониетта» имела подзаголовок: «Военная симфониетта» или «Фестиваль Сокол». – Прим. ред.
(обратно)806
Mikuláš Kroupa, Rozhovor s Václavem Havlem, 17. 03.2010 // http://www. pametnaroda.cz/story/havel-Václav-1936-1347
(обратно)807
Павел Когоут вспоминает, что Гавел вначале обнял его и предложил занять высокий пост; потом, однако, – по наущению некоторых соратников Гавела – он был отстранен из-за своего коммунистического прошлого. В этом Когоут отчасти прав, хотя Гавел и сам хорошо знал о его прошлом (Rozhovor s Pavlem Kohoutem, 22. října 2012).
(обратно)808
V áclav Havel, Revolutionary // The New Yorker, 20.12.1993.
(обратно)809
P řijetí Franka Zappy na Pražském hradě, 22. ledna 1990. KVH ID 17191.
(обратно)810
Американский госсекретарь Джеймс Бейкер, посетивший Прагу 5 февраля 1990 г., якобы сказал: «Вы можете иметь дело либо с Соединенными Штатами, либо с Фрэнком Заппой». Хотя я присутствовал на этих переговорах, такого его высказывания я не припоминаю.
(обратно)811
Подробнее о визите Гавела и ужине в Белом доме в 1998 г. со слов Вондры см. в кн: Matějková J. (2012). S. 242–243.
(обратно)812
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)813
Projev k Federálnímu shromáždění // Spisy. Sv. 6. S. 25.
(обратно)814
Ibid. S. 28.
(обратно)815
Проект нового герба разработал советник Гавела художник Йоска Скалник.
(обратно)816
Dopis Václavu Havlovi, 24. srpna 1990., KVH ID 4775.
(обратно)817
Острую потребность в информации иллюстрирует тот факт, что ту малость об американском обществе и политике, что была известна в президентской канцелярии, предоставил коллегам в основном я, почерпнув сведения не столько из собственного опыта, сколько из прочитанных и переведенных текстов. Тем более кстати пришлась тогда «пробная» январская поездка Мартина Палоуша и Ивана Гавела.
(обратно)818
Те, кто в ИЛ не поместились, полетели на другом советском самолете – ТУ-154.
(обратно)819
Шкворецкий пережил Гавела всего на две недели.
(обратно)820
Почетное звание, присваиваемое иерусалимским национальным мемориалом Холокоста Яд-Вашем не-евреям, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев от уничтожения нацистами. Урбанек укрывал в своем доме несколько беглецов-евреев.
(обратно)821
По инициативе супруги венгерского посла (посольство Венгрии находится по соседству) часть улицы позднее была переименована в честь революции 1989 года, причем несколько неудачно, в Spring of Freedom Street – улицу Весны (Источника?) свободы. Вашингтонские таксисты были очень недовольны, так как это переименование еще много лет затрудняло им жизнь.
(обратно)822
Albright (2003). S. 122.
(обратно)823
Как и мне, но по другим причинам. Гавел не слишком доверял своему английскому, и поэтому мне нужно было стать его голосом и последовательно переводить его речь с подиума Конгресса. Но по пути в Вашингтон из-за перемены давления в самолете у меня заложило сначала одно, а потом и второе ухо. Не успев зайти к врачу, я не слышал почти ничего из того, что говорил Гавел, а в основном читал по его губам. Чудовищная история. Еще годы спустя я подтрунивал над Гавелом, когда тот принимался рассказывать о своем выступлении в Конгрессе, – мол, обращался-то он ко мне, а я оставался глух к его словам.
(обратно)824
Projev k americkému Kongresu, 21. února 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 69.
(обратно)825
Projev k americkému Kongresu, 21. února 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 69.
(обратно)826
Prosím stručně. Spisy. Sv. 8. S. 412.
(обратно)827
На самом деле предварительные переговоры на дипломатическом уровне шли еще с января.
(обратно)828
Шахназаров, так же, как Шеварднадзе и другие советские реформаторы, был не этническим русским, а армянином (Шахназарян), родившимся в Азербайджане. Прагу он неплохо знал, потому что когда-то работал там в «Вопросах мира и социализма» – контролируемом Советами теоретическом и пропагандистском журнале, где, тем не менее, «взросла» целая плеяда будущих советских реформаторов, включая Геннадия Герасимова, Владимира Лукина, Егора Яковлева и Георгия Арбатова.
(обратно)829
Пересказывая свою версию этой истории, Гавел, как всегда, великодушен: «Не знаю, было ли это непонимание или попытка пошутить, но мне хочется верить во второй вариант» (cм.: Prosím stručně // Spisy. Sv. 8. S. 463), Матейкова приводит очень похожую версию Вондры (cм.: Matějková (2012), s. 111).
(обратно)830
Такой же чести заслуживал, безусловно, и Рональд Рейган, но в то время он уже был слишком болен, чтобы принять награду.
(обратно)831
V áclav Havel, Praha-Hrad II, dokumentární film Petra Jančárka. Česká televize, 2012.
(обратно)832
Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na posledním zasedání Politického poradního výboru Varšavské smlouvy, Praha, 1. července 1991. KVH ID944.
(обратно)833
19.08.1991 г. Янаев подписал указ о возложении на себя со следующего дня полномочий президента СССР «в связи с невозможностью» их исполнения Горбачевым «по состоянию здоровья». – Прим. ред.
(обратно)834
Олег Бакланов, Владимир Крючков, Валентин Павлов, Борис Пуго, Василий Стародубцев, Александр Тизяков, Геннадий Янаев, Дмитрий Язов.
(обратно)835
Однажды водитель-дальнобойщик якобы рассказывал друзьям в пражской пивной, сколько всяческих товаров он регулярно отвозит в Советский Союз на своем грузовике. «А что ты везешь обратно?» – спросили его. – «Обратно? Обратно я иду пешком».
(обратно)836
Соглашение, заключенное при посредничестве не вполне прозрачной компании «Фалькон Кэпитэл», включало в себя поставки со значительным дисконтом новейших моделей российских военных вертолетов, двух крупных военно-транспортных самолетов и даже участие Чехии в советской программе по совместным полетам в космос. Ничего из вышеперечисленного до сегодняшнего дня реализовано не было. Тем не менее по состоянию на конец 2013 г. вопрос долга считается закрытым.
(обратно)837
Это недоверие, скорее всего, было взаимным. На похороны Гавела Путин отправил председателя Российского параолимпийского комитета Владимира Лукина. (В то время В. Лукин был также российским омбудсменом. Кроме того, он лично знал Гавела. – Прим. пер.)
(обратно)838
Rozhovor Petry Procházkové s Václavem Havlem // Lidové noviny, 19. března 2008.
(обратно)839
Сегодня он известен под своим еврейским именем – Натан Щаранский.
(обратно)840
Borovský K.H. Slovan a Čech. Pražské noviny, 1846; Doležal B. Karel Havlíček, Portrét novináře. Praha: Argo, 2013. S. 44.
(обратно)841
Отсылка к книге М. Твена 1869 г. «Простаки за границей, или Путь новых паломников». – Прим. пер.
(обратно)842
Projev k polskému Sejmu a Senátu, 25. ledna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 51.
(обратно)843
V áclav Havel, Praha – Hrad, filmový dokument Petra Jančárka. Česká televize 2009.
(обратно)844
Projev při příležitosti návštěvy Richarda von Weizsäckera, 15. března 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 97.
(обратно)845
Ibid.
(обратно)846
Новая политика «сотрудничества с истинными демократами» была сформулирована британским министром иностранных дел Джеффри Хоу (с 1968 г. эта должность
(обратно)847
Rozhovor s Jacquesem Rupnikem, 9. října 2013.
(обратно)848
Lawson D. Inside the Castle // The Spectator. 15.09.1990.
(обратно)849
Projev při příležitosti udělení čestného doktorátu Hebrejské university, 26. dubna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 121. (Произнесенная Гавелом 26 апреля 1990 г. благодарственная речь при присуждении ему звания почетного доктора Еврейского университета. Текст цит. здесь и далее по кн.: Гавел В. Гостиница в горах / пер. И. Безруковой. М.: МИК, 2000. С. 146. – Прим. пер.)
(обратно)850
Projev při příležitosti udělení čestného doktorátu Hebrejské university, 26. dubna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 122–124.
(обратно)851
Курт Вальдхайм был членом СА (SА), то есть штурмовиком-«коричневорубашечником», а позднее – офицером вермахта. – Прим. пер.
(обратно)852
Projev na slavnostním zahájení Salcburského hudebního festivalu, 26. července 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 235–236.
(обратно)853
D ürrenmatt F. Die Schweiz – ein Gefängnis, projev při příležitosti udílení ceny Gottlieba Duttweilera Václavu Havlovi. Curych, 22. listopadu 1990.
(обратно)854
Позднее к ним присоединился Александр Вондра.
(обратно)855
Эта вторая встреча привела к нескольким раундам закрытых переговоров, касавшихся поиска компромисса при решении проблемы судетских немцев, что позволило бы немецкой стороне аннулировать мюнхенский договор, а чешской – открыть дорогу для возвращения чехословацкого гражданства отдельным судетским немцам. И хотя обе стороны были уже близки к консенсусу, Коль прервал переговоры из-за якобы состоявшейся утечки информации с чешской стороны. Согласно другим источникам, неуспех объяснялся требованиями Коля вернуть немецкое имущество; эти требования содержались в письме Коля Гавелу, которое было утеряно. В переговорах Коля и Гавела в Праге во время подписания Договора о дружбе между обеими странами 27 февраля 1992 г. обсуждался только вопрос создания общего фонда для выплат компенсаций жертвам исторической несправедливости с обеих сторон. (Записи, сделанные во время переговоров, архив автора.) Эта идея перешла потом в Чешско-германскую декларацию 1997 г.
(обратно)856
Rozhovor s Pavlem a Petrem Královými, 21. února 2013.
(обратно)857
Přivítání papeže Jana Pavla II. na letišti, 21. dubna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 116–117.
(обратно)858
Ibid. S. 120.
(обратно)859
Projev k americkému Kongresu, 21. února 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 71.
(обратно)860
Бытие, 18:25.
(обратно)861
Впрочем, Баттек из нее вскоре вышел, создав Клуб, позже – Ассоциацию социал-демократов.
(обратно)862
Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě, Praha: Evropský kulturní klub, 1991.
(обратно)863
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)864
№ 403/1990 Sb.
(обратно)865
Оговорка, касающаяся места жительства, позже была снята.
(обратно)866
Spisy. Sv. 6. S. 299–300.
(обратно)867
Novoroční projev 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 17.
(обратно)868
Ibid.
(обратно)869
Bútora M., Bútorová Z. Nesnesitelná lehkost rozchodu // Kipke a Vodička (1993).
(обратно)870
Rozhovor s Mariánem Čalfou, 29. srpna 2013.
(обратно)871
Протокол встречи, архив автора. Кроме президента, присутствовали: Чалфа, Питгарт, Мечьяр, Валеш, Власак, Шабата, Румл, Добровский, Лангош, Шварценберг, Кршижан, Шимечка, Жантовский, Вондра, Рыхетский, Урбан, Бутора, Кучерак, Бурешова, Гал, Заяц, Седлачек и Кучера.
(обратно)872
Korespondence s Fedorem Gálem, 19. května 2014.
(обратно)873
Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, 20. května 2014.
(обратно)874
После обретения Словакией независимости он какое-то время был министром иностранных дел, но очень скоро рассорился с Мечьяром и покинул Движение.
(обратно)875
Dopis Ivanu Medkovi, 27. ledna 1984. KVH ID9100.
(обратно)876
К примеру, переговоры политических элит в Ланах о создании и принятии конституции 10 мая 1991 г.
(обратно)877
Rukopisné poznámky, 3. února 1991. Archiv autora.
(обратно)878
См. также: Mandler E. Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992 // Mandler (2005). S. 174.
(обратно)879
Michal Kováč, projev ke slovenskému národu, 31. prosince 1992.
(обратно)880
Zápis z jednání na Hrádečku, 3. listopadu 1991 (курсив автора).
(обратно)881
Havlovi, Schwarzenbergovi, Křižanovi, Vondrovi, Kantorovi, Masákovi. 25. února 1991 // Archiv autora.
(обратно)882
Projev ke slovenskému národu, Bratislava, 14. března 1991 // Spisy. Sv. 6. S. 336.
(обратно)883
Projev ve francouzské Akademii humanitních a politických věd, 27. října 1992 // Spisy. Sv. 7. S. 10.
(обратно)884
Ibid. S. 11.
(обратно)885
Ibid. S. 13.
(обратно)886
Ibid. S. 13‒14. (Курсив автора.)
(обратно)887
Projev ve francouzské Akademii humanitních a politických věd, 27. října 1992 // Spisy. Sv. 7. S. 15.
(обратно)888
Jedenáctá teze k Feuerbachovi, 1845.
(обратно)889
В частных беседах представители ГДП высказывались о кандидатуре Гавела довольно благожелательно (заметки по ходу обсуждения 7 июля 1992 г., архив автора).
(обратно)890
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)891
Rozhovor s Danielem Kroupou, 1. března 2013.
(обратно)892
Špaček (2012). S. 11.
(обратно)893
Digitální knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 26. ledna 1993 // http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/002schuz/s002003.htm
(обратно)894
Ibid.
(обратно)895
Ibid.
(обратно)896
Rozhovor s Ladislavem Špačkem, 31. května 2013.
(обратно)897
Sonningova cena // Spisy. Sv. 6. S. 365–366.
(обратно)898
Ibid. S. 362.
(обратно)899
Projev po inauguraci, 2. února 1993 // Spisy. Sv. 7. S. 41.
(обратно)900
Эту формулировку приписывают Томашу Ежеку, министру по делам приватизации в правительстве Клауса. См. также: Pithart P. Právo a právníci v procesu privatizace.10.10.2006 // www.pithart.cz
(обратно)901
См., например, интервью с последним федеральным премьером Яном Страским: «Co Klaus sám necítí, nikdy neposlechne». 3. března 2013 // www.ihned.cz
(обратно)902
См. Špaček (2012). S. 17.
(обратно)903
Ibid. S. 89. Подобные ситуации до боли знакомы каждому действующему или бывшему пресс-секретарю.
(обратно)904
Во время моего протокольного визита в Братиславу перед отъездом в Соединенные Штаты в сентябре 1992 года премьер Мечьяр спросил меня как бывшего пресс-секретаря Гавела, как мне удавалось обеспечивать ему такую хорошую репутацию за границей. Я сказал ему чистую правду, что никакой моей личной заслуги в этом нет, но, думаю, такой ответ его не убедил.
(обратно)905
Открытие памятника Т.Г. Масарику, Оломоуц, 7 марта 1993 г. // Spisy. Sv. 7. S. 66. (По мысли Масарика, «великой жизнью <…> ради человечества и вместе со всем человечеством» чехи жили во времена Реформации и Контрреформации. – Прим. пер.)
(обратно)906
Ibid. S. 69.
(обратно)907
Prosím stručně, Spisy. Sv. 8. S. 486–487.
(обратно)908
www.ushmm.org/research/library/faq/languages/en/06/01/ceremony/?content=wiesel
(обратно)909
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)910
Projev k polskému Sejmu a Senátu, 25. ledna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 50–51.
(обратно)911
Ср. Anatomie jedné zdrženlivosti // Spisy. Sv. 4. S. 523–561.
(обратно)912
Если при ретроспективном взгляде здесь можно заподозрить раннюю версию заговора неоконсерваторов, то это говорит лишь об ограниченности такого взгляда. Пусть многое в последующей деятельности Вулфовица и Либби может быть предметом критики, в деле стабилизации Европы в конце холодной войны они сыграли важную конструктивную роль.
(обратно)913
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)914
Albrightová (2003). S. 252.
(обратно)915
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)916
Asmus R.F., Kugler R.L., Larrabee F.S. Building a New NATO // Foreign Affairs. 09.10.1993. Р. 28–40. Первый из этих авторов, ныне уже покойный Рональд Асмус, внес исключительный вклад в расширение НАТО также и позднее, в должности заместителя помощника госсекретаря США.
(обратно)917
Goldgeier (1999).
(обратно)918
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)919
Одной из возражавших была Дженнон Уолкер, позднее – посол США в Чешской Республике, которая в Совете национальной безопасности курировала Центральную Европу.
(обратно)920
Спустя двадцать лет Фридман в своей статье «Почему Путин нас не уважает» (The New York Times. 4.03.2014) все еще утверждал, что расширение НАТО было «одной из глупейших вещей, которые мы сделали», несмотря на резкий контраст между нынешней ситуацией в Польше, Чешской Республике или Эстонии и обстановкой в Белоруссии и на Украине.
(обратно)921
Tisková konference prezidenta Clintona s nejvyššími představiteli Visegrádských zemí, 12. ledna 1994 // http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=49832#ixzz1tLuVTvbf
(обратно)922
Ср.: Prosím stručně // Spisy. Sv. 7. S. 313.
(обратно)923
См. также: Albrightová (2003). S. 173.
(обратно)924
Чешским саксофоном, наряду со старым инструментом, изготовленным самим Адольфом Саксом в 1861 г., Клинтон пользуется до сих пор // Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)925
A Fateful Error // The New York Times, 5.02.1997. Характерно, что в свои 90 лет Кеннан был точно так же против объединения Германии.
(обратно)926
Rozhovor s Billem Clintonem, 11. listopadu 2013.
(обратно)927
Британо-американские киноактеры, одна из самых знаменитых комедийных пар в истории кино. – Прим. пер.
(обратно)928
«Ни намерений, ни планов, ни причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов НАТО».
(обратно)929
Эти строки я писал еще до российской аннексии Крыма и ползучей дестабилизации Восточной Украины в марте-апреле 2014 г. Проявленное Россией неуважение к территориальной целостности и суверенитету соседнего государства, вероятно, вынудило бы меня выбрать более крепкие слова.
(обратно)930
Projev k polskému Sejmu a Senátu, 25. ledna 1990 // Spisy. Sv. 6. S. 46.
(обратно)931
Projev při příležitosti převzetí ceny Karla Velikého, Cáchy 9. května 1991 // Spisy. Sv. 6. S. 353–359.
(обратно)932
Ibid. S. 356.
(обратно)933
Ibid. S. 357.
(обратно)934
Projev na vrcholném shromáždění Rady Evropy, 8. října 1993 // Spisy. Sv. 7. S. 133.
(обратно)935
Projev k Evropskému parlamentu, Štrasburk, 8. března 1994 // Spisy. Sv. 7. S. 225.
(обратно)936
Ibid. S. 225–226.
(обратно)937
Ibid. S. 226.
(обратно)938
Projev k Evropskému parlamentu, Štrasburk, 8. března 1994 // Spisy. Sv. 7. S. 226.
(обратно)939
Ibid. S. 226–228.
(обратно)940
Projev při udílení ceny Karla Velikého, Cáchy, 15. května 1996 // Spisy. Sv. 7. S. 596.
(обратно)941
Projev k francouzskému Senátu, Paříž, 3. března 1999 // Spisy. Sv. 7. S. 832–833.
(обратно)942
Ibid. S. 835.
(обратно)943
Например, немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле, который получал премию им. Карла Великого через 22 года после Гавела // http:/www.karlspreis.de/ preistraeger/2012/rede_von_dr_wolfgang_schaeuble.html
(обратно)944
«Evropa a svět» projev v italském Senátu, Řím, 4. dubna 2002 // Spisy. Sv. 8. S. 161.
(обратно)945
Ibid. S. 164.
(обратно)946
Novoroční projev, 1. ledna 1994 // Spisy. Sv. 7. S. 220–228.
(обратно)947
V áclav Klaus. Třetí cesta a její fatální omyl. Vystoupení na zasedání Montpelerinské společnosti. Vancouver, 30. srpna 1999 // www.klaus.cz
(обратно)948
Ibid.
(обратно)949
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)950
В 1996 г. именно Вацлав Клаус в качестве премьера подал заявление о вступлении ЧР в Евросоюз.
(обратно)951
После поражения своей бывшей Гражданской демократической партии на выборах в палату депутатов в октябре 2013 г. Клаус объяснял такой результат тем, что партия пропиталась «гавелизмом».
(обратно)952
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)953
Prohlášení prezidenta republiky k úmrtí prezidenta Václava Havla, 18. prosince 2011 // http://www.klaus.cz/clanky/3000
(обратно)954
Projev prezidenta republiky na smutečním shromáždění k uctění památky prezidenta Václava Havla, Praha, 21. prosince 2011 // www.klaus.cz/clanky/3004
(обратно)955
Гавел упрекал Клауса в том, что он закрывал глаза на многие из этих эксцессов, но не обвинял в личном обогащении его самого.
(обратно)956
Dopis Václavu Klausovi, červen 2001. KVH ID15756.
(обратно)957
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. Srpna 2013.
(обратно)958
Напр.: Putna (2011). S. 321.
(обратно)959
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10389664200-Vaclav-havel-a-dominik-duka-spolecny-vyslech/31129838012/video
(обратно)960
Seznam léků. KVH ID10413. (Вопросительный знак – автора книги с пометкой «полно всего». – Прим. пер.)
(обратно)961
Автор, прежде и сам работавший медиком, видел собственными глазами, каково было состояние здоровья Гавела, и иногда, вместе с личным физиотерапевтом президента, консультировал его.
(обратно)962
Projev při převzetí Medaile svobody ve Filadelfii, 4. července 1994 // Spisy. Sv. 7. S. 259–268. Когда Гавел прислал мне в Вашингтон первый вариант своей речи, у нас случился очень оживленный обмен мнениями. Гавел внес несколько косметических изменений, но в целом настоял на своем.
(обратно)963
Философский тезис, согласно которому то, что фундаментальные физические константы нашего мира жестко связаны с условиями, сделавшими возможными возникновение жизни, – это не случайность; некое сциентистское подобие Бога природы.
(обратно)964
Гипотеза, рассматривающая живую природу как суперорганизм, который при помощи сложной саморегуляции способен поддерживать на постоянном уровне основные параметры окружающей среды.
(обратно)965
Berman P. The Poet of Democracy and His Burdens // The New York Times Magazine. 11.05.1997. S. 32–59.
(обратно)966
Rozhovor s Dagmar Havlovou, 11. července 2012.
(обратно)967
Ibid.
(обратно)968
Ibid.
(обратно)969
Антихартия спустя 25 лет // Лидове новины. 24.01.2002. С. 18. Даша не помнит, чтобы подписывала какой-либо документ. (Беседа с Дагмар Гавловой, 11 июля 2012 г.)
(обратно)970
Уже в первые два президентских срока в дневном расписании Гавела значились несуществующие люди с птичьими фамилиями: «профессор Славик (соловей)», «посол Скршиван (жаворонок)», «пан Врабец (воробей)».
(обратно)971
«Máme se rádi a chceme žít spolu» // ČTK, 6. ledna 1996 («Мы любим друг друга и хотим жить вместе». – Прим. пер.).
(обратно)972
В 2005 г. они с Дашей этот дом продали.
(обратно)973
Hovory v Lánech, 5. ledna 1997. KVH ID2074.
(обратно)974
Svora (1998).
(обратно)975
Poznámky z nemocnice po operaci plic, prosinec 1996. KVH ID9531.
(обратно)976
Венди Луерс, основываясь на своих беседах с Полом А. Марксом (д-р Гинсберг скончался в 2003 г.), полагает, что на самом деле Гинсберг провел еще одну операцию и убрал еще два очага болезни. Эту информацию подтвердить из независимых источников невозможно. Rozhovor s Billem a Wendy Luersovými, 13. dubna 2013.
(обратно)977
Odstoupení ministra spravedlnosti Jana Kalvody 17. prosince 1996.
(обратно)978
Prosím stručně // Spisy. Sv. 8. S. 574 и далее.
(обратно)979
Rozhovor s Dagmar Havlovou, 11. července 2012.
(обратно)980
Ibid.
(обратно)981
Ibid.
(обратно)982
Novoroční pozdrav, 1. ledna 1997 // Spisy. Sv. 7. S. 663–664.
(обратно)983
Одним из до сих пор непроясненных аспектов обеих историй – болезни Гавела и его свадьбы – остается следующий: кто из гавеловского ближайшего окружения передавал во время кризиса конфиденциальную информацию СМИ? Как обычно в таких случаях, подозрение пало на пресс-секретаря Ладислава Шпачека, который, однако, клянется в своей невиновности и называет в качестве вероятного источника информации президентскую охрану (см.: Rozhovor s Ladislavem Špačkem, 31. května 2013).
(обратно)984
Rozhovor s Dášou Havlovou, 10. září 2013.
(обратно)985
Pokyny Hradu, nedatováno, únor 1997 // Аrchiv Ladislava Špačka. KVH ID5650.
(обратно)986
Informace a pokyny Hradu, 13. dubna 1997 // Аrchiv Ladislava Špačka. KVH ID5649.
(обратно)987
Ibid.
(обратно)988
Ibid.
(обратно)989
Ibid.
(обратно)990
Автор был в то время председателем одной из них, Гражданского демократического альянса.
(обратно)991
Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla ke své kandidatuře na setkání s novináři, 12. července 1997. KVH ID5561.
(обратно)992
Koalice Hrad, 22. května 1997, archiv Ladislava Špačka. KVH ID5722.
(обратно)993
Rozhovor s Václavem Klausem, 30. srpna 2013.
(обратно)994
Projev k oběma komorám Parlamentu České republiky, 9. prosince 1997 // Spisy. Sv. 7. S. 734.
(обратно)995
Projev k oběma komorám Parlamentu České republiky, 9. prosince 1997 // Spisy. Sv. 7. S. 736–737.
(обратно)996
Rozhovor s Petrem Pithartem, 28. srpna 2012.
(обратно)997
Гавел получил это большинство во втором туре голосования в Палате депутатов, но, если бы понадобился третий тур, когда обе палаты голосовали бы вместе, он выиграл бы с перевесом в пять голосов.
(обратно)998
Первое совместное заседание обеих палат Парламента Чешской Республики о выборах президента республики, 20 января 1998 г., www.psp.cz/eknih/1996ps/psse/stenprot/001schuz/index.htm. Как ни неловко мне цитировать самого себя, других достойных цитирования слов в тот день было сказано немного.
(обратно)999
Instrukce Hradu, 3. března 1998 // Аrchiv Ladislava Špačka. KVH ID5651.
(обратно)1000
Ibid.
(обратно)1001
Pokyny Hradu (Milí spolupracovníci), 6. června 1998 // Archiv Jaroslavy Dutkové. KVH ID5772.
(обратно)1002
Rakušanová (1997).
(обратно)1003
Ladislav Špaček Kanceláři prezidenta republika, 1. října 1998 // Аrchiv Ladislava Špačka. KVH ID9543.
(обратно)1004
Vzkaz Ladislavu Špačkovi, 29. září 1998. Archiv Ladislav Špačka. KVH ID9483.
(обратно)1005
Скончавшегося через полгода после этого Бенду иногда, до некоторой степени справедливо, считают творцом «оппозиционного договора».
(обратно)1006
В газете «Млада Фронта Днес» было тогда опубликовано несколько факсимиле документов из папок ГБ, свидетельствующих о том, что в 1965–1968 гг. Цильк под оперативным псевдонимом «Голец» состоял в картотеке сотрудников ГБ, получая за свои услуги денежное вознаграждение и ряд подарков.
(обратно)1007
Dopis Madeleine Albrightové, 7. prosince 1998, Národní archiv, Praha. KVH ID15910.
(обратно)1008
Churchill W. Síla míru (Sinews of Peace), Projev na Westminster College, Fulton Missouri, 5. března 1946. [В названии речи обыгрывается фразеологизм sinews of war, означающий средства для ведения войны (буквально «сухожилия войны»), но «война» заменена «миром». – Прим. пер.]
(обратно)1009
Ibid.
(обратно)1010
Prohlášení k řešení krize v Kosovu, Praha, 28. ledna 1999. KVH ID1106.
(обратно)1011
Prohlášení k situaci v Kosovu, Praha, 25. března 1999. KVH ID1113.
(обратно)1012
Prohlášení k vojenskému zásahu NATO v SRJ, Praha, 24. března 1999. KVH ID1112.
(обратно)1013
Pokyny Hradu, 11. dubna 1999. KVH ID5656.
(обратно)1014
Attempts to Escape the Logic of Capitalism // London Rewiew of Books. 28.12.1999. S. 3–6.
(обратно)1015
Cockburn A. On Václav Havel Speech // The Golden Age Is In Us. Verso, 1995. S. 149–151.
(обратно)1016
Bush’s Useful idiots // London Review of Books. 21. září 2006 S. 3–5.
(обратно)1017
«Подумывает об отставке». См: Diář Jaroslavy Dutkové, osobní tajemnice Václava Havla, 9. září 1999 // Archiv Jaroslavy Dutkové. KVH ID10306.
(обратно)1018
Pokyny Hradu (Milý Hrade…), 23. září 1999 // Аrchiv Ladislava Špačka. KVH ID5713. Симптоматично, что именно в то время родина более или менее расцветала под социал-демократическким правительством Милоша Земана, а Клаус председательствовал в Палате депутатов. Да и домик, который купили Гавел с Дашей, был не в Испании, а в Португалии.
(обратно)1019
Diář Jaroslavy Dutkové, 29. března 2000 // Аrchiv Jaroslavy Dutkové, KVH ID10318.
(обратно)1020
Dopis Jiřího Stránského Václavu Havlovi, 27. února 2000, KVH ID6823.
(обратно)1021
Опрос общественного мнения «Sofres-Factum» // ČTK 9. května 2000.
(обратно)1022
Diář Jaroslavy Dutkové, 23. listopadu 2000. Archiv Jaroslavy Dutkové. KVH ID10324. Инцидент подтвердил и тогдашний шеф президентской канцелярии Иво Мате в беседе с автором 31 августа 2013 г. См. также интервью Дагамар Гавловой «Я должна была защитить своего мужа от нападок Земана»: Musela jsem se ohradit proti Zemanovu útoku na mého manžela // ČTK. 1. prosince 2000.
(обратно)1023
Diář Jaroslavy Dutkové, 25. července 2000 // Archiv Jaroslavy Dutkové. KVH ID10320.
(обратно)1024
Автор является членом Программного комитета конференции «ФОРУМ 2000».
(обратно)1025
Rozhovor s Aun Schan Suu Ťi, 17. září 2013.
(обратно)1026
В 2013 г., когда госпоже Аун Сан Су Чжи удалось наконец принять в конференции «ФОРУМ 2000» личное участие, Гавела уже с нами не было.
(обратно)1027
Восьмой том «Сочинений», включающий в себя труды 1999–2006 гг., вышел в том же издательстве в 2007 г.
(обратно)1028
Havel plánuje napsat knihu // Lidové noviny. 30. srpna 2001.
(обратно)1029
«Вопреки всему, я готов рекомендовать (если эта рекомендация вообще понадобится) Кавана в ООН. Своя рубашка ближе к телу, чем дальше от этой страны будет этот человек, тем лучше для этой страны». См.: Prosím stručně // Spisy. Sv. 8. S. 509.
(обратно)1030
Setkání s Bushem, Zápisky Ladislava Špačka z přijetí v Oválné pracovně, 15. září 2001 // Archiv Ladislava Špačka, KVH ID5721.
(обратно)1031
Ibid.
(обратно)1032
Ibid.
(обратно)1033
Коnference «Transformace NATO», Praha, 20. listopadu 2002 // Spisy. Sv. 8. 206–207.
(обратно)1034
Pokyny Hradu, 26. září 2002 // Archiv Ladislava Špačka. KVH ID5679.
(обратно)1035
Согласно Давиду Ремнику, «Уход Гавела. Король покидает Град», «Нью-Йоркер», 17 февраля 2003 г., Чейни сказал: «Я ничего не понял, я из Чикаго», но эта информация явно из вторых рук. Чейни – не из Чикаго.
(обратно)1036
Так чехи ласково называют свой Национальный театр. – Прим. пер.
(обратно)1037
MF Dnes. 31. ledna 2003.
(обратно)1038
Ibid.
(обратно)1039
Rozloučení s občany. Česká televize, Český rozhlas. 2. února 2003. KVH ID36580.
(обратно)1040
Ibid.
(обратно)1041
Ibid.
(обратно)1042
Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce č. 48/2004 Sb.
(обратно)1043
«Můj vězeňský syndrom», rozhovor s Petruškou Šustrovou // Lidové noviny. 15.11.2005.
(обратно)1044
Rozloučení s občany. 2. Února, 2003 // Spisy. Sv. 8. S. 238.
(обратно)1045
У Гавела была привычка называть собак именами политиков. Нечистокровную овчарку, которая у него была в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов, звали Голда в честь израильского премьера Голды Меир, кусачий шнауцер, живший с ним во второй половине восьмидесятых и в девяностые годы, звался Дьюла – в честь венгерского министра иностранных дел Хорна, а Мадленка была названа в честь… не трудно догадаться, кого.
(обратно)1046
Prosím. stručně // Spisy. Sv. 8. S. 303.
(обратно)1047
Ibid. S. 328–329.
(обратно)1048
Prosím. stručně // Spisy. Sv. 8. S. 466.
(обратно)1049
Ibid. S. 494. В. – это Владимир Ганзел.
(обратно)1050
Ibid. S. 319.
(обратно)1051
Ibid. S. 616.
(обратно)1052
Ibid. S. 673.
(обратно)1053
Prosím. stručně // Spisy. Sv. 8. S. 673–574.
(обратно)1054
Odcházení (poznámky, skici). KVH ID16551.
(обратно)1055
Беседа с Дагмар Гавловой 11 июля 2012 г.
(обратно)1056
«А как в моем случае обстоит дело с точки зрения закона? Что принадлежит мне, а что государству?» // Pokyny Hradu, 20. května2001. KVH ID5663.
(обратно)1057
Spisy. Sv. 8. S. 706–707.
(обратно)1058
Ibid. S. 762–763.
(обратно)1059
Предыдущие четыре абзаца – это отредактированный отрывок из авторского эссе «Загорелый и отдохнувший: Вацлав Гавел объявляет о своем возвращении “Уходом”». См.: Tanned and Rested: Václav Havel Marks His Return With Leaving // World Affairs Journal. Leden / únor 2011. S. 22–23.
(обратно)1060
Tanned and Rested: Václav Havel Marks His Return With Leaving // World Affairs Journal. Leden / únor 2011. S. 22–23.
(обратно)1061
Kamil Fila, 16. Března, 2011 // www.aktuálně.cz
(обратно)1062
«Jandák brutálně setřel Havlův režijní debut». 16. Března 2011 // www. parlamentnilisty.cz
(обратно)1063
«Hájek se vysmál Havlovu filmu». 18. Března 2011 // Ibid.
(обратно)1064
Rozhovor s Martinem Vidlákem. 28. února 2013.
(обратно)1065
Rozhovor s Jacquesem Rupnikem. 17. září 2013.
(обратно)1066
Rozhovor s Jeho Svatostí dalajlamou 18. června 2012.
(обратно)1067
Eliška Bártová. Rozhovor s Veritas Holíkovou, 22. Prosince 2013 // http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanekphtml?id=726469
(обратно)