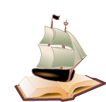| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Жизнь и смерть генерала Корнилова (fb2)
 - Жизнь и смерть генерала Корнилова 6691K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Резак Бек Хан Хаджиев
- Жизнь и смерть генерала Корнилова 6691K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Резак Бек Хан ХаджиевРезак Бек Хан Хаджиев
Жизнь и смерть генерала Корнилова
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Часть первая
Ахал
На месте бушевавших когда-то волн морских бушует сейчас огромное море песков. Это море тянется до Аму-Дарьи, захватывая части Хивы и Бухары, и другой стороной доходит до Афганистана и Персии. Это огромное песчаное пространство называется Ахалтекинским оазисом. Жители этих песков – текинцы, выброшенные беспощадными песчаными волнами к подножию гор, принуждены были вести здесь жалкое существование, полукочевое и полуоседлое. Со словом «оазис» невольно связывается представление о богатой растительности, воде, о райском уголке среди раскаленных песков. Ничего подобного в Ахалтекинском оазисе нет, и само слово «оазис», данное ему, звучит горькой иронией. Оазисом его с большой натяжкой можно было бы назвать, разве сравнивая с каракумской пустыней, где нет никакой растительности и даже мало-мальски хороших колодцев. И все же, несмотря на это, казалось бы, невозможное существование, среди этих песков когда-то, очевидно, цвела культурная жизнь, – об этом свидетельствуют редкие по красоте развалины мечетей, сохранившиеся в аулах Дуруне и Анау, которые насчитывают по шестьсот лет со времени своей постройки. Эти строения доказывают вкус и умение своих строителей. Палящие лучи солнца, переносные волны песков явились главной силой разрушения культуры этого оазиса, превратившей его в мертвое море песков. При виде этих печальных пустынь невольно задаешь себе вопрос, почему жители их не ищут места получше или не устраивают жизнь здесь более сносно? Но, разобравшись, ясно видишь, что к этому их принуждают естественные обстоятельства. Главным из них является то, что текинцев чистой расы как таковых не существует, ибо в населении оазиса смешалась кровь разных наций, а именно: хивинцев, узбеков, афганцев и персов.
Текинцы во многом напоминают запорожцев, так как их племя образовалось аналогично Запорожью. Как в Сечь со всех концов России бежали все, кому трудно в ней жилось, так и в Ахал бежали со всех мест Туркестана люди всех сословий. Все они предпочитали перенести какие угодно лишения жизни в пустыне, лишь бы отстоять свою личную независимость. Многие из этих беглецов погибли, не вынеся тяжелой борьбы с обстоятельствами, но оставшиеся в живых образовали сильное, закаленное и выносливое племя. Это-то племя благодаря тяжелым климатическим условиям не могло жить оседлой жизнью и принуждено было искать иные пути и средства к существованию. Само собой разумеется, что самыми легкими из них явились частые набеги на ближайших богатых соседей – персов, живущих оседлой жизнью. Все прибежавшие сюда в Ахал объединились в банды. Сначала эти банды не были организованы и не признавали власти одного общего начальника над всеми. От вступившего в банду требовалась лишь удаль во время набегов. Эта удаль и храбрость подчиняли банду своему обаянию и постепенно силою самих вещей такие храбрецы являлись начальниками банды. Их называли бахадурами, слагали в их честь песни, память о них сохранялась, переходя из поколения в поколение, и могилы их считались священными.
Разница между Запорожской Сечью и ахалтекинским племенем была та, что здесь не было войн за веру. Несмотря на то что все прибежавшие сюда были магометане, они не исповедовали какую-нибудь отдельную религию. Верили в Единого Аллаха – Хозяина вселенной и не фанатиками умирали в боях, не за религиозный символ, а ради добывания средств к существованию. Вторая разница между Запорожской Сечью и «Текинской Сечью» была та, что у запорожцев не допускалось присутствия женщин, и оно даже строго наказывалось, в то время как здесь присутствие женщины считалось прямо желательным. Если в первое время у текинцев не было женщин, то только потому, что длинные и тяжелые переходы по пескам были невозможны для женщин. Но женщин они себе искали и с оружием в руках добывали жен для себя у соседей. С появлением семей и детей передвижение по пустыням становилось все труднее и труднее. Это обстоятельство принудило текинцев искать более оседлого образа жизни. Они набрасывались на персов, разрушали их города и села, смешивались с населением и наконец осели, образовав племя ахал-теке, что означает «молодое племя» или «новое племя» – название, которое за ним сохранилось до сего времени. Таким образом, с переселением текинцев на новые места каракумские пески опустели.
Поселившись недалеко от персов и обзаведясь семьями, текинцы волей-неволей должны были изменить свой прежний образ жизни. Многие из них стали заниматься скотоводством, но врожденная страсть к набегам все еще прочно жила среди них, да к тому же, несмотря на более оседлый образ жизни, текинец все еще был очень беден, и добыча, захватываемая в набеге, служила ему большой помощью в его хозяйстве.
Переменив свою прежнюю жизнь, казалось, на лучшую, текинец все-таки продолжал жить в довольно тяжелых условиях, беспрерывно борясь с природой. Одним из упорных врагов текинца являлась вода, которая не хотела подчиниться его воле. Понимая огромное значение воды в своей жизни, текинец упорным тяжелым трудом в конце концов заставил ее подчиниться себе. Борьба с водой брала почти всю жизнь текинца. Из-за нее он мало обращал внимания на другие средства и силы природы. Подчинив воду себе, он в то же время сделался ее рабом, приспособляя свой образ жизни к ее причудам. Таким образом, тяжелая борьба за существование наложила на него своеобразный отпечаток, отличающий текинца от других народностей в Средней Азии.
Суровый климат заставил текинца приспособить к нему свой быт и одежду, довольно смешную для европейского взгляда. Представьте себе текинца, одетого в два ватных халата, опоясанного длинным и широким шерстяным поясом (кушак), в огромной папахе, обливающегося потом под шестидесятивосьмиградусном зное. В этом же самом платье вы можете увидеть текинца и во время самого свирепого мороза. Не имея никакого представления о гигиене или медицине, он инстинктом предохраняет себя от заболевания, нося в течение всех времен года свою странную одежду. Поступая иначе, текинец неминуемо погиб бы от резкой перемены климата. Этот же климат также заставил его придумать для себя тоже довольно странное для европейского взгляда жилище. Спасаясь от холода и в поисках пастбищ для своих животных, текинец на зиму уходит в пески, где холод чувствуется не так сильно. С началом же весны он возвращается опять к подножию гор для посева хлеба. Естественно, что при таком образе жизни ему нужно было придумать специальный дом, легко собирающийся и разбирающийся, а также легко перевозимый с одного места на другое. Этот дом называется кара-уй (кибитка или юрт). Остов юрта состоит из тонких жердей, сложенных в клетку, прикрепленных друг к другу крепкими ремешками; позволяющими быстро собрать и разобрать юрт в нужную минуту. Кара-уй обыкновенно бывает круглый. Деревянный остов кара-уя покрывается войлоком (кошмой), оставляя в центре крыши отверстие, которое можно открыть и закрыть при желании. Этот дом удобен тем, что летом он дает хорошую прохладу – стоит только приподнять стены кошмы. Зимой же, благодаря тем же кошмам, плотно закрывающим остов, кара-уй хорошо сохраняет и тепло.
Обстановка у текинца очень бедная, но зато поражает изобилие чудных ковров, развешанных по стенам и разостланных на сухом песке, служащем полом, столом и кроватью текинца. В некоторых семьях можно встретить сундуки, но эта мебель довольно редка, так как ее трудно перевозить. Обыкновенно же текинцы хранят и перевозят свои вещи в красивых больших и малых ковровых переметных сумах, которые легко приторачиваются к крупу лошади или к седлу верблюда. Посуды у текинца тоже очень мало. Кроме котла для приготовления пищи, медного сосуда для воды (тюнг), чайника для зеленого чая, который текинец очень любит, и деревянных чашек и ложек, – ничего нет. С ножом и вилкой текинец незнаком, но каждый из них имеет чиникал (кожаный футляр), в котором хранится пиала для гёок-чая. Единственный нож, который текинец носит за поясом, служит ему во всех случаях жизни. Как видно, все имущество и дом текинца просты, несложны и для своей перевозки не отнимают много места и времени. Все имущество и дом свободно можно погрузить на двух верблюдов. Для того чтобы собрать и разобрать кибитку, нужно от четырех до шести часов. Обыкновенно эту работу выполняют женщины.
Пища текинца тоже проста и несложна, как его жилье. Ест текинец очень мало. Суп, чурек, зеленый чай и верблюжье молоко (как его называют текинцы, «чал») составляют обычную несложную еду текинца. Летом к ней прибавляют еще дыни, арбузы и фрукты. Мясо текинец ест очень редко – один-два раза в неделю, так как каждое животное для него дорого. О плитах и о каких-нибудь печах не может быть и речи. Чтобы приготовить себе пищу, текинец вырывает в земле яму с поддувалом по размеру котла. На дне этой ямы разводит огонь, а сверху наставляет котел. Вот и вся незатейливая печь текинца, называемая «очаком». Чурек тоже приготовляется очень просто: выкапывается яма глубиною в один аршин в виде горшка. Стены этой печки смазывают глиной, а в средине раскладывают огонь. Пока стенки печки накаляются, текинка приготовляет тесто – разводя муку с водой и солью. Обыкновенно, разостлав халат на землю и на нем приготовив тесто, она налепляет тесто на накалившиеся тем временем стенки печки. Сверху печку закрывает, и через десять минут чурек готов. В песках во время передвижения, где невозможно выкопать яму, хлеб пекут следующим образом. На песке раскладывается костер из саксаула. Когда песок накален, кладут на него лепешки, прикрыв сверху золой.
Громадная площадь Закаспийской области страдает недостатком воды. Орошается она только тремя маленькими речонками: Кушкой, Тедженем и Мургабом. Ясно – воды этих трех речонок не могли удовлетворить нужды текинца, поэтому-то он принужден был всяческими способами разыскивать воду и подчинять ее себе. Дикий кочевник, незнакомый со строительным искусством, не зная о существовании каких-либо инструментов, выстроил замечательное строение, так называемый «кяриз» – водопровод, который до сих пор вызывает невольное чувство удивления. Если поблизости не было воды, то текинец отыскивал озеро или источник и из него проводил подземные галереи к тому месту, где была нужна вода, не считаясь с тем, какое расстояние при этом нужно было преодолеть. Эти галереи делались для того, чтобы верхний слой земли, прикрывая собой воду, охранял ее от палящих лучей солнца, испарения и засорений. Кяризы стоили огромного труда, не говоря о деньгах и человеческих жизнях. Поэтому-то текинцы следят строжайше за их чистотой.
Делаются кяризы таким образом. У найденного источника выкапывается колодец глубиной пятнадцать саженей и больше. От этого большого колодца идет ряд других, все мельче и мельче, но все же самый мелкий колодец не бывает мельче пяти саженей. Таким образом текинец, сделав подземное искусственное русло, подводит воду, куда ему нужно.
Есть другого рода кяриз, но для устройства его требуются подземные воды. Чтобы построить эти сооружения, нужно было обладать большой находчивостью и умом.
Там, где не видно воды, текинец каким-то свойственным ему чутьем находил подземную воду, часто на довольно значительной глубине.
Такая беспрерывная жизненная борьба наложила известный отпечаток на все существо текинца, выделяя его от других соседних племен. В особенности эта разница заметна во взгляде его на женщин. Текинские женщины ничуть не похожи на других мусульманских женщин, которые проводят всю свою жизнь в гареме, но они не похожи также и на европейских женщин, так как текинки разделяют все тяжести жизни и работы с мужьями наравне. Она равноправна. Сама жизнь не дала текинцу поставить жену в затворничество гарема, так как он один не мог бы справиться с тяжелой работой дня, а сделать из нее работницу, свалив всю эту работу только на нее, он тоже не мог, ибо за свою лень и бездействие он непременно и дорого бы поплатился.
Климатические условия страны, например, не дают возможности задерживать уборку хлеба дольше положенного времени, так как хлеб легко может погибнуть. Муж и жена идут работать совместно, а совместный труд уравнивает оба пола. После уборки хлеба наступало время, когда текинцу надо было идти в набеги. Группу людей во главе с вождем, идущих в набег, называли аламаном. В аламан текинец шел, оставив дом и хозяйство свое жене и будучи уверен, что, когда он вернется, все будет на своем месте. Будь его жена не равноправным членом семьи и изнеженным существом, она не сохранила бы при этом хозяйство, и оно пришло бы в упадок. Женщины вступают и в бой в случае нападения на аул в отсутствие их мужей. Вечная борьба с природой и окружающими племенами послужила главной причиной развития физических сил текинок.
Беспрерывная борьба, набеги и переходы с места на место не могли дать текинцу особенно глубокое религиозное воспитание. Холодное отношение текинцев к религии освободило их от некоторых мусульманских обрядов. Например, они до сих пор придерживаются обычая красть себе жену и платить «калынг» (калым), который, кстати сказать, платится с каждым годом все меньше и меньше.
В борьбе с водой, в земледельческих работах главная доля труда исполняется женщинами.
Несмотря на беспрерывный и тяжелый труд, все плоды его не могли достаточно удовлетворить текинца. Недостатки своего хозяйства он пополнял набегами на своих соседей: персов, бухарцев, хивинцев. Собственно для этого и складывалась организация банд. Во главе таких банд – аламанов – являются Ханы, или Сердары, которые и ведут их в набеги. Ханы выбирались из тех текинцев, которые выделялись исключительной храбростью и умом. Такой Хан никогда не принуждал своей волей аламан идти в набег. Объявление похода происходило так. Вождь перед своей кибиткой втыкал в землю пику с конским хвостом, давая знать этим, что он готов к набегу. Желающие идти с ним втыкали свои пики рядом. Когда по числу пик Сердар видел, что желающих идти с ним довольно, аламан был готов и шли в набег. Чем больше мог привлечь к себе людей Сердар, тем популярнее он был среди текинцев. При аламане не было ни кухонь, ни обоза. В большинстве случаев еда джигитов состояла из жареных зерен пшеницы или муки, разведенной водой, т. е. «чурека» и гёок-чая.
Аламан, внезапно врываясь в села и города и нередко разбивая многочисленную армию персов, уводил жителей как рабов для продажи в Хиву и Бухару или оставлял их у себя для тяжелой работы. Очень часто пограничные персидские крепости превращались аламанами в развалины, и эти развалины стоят до сих пор. Эти частые набеги воспитали в текинце храбрость и предприимчивость, вселив уверенность в его непобедимость. Это дорого обошлось и русским при покорении Ахала, а после так пригодилось Великому бояру.
Спустя почти полвека потомки этих храбрецов, бывших врагов России, по одному зову Великого бояра, сказавшего им, что Россия в опасности и что надо выручать ее, пошли за ним безропотно, перенося все тяжести и также безропотно гибли в бою с предателями России – в то время, когда многие и многие миллионы русской интеллигенции занимались словоговорением и оставались глухи к призыву Великого бояра.
Хотя, быть может, большинству читателей и не будет интересен мой рассказ о каком-то Текинском конном полку, о существовании которого абсолютно неизвестно среди 75 % русской интеллигенции, все же я хочу писать об этом. Думаю, что всякий мыслящий человек найдет это мое желание естественным, так как описание организации и жизни Текинского полка с исторической точки зрения есть не что иное, как изображение процесса, которым сложилась вооруженная сила из бывших врагов России, которые, поняв тяжелое положение ее, первые пошли на ее защиту и честно исполнили свой долг до конца.
Текинский конный полк
Текинский конный полк, о котором я собираюсь писать, совершенно не был похож на существовавшие в России полки, так как его традиция, жизнь и дисциплина были совершенно отличны. Говоря правду, Текинскому полку больше подходит название «аламан». В этот-то аламан я впервые попал в Рашкове 15 октября 1916 года на Австрийском фронте, куда он отошел на отдых. Разница между прежним аламаном и теперешним заключалась в том, что теперь текинец переменил свою деревянную пику на стальную, к неразлучному ятагану прибавилась еще пятизарядная винтовка, пулемет, и он привык к дисциплине.
Раньше текинец шел в бой, как я выше говорил, для поддержания своего существования, теперь же он шел как спортсмен из любви к сильным ощущениям, а главным образом и потому, что его Сердар сказал: «Россия в опасности».
До начала Великой войны Текинского полка не было, а был Туркменский дивизион, развернутый наспех в полк и только на фронте переименованный Государем Императором в Текинский конный полк в знак особого Высочайшего внимания. Дивизион – основное ядро развернувшегося полка, был хорошо дисциплинирован. Эта дисциплина, чисто военная, поддерживалась вековой дисциплиной племени, предписывавшей джигитам подчиняться своему вождю – Сердару, уважать личность старшего и не делать того, что не позволяет совесть. Сюда шли люди не по принуждению, а по собственному желанию. Причиной добровольчества послужило соприкосновение текинца с русскими – кочевника с культурой. Молодого джигита всегда тянула какая-то сила, страсть, я думаю, перешедшая от отцов, к седлу и лошади, приключениям, удали, храбрости. Он не мог свыкнуться с мыслью остаться всю жизнь мирным земледельцем. Его нрав и инстинкт жаждали другого.
В дивизион поступали люди, искавшие подвига и удали, поклонники храбрых, жаждавшие приключений и, наконец, желавшие научиться военному искусству. Это были сыновья ханов, сердаров, знатных туркмен, которые хотели продолжать удалую жизнь отцов. Это желание впиталось в них с молоком матери. Желающих поступить в дивизион было много, но правительство их не хотело принимать, ибо требуемое число людей было пополнено, а вместе с тем еще существовало опасение вооружать сынов Ахала, история покорения которого была еще свежа в памяти. «Дать оружие легко, а отнять будет трудно! Бог с ними! С них достаточно и одного дивизиона. У нас своих достаточно!» – рассуждали правители. Таким образом, за бортом осталось много текинцев, желавших драться в рядах русской армии.
Было бы ошибочно думать, что текинец шел в ряды армии потому, что он любил Россию или Царя, или за веру. Ни о России, ни о Царе туркмену никто ничего не говорил и никогда не старался научить его любить их. Особенно религиозным туркмен тоже никогда не был. Пошли туркмены потому, что Сердар их, честный и храбрый русский офицер, приказал им идти за ним, сказав: «Россия в опасности, нам надо идти и бороться в рядах русской армии за ее честь». И туркмены пошли за своим Сердаром, сыном знаменитого героя-патриота и защитника Гёок-Тепе Дыкма Сердара, штаб-ротмистром Ураз Сердаром. Джигиты сгруппировались, как в старое доброе время, вокруг Сердара по вековой традиции, видя в нем двух Сердаров: первого – сына их героя, такого же текинца, как они сами, простого и доступного, и второго – русского офицера – помощника командира полка, русского Сердара.
Неся в строю беспрекословно всю тяжесть военной службы, они смотрели на Сердара как на существо высшее, которому они, безусловно, верили и подчинялись, но в это же время Сердар был русский. После же занятий они отправлялись к Сердару уже запросто пить гёок-чай, есть плов или просто побеседовать. И в это же время Сердар оставался для них тем же высшим существом, которого они даже и не подумали бы ослушаться, – он был и друг, и отец джигитов, и свой туркмен.
Военную дисциплину текинец быстро усвоил и привык к ней, но сухая шагистика и пичканье сухими уставами никогда ему не нравились, так как он их не понимал, не зная русского языка.
– Хаджи Ага, почему нас Эргарт пичкает уставами и этой шагистикой? Воевать мы умеем и без устава. Если джигиту суждено умереть, то его никакой устав не спасет. Для войны нужны храбрость, смелость и умение использовать их. Война высшая школа и наилучший устав для джигита. У нас есть свой устав – устав Сердара, где говорится: «Если джигит краснеет, то пусть умрет. Не храбрый, не сметливый джигит похож на женщину. Пеший туркмен – жалкий туркмен, а на аргамаке он хозяин врага, – ни пуля его не догонит, ни шашка не срубит», – говорили мне как-то в полку джигиты.
Началась Великая война народов. Сердар тогда был в чине штаб-ротмистра, и ему было приказано собрать джигитов в полк и вести их в бой вместе с командиром полковником Дроздовским.
– Командир полка полковник Дроздовский будет твоим Сердаром, а ты Сердаром полка, – сказали ему.
Он собрал быстро текинцев, но собрал их не так, как должен был бы собрать, т. е. с выбором. Это ему не позволило время. Поэтому сюда шли старые и малые, хорошие и плохие, храбрые и трусы, с корыстной целью и как любители подвигов, как во времена Кёр-Оглы (легендарный туркменский герой). Этот новоиспеченный и разнообразный по своему составу и возрасту, не подготовленный к военному делу, т. к. на это не было времени, но спаянный крепко духом вокруг Сердара полк-аламан прибыл на фронт, кажется, в сентябре 1914 года. Несмотря на все эти недостатки, полк одержал ряд блестящих побед, и имя его выплыло на поверхность и заставило говорить о себе. Стали рассказывать о нем легенды, писать в газетах и восхищаться.
К сожалению, как это ни больно, должен сказать, что текинцы могли бы сделать много больше сделанного, и этот полк легко можно было бы развернуть в бригаду и дивизию, если бы в полку был лучший состав опытных хороших русских офицеров. За исключением некоторых, как то: командира полка полковника Сергея Петровича Зыкова (полковник Дроздовский, после первых же боев получив чин генерала, перевелся в тыл и, приобретя землю около Астрабада, близ персидской границы, предался мирной земледельческой жизни. Он был инвалид Русско-японской войны, ординарец генерала Мищенко. Пришла революция, и в первые дни ее генерала убили туркмены), штаб-ротмистра Натензона, командира 2-го эскадрона, образцового и любимого в полку поручика Раевского и ротмистра Бек Угарова, командира 3-го эскадрона, все остальные были неопытны и не подходящи. Русские офицеры, за исключением перечисленных, не интересовались жизнью джигитов и их психологией, не старались изучить туркменский язык, чтобы подойти к туркмену и ближе узнать его, и поэтому-то они были чужды составу полка. И вышеперечисленные офицеры тоже не знали языка, но держали себя с туркменами так, что джигиты их очень любили и уважали. Два самых старых русских офицера полка, подполковник Эргарт и Григорьев, прослужившие в полку довольно долгие годы, не умели также говорить по-туркменски, очень дурно обращались как с офицерами туркменами, так и джигитами полка. Эти два подполковника во многом помогли плохому составу офицеров полка, т. к. они руководили выбором их. Эргарт и Григорьев, выдавая себя за авторитетных лиц полка и любимцев джигитов, первоначально взялись было при вступлении в должность Зыкова влиять на него, как влияли до него на Дроздовского, при выборе офицеров и при производстве текинцев в офицерские чины, но дальновидный и весьма опытный Зыков сразу их понял. Эти два человека страшно противились поступлению в полк опытных кадровых офицеров, несмотря на то, что желающих этого рода было много, но Эргарт и Григорьев предпочитали иметь прапорщиков из студентов, помещиков или же произведенных из вольноопределяющихся. Хотели они иметь таких подчиненных потому, что на них легче было покрикивать, да и вышибить их из полка, при желании, в любую минуту было много легче, чем кадровых офицеров. Эти прапорщики в свою очередь постепенно начали выписывать из других полков своих братьев, дядей и племянников, устраивая их кого в обоз, кого вольноопределяющимся, производя их в унтер-офицеры, в команду связи. Вся эта семья говорила: «Мы – текинцы!» И у неопытных людей (а кто в России знал что-либо о текинцах?) они сходили за текинцев.
Между прочим, я помню такой случай. Перед отъездом на Московское совещание я потребовал из полка двух офицеров туркмен мне в помощники. Говоривший со мною по телефону полковой адъютант поручик Нейдгарт мне заметил: «Что вы, голубчик, всегда требуете к себе офицеров туркмен и никого из русских? Я вам пошлю русских офицеров!» И против моего желания он прислал ко мне поручика Рененкампфа. По приезде в Москву все текинцы по моему указанию заняли места на перроне вокзала. Поручик Рененкампф в одежде текинца тоже занял свое место. Во время оваций на вокзале при встрече генерала Корнилова сотрудник «Русского Слова» Лембич, подойдя к Рененкампфу, спросил: «Вы, поручик, текинец?» «Я офицер Текинского полка», – ответил Рененкампф. – «Вот что, голубчик, идите и перемените ваше платье, оно вам не идет. Вы портите впечатление, производимое конвоем».
Пришлому элементу в полку жилось хорошо. Что бы они ни захотели, от текинца только и был всегда один ответ: «Буюр Ага – прикажи!»
Постепенно все эти ловкие люди быстро получали производства и ордена: Анны, Владимира, золотое оружие и Георгия за работу текинцев, в то время когда боевые, полные георгиевские кавалеры-джигиты не смели думать о производстве, а офицеры-текинцы, несмотря на двадцать пять лет службы (с образования дивизиона), на их храбрость, опыт и способность, дальше прапорщика не шли.
– Разве в полку мало своих офицеров? Почему нам хода вперед нет, а они выписывают офицеров извне? – говорили обиженные текинцы.
Подполковник Эргарт, как только получил Георгиевское оружие, отстранился совершенно от полка – не только от джигитов, мусульман-офицеров, но и русских. Григорьев, получив чин полковника и Владимира, как и Эргарт, после одного боя, ушел в обоз и там устроился по-семейному. Когда подчиненные им по службе туркмены поднимали вопрос о своем производстве, то оба полковника бросались на них, раздраженно крича:
– Как ты смеешь? (Они всем джигитам и туркменам-офицерам говорили «ты», совершенно не стесняясь, что они разговаривают с такими же офицерами, как они сами.) Когда придет время, мы сами знаем! Не вам нас учить! Вон!
После таких ответов текинцы приходили к своему отцу-Сердару. Сердар, слушая их, глубоко вздыхал, ходя по комнате из угла в угол, погруженный в тяжелую думу. Вооружать джигитов против их же начальников, своих товарищей по оружию, он не мог, но защищать заслуженного, имеющего право в своем требовании текинца он тоже не мог и, успокаивая обиженного, он лишь обещал хлопотать. Все его слова и советы полковникам Григорьеву и Эргарту обратить внимание на своих джигитов пропадали даром, так как эти господа смотрели на Сердара такими же глазами, как на любого из джигитов. Потеряв надежду на них, Сердар сам начал хлопотать и ходатайствовать перед командиром полка об удовлетворении требований обиженных джигитов и офицеров-текинцев. Полковник Зыков очень сочувствовал и помогал, как отец полка, сердечно и искренно, в производстве джигитов, и такие случаи полковники Эргарт и Григорьев принимали за пощечину себе и старались вести интриги против Сердара, беспрерывно сплетничая. Пока полковник Зыков был командиром полка, все знали свои места, и если существовали сплетни, то не шли дальше стен дома полковников Эргарта и Григорьева. Как только вступил в командование полком полковник Кюгельген, сплетни и разговоры в полку пошли с такой силой, что полк раскололся на группы. Между русскими офицерами и туркменами появились признаки острой вражды, но об этом дальше.
– Сколько бы ты ни служил, как бы ни был ты храбр и умен, все равно нашему брату-туркмену нет хода! – говорили, видя такое отношение к себе и к своему Сердару, лучшие джигиты полка и предпочитали уходить, при случаях, к себе в аул. Эти джигиты, приезжая к себе в Ахал, рассказывали правду о полку. Ясно – желающих с добрыми намерениями поступить в полк становилось все меньше. На место хороших, опытных и храбрых джигитов приходили те, кому жилось в Ахале тяжело за темное прошлое или нечего было делать, а некоторые просто поступали в полк из коммерческих соображений. Они посылали в Ахал оружие, патроны, револьверы, бомбы, а там их родственники излишек продавали в Персию, иомудам, в Афганистан за хорошие деньги. Сердар обо всем этом знал, писал в Ахал представителям туркмен, хлопотал и старался, как мог, сохранить полк и довести его, если можно, благополучно на родину – в Ахал. Новый «материал», посылаемый запасным эскадроном из Асхабада, был совершенно неграмотен в военном деле. Большинство посылавшихся не знали, для чего существует прицельная рамка на винтовке. Лошади тоже были не те, что раньше. Они были худые и дикие. Отправляя необученных людей на фронт, начальник запасного эскадрона штаб-ротмистр Авезбаев говорил джигитам:
– Поезжайте в полк! Он сейчас стоит на отдыхе. Вас там научат!
Таким образом, к концу 1916 года и к началу 1917-го от славного Текинского конного полка и следа не осталось: состав его был на ¾ пополнен из новых и совсем иных элементов.
Начало моей карьеры
По окончании Тверского кавалерийского училища в 1916 году 1 октября, я вышел в Нерчинский казачий полк, который в это время был в боях на Румынском фронте. Приехав в полк, я был очень любезно принят командиром его, войсковым старшиной бароном Петром Николаевичем Врангелем, который сообщил мне, что я переведен в Текинский конный полк. Он пожалел, что я не остаюсь в его полку, т. к. ему было бы очень приятно иметь первого офицера-хивинца под его командой.
Пообедав с командиром полка, проведя приятный вечер в его обществе и переночевав в его квартире, я на другое утро из г. Радауцы отправился в Текинский полк. Кстати, скажу, что мой перевод в Текинский полк произошел следующим образом. Перед самым окончанием Тверского кавалерийского училища сюда случайным проездом из Петрограда, где он лечился от полученной раны во время боя в 1915 году, приехал командир Текинского полка полковник Сергей Петрович Зыков – воспитанник этого училища. Узнав во время разговора с чинами училища о моем нахождении здесь, он пожелал видеть меня. Дежурный офицер ротмистр Стронский, вызвав меня в дежурную комнату, представил Зыкову. Встав с места и взяв меня за плечи, глядя в мои глаза, он начал расспрашивать, откуда, как попал я в училище и куда собираюсь (в какой полк) я выйти? Узнав, что я собираюсь выйти в Нерчинский казачий полк и что все в этом направлении мною закончено, он сказал:
– Ничего! Переведетесь ко мне в полк. Я буду очень рад и постараюсь сделать из вас хорошего офицера. Напишите сейчас же, пока я здесь, рапорт на мое имя о своем согласии, а я положу резолюцию.
Я так и сделал.
«Тебе не все ли равно, сын мой, выйти в казачий или текинский полк, если ты решил пожертвовать свою жизнь за родину? Смотри только, будь честным и хорошим воином, где бы ты ни находился. Я ничего не имею, если ты решил выйти в Текинский кав. полк, т. к. с кочевниками много хорошего связано в моей жизни. Я знаю их и люблю. Там служат сыновья моих лучших друзей сын Дыкма Сердара Ураз Сердар, внук Аман Гельди Геля и др. Передай им, что ты сын старого Бай Хана и я надеюсь, что они поддержат тебя своими добрыми советами и делом, когда это будет нужно, как поддерживали их предки меня», – писал мне отец, когда я просил его совета.
Приехал я в полк в конце октября и после короткой беседы с командиром полка я вынес хорошее впечатление. Зыков пользовался любовью всех джигитов полка. Во время обеда в день моего приезда Зыков меня назначил младшим офицером в 4-й эскадрон, командиром которого был старый подполковник Ураз Сердар. Спустя неделю командир полка получил телеграмму от моего отца с просьбой отпустить меня в Хиву, чтобы я мог получить отцовское благословение перед боем. Так как полк должен был стоять в Рашкове на отдыхе еще два-три месяца, просьба моего отца была уважена, и я уехал в Петро-Александровск.
Путешествие мое было очень тяжелое и чуть не стоило мне жизни. Желая сократить путь, я от Чарджуя до Петро-Александровска спустился в маленькой лодке по Аму-Дарье. Был ноябрь. Начался ледоход, и я чудом спасся от смерти. За все лишения в тяжелой 28-дневной дороге я был вознагражден теплым и сердечным приемом в Петро-Александровске как от русского, так и от мусульманского населения города. После благодарственного молебствия в мечети я с отцом отправились в Хиву для представления Хану Хивинскому Сеиду Асфендиару.
Нечего и говорить, что мое появление во дворце в форме русского офицера произвело на сановников потрясающее впечатление. Хан же, увидев меня, заявил, что я больше в Россию не поеду и должен остаться с ним, чтобы приготовить армию против иомудов.
– Русский Царь подарил нам в 1912 году две пушки, но мы с ними не умеем обращаться, несмотря на то, что мои нукэри (солдаты) усиленно занимались с привезшим их мне капитаном Ибрагим-беком Умидовым, который нас ничему не научил, а ты должен научить нас. Я назначу тебя военным министром при себе, – говорил Хан.
– Я, поев русский хлеб и будучи русским офицером, не имею права в такие тяжелые минуты для родины оставаться в тылу, и это для Хивы большая честь дать своего сына на защиту России, нашей второй родины. Если я буду убит за нее, то это будет еще большая честь для моей маленькой родины Хивы! – ответил я.
Видя бесполезность дальнейших настояний, Хан уступил моим доводам. На другой день я выехал в Петро-Александровск. Побыв дома четыре дня, я пустился в обратный путь – на фронт.
Перед самым моим отъездом отец, который был очень религиозным человеком, пожелал повести меня к одному старцу, который должен был благословить меня в путь. Когда мы пришли к нему, он благословил меня и предсказал, что я не буду убит в боях. После я буду очень близок к одному великому человеку и вместе с ним буду подвергаться большим опасностям, но все-таки останусь жив и через некоторое время, возвратившись в Хиву, я буду играть в ней роль. На вопрос моего отца, увидит ли он меня снова, он не пожелал ответить. Я отнесся к его предсказанию очень недоверчиво и прямо от него отправился в обратный путь. Живя сейчас в Мексике на положении чернорабочего, я бы с удовольствием отказался от всякой большой роли в будущей Хиве, если бы мне тот же старец мог сейчас предсказать, когда я буду зарабатывать такую сумму денег, что смогу покупать два раза в неделю мясо для моей семьи.
Я в роли балетной танцовщицы
Была середина января 1917 года. Возвращаясь из Хивы, я прибыл в г. Коломею – большой железнодорожный узел на Австрийском фронте. Тотчас же я отправился к коменданту города с целью узнать о местонахождении Текинского конного полка. Комендант этот был очень старый полковник, прослуживший, как я узнал потом, в этой должности в Коломее около семи месяцев.
– Какого вы полка, подпоручик? – спросил грозный полковник после предъявления мною всех нужных в этом случае бумаг.
– Текинского конного, господин полковник! – ответил я.
– Такого полка в этом районе у меня не имеется. Откуда и кто направил вас сюда? – опять задал он вопрос.
Я показал предписание, данное мне Киевским комендантом, направиться в распоряжение коменданта в город Коломею. Он вызвал адъютанта, который после долгих поисков ответил, что этот полк находится около Черновиц, и просил ехать туда и узнать в штабе армии. Каково было мое изумление – узнать о таком неприятном для меня сюрпризе! Снова представилась мне давка в вагонах, грязь и беспорядки на железных дорогах. В особенности мне это не улыбалось после и без того долгого месячного и безостановочного путешествия из Хивы до Коломеи. Что же делать? Проклиная все на свете, я вышел из комендантского управления, направляясь на вокзал, чтобы ехать в Черновицы. Нагрузив на себя и на одного носильщика свои вьюки, я отправился на вокзал. Не успел я сделать и ста шагов, как, словно из-под земли, выросла предо мной знакомая фигура туркмена, сидевшая на статном сером жеребце. При виде его телпека, который, казалось, был в два раза больше его самого, я чуть не бросился к нему в объятия, чтобы расцеловать его.
– Эй, яхши джигит, бяри гял! (Эй, добрый молодец, иди сюда!) – крикнул я, бросив вьюки на тротуар улицы.
Гордый джигит, слегка обернув голову в мою сторону и почтительно отдав мне честь, подъехал ко мне.
– Опусти руку и скажи мне, где стоит наш полк? – спросил я его по-туркменски.
– Здесь недалеко, Ага! – был ответ.
– Что ты здесь делаешь и если ты не занят, то покажи мне дорогу в полк! – попросил я его.
– Сен ким сян, Ага? (Ты кто будешь?) – задал он мне вопрос, удивленный тем, что я чисто говорю по-туркменски, и узнав, что я офицер его полка, сразу слез с коня и предложил его мне, а вещи обещал доставить в полк.
Узнав из разговора с ним, что сейчас в Коломее находятся джигиты, приехавшие для приема сена, я приказал прислать ко мне одного из них. Туркмен поскакал.
Не прошло и десяти минут, как туркмен вошел в кафе, где я сидел за чашкой кофе.
– Джигит здесь! Ждет тебя, Ага! – доложил он очень вежливо, подойдя ко мне.
На мой вопрос, как он отыскал меня, он ответил, опустив голову вниз и добродушно улыбаясь.
– Эй, Ага, туркмен туркмена по нюху находит. Разве ты не знаешь нас, если ты родился в Азии?
Через полчаса я с новоприставленным джигитом, сев на коней, отправились в полк из Коломеи в местечко Пичинежин, куда он успел перейти на стоянку после моего отъезда из Рашкова в Хиву. Пичинежин находился от Коломеи в восьми верстах.
День клонился к вечеру. Морозило. Растоптанный по широкому великолепному шоссе снег хрустел под копытами лошадей. Как только мы подъехали к мосту, нас остановил солдат-часовой, требуя пропуска. Но не успел он подойти к нам, как мой жеребец, став не дыбы, хотел укусить солдата за голову.
– Эй, какой дьявол злой! Как сам азиат! – крикнул солдат, бросаясь в сторону от испуга. Мы проехали.
– Как тебя зовут и подъезжай поближе ко мне, – крикнул я сзади ехавшему джигиту.
– Балуюр, Ага! (Слушаю!) – послышался голос его, и тотчас же крупной рысью подъехал он, корчась от холода в одной шинелишке.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Ишан, Ага, – ответил тот.
– Сколько тебе лет и из какого аула? – расспрашивал я, вызывая на разговор.
– Из Арчманя и мне сорок пять лет, – был ответ.
– Ишан батыр, рассказывай мне что-нибудь, чтобы сократить путь. Режь дорогу (по туркменскому обычаю), – сказал я.
– Эй, Ага, какой я батыр? Да, вообще, есть ли теперь батыри, когда есть пулемет-ага (господин пулемет), – ответил Ишан и, подумав немного, добавил: – Хотя, Ага, у нас в полку есть несколько человек, которых можно называть батырями.
– А кто такие они? – поинтересовался я.
– Вот, например, сам пёлкендэк (полковник) Зыкоу бояр, Курбан Кулы, Беляк батыр, Баба Хан, Сердар Ага, Мистул бояр!
– В чем же заключается их бахадурство, Ишан? – спросил я.
– Как в чем, Ага! Они воистину батыри этого времени. Вот в прошлом году Зыкоу бояр нас повел в атаку на немецкую и австрийскую пехоту. Нас было двести человек, а их было несколько тысяч.
– Как это было? Расскажи, Ишан! – заинтересовался я.
– А это произошло так, – начал Ишан. – В прошлом, т. е. 1915 году, 28 мая под Черными Потоками, на Австрийском фронте, шел горячий бой. Нас позвали на помощь, и мы пошли. Командир корпуса засмеялся, увидев нас, и спросил своего начальника штаба, зачем к нему прислали таких оболтусов? Зыкоу бояр, услышав это, взбесился и, обращаясь к нам, сказал:
– Туркмены! Я не хочу, чтобы над моими славными туркменами смеялись! Я беру на себя почин, поведя вас в бой. Пусть эти господа узнают, что вы собой представляете.
С этими словами он выскочил вперед и бросился в атаку под убийственным огнем немецких орудий и пулеметов. Первой же пулей он был ранен и упал. Не желая выйти из строя, Зыкау бояр все же остался с полком, руководя боем до его окончания.
Сердар Ага, врезавшись в гущу неприятеля один, во время рубки сломал свой ятаган. «Рублю, рублю, а эта сволочь все не падает», – кричит он, размахивая сломанным ятаганом над бегущими австрийцами. Я, увидев сломанный ятаган, остановил Сердара. Тогда он, будучи в азарте, с одной нагайкой обезоружил кучу австрийцев во главе с их офицером.
Курбан Ага, в одно утро во время разведки, окруженный разъездом австрийцев, потерял свою лошадь, которая была убита во время перестрелки. Положение наше было весьма тяжкое. Нас было двенадцать человек, а австрийцев было пятьдесят при пулемете. После перестрелки с боем нам пришлось проскочить через рогатку, которую успел поставить нам враг сзади нас на шоссе. Курбан Ага остался около своей лошади, несмотря на наши просьбы как можно скорее выбраться отсюда, так как появилась пехота противника.
– Никуда я не пойду, пока не вытащу свой коржум, – сказал Курбан Ага и начал резать ятаганом ремни коржума, прикреплявшие его к крупу убитой лошади.
В это время его окружило восемь человек австрийцев с винтовками в руках. Кроме меня видели и другие, как он с Беляк батырем, зарубив четверых из них, вынес на своих плечах коржум.
– Почему же он не хотел бросить свой коржум, который в Ахале стоит не больше десяти рублей? – спросил я Ишана.
– И я об этом думал, Ага, но оказывается, дело в том, что в коржуме Курбан Аги хранилось восемьсот рублей казенных денег и он не хотел, чтобы они достались врагам.
– Вы знаете, какой у нас сплетник кяфур (безбожный) Эргарт. Я не хотел, чтобы он сказал, что я присвоил эти деньги себе. Я простой туркмен и лучше умру, чем дам повод сказать о себе дурное. Откуда я их получил, туда и должен сдать, дети мои, – говорил нам Курбан Ага.
– В чем же заключается подвиг Баба Хана? – спросил я.
– Баба Хан, это молодой, удалой, жизнерадостный и лихой джигит. Равного ему нет в мире.
– Кто он такой? – спросил я.
– Он, Ага, сын Серахского Хана. В прошлом году тоже во время разъезда один из его подчиненных джигитов потерял в бою свою папаху.
– Иди за своей папахой! Молодой джигит пусть лучше погибнет, чем вернется в полк без папахи, бросив ее врагу, – приказал ему Баба Хан.
Не успел джигит подъехать к тому месту, где лежала его папаха, как лошадь под ним была убита, и сам он был ранен. Тогда Баба Хан на своем аргамаке как стрела подлетел к тому месту, где лежала папаха, взял ее не слезая с лошади, а потом, подобрав раненого, под убийственным огнем врага, вернулся к нам. По возвращении его мы увидели, что лука его седла и ножны его ятагана были прострелены.
– А что собой представляет подполковник Эргарт? – перебил я Ишана.
– Он, Ага, кажется, немец и туркмен терпеть не может, и мы его не любим. Всех нас он ругает самыми последними словами. Я сначала служил в его эскадроне, а потом просил Сердар Агу, чтобы он ходатайствовал пред командиром полка перевести меня в 3-й эскадрон. Иной раз хочется срубить ему голову, но как только вспомнишь, что он старше меня, прощаешь ему, прося Аллаха, чтобы Он наказал его за меня.
– А кто еще в полку не любит туркмен?
– Эй, Ага, они все нас не любят. Вот сам приедешь и узнаешь очень скоро, как они обращаются с нами, да как они смотрят и держат наших туркмен-бояров. Сердар Ага хочет скоро уехать к себе в Ахал. «Не могу служить дольше. Мне тяжело»! – говорит он.
Многие хорошие, старые опытные джигиты еще с дивизиона постепенно уходят. Если Сердар Ага уедет, то и мы все, джигиты, тоже не останемся здесь. Все поедем по домам, – сказал Ишан и глубоко вздохнул.
– Почему, Ишан, русские офицеры так плохо относятся к туркменам-офицерам и джигитам, когда мы все сыновья Ак-падишаха? – задал я вопрос.
– Ага, это верно, но почему-то они этого не знают и стараются не производить в офицеры наших заслуженных джигитов, а произведенных стараются как можно скорее выжить из полка и заменить их своими знакомыми или родственниками. Каждый раз приходится слышать, что русские офицеры ругают наших «необразованным чертом» и в собрании офицеров никому из них не дают слово вымолвить.
Все решают сами. А между тем за подвиги туркмен они получают первые знаки отличия, а за их спинами стараются прятать своих родных в качестве вольноопределяющихся, телефонистов, денщиков и т. д. Кто же виноват, Ага, в том, что туркмена ругают «необразованным чертом» в его же собственном доме? – закончил Ишан.
Я молчал. Погруженный в тяжелые думы, я не заметил, как мы подъехали к расположению полка. Я услыхал ржание туркменских аргамаков еще издали, увидел их привязанных на длинных веревках и с нетерпением ожидающих корма. Жеребцы были покрыты толстыми войлочными попонами, как у нас в Хиве. Высокие и статные аргамаки своим аккуратным видом произвели на меня приятное впечатление. Невольно я ушел, мысленно, при виде этих лошадей в мои родные степи, и мне живо представились туркменские аулы, их жизнь и как эти аргамаки там пасутся на свободе. Я вспомнил картины скачек.
– Ишан Ага, бу ким? (Кто это?) – вдруг раздался в темноте голос человека, переходившего шоссе к своей лошади с торбой на плече. Это был джигит полка.
– Эй, это бояр! К нам в полк едет.
– Как тебя зовут, бояр Ага? – спросил меня Ишан, который вспомнил об этом только теперь, когда его спросили.
– Орус му? (Русский?) – спросил опять тот же голос, в котором чувствовалась некоторая неприязнь.
– Нет, туркмен!
И, узнав, что я корнет Хаджиев, тотчас же Ишан обратился ко мне.
– Ага, про тебя мы слышали тогда, когда ты еще сюда не ехал. Про тебя говорил нам Сердар Ага. Ты, Ага, проси командира полка, чтобы он назначил тебя к нам, в 3-й эскадрон.
– А что говорил обо мне Ураз Сердар? – спросил я Ишана.
– Он рассказывал, что ты – первый хивинец, окончивший в России военное образование, и что твоего отца знает Сердар Ага, Гони бек и другие джигиты, отцы которых были друзьями с твоим отцом, ели когда-то хлеб-соль с одного достурхана (достурхан – скатерть) в Хиве.
– Хорошо, увидим! Если командир полка разрешит мне, то я с удовольствием войду в ваш эскадрон, – успокоил я моего спутника.
– Ты, Ага, говорят мулла-бояр (образованный), а потому было бы хорошо, чтобы ты служил в нашем эскадроне.
Я опять сказал Ишану, что как у него, так и у меня есть хозяин – командир полка, от которого и исходит то или иное приказание.
– Ай жёйлэ дир Ага, жёйлэ дир (Так, так господин), – соглашался Ишан и вдруг спросил меня, в какой эскадрон я желаю ехать. Мы уже были в центре расположения полка.
– Веди меня к Сердару Ага, – приказал я.
Чтобы узнать о местонахождении квартиры Сердара, Ишан остановился перед одной хатой. Ржание лошадей и знакомая туркменская речь ясно и отчетливо долетали до моих ушей. Вот хата вправо от дороги, а внутри ее, расположившись кругом, сидят туркмены при свете тускло горевшей лампы. Их лица веселые. Им кажется, что они так беспечно сидят у себя в ауле вокруг очага в кибитке. Один из них играл на домбре (балалайка), а другой пел песни о том, как туркмены жили раньше и умирали. Вот кто-то преподнес сосредоточенно, серьезно слушавшей группе знакомый мне чилим. Ишан вошел. Все сразу повернули свои головы в дверь к входившему Ишану, который сказал: «Ассалаум алейкум, джигитляр (Здравствуйте, джигиты)». – «Валейкум ассалам», – дружно ответили все и тотчас же песня и музыка прекратилась, так как Ишан был одет по-походному и при винтовке. Мне было ясно видно, что делалось в хате, ибо стекла были чисто-начисто вычищены керосином заботливыми руками хозяйки русинки (русины моют окна керосином, чтобы всегда держать их чистыми от льда).
– Нэмэ хабар, Ишан Ага? (Какие новости?) – обратились джигиты к Ишану.
– Ага, хивинец офицер приехал к нам и спрашивает квартиру Сердара, – услышал я через открытую дверь ответ Ишана, после того как он сделал 2–3 глотка зеленого чая. Все сразу встали на ноги и, набросив на себя кто бурку, кто шинель, вышли приветствовать меня.
– Ассалаум алейкум. Ассалаум алейкум! – послышались голоса приближающихся в темноте джигитов и не прошло минуты, как они окружили меня, пожимая мне руки.
– Аманлык му, аманлык му, Ага? (Здоров ли ты?) – говорили они.
– Ну, Ага, милости просим к нам вовнутрь. Палау готов, отведай с нами. Рады будем, – предложил мне кто-то, очевидно хозяин собрания. Поблагодарив их за радушный прием, за милое дружеское приглашение, я попросил их отложить мое посещение до другого раза, так как, не представившись командиру и Ураз Сердару, не имею права это сделать, и, попрощавшись, поехал шагом, взяв от них джигита, который мог бы указать мне квартиру Сердара.
– Как наш Ахал поживает, Ага? Надеюсь, что ты через него проехал из Хивы, – спросил меня новый джигит.
– Ахал жив и здоров. Ждет от вас победы. Все девушки ждут вас; из них каждая мечтает выйти замуж за героя, – ответил я.
– Эй, Ага, давно бы мы «их» (немцев) уничтожили, если бы наш враг не был умнее нас. Мы, слава Аллаху, еще ни в одном бою не сплоховали, куда достигал наш ятаган, там не устоял враг. Но беда и горе в том, Ага, что он нами играет, как кошка с мышкой. С 1915 года мы в конной атаке не были. Все не подпускают к себе близко. У нас (у русских) если убьют одного солдата, то на его место подходит десять, а у наших врагов на место убитого солдата ставится пулемет. Таким образом, он вместо солдат весь фронт окутал проволокой, и, наставив отсюда до Берлина один за другим пулеметы и пушки, – сидит под землей, не подпуская нас к себе даже на двадцать верст. Аллах даст, вот сам убедишься, увидев всю технику нашего врага. Но не знаю, Ага, Ак-Падишах принимает ли меры против усовершенствований наших врагов, чтобы мы могли бороться с ним одинаковым оружием, – рассуждал он, идя впереди моей лошади.
Слушая рассуждение джигита, я вспомнил слова отца, говорившего: «Война – высшая школа для государства. Она открывает все силы и недостатки целого государства, отрезвляет подданных, заставляя их правильно мыслить и рассуждать и т. д.».
– Вот, Ага, Сердар живет здесь, – сказал джигит, остановившись перед одной хатой, стоявшей на правой стороне шоссе. Залаяла собака, лежавшая перед хатой. Вышел на лай собаки Назар – денщик ротмистра Арона, который, как помощник командира эскадрона, жил с Ураз Сердаром вместе в одной квартире.
– Кто? – спросил Назар.
– Я, корнет Хаджиев, бери вещи! Я к вам! – сказал я, отдав ему мой ручной чемоданчик и сам направляясь скорее в хату, так как на дворе стоял сильный мороз.
– Разрешите войти, – обратился я к офицерам, сидевшим за столом за бутылкой коньяка, сам оставаясь за порогом хаты. Офицеры взглянули на Арона (так как он был старшим офицером в эскадроне) и на меня.
– Да-с, да-с, зверь[1], рискните! – приказал, не оборачиваясь ко мне, ротмистр Арон.
Комната, в которой сидели офицеры, была маленькая, с двумя окнами, выходившими на шоссе, которое проходило тут же. Никакой особенной меблировки в этой комнате не было, кроме стола и стульев, на которых сидели присутствующие.
В одном из углов комнаты лежал сверток на сене, оказавшийся, как я узнал потом, постелью Сердара, который за неимением кровати спал на полу.
– По сто прыжков на каждого из нас, – приказал Арон, как только я очутился в комнате.
Не успел я окончить свои прыжки, как мне было приказано Ароном выпить вмиг азиатскую чашку коньяку за опоздание из отпуска, прежде, чем явиться к командиру полка, который, по их словам, был на меня зол, как Зыкач (так его называли офицеры в интимной беседе).
– На стол! – затем было приказано Ароном. – Танцуйте между бутылками так, чтобы ваши звериные копытца не касались стекла с благородным напитком.
– Нет, лучше пусть он изобразит Анну Павлову. Я хочу балет, хочу балет!.. – говорил кто-то тоже из «веселых». Я чувствовал себя неважно от выпитого коньяка и еле стоял на ногах.
– Зверь, что же вы, голубчик, стоите и не исполняете приказание старого ротмистра… а?
Здесь ротмистр, красный, веселый от выпитого вина, пустил одно словечко, свойственное кавалеристу. Я вскочил на стол. Вообразите меня, благосклонный читатель, в роли балетной танцовщицы Анны Павловой, на крохотном столике, да еще на голодный желудок. Подчиняясь приказанию, я начал исполнять мой номер,
Увы, балет был бы продолжен, если бы со мной не случилось одно происшествие, которого не случается, конечно, с Анной Павловой. В самый разгар моего исполнения вдруг от выпитого коньяка голова закружилась, и весь выпитый драгоценный напиток вышел фонтаном наружу.
– Назар, убери этого зверя, а то он вообразил, что в родных лесах, – крикнул ротмистр, и я тотчас же был выведен в соседнюю комнату хохотавшими у дверей Назаром и вестовым Сердара Баба.
Когда я очнулся, то было около восьми часов вечера, и я тотчас же, несмотря на сильную головную боль, отправился для представления к командиру полка.
– Что же вы, голубчик, просились на два месяца, а пробыли в отпуску два с половиной! А я здесь из-за вас офицеров не пускаю в отпуск, – говорил полковник Зыков, направляясь ко мне, как лев к своей добыче.
– Сережа! Пожалуйста, только не при мне! – обратилась тут же сидевшая жена командира, которая приехала навестить мужа, пользуясь отдыхом полка.
С ней я был знаком еще в бытность мою в училище, в Твери.
– А! А! Голубчик мой, – говорил, подходя ко мне и подавая руку, полковник Зыков.
– Разрешите, господин полковник, доложить вам, – сказал я.
– Докладывайте, докладывайте, я слушаю вас, – ответил он полусердито и полушутливо.
Свое опоздание я мотивировал тем, что плохая дорога заставила меня пробыть в пути больше двух месяцев и что дома я был всего-навсего четыре дня. Зыков согласился с моими доводами и, сменив гнев на милость, приказал адъютанту поручику Сомову, который замещал поручика Нейгарта, уехавшего в отпуск, заменить арест легким выговором мне в приказе по полку, однако и этого не состоялось по просьбе жены Зыкова.
Офицеры
Прошло два дня со времени моего приезда в полк, когда Сердар посоветовал мне явиться к командирам эскадронов. Самыми симпатичными из них, о которых идо сих пор я вспоминаю с удовольствием и которые впоследствии стали мне добрыми друзьями были: ротмистры Бек-Узаров, командир 3-го эскадрона; Натензон, командир 2-го эскадрона и поручик Раевский. Из туркмен – сам Сердар, прапорщики: Курбан Кулы, Кульниязов, Кишин Назиев, Баба Хан, Менгли Ханов, Танг Атар Артынов, Ата Мурадов, Коч Кулы, Шах Кулы и поручик Шакир-Ахметович Парпетов (крымский татарин). Конечно, кроме подполковников: Григорьева, начальника обоза и Эргарта, командира первого эскадрона! Последние два тоже когда-то были хорошими офицерами полка, но затем, благодаря их честолюбию и интригам, офицеры полка стали держаться от них,что называется, подальше. Еще подполковник Григорьев был хорошим собутыльником среди русских офицеров полка. Но когда он начинал выставлять свое «я», как старый офицер полка, якобы создавший полк и служивший с самого основания его, то в это время офицеры его просто называли Гри и говорили, что Гри опять «разошелся», и, забирая свои фуражки, спешили удрать. У него хватало бестактности называть офицеров молокососами, несмотря на то, что они служили в этом полку столько же, сколько и он. Эргарт был иного рода человек. В его характере и движениях лежал отпечаток обиженного судьбой человека. Кроме сухого устава и шагистики, он не знал и не интересовался ничем. Был с полезными для него людьми очень любезен, но, достигнув своей цели, резко менял тон, почти «не узнавая» их. Бывший пехотный офицер, он по какому-то недоразумению попал в дивизион. Несмотря на долгую службу с туркменами, он не постарался узнать психологию их, изучить язык и, не понимая их, часто попадал в смешное положение. Джигиты полка Григорьева называли Дэли бояр (сумасшедший офицер), а Эргарта – Капр бяур (поганый офицер).
Смеясь над последним, джигиты говорили друг другу:
– Если ты хочешь продать плохую лошадь, то продай ее Эргарту.
По отъезде джигитов домой, если у купленной лошади открывались какие-нибудь дефекты, то эти джигиты были для Эргарта разбойниками, персами и Аллах ведает кем. Поэтому Эргарт смотрел на них как на мошенников, а джигиты на него – как на человека, знающего их так же, как их лошадей. Если у него в эскадроне служили, то лишь благодаря тому, что там был один офицер, который действительно нравился всему первому эскадрону и пользовался уважением джигитов. Это был подпоручик Танг Атар Артынов.
В общем, туркмены-офицеры, как и всадники полка, органически не переваривали Эргарта. Хотя Эргарт об этом и сам хорошо знал, но продолжал служить в полку так же по недоразумению, как и попал в него.
– Балам, если ты хочешь изучить своего друга со всех сторон и проверить его дружбу, то соверши с ним путешествие. Путешествие наилучший экзамен для этого. В домашней обстановке и еж кажется мягким пухом. В Ахале все они были хороши, а в путешествии каждый из них обнаружил, каковы они в действительности, – говорили старики молодым, когда шел разговор о русских офицерах.
Эргарт с русскими офицерами не имел общения и сидел все свободные от занятий часы дома. Никто, как я уже говорил, из русских офицеров, а текинские и подавно, его не приглашал к себе и наоборот. В офицерских собраниях во время решения каких-либо вопросов, касающихся полка, оба подполковника являлись по приглашению офицеров, как старшие, для выслушивания мнения по тем или иным вопросам. В таких случаях, конечно, говорили оба, как старшие, и решали судьбы собраний; остальные офицеры, из уважения к их сединам и долголетней службе, не возражали, да и не хотели иметь в лице их противников в случае каких-либо пререканий. Туркмены офицеры иногда приглашались в собрания, а иногда нет – решение принималось и без их присутствия. Если их и звали, то для декорума. Они сидели и молчали. Если же кто-нибудь из них хотел что-либо сказать по существу данного вопроса, то сразу встречал нахмуренные брови и сверкающие глаза «обоих». Поэтому туркмены всячески старались избегать всяких собраний.
Мистул бояр, его лошадь и полярная звезда
Прапорщик Генэ Мистулов пользовался любовью своего эскадрона и уважением всего полка, как лихой джигит. Он состоял младшим офицером 3-го эскадрона. Жизнерадостный и всегда довольный жизнью, спокойный, беззаветно храбрый в боях, преданный друг в мирной обстановке, своими веселыми шутками он нередко вызывал здоровый смех джигитов под огнем врага. Под пулеметным и ружейным огнем вскочив на бруствер окопа, протанцевав лезгинку, он летел камнем в окоп. Результатом этой пляски являлся общий хохот и простреленная в двух-трех местах шинель. Подавленная напряженность джигитов проходила этим здоровым смехом, и они держались бодро в окопах, как и на спине лошади. Благодаря интригам Эргарта и Григорьева многие из лихих офицеров полка оставались в тени во время производства и раздачи наград. Одним из таких неудачников был и прапорщик Мистулов.
– Разак-бек, дорогой, – часто говорил он мне, – скажи пожалуйста при случае Зыкову и Сердару, с которыми ты в хороших отношениях, чтобы меня произвели в следующий чин. Ведь подумай сам – я служу в полку около двух лет, участвовал во всех боях и многие младшие-офицеры стали старше меня, а я все продолжаю гулять с полярной звездой.
– Ай, Мистул бояр, Мистул бояр! – говорили туркмены.
– Чья эта лошадь? – спрашивал туркмен туркмена, при встрече. Тот сразу отвечал, что Мистул бояра и уже после этого называл настоящего хозяина, если лошадь не принадлежала сидевшему на ней. Такой ответ вызывал обычно взрыв веселого незлого смеха у всех. Причиной этого со стороны джигитов было то, что Мистул бояр, служа в полку, не имел лошади, на жалованье, получаемое из полка, приобрести ее не мог, а деньги, получаемые от брата генерала Мистулова шли на товарищеские попойки. Среди джигитов была еще другая поговорка о нем. Если кто-нибудь из увольняемых джигитов, уезжая домой, хотел продать свою лошадь, то первым долгом задавал покупателю вопрос: «Как ты хочешь купить мою лошадь – как Мистул бояр или как настоящий покупатель?» Серьезный покупатель сразу садился на нее и, проехав версту, платил деньги и уводил ее за собой, а если говорил, что он хочет купить, как Мистул бояр, то хозяин предлагал ему лошадь даром и просил, чтобы он его оставил в покое.
Не любил Мистул бояр встречаться с командиром полка, но если происходили такие «счастливые» случайности, то после милых разговоров с ним он бросался на поиски себе лошади. Находился джигит, который искал покупателя для своей лошади и Мистул бояр брал ее на пробу. Продержав ее у себя день-два, он возвращал ее хозяину, говоря, что она ему не нравится. В это время, когда он гарцевал на испытываемой лошади, командир его эскадрона ротмистр Бек-Узаров и другие офицеры полка, заметив это, говорили друг другу, что наконец-то прапорщик Мистулов себе покупает лошадь, и разочаровывались, узнав, что покупка не состоялась, так как на задней левой ноге лошади не хватает одного гвоздя. Возвращая лошадь хозяину ее, Мистул щедро платил за пробу. Джигит, получая деньги, говорил:
– Ай, Мистул бояр, Мистул бояр, если бы кто-нибудь другой со мной так поступал, я бы за это убил его, но это делаешь ты, а тебя мы любим, и за это ты режешь нам голову!
После этого туркмены между собой говорили:
– Лошадь продавай Эргарту, а Мистул бояру отдавай напрокат, так как оба хорошо платят.
Наконец командиру полка надоел метод покупки лошадей Мистул бояра, и он ему в категорической форме приказал приобрести лошадь. По этому поводу домой пошла телеграмма перед выступлением полка в поход: «Полк готовится к лихим делам, вышли 600». Конечно, полученные деньги шли на обычные товарищеские пирушки.
– Что я, дурак покупать лошадь! Когда мне полагается казенная лошадь!! Ты сам пойми, Разак-бек, мне ли, несчастному, недолговечному в этом полку прапорщику, сидеть с одной полярной звездой на туркменском аргамаке. Это совсем не к лицу мне. Когда появится у меня другая звезда и я буду уверен, что интриги этих двух полковников будут уничтожены, тогда и лошадь куплю, – говорил он.
– Да у тебя, как и у нас, Мистул бояр, никогда не будет другой звездочки, так как тебя не любит Эргарт и Григорьев, – смеялись туркмены-офицеры при интимной беседе.
– Тогда у меня и лошади не будет, – отвечал Мистул бояр.
– Вы еще не знаете, как хитры бывают осетины, – говорил он и в доказательство рассказал анекдот, который до сих пор остался у меня в памяти.
– Однажды осетин вез овес. По дороге его встретил товарищ и спросил, что он везет.
– Овёшь! – шепотом произнес тот.
– Что? Овес? – громко переспросил его приятель.
– Ради Бога! Умоляю! Не произноси это слово громко – моя лошадь голодная и может попросить.
Все хохотали.
Этим кончилась попытка Мистула бояра купить лошадь, а со стороны командира полка – все его усилия. И как только потом начинался разговор о лошадях, Мистул бояр умолял говорившего прекратить его, так как голодная лошадь может услышать, – т. е. Зыков.
Трехчасовые чаи
Была оттепель. Снег таял и, превращаясь в мутную воду, протекал по канавам, шедшим по обеим сторонам шоссе. Птички чирикали неумолчно, чувствуя близость весны. У каждого на душе была радость при виде зеленой травки, пробивавшейся на полях, освободившихся от снега.
Третьего марта 1917 года утром вбежал ко мне в комнату вестовой полковника Ураз Сердара, Баба, с приказанием немедленно явиться к нему. Баба был бледен и чем-то взволнован. На мой вопрос, что могло случиться с Сердаром, так как в пять часов утра я вернулся от него, чтобы выспаться до семи, – Баба ответил незнанием. Считаю нужным сказать, что Сердар имел обыкновение рано ложиться и очень рано вставать. Вставал он аккуратно в три часа утра и больше он не спал, проводя время в чаепитии и в беседе с Курбан Кулы и со мной. Как только он открывал глаза, первая его фраза была вызвать Курбан Агу или же меня.
– Садись, Хаджи Ага! Давай поговорим! – с этими словами Сердар всегда меня встречал. – Я знаю, Хаджи Ага, что тебе все равно надо вставать в три часа для своего намаза, а потому я зову тебя сюда, чтобы поболтать. Совершить намаз можешь при мне, ничуть не стесняясь. Сам я, несмотря на то, что мусульманин и имею пятьдесят лет от роду, не совершил ни одного раза намаз в своей жизни. Молясь, ты и Курбан Ага просите Аллаха и за меня, чтобы Он разрешил мне, старому грешнику, все-таки попасть в рай, – говорил потом за чаем Сердар.
– Все в тебе я люблю, Сердар, но когда думаю, что ты ни разу в жизни не совершил ни одного намаза, то едва ли наши просьбы о тебе Аллах услышит, – отвечал в свою очередь религиозный до глубины души Курбан Ага.
Сердар только хохотал на недовольство Курбана. Если мы заставали Сердара еще в постели, то мы совершали намаз с Курбан Ага до того времени, пока Сердар умывался и садился за стол. Окончив намаз, я и Курбан Ага присоединялись к Сердару пить гёок-чай, и начинались воспоминания о былых днях Ахала, Хивы и о наших отцах.
Между прочим, однажды Сердар рассказал нам, как его отец, Дыкма Сердар, после завоевания Ахала был представлен генералом Скобелевым Императору Александру ІІ.
Государь, ласково приняв старика, спросил, какой подарок привез Дыкма Ему из Ахала? Быстро сняв свою папаху, старый Дыкма предложил Государю свою седую голову. Присутствовавшая в это время Государыня, которой очень понравился удачный ответ старика, задала вопрос, в свою очередь спрашивая, что он привез для нее. В ответ на это Дыкма толкнул к ее ногам Ураза, которому в то время было пять лет. Взяв Ураза, Государыня определила его в Пажеский корпус. Получив военное образование под Высочайшим покровительством, он вышел в один из драгунских полков.
Жизнь в России не пришлась ему по душе – его тянуло в родные степи. Он вернулся в Ахал и поступил в Туркменский дивизион.
Все эти воспоминания о своей жизни он рассказывал мне за чашкой зеленого чая, который он пил в изобилии и запасы которого держал всегда в большом количестве. Выпивал же он всегда один от трех до четырех чайников гёок-чая.
– Курбан Ага, расскажи нам, как ты со своими джигитами при обороне Гёок-Тепе вырезал русский полк и захватил знамя, – просил Сердар.
– Эй, что там рассказывать! Это было давно, – говорил Курбан Ага нехотя, гладя свою выкрашенную, как смоль, бороду. После долгих упрашиваний он согласился и рассказал нам, как однажды ночью, раздевшись догола с джигитами, вооруженными только ятаганами, они напали на русских и вырезали их до одного.
– Почему же вы шли голыми? – удивленно спросил я.
– А, балам, раньше наши мамаши в Ахале не знали ткать хаки. Если же мы пошли бы в своих белых бязевых рубашках, то нас сразу бы заметили. Тело же у нас черное, ночь была темная и в двух шагах нас никто не заметил. Да все это не так интересно. Вот лучше расскажу вам о смерти друга ваших отцов Аман Гельди Геля, – сказал Курбан Ага. – Когда русские взорвали стены Гёок-Тепе и ворвались в брешь, образовавшуюся от взрыва, Аман Гельди, войдя на крепостной вал, стал совершать намаз. Близкие начали упрашивать его сойти с вала и бежать, на что он им ответил: «Я не хочу жить в Ахале, который теперь принадлежит гяурам», – и продолжал молиться. Он был убит первым – ворвавшиеся солдаты подняли его на штыки.
Много еще рассказывал Курбан Ага. Рассказы эти меня так волновали, что я забывал о сне и о количестве выпитых чайников зеленого чая.
Свободушка
Я быстро оделся и поспешил к Сердару. По дороге опять задал вопрос насупившемуся Баба, в чем дело и здоров ли Сердар.
– Эй, Ага, Сердар-то здоров! Только он получил от командира полка приказание к 9 ч. утра собрать своих офицеров и прибыть к нему. Сердар Ага говорит, что Ак-Падишах отрекся от престола и что в Петербурге бунт.
Меня эта весть чуть не свалила с ног. Сразу представилась мне Россия в виде моей Хивы в дни бегства Хана из нее, перед приходом русских. Погромы, насилие, бегство трусливых и двуличных сановников, оставивших Хана одного, и торжество персов во главе с их представителем[2] Мат Муратом.
Сердар сидел без тюбетейки, что бывало с ним в минуты сильного волнения, и был хмур.
– Еще раз доброе утро, Хаджи Ага! Садись, садись. Я хочу посоветоваться с тобой и Курбан Ага (он пришел раньше меня к Сердару) относительно того, как подготовить и сообщить туркменам о комедии, разыгранной нашими верхами. Падишах отрекся от престола, ты это знаешь? Итак, весьма слабый по своему составу полк, жаждущий и тоскующий по родным степям, может потребовать от меня, чтобы я вывел его домой. Ты знаешь и понимаешь, что значит это отречение Падишаха-Сердара для кочевника. Каждый из них будет думать – раз сам Сердар ушел, то нам и подавно нужно разъехаться по домам, так как воевать без Сердара равносильно стаду быть без пастуха. Возмутительно, возмутительно, – повторил он и, встав, начал ходить из угла в угол комнаты.
– Мне тоже не нравились злоупотребления, которые делали русские чиновники в моем родном Ахале при нынешнем строе, но все же я нахожу преступлением делать переворот, когда враг стучится в дверь страны. Мерзавцы продали страну! Подождите – покажет вам немец такую свободу, что долго под его сапогом будете работать и чтобы научится, как жить и быть свободными людьми, а не только мечтать о свободе.
Я напомнил ему о Мат Мурате и о его действиях по отношению к хивинцам ради освобождения своих персов из рук хивинцев. Он согласился со мной и сравнивал роль Мат Мурата с ролью немцев в России.
– Я опозорен пред туркменами в Ахале. Когда я им сказал, что Россия в опасности и честь ее надо отстоять, – они как один человек пошли за мной. Господи, как я верил в благополучный для России исход войны! Все наши победы, все потери и столько пролитой крови пропало даром! Как же теперь нам выйти с честью из этой грязной каши и в добром здоровье доставить оставшихся в живых джигитов к их родным в Ахал?! Я не верю этой их свободе. Они продадут ее так же, как продали сейчас Россию. Украденная свобода впрок не пойдет, – говорил в отчаянии старый Сердар.
Курбан Кулы сосредоточенно молчал. Он был бледен и то и дело нервно глядел в окно. Сердар глубоко вздохнул, остановился посредине комнаты, еще что-то хотел сказать, но в это время начали входить офицеры, русские и туркмены.
Позже всех явился поручик Рененкампф и передал приказание полковника Зыкова явиться к нему.
– Нэмэ хэбар, Хаджи Ага? – спрашивали офицеры-туркмены знаком подбородка и бровей. Я молчал.
Когда все офицеры четвертого эскадрона были налицо, Сердар надел свою папаху. Курбан Кулы подал ему шинель, и все вышли.
Русские офицеры и Сердар отправились вперед, а я в группе офицеров-туркмен шел сзади.
Офицеры-туркмены были ошеломлены, услышав об отречении Падишаха-Сердара.
– Посмотрим, что они сделают дальше и кого посадят во главе управления и армии! – бурчали между собою растерянные туркмены.
– Нет, балам, Россия теперь погибла! – заговорил вдруг, глубоко вздохнув, Курбан Ага, до этого шедший молчаливо.
– Почему? Разве возможно, чтобы погиб стопятидесяти-миллионный народ? – удивился Баба Хан.
– Если хочешь знать, то да! – ответил Курбан Кулы.
– Почему? – опять задали вопросы.
– Очень просто! – ответил он. – Россия была могущественная и великая тогда, когда во главе ее был один человек, которого мы называем Ак-Падишахом. Во время его управления хотя и было трудновато народу, но как-то все проходило. Чиновники были нечестны, получая от Царя жалованье и недобросовестно исполняя свои обязанности. Все это было плохо, но будучи привязано к ногам одного человека, держалось крепко. Теперь этот человек ушел, и завтра же откроются все слабые стороны новых правителей, убравших Царя и захотевших самим быть на Его месте. Скоро эти господа, не подготовленные к деятельности правителей и севшие не в свои сани, будут бегать от народа, который потребует от них то, что они обещали и что, по «их» словам, не давал ему Царь. Начнется борьба за власть, один глупец будет вырывать власть у такого же, как он сам. Ради достижения своей цели, прольют море крови. Россия будет носиться по морю крови, как корабль со сломанным рулем. Все устроившие революцию и сочувствующее ей, будучи пришиблены ее волной и желая подделаться под общий тон, будут кричать: «Мы сделали революцию для народа», а народ этот – темный и неподготовленный. Он же и пойдет против «них» же самих. Они будут кричать и шуметь: «Пусть сейчас хуже, а потом будет лучше». Но никто уже им не будет верить. И как «они» могут говорить, что сделали эту революцию для народа, когда «они» и запросов его не знают. Прежде чем дать свободу, надо было бы узнать, готов ли и хочет ли ее народ? Вот, например, я сам – представитель народа, мне 60 лет, а я не радуюсь сегодня, а проклинаю моей сединой тех, которые разрушили в этот день свою и мою родину, Ахал. Я это чувствую и уверен, что это будет так. С этого дня Россия будет принадлежать тем, кто ее захватит, и только Аллах знает, кто будет ее правителем. Я очень боюсь, что иностранцы, использовав эту свободу, разрушив уже потрясенную Россию до конца, через самих же русских, доведут ее до состояния Персии, чтобы в будущем диктовать ей свои условия. Помнишь, Хаджи Ага, ты читал в одном номере петербургской газеты в 1915 году, было напечатано аршинными буквами, что наконец-то мечта русского народа сбылась. Дарданеллы форсированы мощным флотом союзников, и Константинополь переходит со священной церковью Айя-София в руки русского народа и вместо полумесяца будет над ней сиять крест. Вместо Айя-Софии с этого дня «они» поставили крест на России! Ведь эта насмешка была устроена врагами России, находившимися внутри ее, чтобы народ открыл глаза и, потеряв веру в правительство, легко пошел навстречу разрушению, с одной стороны, с другой – подорвать авторитет русского человека в глазах многомиллионного мусульманского мира, который должен был тоже думать о том, за что же он в конце концов борется, если Россия хочет сменить полумесяц крестом?! Были люди в России, доведшие ее до такого могущества, пред которым преклонялся весь мир. Теперешние господа продали ее, как блудный сын, размотавший наследство отца и не подумавший, какими усилиями и какой ценой собрал его отец. Нет, с этой минуты не собрать России! Поэтому я говорю и чувствую, что с этого дня Россия погибла, т. е. ее продали. Хозяева ее теперь не русские, а все те, кто за нее заплатил!
– Кто же за нее заплатил, по-твоему, Курбан Ага? – спросил я невольно, сам не свой.
– Хотя бы те же немцы и англичане!
– Как же так англичане? Ведь они наши друзья, а немцы наши враги, – удивленно заметил Шах Кулы.
– Прежде чем быть другом англичанина, не мешает взять несколько уроков у немца, как с ним надо дружить! – закончил старый Курбан.
Зыкач сердится
Я был растерян и совершенно озадачен словами старого Курбана и долго бы пребывал в таком состоянии, если бы сильный стук и удары по чему-то, несшиеся из комнаты командира полка, не привлекли мое внимание. Это ударял по столу кулаком Зыкач бояр – как называли его турмкены.
Потрясенный внезапным отречением Государя и ударяя кулаком по столу, возмущенный и красный, как рак, он кричал:
– Это безобразие, гадость, черт знает что! Какая-то группа мерзавцев во главе с дрянным адвокатишкой из жидов вздумали царствовать! Вы мне скажите, пожалуйста, – как вам нравится этот жидовский царь? – обратился он к нам, забыв предложить нам сесть.
Передохнув немного и узнав, что все офицеры в сборе, он, обратившись к своему адъютанту, приказал:
– Поручик Нейдгарт, прочтите вслух господам офицерам телеграмму этого… – здесь он пустил одно характерное словечко, которое без разрешения автора воздержусь написать.
Поручик Нейдгарт медленно начал читать сперва акт отречения Государя, Великого Князя Михаила Александровича и, наконец, указ Временного правительства. Когда при чтении он произносил имена Керенского, Гучкова и других, то Зыков сжимая кулаки, сверкая очами, подпрыгивал на стуле. Во время чтения я наблюдал за лицами всех присутствующих. Сердар и туркмены были мрачны и переживали тяжелые минуты, опустив головы, – все молчали. Лицо Кюгельгена[3] выражало полнейшее спокойствие, и за все время чтения ни разу это выражение не изменилось. Мне показалось, что он давно был к этому подготовлен. У Эргарта на лице кроме спокойствия еще было выражение, говорившее: «Ну что же особенного. Раз все это случилось, ничего не поделаешь. Скоро разъедемся по домам!» Григорьев был зол, но мне показалось, не потому, что России грозит опасность, а потому, что он не сможет кричать на офицеров и джигитов, что они молокососы, что он создал полк и т. д., так как ему теперь будут на это возражать, ибо он никогда ничего не создавал, да и не был способен создать что-либо. Курбан Кулы был желт. Я его знал таким только в минуты сильных волнений. Зыков, старый воин и как истинный русский человек, любящий беспредельно свою родину, был безгранично потрясен до глубины души. Не стесняясь присутствием офицеров, он плакал и сквозь слезы говорил:
– Вот вам, господа офицеры, дослужились! Слышали, что вам сейчас читал поручик Нейдгарт? Государя-то сместили в такое тяжелое для Родины время, не говоря ни слова ни армии на фронте, ни русскому народу. Вы согласились бы туркмены, чтобы Царя в такие роковые для России минуты сместили, а? Ведь какая-то сволочь с Гучковым и Керенским во главе дерзнули на Императорский трон – а? Как вам это нравится, господа? Я первый присягать этой сволочи не буду, я не верю «им», а вы, господа офицеры, как хотите. Сегодня им вздумается посадить на трон адвоката Керенского, а завтра Гучкова, не спрося согласия тех, которые здесь, в холоде, в голоде, защищают дорогую нам Русь, а в тылу, в царских дворцах, восседают люди, и тень которых не дерзнула бы явиться на порог дворца, когда в нем жил Государь Император! – закончил Зыков, то краснея, то белея от злости и от внутренних переживаний.
– Вот, Хаджи Ага, сын мой, не правда ли то, что я говорил, когда мы шли сюда? – обратился Курбан Ага ко мне, когда мы вышли от Зыкова. – Ты слышал, что первый Зыкоу бояр не признает Временного правительства, а таких Зыкоу бояров 150 миллионов в России. Значит, каждый будет говорить о себе и каждый будет не согласен и будет стараться добиваться власти. Так и пойдет кутерьма по всей России! Вот эту-то кутерьму иностранцы и используют в свою пользу и заварят в России такую кашу, что расхлебать ее смогут только они, сделавшись хозяевами ее, – говорил он.
– Да, Курбан Ага, это совершенно правильно, что русские ошиблись с этим и потому сгорят, как бабочка в огне. Сейчас нужен России Сердар, пока армия на фронте, – Сердар с железной рукой, тогда что-нибудь выйдет, – вставил Шах Кулы.
– И Царь тоже растерялся! Разве власть ему легко досталась, чтобы ее так легко сдать, как он ее сдал теперь!! Но, конечно, все это от Аллаха. Когда Он посылает кому-нибудь несчастье, разум человека исчезает, – говорил Баба Хан.
– Кого ты называешь иностранцами, Курбан Ага? – спросил я, очнувшись от тяжелой думы.
– А всех тех, которые не любят свою родину, балам, – ответил Курбан Ага.
– Знаете, господа, Зыкач сердит сегодня! Не хотел бы я сейчас попасть к нему под руку, – вмешался Силаб Сердаров, подходя к нам, и передал мне, что меня зовет Сердар.
За палау (За пловом)
В один ясный солнечный день я сидел в кругу джигитов у себя на квартире. Я жил с Курбан Ага в одной комнате. Как я уже говорил раньше, в полку была традиция среди туркмен, что вне строя джигиты запросто могли приходить к своим офицерам мусульманам, есть у них палау (плов), беседовать и дружески проводить время. Эту традицию поддерживал и командир полка, часто приходивший запросто ко мне пить чай и беседовать с джигитами. Курбан Ага, только что окончив свой намаз, восседал в ожидании вкусного плова, мастерски приготовленного рукой Беляк батыря. Молодой туркмен, внук Аман Гельди Геля, убитого во время молитвы на крепостном валу Гёок-Тепе в день его взятия русскими войсками, обратился ко мне:
– Спасибо тебе, Хаджи Ага, что всегда делишься с нами тем, что сам знаешь. Все твои сообщения для нас, неграмотных, очень дороги. Мы не можем себе дать отчета, что творится сейчас вокруг нас. Джигитов, Ага, волнует сейчас вопрос, вернется ли Царь опять, будет ли продолжать войну, а если нет, то скоро ли они смогут вернуться в Ахал? Скажи, Хаджи Ага, если Царь не вернется, то кому мы должны служить и кто будет старшим над Россией и армией? Сердар Ага все молчит и думает. Быть может, ты что-нибудь слышал от Сердара, что он собирается делать? Вчера я был у него, и на мой вопрос, что будет дальше, он ответил, что сам он не знает, что и как быть дальше, так как он еще не разобрался в политической обстановке. Во всяком случае, он посоветовал ждать и терпеть.
Кстати сказать, что Сердар, вообще молчаливый по природе, после объявления свободы стал еще больше молчаливым и невеселым. Во время чаев он немного говорил, а только слушал и смеялся не от души.
– Ты, Гени-бек, говоришь, что Сердар сказал: надо терпеть?
– Да, – ответил Гени-бек.
– Ну если Сердар один раз сказал слово «терпеть», то я повторю это слово три раза, так как терпение – ключ к блаженству. Это сказано в Коране. Мы, мусульмане, должны быть терпеливыми.
– Верно, верно, Хаджи Ага, – поддержал меня полковой мулла, всегда молившийся со мной и Курбан Кулы.
– Слушай, Гени-бек, текинцы еще не вложили свои ятаганы в ножны. Наш враг еще не ушел. Он стоит еще на фронте и хочет уйти последним. Как ты думаешь, текинцу, славному воину, подобает сейчас бежать в Ахал с поля брани? Ты внук честного героя, патриота Ахала и защитника его славы и чести, Аман Гельди Геля. Он умер, произнося имя Великого Аллаха, но не говоря слова «кач» (бежать). Ему было легче умереть, чем видеть позорную церемонию сдачи Гёок-Тепе, который он защищал так свято. Он своей кровью нам оставил завет, как надо умереть туркмену, его потомству, из-за любви к своей родине. Если он умер за свой родной Ахал, то мы тоже должны умереть за родину, родину старшую – Россию, так как Ахал теперь составляет ее часть. Вы пришли на зов Сердара не по принуждению, а по доброй воле грудью отстоять ее честь и дали в этом слово. Нарушителю слова пошлют свое проклятие из глубины своей могилы – Аман Гельди Гель, Дыкма Сердар. После этих героев проклянет их Россия и потомство! Вот что я скажу тебе. Это можешь передать всем тем, кто желает знать мое мнение.
Все молча и сосредоточенно выслушали до конца. Никто ни одного слова не произнес. Только хруст от ломания пальцев и глубокие вздохи Курбан Ага нарушали тишину.
– Макул, макул! Правильно, правильно! Сильные, разумные слова! – говорил мулла, ломая пальцы. Темно-бронзовые лица присутствующих глядели сосредоточенно.
– Мне кажется, больше того, что сказал Хаджи Ага, никто нам так ясно и искренно не сказал до сих пор и не скажет. Мы, туркмены, должны, как сказал Хаджи Ага, уйти с фронта после немца и даже после самого уруса, – поддержал меня молодой Баба Хан Менгли Ханов.
– Палау готов, прикажите подать? – произнес Бёляк батыр. Все поднялись и вышли в соседнюю комнату, чтобы мыть руки, а Курбан Ага, погладив мне лоб, сказал:
– Живи долго, сын мой! Сильно и хорошо ты ответил! Этот ответ мне запомнится.
Палау был подан, и не успели мы его начать, как в дверь послышался стук и голос Сердара, спрашивающего разрешения войти.
Мы все поднялись ему навстречу.
– Вечно, Хаджи Ага, у тебя сборище джигитов. Чем ты их приворожил, что все они тянутся к тебе? И ты здесь, Гени-бек? Ты ведь, кажется, сегодня дежуришь, балам, по эскадрону? – говорил Сердар, садясь с моего разрешения на кровать, так как мы все сидели на полу на чудных текинских коврах.
– Нет, Сердар Ага, я сегодня не дежурю. Моя очередь завтра, – ответил Гени-бек, обращаясь к Сердару, который, сняв папаху, приготовился к встрече гёок-чая, поданного по моему приказанию, так как он отказался от палауа.
Мы дружно принялись за палау.
– Однако аппетит у тебя, Хаджи Ага! Ведь ты сейчас с нами обедал (я столовался с Сердаром вместе и никогда не отказывался от палауа в обществе Курбан Кулы и Беляк батыра) и вот опять ешь палау! – шутливо заметил Сердар, поднося к губам чашку зеленого чаю.
– У меня, Сердар Ага, такой же аппетит к палау, как у тебя к гёок-чаю. – Меня поддержали смехом.
– Да! Ты прав, Хаджи Ага! Что касается зеленого чая, то я хоть с утра до ночи готов его пить. Мы же ведь туркмены! – соглашался Сердар.
– У нас, Сердар Ага, у хивинцев, есть одна поговорка, которая говорит, что от безделья и желудочная боль кажется музыкой. Так и ты с утра до вечера пьешь гёок-чай ради времяпрепровождения, – сказал я. Последовал опять взрыв смеха.
– Я тебе, я тебе с твоей хивинской поговоркой! – бил Сердар меня слегка стеком по спине.
– Сердар, он, по твоим рассказам, как его отец, – веселый собеседник. Поэтому мы всегда с ним, – говорил мулла.
– Да, да, я знаю! – соглашался Сердар, глотая гёок-чай.
Палау кончился. Наевшиеся гости еще не поднимались с мест. Курбан Ага гладил сильной рукой свою выкрашенную бороду, произнося «Хвала, Тому, Кто создал рис!». В это время в комнату торопливо вошел мой преданный денщик Фока Штогрин и, увидев Сердара, смутился.
– Здорово, молодец! – поздоровался с ним Сердар.
– Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие, – отчеканил тот.
– Что скажешь, молодец, если не секрет и если твой барин не послал тебя с запиской к той дамочке, которая живет у речки… Я ведь все знаю, брат! Знаю также, что твой барин ухаживает за ней ночью, когда все спят, – сказал Сердар, шутя грозя стеком, глядя то на меня, то на денщика.
– Сердар, разве ты сам не был таким, как Хаджи Ага, двадцать лет тому назад? Не ты ли делал стоверстные переходы, чтобы принять чашку чая из ее руки?! – подмигнув присутствующим правым глазом, вставил Курбан Кулы.
– Да, ездил! А кто же ее мне показал, как не ты сам? Ты тоже, Курбан Ага, не святой, хотя каждый день аккуратно пять раз совершаешь намаз и сейчас бы ты не прочь… но суровой жизнью утомленный, не можешь быть полезным. Напрасно, Курбан Ага, чтобы показаться русинкам молодым, красишь свою бороду, – хохотал Сердар, заражая всех веселым здоровым смехом. Сердар считал Курбан Кулы своим и всегда любил его общество.
– Разрешите доложить их благородию! – наконец обратился молчаливо и терпеливо ожидавший конца разговора Фока. Извинившись, я вышел в соседнюю комнату.
– Ваше благородие, сейчас получен приказ из Петрограда, что солдаты не должны признавать вне строя своих начальников и называть их по чинам. Мне это сейчас сообщил старший урядник обоза, а тому по секрету сообщил его друг, старший писарь. Приказ этот еще командиру полка неизвестен. Ради Бога, Ваше благородие, не говорите еще Сердар Ага, а то он будет думать, что я у вас как бы шпион, и солдаты обоза тоже будут относиться дурно ко мне, – говорил Фока.
– Почему же ты тогда меня называешь Ваше благородие?
– Никак нет! Вы для меня были и остаетесь Ваше благородие, – ответил Фока.
– А как же приказ? – спросил я.
– А, Ваше благородие, дураки сидят в тылу, и они выдумали, которым нечего делать, – воскликнул Фока.
Не прошло и пяти минут после разговора с Фокой, как вошел от командира полка его вестовой с приказанием Сердару немедленно явиться к нему.
– Ах, Зыкач, Зыкач, опять что-то случилось! – говорил Сердар, вставая, чтобы пойти к командиру полка.
Присяга
– Ну будь здоров, дорогой сын! Желаю тебе счастья и здоровья на поле брани. Если Аллах даст живым и здоровым добраться мне до Ахала, то постараюсь известить твоего отца, что тебя любят туркмены и ты отличный сын, – говорил Арчин Ага – глава делегации, родом из аула Гёок-Тепе, который привез в полк запасных джигитов и пожелал узнать о житье-бытье джигитов в полку.
– Как вы устроились с винтовками, куда и хорошо ли их спрятали? В вагоне попадетесь, будет скандал, – говорил помощник Арчин Ага (их было девять человек представителей из разных аулов) уезжавшим вместе с ним в Ахал уволенным джигитам.
– Не беспокойтесь, Арчин Ага, если сам отец обыщет нас и то не найдет! – говорили джигиты.
– Интересно все-таки, как прячут они оружие, предназначенное в Ахал? – поинтересовался я, подходя к Баба Хану.
– У каждого из этих дьяволов есть своя манера и секрет везти оружие, – сказал мне Баба Хан и тут же обратился к одному из джигитов: – Эй, Чары, иди сюда, где твоя винтовка, которую ты везешь домой? – спросил Баба Хан.
– Ищи сам, Баба Хан! Если найдешь, твоя будет, – сказал, смеясь, джигит.
Баба Хан и я тщательно обыскали его и, к нашему удивлению, не могли найти.
– Где же твоя винтовка? Покажи сам! – удивленно спросил я джигита.
– Вот она, Ага! – показал он на балалайку, в грифе которой был спрятан ствол.
Азиатская балалайка имеет большой круглый корпус – в него-то джигит и спрятал затворы от трех винтовок. «Ложа нам не нужна, в Ахале сделаем сами», говорили джигиты, провозя таким образом домой много оружия. Кроме австрийских и немецких винтовок, каждый из джигитов вез револьверы, патроны, гранаты. Каждый джигит должен был вооружить свой дом и друзей, а лишнее продать по высокой цене в Хиву иомудам, персам и в Афганистан. Кстати, замечу, что хивинские иомуды вооружились за счет фронта через текинцев, а все-таки главным образом через армян, которые заполнили огнестрельным оружием Персию и Хиву за счет Кавказского фронта.
Занятый рассматриванием оружия и удивленный хитростью туркмен, я не заметил подошедшего Баба, передавшего мне приказание Сердара явиться к нему. Попрощавшись с делегацией, я отправился к Сердару, которого застал, по обыкновёнию, за гёок-чаем.
– Садись, Хаджи Ага, есть важная новость, и я хочу посоветоваться с тобой по этому поводу, – сказал Сердар, протягивая мне пиалу с гёок-чаем.
Наступила тишина, прерванная Сердаром.
– Командир полка получил телеграмму, предупреждающую о приезде комиссаров для присутствия во время присяги полка Временному правительству. По этому поводу вы, переговорив с муллой, приготовьтесь к церемонии. Мне кажется, не все джигиты хорошо знают молитву для этого случая. Если нет, то научите их! – закончил Сердар.
Наступила тишина, которую опять нарушил Сердар.
– Как мне, Хаджи Ага, не хочется присягать этой сволочи, а все-таки придется, иначе нас могут объявить бунтарями и тогда ни за что ни про что полк погибнет здесь, в этом хаосе.
– Джигиты могут сказать вам, Сердар Ага, что зачем нам присяга, если мы раз присягали на верность России. Для нечестного воина присяга не имеет цены – он ее может нарушить в любое время. Если в состав Временного правительства вошли люди не русские, а иностранцы и не доверяют нашей первой присяге, то, Сердар, разреши нам, скажут джигиты, разъехаться по домам, – сказал я.
– Вот этого-то, сын мой, я и сам боюсь! Ах, если бы была возможность избежать этой комедии, я бы с удовольствием это сделал, но, конечно, не осложняя положение полка. Кроме того, – добавил он, протягивая мне четвертую по счету пиалу, – по приказанию командира полка все приказы, получаемые из Петрограда, будешь переводить на туркменский язык ты, а читать их – мулла, так как боюсь, что джигиты по приезде в Ахал будут иметь на меня претензию, что я их не держал в курсе всех событий, – закончил Сердар.
Выслушав Сердара, я просил разрешения высказать свое мнение.
– Говори, Хаджи Ага! Я слушаю тебя!
– Сердар Ага, ведь есть выход из всякого положения, как бы ни было оно сложно.
– Ну-ка, ну-ка, обрадуй! – перебил меня Сердар и крикнул: – Баба, тащи другой чайник гёок-чая!
– Я думаю, Сердар Ага, что в присутствии приезжих комитетчиков мы прочтем молитву о даровании победы России, и весь полк поднимет руки к небу по прочтении муллой маленькой выдержки из Корана. Джигитов, если надо, предупредим об этом. Молиться будем, прося у Аллаха победы и благополучного возвращения в Ахал, это с одной стороны, а с другой – помолимся по убитым туркменам в эту войну! – предложил я.
Сердар не знал, что делать от радости, и сейчас же, забыв о своем приказании подать новый чайник гёок-чая, ушел к командиру полка.
Командир полка Зыков был очень рад этой идее и, вызвав меня, пожал руку.
– Жидам? Присягнуть? Нет! Я верю в Промысел Господа Бога. Эта нечисть долго держаться не будет. Разлетятся! Не правда ли, корнет Хаджиев, – обратился Зыков, протягивая мне гёок-чай. Он тоже любил пить его, но, конечно, не в таком количестве, как Сердар.
Была пасмурная погода, когда полк молча, в пешем строю, при штандарте, выстроился в поле. Пришлось ждать довольно долго товарищей-комитетчиков. В конце концов они прибыли. Лица их не внушали доверия, по выражениям лиц у туркмен. Полк замер, и мулла в торжественной обстановке и в глубокой тишине начал медленно читать главу из Корана, как вообще он читал во время общей молитвы. Товарищи комитетчики, украшенные красными бантами, величиною с тарелку, стояли молча с опущенными головами. Мулла кончил и молча поднял руки вверх. Полк последовал примеру муллы. Помолившись с минуту, мулла крикнул: «Омин!» – и все сразу поднесли руки к лицам, и «присяга» была закончена.
После присяги приехавшие товарищи подняли вопрос, почему полк не носит красных бантов и почему также с штандарта не снят до сих пор Императорский вензель. На это командир полка ответил, что полк состоит из мусульман, а их национальный цвет зеленый, который и будет скоро введен. Что же касается штандарта, то он принадлежит полку, и полк не хочет снять вензель Государя, который он заслужил собственной кровью. Так вензеля полк и не снял, завернув его зеленой материей, да и красно-зеленого банта тоже никто из нас не носил. Собственно говоря – зачем надо было это внешнее украшение, когда первым делом надо было украсить душу. Она же с первых дней революции – изживала!
Товарищи комитетчики собрали обозников-солдат, а их с писарями вместе было больше ста человек в полку, и стали готовиться к митингу. Ждали также туркмен. Конечно, многие туркмены не пошли, ссылаясь на незнание языка.
Узнав о митинге, Сердар приказал выпустить на площадь, где состоялся митинг, двух жеребцов, и ловившие их туркмены своим гиканием расстроили митинг.
После этого дня со стороны обоза посыпались на джигитов полка злобные упреки, что-де туркмены не хотят поддержать революцию и идти с ними рука об руку.
Замечу, что обоз был нарыв на теле полка. Еще до революции в высшей степени распущенные от безделья и находясь в весьма слабых руках своего начальника, полковника Григорьева, обозники после объявления свободы решили играть роль. Первые комитетчики, ораторы, агитаторы вышли из обоза, да из полковой канцелярии. Все старания их притянуть джигитов в революционную игру оставались тщетными, так как у нас в полку жизнь отдельного джигита была связана с волей вождя, Сердара, по вековой непоколебимой традиции. Много способствовало еще незнание языка туркмен. По природе своей вольный и свободный туркмен не понимал цели и значения быстро надвигавшихся событий, которые еще больше связывали их с Сердаром.
– Такую свободу личности, такое к нам отношение наших мусульман бояров, во главе с нашим Сердаром, нам ни вы, ни ваш Кирэнски не может дать, и нам больше того, что имеем сейчас, не нужно, – отвечали джигиты, когда тянули их на совместную работу обозники.
Обоз и канцелярия ругались, называя туркмен ишаками. Я слушал эти споры, молчал, терпел, посещал аккуратно собрание полкового комитета, членом которого я состоял в качестве представителя от пулеметной команды и 4-го эскадрона. В комитет всунул меня Сердар, чтобы быть в курсе дела.
– Я знаю, балам, что тебе тяжело, но и мне не легче. Ну что делать, когда я хочу вывести этих честных сынов Ахала, сохранив их сердца в таком же чистом виде, с каким они вышли сюда. Я тебе верю, Хаджи Ага, и уверен в твоей сообразительности и опытности, – говорил мне Сердар, когда я жаловался на бесцельность всей этой «работы» в комитете среди тупой солдатчины.
Вся прелесть этого комитета состояла в глупости и в ничегонеделании. Надо было терпеть, ходить, молчать, слушать глупости, терять золотое время и наживать врагов.
Новые птицы, новые песни
Итак, дни шли за днями. Обозные солдаты, будучи настроены отрицательно к туркменам, начали говорить и возбуждать против полка обозные части, стоявшие в Коломее.
– Хаджи Ага, вчера мы были в Коломее, и солдаты пригрозили нас всех перестрелять, если мы покажемся на полосе фронта, за то, что мы не поддерживаем наших обозных товарищей. «Подождите, разбойники, большепапашники, мы с вами разделаемся немного погодя!» – кричали они нам.
Пришел май. Изобилие солнца, зелени и цветов радовало взор. В эти дни надежды на светлое будущее закрадывались в душу. Хотелось забыть обстановку настоящего времени и думалось, что все это несерьезно и что скоро пройдет. В местечке Пичинежине жизнь била ключом. Девушки-русинки в своих разноцветных камзолах и расшитых рубашках волновали кровь джигитов.
Аргамаки, как бы опьяненные свежим воздухом весны, играли на ходу и танцевали на месте. Не дай Аллах, если в это время проезжал какой-нибудь сельчанин на кобылишке, – поднимался такой кавардак, и нужны были большие усилия и труды, чтобы удержать аргамаков в руках. Кстати, скажу, что это был единственный полк в русской армии, в котором люди сидели на жеребцах.
В один из таких прекрасных дней мая душа джигитов, Зыкоу бояр, трогательно распростившись с полком, уехал. Он получил назначение на должность командира бригады в 7-й кавалерийской дивизии.
Вместо Зыкова тотчас же вступил командовать полком полковник Николай Павлович фон Кюгельген. Очень добрый, отзывчивый и мягкий человек, полковник фон Кюгельген мог бы быть хорошим командиром полка, если бы не интриги Эргарта и Григорьева, которые чуть с ума не сошли от злости, не получив места командира полка «в созданном ими полку». Кюгельген любил текинцев, и туркмены его уважали и начали постепенно привыкать к нему как хорошему человеку, да к тому же он просто держал себя с джигитами и офицерами-туркменами, приглашая их запросто к себе на гёок-чай, во время которого, по обыкновению, надевал туркменскую тюбетейку. Григорьев и Эргарт, смеясь над Кюгельгеном, распространяли среди джигитов полка сплетни, говоря, что хитрый Кюгельген в туркменской тюбетейке похож на Хаджи Вильгельма в арабской чалме. Сердару и туркменам в полку Николай Павлович нравился. В дни сидения в Быхове генерала Корнилова он мне помогал во всем, в чем нуждался я, – в смысле улучшения жизни узников. Ему много напортили два «боевых» полковника, сваливая все нехорошее на Кюгельгена. Он сам это знал и не предпринимал ничего, так как не хотел поднимать истории в такие критические минуты, когда полк нес исключительно трудную задачу. Надо принять во внимание, что он вступил на должность командира полка в то время, когда и у всех начальников русской армии не было твердой веры и власти на оздоровление армии и фронта.
В конце мая полковник Кюгельген пригласил всех нас офицеров к себе и сообщил, что получена телеграмма от командира корпуса с запросом, – желаем ли мы идти на позицию. Теперь такой обычай: чтобы послать какую-нибудь часть на позицию, надо было заручиться ее согласием. Сердар и все офицеры полка изъявили свою готовность идти в бой, и сейчас же была послана ответная телеграмма.
– Ай, Хаджи Ага, какие теперь времена настали! Что за разговоры и спрашивания – пойдет ли полк на фронт или нет! Что это за новые законы? Мы ничего не понимаем. Может быть, наш полк не сможет сделать такие красивые дела, как в 1914–1915 годах, так как он на три четверти теперь состоит из джигитов, которые еще пороха не нюхали, но все же еще воевать сумеем, а уговаривать нас, – пойдем ли в бой? – нехорошо. Ай, Падишах, Падишах, ты ушел, и с тобой ушла боевая слава! – говорили обиженно старые джигиты, услышав о новых порядках.
– Интересно, Хаджи Ага, пойдут ли кроме нас какие-нибудь русские части в бой и поддержат ли нас? – спрашивали новоприбывшие.
– Ничего! Одинокому путнику Сам Аллах попутчик, – ответил я им на это.
– Хаджи Ага, эти ли люди могут понять и оценить свободу? – говорил Курбан Ага, указывая на возчиков солдат, проезжавших мимо нашего полка, которые, сидя на возу, с огромными красными бантами, грязные, в пыли, жевали беспрерывно черный хлеб.
Было приблизительно начало июня, когда пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде командира 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова для смотра полка.
Генерал Корнилов
Был жаркий июньский день. С безоблачного синего неба жарило раннее солнце. Словно золотой горящий шар всплыло оно из-за далекого не то фиолетового, не то синего, не то бархатно-зеленого леса. Напротив, на западе, сине-зеленые, кудрявые Карпатские вершины. В этом как бы беспрерывном кругу лесов и гор – золотые, волнистые, сгибаемые под тяжестью колосьев, качались неизмеримые пространства ржи. Белые деревни русин, древних потомков Червонной Руси. Эти широкие печально-сентиментальные виды – не то заход Руси, не то восход Австрии. В этой-то обстановке был выстроен в широком поле в конном строю Текинский конный полк.
Ждали мы генерала Корнилова долго. От долгого ожидания аргамаки начали нервничать и беситься. Один из жеребцов, вырвавшись из рук дремавшего хозяина, пустился по полю. Выделенный из полка для поимки его взвод всадников ни к чему не привел. В этот момент на горизонте по шоссе поднялся столб пыли, и сквозь нее стал виден быстро мчавшийся автомобиль. Не успел полк выровняться как следует, как автомобиль уже остановился на шоссе против него. Быстро соскочив с автомобиля, крупными, неестественными для его роста шагами невысокий человек направился к месту расположения полка. Это был генерал Корнилов. Высланный к нему навстречу штаб-ротмистр Фаворский предложил ему своего вороного красавца. Генерал Корнилов, быстро укротив нервного и горячего жеребца, вскочил на него с легкостью молодого джейрана, по меткому выражению туркмен, и галопом направился к замершему полку. В это время вырвавшийся и бегавший по полю жеребец нагнал генерала Корнилова.
Генерал, желая избегнуть несчастья, спокойно соскочил с лошади в тот момент, когда передние ноги нагнавшего коня были на его седле.
– Эй, молодец джигит! – пронесся шепот в строю среди туркмен, удивленных и пораженных хладнокровием генерала.
Это происшествие оставило глубокое и хорошее впечатление о первой встрече с генералом на туркмен.
– Этот генерал не из тех, которые боятся даже подойти к нашим лошадям! – говорили шепотом сзади меня стоявшие джигиты.
– Молчать! – приказал раздраженно, вполголоса мой командир пулеметной команды поручик Рененкампф, боясь что генерал может услышать их разговор в строю.
Подул сильный и холодный северный ветер. Моментально за облаками пыли скрылся, как бы за занавеской, лик солнца в то время, когда пешком с правого фланга полка вдоль фронта шел генерал Корнилов. Ржание лошадей, лязг оружия, приятный и мягкий звук нашего оркестра и гулкий дружный ответ джигитов, которые на приветствие генерала отвечали: «Здравия желаем, Ваше Высокопревосходительство» (хотя такой ответ был отменен приказом № 1 в русской армии), – все это создавало настроение не только полку, но и жителям, которые, пугливо прижавшись друг к другу, смотрели на парад.
– Узнав, что вы все как один человек согласились идти на фронт, я был бесконечно рад. Я был уверен вперед в таком ответе, зная вас хорошо. У туркмен другого ответа не должно было быть! – закончил генерал Корнилов свою речь, остановившись в середине фронта.
Затем он обратился к Кюгельгену:
– Полковник, все ли – участники предыдущих боев?
– Часть из них участники, а часть новоприбывшие, Ваше Высокопревосходительство, – ответил Кюгельген.
Генерал Корнилов начал раздавать участникам боев георгиевские кресты. Частью раздавал сам собственноручно, а частью командир полка. Во время раздачи наград пулеметной команде, почему, до сих пор, я не понимаю, его адъютант, штаб-ротмистр Черниговского гусарского полка Аркадий Павлович Корнилов, обратил внимание генерала Корнилова на моего жеребца (в полку были и получше моего). Мой жеребец был молодой, живой и очень нервный, только и всего. А перед ним стояли: премированный красавец-жеребец поручика Рененкампфа и мощный красивый скакун, известный по всему Ахалу, – Сердара, и сказал:
– Ваше Высокопревосходительство, обратите внимание на этого красавца!
Мой жеребец в это время, готовясь к церемониальному маршу, нервничая, танцевал на месте.
– Да, правда! Что, этого жеребца вы из Ахала привезли? – задал мне вопрос генерал Корнилов, подойдя близко ко мне и пронизывая меня насквозь своими маленькими холодными глазами, и, получив ответ, приказал адъютанту сфотографировать меня.
– Хаджи Ага, зачем нам кресты? Разве мы и без этого не пошли бы?! – сказал один пожилой туркмен вполголоса.
– Эй, тага (отец), разве ты не знаешь поговорку, которая гласит: «Если тебе аллу адам (великий человек) камень даст, ты должен принять его как золото», – ответил кто-то.
Вдруг пошел такой проливной дождь, что в двух шагах буквально ничего не было видно. В этот момент пулеметная команда должна была пройти церемониальным маршем. Несмотря на такой сильный и крупный дождь, генерал Корнилов оставался на своем месте до тех пор, пока не пропустил всех. Парад кончился. Автомобиль помчался, увозя генерала с холодными и проницательными глазами, когда головной эскадрон полка рысью въезжал в Пичинежин.
– Бэ, Хаджи Ага, и язык мой промок от этого проклятого дождя, – говорил мне Реджэб Гельдиев, унтер-офицер пулеметной команды, когда я, введя команду в помещение, собирался было уходить.
– Ну, какой из себя генерал, Ага? – спросил Мамет у Реджэба.
– Подожди, подожди, Мамет! Сейчас мой собственный нос мне кажется тяжелым! – ответил Реджэб, который в это время, как мокрая курица, вытряхивал воду из своего тельпека и снимал амуницию.
– Эй, Хаджи Ага, я скажу одно: два человека произвели на меня такое сильное впечатление за три года моей службы на фронте, – говорил Реджэб.
– Кто, кто? – раздалось несколько голосов.
– Один – Падишах, а другой – сегодняшний генерал. При виде Царя и этого генерала у меня дрожь пробежала по спине! – закончил он.
– Бэ, вот и я об этом тоже хотел сейчас сказать. Как он, легко укротив жеребца Фаворского, сел на него и так же хладнокровно сошел с него, когда конь вестового командира полка хотел укусить его.
– А глаза его как колят человека, когда он смотрит, – вмешался кто-то, с жаром рассказывая о генерале и торопливо делясь впечатлениями.
– А несмотря на такой сильный проливной дождь, он в одном кителе оставался в поле до тех пор, пока не пропустил мимо себя весь полк! – вмешался Хан Мухамедов.
Я соглашался с ними, удивляясь немного тому, что такие пустяки иногда врезываются в память и оставляют неизгладимые следы.
– Он как настоящий туркмен, чисто говорит по-нашему, и знаете, что он у меня спросил по-туркменски? – вмешался Бэшим.
– Что, что? – раздались голоса любопытных.
– «Без чала (верблюжьего молока) и гёок-чая, наверно, брат, тебе скучно?» – спросил генерал меня, – ответил Бэшим.
– Бэ, бэ, – удивленно протянули слушатели и добавили: – Если он наш гёок-чай знает, то и туркмена хорошо знает.
– А где же для меня крест? Я ведь три года на фронте и в боях участвовал, а меня обошли, – обиженно говорил кашевар Мамет, увидев, что некоторые джигиты имеют кресты.
– Если, Мамет, этот яранал (генерал) знает о существовании гёок-чая и верблюжьего молока, так и о твоем существовании тоже будет знать! – успокоил его кто-то серьезно.
В это время вестовой Баба пригласил меня к Сердару, у которого я обычно обедал.
Такое впечатление произвел на джигитов пулеметной команды в этот день маленький (по росту) генерал с большой душой и с пронзительными глазами!
На офицеров нашего эскадрона генерал Корнилов никакого впечатления не произвел, – так все они были поглощены развивавшимися событиями. За обедом говорили о наградах, о погоде, ругали начальника команды связи за то, что его большой нос ни к черту не годится и что он потерял способность узнавать носом на расстоянии местонахождение спирта и благодаря этому сегодняшний обед кажется невкусным, сухим и никому в горло не лезет. Хозяин носа на это горячо запротестовал, доказывая присутствующим неосновательность их неудовольствия и говоря, что нос его ничуть ему не изменил, а по-прежнему добросовестно и энергично служит ему верой и правдой, находя все новые и новые источники спирта. В доказательство своих слов он, к общему удивлению и удовольствию, вынул из постели Сердара спрятанную от Арона бутылку спирта.
Спирт тотчас же был разбавлен водой и поставлен на стол. Настроение у всех сразу стало праздничным, глаза засверкали и потерянный аппетит тотчас же явился. Первая рюмка живительной влаги была выпита за многолетие носа и его хозяина. Таким образом, в этот день обед сопровождался веселыми рассказами, анекдотами и воспоминаниями его участников.
На позицию!
Первая половина июня 1917 года.
Настал день, когда полк должен был оставить местечко Пичинежин и выступить на позицию. Жители провожали полк как своих родных. Объясняется это тем, что туркмены, получая все продукты натурой, делились с теми семьями, в которых они жили, неся домашнюю работу наравне с хозяевами дома и нередко давая своих лошадей для полевых работ и для развода молодого конского поколения. С другой стороны, живя с русинами вместе, они не давали обижать последних солдатам, проезжавшим как на фронт, так и обратно.
– Дай Бог вам благополучно добраться домой! – кричали жители вслед уезжавшим на позицию туркменам.
Все жители Пичинежина шли провожать нас далеко за местечко. Туркмены тоже с болью в сердце покинули эту стоянку.
Было великолепное июньское утро, когда полк вытянулся справа по три и пошел по шоссе из Пичинежина на позицию. Солнце палило своими прямыми лучами, когда мы, отъехав верст сорок от Пичинежина, остановились в полдень на привал. Сразу появились огни и тотчас же были приставлены к ним тюнчи (медные, чугунные чайники), и туркмены, вытащив из своего хоржума хлеб и чай, принялись быстро утолять свою жажду. Ржание лошадей и веселые разговоры, сопровождаемые веселым смехом, превратили пустыню в ярмарку, где жизнь била ключом.
– Заводных лошадей прикажите отправить в обоз в распоряжение полковника Григорьева! – приказал командир полка Кюгельген.
Мой начальник пулеметной команды поручик Рененкампф приказал мне, чтобы я исполнил приказание командира полка и выслал лишних заводных лошадей из нашей команды в обоз.
– Что это за личности у заводных лошадей? – спросил я вахмистра пулеметной команды. Тот замялся и начал плести какую-то ерунду. Я потребовал точного ответа. Покраснев до ушей, вахмистр ответил, что пулеметная команда везет с собой несколько женщин, на которых джигиты успели жениться во время стоянки в Пичинежине и даже некоторые из них ожидают детей.
Каково было мое удивление, когда я узнал об этом! Оказывается, туркмен, нарядив свою жену в мужское платье и посадив ее на заводную лошадь, вез с собой, надеясь, что в таком костюме его жена будет незаметна в общей массе и таким образом проскользнет от зорких глаз командиров, а при первой возможности он сдаст ее в обоз. Тотчас же я приказал отправить женщин в обоз третьего разряда.
Полк выступил дальше. На ходу курились чилимы, пился чай, затянулись заунывные песни степняков. Разговор и смех. Все это имело своеобразную прелесть и давало особую окраску полку. Невольно я мысленно ушел в Таш Хауз[4] и вспомнил, что когда-то мой отец тоже ехал, как и я теперь, в поход, окруженный туркменами. В памяти моей проносились образы Акчи батыра, Сумак батыра, Мурат Казы и других соратников моего отца. Теперь, спустя шестьдесят лет, мне, его сыну, также было суждено ехать в поход, но не на иомудов, а на Великую войну народов и так же с батырами, но не с Акча Сумак и Мурат Казы, а Курбан Кулы, Шах Кулы, Беляк батыром, Баба Ханом и другими. Вот полк прибыл в австрийское местечко, Надворный, где он должен был заночевать (16 июня 1917 г.). Как только полк разместился, я пошел тотчас же в расположение 4-го эскадрона для того, чтобы помолиться с Курбан Ага, у которого я застал муллу, ожидавшего меня. Стало темнеть. Подул легкий горный ветерок, когда я сидел в кругу туркмен, приготовившись отведать жирного и вкусного плова, сваренного опытным Беляк батыром.
– Бэ, бэ, – воскликнул внезапно Курбан Ага и начал читать молитву, подняв руки к небу.
Мы последовали его примеру. Подняв глаза вверх, я сразу понял причину молитвы – было полное затмение.
– Давайте сейчас же совершим намаз, прося Аллаха, чтобы Он смягчил свой гнев над несчастными и заблудшими людьми! – сказал Курбан Ага, предлагая мулле встать на свое место.
Молитва была окончена и сейчас же был подан почти остывший в ожидании нас плов.
– Балам, это затмение знак, что будет пролита кровь миллионов, миллионов людей. Когда мы впервые встретили уруса под Гёок-Тепе, также было лунное затмение. После, до взятия Гёок-Тепе, кровь лилась с обеих сторон рекой. После, спустя год, наступила сильная голодовка, поддерживаемая разными болезнями, которые увели за собой ни больше ни меньше как половину Ахала, – закончил Курбан Ага, то молясь, то поднося полную горсть плова ко рту.
– Люди заблудившиеся, люди грешные не знают цены благам, данным им Аллахом на этом свете, и грызутся, как собаки, друг с другом. Вот посмотрите на луну, кровь течет с ее лица, – говорил он, указывая подбородком на луну.
Действительно, луна была страшна в эту минуту. Мне показалось, что воистину кровь течет с нее. Она вся была ярко-багрового цвета и хмуро смотрела вниз.
Перед боем
Рано утром полк выступил из Надворного дальше. Кругом была очаровательная картина: леса, горы, покрытые снегом и зеленью, звуки журчащих вод и однообразные лица русин, попадавшихся нам навстречу из полуразрушенных деревень, – все это создавало какое-то особое настроение. Жара достигла своей кульминационной точки, когда полк сделал привал. Во время этого привала к нам прибыла связь из третьей Кавалерийской казачьей дивизии с приказанием начальника дивизии присоединиться к ней для совместных действий против неприятеля. Через пять минут после выступления с последнего привала мы встретили головную часть дивизии. Здесь было семь наших полков, состоявших из разных национальностей: осетин, дагестанцев, кабардинцев, чеченцев, ингушей, татар и черкесов. Их своеобразные костюмы, гортанные речи и заунывные звуки зурны, – все это было сразу заслонено появлением Текинского конного полка. Статные красивые туркменские аргамаки, высокие и стройные туркмены со своим молодцеватым гордым видом, с красивыми ятаганами в дорогой оправе, сразу приковали к себе внимание всей дивизии. Люди из дивизии, влюбленные в наших лошадей и оружие, начали ходить к нам во время стоянки, предлагая большие деньги за жеребцов и ятаганы.
Просьба офицеров была уважена, и командир полка разрешил продать некоторых лошадей, принадлежавших родственникам джигитов, давно уволенных из полка и живущих в Ахале.
– Эй, Хаджи Ага, очень неприятно, что эти персы присоединились к нам. Я знаю их с прошлого года. Куда бы они ни пришли, там трава не будет расти. Все опустошают, грабят кур, баранов, деньги, насилуют женщин. Если эти люди пройдут мимо кладбища, так после не досчитаешься двух-трех покойников. Все эти гадости потом лягут на нас. Я боюсь, что дурной пример может заразить и наших джигитов. Когда-то ты сам говорил, что если поместить аргамака и осла рядом в одной конюшне, то через некоторое время и аргамак станет ослом, т. е. очень быстро приобретет все отрицательные качества, свойственные ослу. Вот увидишь, Хаджи Ага, через два-три дня пойдут грабежи и насилия, которые будут свалены на наш полк, – ворчал недовольный Курбан Ага.
И действительно, куда бы мы ни приезжали, жители бежали от нас, а если оставались, то не хотели ничего нам продавать и на все наши вопросы отвечали одним словом «нима».
Вот мы подъезжаем к полосе боевой зоны. На пути попадаются убитые и раненые. Солдаты, стоявшие на горке, предупреждают, что площадь, на которую мы направляемся, обстреливается сильным артиллерийским огнем противника. Действительно, впереди, куда мы должны были проехать, была сильная артиллерийская канонада. На дивизию была возложена задача маневрировать и при удобном случае атаковать неприятеля и его батареи. Перед этим нам дали десятиминутный отдых.
– Хаджи Ага, прочти нам молитву перед боем и говори, что хочешь передать своим родным! – говорили джигиты, группой подходя ко мне и пожимая друг другу руки, как будто перед долгой разлукой.
– Эй, Аман Дурди, вынеси меня, если буду убит или ранен! – слышалась чья-то просьба.
Бронзовые лица джигитов были сосредоточены. Лошади, услышав знакомую им музыку – разрывы «чемоданов», нервно перебирали передними ногами, кусая удила. Во время выстрелов аргамаки навостряли уши, поворачивая головы в ту сторону, где давалась очередь из орудий, прижимали хвосты и уши, когда снаряды или разрывались, или же с визгом перелетали через наши головы. Стоял такой гул, что люди принуждены были кричать, если хотели сказать что-нибудь друг другу.
– Что же ты реджэ (ремень, соединяющий рукоятку ятагана с ножной) не освобождаешь? Потом будет поздно, – кричал один джигит другому.
Ремень этот служит для того, чтобы горячий джигит без нужды не вытаскивал свой ятаган, рукоятка которого, будучи прикреплена этим ремешком к ножнам, не дает вспыльчивому джигиту вытащить его моментально, а требует две-три секунды для освобождения. Это придумано старыми опытными туркменами для того, чтобы горячий джигит в эти две-три секунды мог еще раз подумать, что он хочет сделать, да и присутствующие в это время могли бы его удержать.
Одни пробовали ятаганы, другие поправляли винтовки, висевшие за плечами. Некоторые целовали и гладили своих лошадей, как бы прощаясь с ними или прося их не осрамить и вывезти благополучно с поля брани. Беспрерывные разрывы снарядов, сверкание оружия, ржание коней, сосредоточенные лица джигитов создавали мрачную боевую обстановку.
– Эй, слава Аллаху, балам, – сказал Курбан Ага, подходя и гладя меня по лбу.
– Что такое, Курбан Ага? – спросил я его.
– Мне кажется, балам, что сегодня тебя сохранит Аллах.
– Откуда ты знаешь? Разве ты Аллах? – рассмеялся я.
– Я узнаю свойственным мне инстинктом людей, которым суждено сегодня умереть: у них особые лица бывают.
– Какие же, Курбан Ага? – спросил я, удивленный его словами.
– У них на лице бывает тонкий налет особой пыли, которую мы называем могильной. Эта пыль скорее похожа на пепел, – закончил Курбан Ага.
– Правду говорит он! – потом подтвердил мне Баба Хан, когда Курбан Ага отошел от меня. – Этот старик перед одной атакой многим из своих друзей предсказал, кто останется в живых, а кто будет убит.
После слов Курбан Ага я невольно вспомнил слова того старика, который предсказал мне мою будущность во время моего пребывания в Хиве после производства меня в офицеры.
Атака
«Садись! Полк эшелонным порядком, на пять лошадей дистанция… Головной эскадрон за мной! Пулеметной команде следовать за головным эскадроном!»– раздался мощный голос командира полка Кюгельгена.
Тронулись. Вмиг в воздухе засверкали ятаганы. Взоры всех были устремлены вперед. Пики взлетели наперевес. Поднялись на гору. Вся площадь, в длину верст пять приблизительно, была перетянута забором пыли, и что творилось за этим забором, мы не могли видеть.
«Бабах… бабах… ух… кряк, кряк!» – лопались с грохотом тяжелые «чемоданы». «Пью… бабах»… опять «пью бабах, пью, пью»… разрывались шрапнели над нами, когда мы подходили к забору вплотную и туркмены закричали: «Алла!» В воздухе стоял гул. Душу давила какая-то тяжесть, затруднявшая дыхание. Глаза наливались кровью.
– Корнет Ха-а-джиев со вторым взводом пулеметной команды влево! – кричал во все горло, почти что подъехав ко мне, мой начальник.
Неприятель, заметив движение вперед целой дивизии конницы, еще больше усилил артиллерийский огонь. Во время исполнения мною приказания моего начальника глазам моим представилась удивительно красивая картина, не исчезнувшая из моей памяти до сего дня. Целых восемь конных полков в развернутом порядке приближались к полосе пыли. Тысячи сабель в руках всадников как бриллианты сверкали на солнце. Длинная сплошная лента конницы двигалась могучей волной вперед. До этого момента никогда не видавший такого количества конницы в одном месте, я поражался этой могучей силе. Мне казалось в это время, что она своей массой может все смести со своего пути и никакой выдержанной пехоте не устоять перед ней.
– Хаджи Ага, ты ранен? – раздался голос мчавшегося рядом со мной младшего унтер-офицера третьего эскадрона, указывающего знаком подбородка на шею моего жеребца, который в это время, подняв высоко шею, нервно рвался из галопа в карьер. Я, быстро взглянув на шею моего коня, увидел, что вся шея в крови: оказывается, я ранил его моим же ятаганом, который держал перед собой, перерезав ремни трензеля и мартингала. Требовалось много усилий и осторожности связать ремни. Мое счастье, что джигит заметил вовремя, так как разгоряченный и освободившийся жеребец мог бы понести меня и разбить насмерть. Не успел я исправить беду, случившуюся с моим конем, как в самую гущу моего взвода попал шестидюймовый снаряд, от разрыва которого были опрокинуты три мула, навьюченные пулеметными патронами. Один за другим начали падать сброшенные воздухом всадники. Противник усилил огонь и стал метко попадать в ряды дивизии. Она метнулась сначала вправо, через некоторое время сбилась в кучу, потом в беспорядке бросилась влево. Ряды ее начали таять с поражающей быстротой. Вот и мы вошли в облако пыли. Здесь я ничего не помню, кроме того, что ежеминутно рвались то над головой, то вокруг меня снаряды. Неприятель в этот день своим огнем рассеял нашу кавалерию, и вследствие этого и благодаря быстро наступившей темноте мы не дошли до его батареи.
– Полку приказано переброситься немедленно под Станиславово! – сообщил нам комендант полка, как только мы сосредоточились, выйдя из обстреливаемой местности.
Не медля ни минуты, мы двинулись. Пришлось ехать всю ночь рысью, чтобы поспеть утром к условленному месту для атаки неприятельской пехоты. Изнуренные, голодные и все в грязи, к трем часам утра мы прибыли под Станиславово. Участок, предназначенный для нашего отдыха, оказался кладбищем, которое было все изрыто огнем неприятеля. Среди развороченных гробов и груды костей нам пришлось провести остаток ночи. Отдохнуть не пришлось, так как все время стоявшая поблизости наша батарея стреляла без умолку, и лошади при каждом залпе, как бешеные, становились на дыбы и метались из стороны в сторону. Ясно, что в этой обстановке не приходилось даже мечтать об отдыхе. Каждый из нас с нетерпением ожидал время атаки, которая, к великому сожалению, не состоялась, так как, говорили потом, был упущен момент, неприятель, почуяв присутствие конницы, под прикрытием своей артиллерии успел отступить. Брошенные вдогонку, мы ничего сделать не могли, кроме того, что еще больше утомили себя и лошадей. Судя по следам, оставленным неприятелем, можно было судить, что он просто бежал: вся дорога от Станиславова до Калуша (сорок километров) была покрыта трупами людей и лошадей, не говоря, конечно, об амуниции и других вещах, брошенных противником. Отмахав в этот день по лесам сорок километров, мы остановились перед Калушем, где в это время наша пехота наседала на арьергард неприятеля. В городе Калуше шел уличный бой.
– Эй, Хаджи Ага, когда же наконец кяфр (начальник дивизии) нам даст возможность настичь врага и напоить наши ятаганы? Что это за безобразие, уже третий день без остановки и отдыха шляемся, а все никак не можем дойти до врага! Он, как бы нюхом зная о нашем приближении, все уходит да уходит! – говорили старые джигиты полка. Молодые молчали.
– Эй, Зыкоу бояр, Сердар Ага (он находился в отпуске в Ахале)!! Если бы вы были сейчас с нами, то не водили бы нас так понапрасну с одного места в другое. Вы инстинктом узнали бы, когда враг снимается с места, и вели бы нас на него. И поверь, Хаджи Ага, что мы не дали бы задержаться неприятелю в Калуше! – говорил кто-то.
Я мысленно соглашался с ними, но говорил им, что на войне требуется осторожность и хорошее знание своего врага.
– Хаджи Ага, осторожность хороша, когда ловишь блох, как говорит фон Кюгельген. По-моему, на войне нужны умные, смелые и энергичные начальники, как у немцев. Посмотри, Хаджи Ага, ведь война длится с немцем уже 2½ года и, несмотря на свою малочисленность, они везде бьют нас раньше, чем мы его!! – говорил Гельди.
– Почему же это? – вмешался в разговор Сарик.
– Потому что у немцев смелые начальники, как были наши Сердары сто – двести лет тому назад! Наши Сердары со ста человеками нападали на десятитысячную армию персов и выходили из боя победителями, потому что они думали всегда напасть на врага первыми, для того чтобы выйти из битвы победителем. Так и здесь, немец взял инициативу поля сражения в свои руки и не дает нам опомниться, наступает да наступает, а наше начальство только и знает, что с десятимиллионной армией против одного миллиона – отступает да отступает!
Когда спрашиваешь о причине отступления, то нам объясняют все тем, что немец готовился к войне сорок лет, а мы только пять. Кто же мешал нам готовиться к войне с немцами? Ага, это обидно, когда вспомнишь, что шестидесятимиллионный немец, отлично подготовившись, бьет француза, англичанина и нас и не дает своим врагам мечтать о вступлении на его территорию, а не то что завоевать ее! Вот тебе пример: сегодняшний и вчерашний день. Ведь в общей сложности их против нас на участке, куда должны были направляться мы, не было больше трех-четырех полков, а нас, восемь отборных, испытанных в боях, а не как у них – изнуренные запасные. Мы всегда опаздываем, а они везде успевают, – говорил Гельди.
– Откуда ты знаешь, что их было не больше трех-четырех полков? – спросил Баба Хан у отчаявшегося туркмена.
– Бэй, Баба Хан, по окопам и по следам в окопах узнал. Люди сидели друг от друга в двадцати и в тридцати шагах! – ответил Гельди, быстро садясь на лошадь, услышав команду: «Садись!»
Гостинцы ребятишкам
Конец июня 1917 года.
Был уже вечер, когда мы подъехали вплотную к горевшему Калушу. Длинные языки огня лизали небо. В городе шел уличный бой. Засевший в городе неприятель сопротивлялся отчаянно – не на живот, а на смерть. Душераздирающие крики людей и животных долетали до нас со стороны города, волнуя наши сердца и наполняя их тяжелой горечью.
– Хаджи Ага, вот послушай, что говорит этот джигит, – сказал Курбан Ага, указывая на приведенного им джигита.
Оказалось, что любитель оружия из Дикой дивизии украл его ятаган, когда он отлучился из комнаты, чтобы накормить коня. Не прошло и минуты, как пришли еще туркмены с докладом, что у них пропали ножи и бурки. Рассказали также, что в деревне стоит форменный грабеж: всадники Дикой дивизии грабят и насилуют женщин, ничуть не боясь своих офицеров. При угрозе со стороны своих офицеров всадники отвечали им:
– Пойдем атак, так пуля пускаем тибэ в затылка!
По просьбе джигитов и командира полка нас отделили от них, и мы разместились дальше на одну деревню. Не успели мы закончить, как пошел проливной дождь, способствовавший тушению пожара в городе, который дошел в это время до своего апогея и грозил уничтожить весь город.
Было чудное утро, когда я получил от командира полка приказание, взяв с собой четырех всадников, занять шоссе и не пропускать ни одного солдата из города с узелками. Отобранное добро положить в такое место, которое не было бы доступно к повторному ограблению со стороны солдат.
– Стой! – крикнул я одному солдату, который нес громадный узел на спине.
Тот покорно подчинился, увидев вооруженных «косматых дьяволов», как они называли всадников Дикой дивизии. На мой вопрос, что он несет в узле и где его винтовка, солдат ответил, что в узле гостинцы для ребятишек, а винтовку он бросил, так как война окончена, – товарищи решили дальше Калуша не наступать.
– Беляк батыр, ну-ка развяжи, увидим, что он несет?! – приказал я сзади стоявшему джигиту.
Развязали узел, и я увидел следующие «гостиницы»: шестнадцать трубочек зубной пасты, 25 штук зубных щеток, 3 пары ботинок, 3 коробки грамофонных иголок, 15 коробок мази для сапог, 2 литра спирта, 5 пачек шнурков для ботинок, одна челюсть с золотыми коронками, 8 дюжин мыла, 2 плюшевых портьеры, 4 дюжины карандашей, 2 дюжины сосков, один таз и две алюминиевых кастрюльки.
– Положи-ка все гостинцы сюда, а сам убирайся к черту, а то прикажу расстрелять за мародерство, – сказал я уже бежавшему от страха солдату.
Меня сменил Кишик Казиев, от которого я узнал, что наш полк уже в городе и несет охранную службу.
Командир полка – командир города Калуша. В городе, обстреливаемом неприятелем, стоял такой грабеж, что не дай Аллах больше видеть никогда подобного ужаса! Доходило до того, что солдаты выбивали золотые зубы изо рта горожан г. Калуша. Аптекарь, у которого солдаты изнасиловали двух дочерей, ограбили аптеку и потом подожгли ее, сошел с ума и голый бродил по городу. Трупы немцев и австрийцев валялись на мостовых и горели в общем пожарище. От едкого и жирного дыма трудно было дышать. Ежеминутно снаряды врага падали в город. Шел проливной дождь. Нигде не было ночлега, так как в каждом доме было два-три трупа немцев или русских. Мебель и весь домашний скарб перевернут был везде вверх дном. В общем, кругом стоял ад!
– Ай, Хаджи Ага, я вижу, что война действительно окончена, ибо этого зверя-солдата теперь не повернешь обратно против немцев! – говорили туркмены.
– Мы вам, сволочи, покажем, как отбирать у солдат вещи. Подождите, вот сзади идут наши товарищи с пулеметами, скосят они вас с лица земли! – грозили нам солдаты, убегая с фронта делить землю.
В этот день распространился слух среди солдат, что в России начали делить землю. Потом я узнал от самих же товарищей, что с аэроплана бросали в расположение наших войск прокламации, где было сказано: «Солдатики родненькие, спешите по домам. В тылу начали делить землю».
– Бегите и спешите за землей! Для вас там приготовлена земля – каждому три аршина! – смеялись джигиты.
– Всякое зло и добро в этом мире не останется без последствий. За зло – злом и за добро – добром получишь. Посмотрим, пройдут ли безнаказанно вам эти вопли невинных душ, которые вы истерзали?! Слезы матерей, убитых во время грабежа?! Все это не простится вам Аллахом! Хаджи Ага, вот увидишь, что этот зверь сделает в России! Насилующий сейчас чужую девушку и убивающий мирных граждан, он потом будет насиловать свою сестру и убивать своего родного отца, так как потерян им облик человека и честного воина! – говорил Курбан Ага, поражаясь всем виденным.
Солдаты, узнав, что их «гостинцы» отбираются, начали обходить город, и кто через реку, а кто через леса бежали в Станиславово. Фронт за г. Калушем было оголен, так как солдаты, спеша домой, побросали свои винтовки. Начальник дивизии генерал Одинцов приказал нам спешиться и занять окопы.
– Корнет Хаджиев, берите второй взвод с одним пулеметом и займите позицию! – приказал мне начальник.
Как только был установлен пулемет, неприятель по нам открыл артиллерийский огонь. Выдали нас солдаты, которые «пачками» шлялись по полям сзади нас. «Ба-бах!.. Бух!» – разорвался первый «чемодан». «Ш-ш… ши… шу!» – шел за ним другой, который разорвался сзади нашего окопа шагах в пятидесяти. Не успела поднятая им грязь упасть обратно, как, шипя, прилетел третий и разорвался в окопе возле моего пулемета. Я, придя после этого в себя, слышу, что вокруг меня раздаются голоса:
– Жаль, Хаджи Ага, что ты не вовремя убит! Жаль, Ага, нам тебя! Ну слава Аллаху, слава Тебе! – говорили джигиты, увидев, что я жив и встал.
Тотчас отрыли пулемет, который был засыпан землей, но вторично установить его нам не удалось, ибо вскоре мы получили приказание немедленно сесть на коней и галопом идти к Каменец-Подольску для сосредоточения, так как неприятель пытается окружить нашу армию. Мы поспешили в город, где нам была передана телеграмма генерала Корнилова немедленно прибыть Текинскому конному полку в Каменец-Подольск для несения охранной службы штаба фронта.
Дом смерти
По приказанию командира полка мы тотчас же, покинув окопы и сев на коней, рысью отправились в г. Калуш, чтобы поскорее выбраться на шоссе, соединяющее последний со Станиславовым, так как город Калуш должен был быть занят снова немцами.
Была тихая лунная ночь. После дождя кругом пахло сыростью, когда мы въехали в город, почти что уничтоженный огнем пожара и солдатским разгромом. В городе нигде не было огня, ибо все оставшиеся в живых жители бежали в горы и леса, спасаясь от произвола солдат. По городу мы ехали шагом вследствие испорченности мостовых и изобилия лежавших на них трупов. Очень часто попадались громадные ямы, наполненные водой, – снарядами были разрушены водопроводы. Шоссе на Станиславово было занято беспорядочно отступающими солдатами, и нам пришлось ждать наступления утра, чтобы выбрать дорогу вне шоссе. Я остановился у одного дома, и жажда, мучившая меня, заставила войти в этот дом. За мной безотлучно следовал мой верный и преданный денщик Фока, боясь, чтобы я не упал после полученной мною контузии, которая давала себя чувствовать, – в голове моей все еще шумело, несмотря на то, что прошло уже три часа после получения ее. Вошли на террасу, с которой мы могли попасть в дом. Дверь на улицу была разбита и приспособлена для баррикады. На террасе стоял большой обеденный стол, на котором среди гор гильз был помещен немецкий пулемет.
– Ваше благородие, осторожно, здесь лежат убитые немцы! – предупредил меня Фока, освещая огарком путь, ведущий к дверям комнаты.
Здесь лежало три рослых немца в железных касках. Их искаженные лица говорили о долгих мучениях. Возле них сидела курица-наседка, испуганная дневным кошмаром и нашим появлением сейчас. Она со своими детьми была единственным живым существом в доме и как бы охраняла хозяйское жилье и эти трупы.
Вошли в столовую. Здесь опять я наткнулся на трупы. Вижу: лежат двое, один из них унтер-офицер, а другой – рядовой пулеметной команды, о чем я узнал по значкам на их рукавах. Оба они были пригвождены к деревянному полу штыками так сильно, что последние со стволами винтовок вошли в их тела. Видно, убившие их не в состоянии были вытащить винтовок или просто не хотели, и ушли, оставив их в таком положении. В столовой были лужи крови, в которых ноги прилипали к полу, когда нечаянно наступали в них. Один из убитых был еще совсем молодой и очень красивый. Белобрысый, с маленькими усиками, причесанными вверх, которые придавали ему скорее вид коммивояжера, чем солдата. Вокруг был страшный хаос. Валялась разбитая посуда. Шторы с дверей и с окон были содраны, а окна и двери разломаны и приспособлены для стрельбы с колена. Разбитые стулья, столы, скамейки придавали квартире больше вид маленькой крепости, чем жилого помещения.
– Ваше благородие, посмотрите, что здесь творится! – сказал мне Фока, обращая мое внимание на спальню, в которую вела дверь из столовой.
Я вошел в спальню, и глазам моим представилась следующая картина. Вся спальня была наполнена огромным количеством пуха, выпущенного из перин, приспособленных в виде баррикад. На полу лежали два рыжих немца, залитые кровью и засыпанные пухом. У одного из них полчерепа было снесено, очевидно, прикладом. Около головы на полу была масса крови и мозга. Большие жилистые руки с растопыренными пальцами распухли от прилившей крови. Тут же рядом лежал карабин и бомбы. На кровати лежал лейтенант. В первый момент при виде его я вздрогнул. Он не лежал, а скорее сидел поперек кровати, опираясь спиной на стенку. Ноги в коротеньких сапогах свисли с кровати, не доходя до пола. При тускло мигающем свете огарка мне показалось, что он зовет меня к себе, кивая своим подбородком. Глаза его сияли.
– Дай поближе свет, может быть, он еще жив! – приказал я Фоке.
– Нет, ваше благородие, он уже давно умер! – ответил тот, ударяя убитого по колену нагайкой.
Я подошел к нему и увидел две раны на груди: одна засохла и закрылась, из другой же вытекло столько крови, что вся постель и подушка вокруг него были покрыты ею. От тяжести его тела в перине образовалась яма, наполненная также засохшей кровью. Меня тронула его поза, в которой он застыл с надвинутой на лоб каской. В левой руке его была записная книжка, на которой лежала фотографическая карточка молодой девушки, а в правой карандаш. В книжке было написано кривыми буквами: «Маriе, ich mus jetzt sterben» («Мария, я умираю»). Видно, он хотел что-то еще написать, но быстрые руки ангела смерти не дали сделать это. Полуоткрытые глаза его жадно смотрели на этот мир, как бы говоря: «Я еще хочу жить, я молод и еще раз хочу видеть свою Марию». Слезы набежали мне на глаза, когда я глядел на него, но, вспомнив, что он мой враг и что он, наверно, при жизни разбивал черепа моих собратьев воинов, я быстро выскочил на зов своего вестового, даже забыв утолить жажду. Джигиты садились на коней, чтобы тронуться дальше. Начинало светать, когда мы двинулись по направлению Станиславова.
Товарищи забавляются
От Калуша до Станиславова, как я уже говорил, 40 километров. Вся эта дорога была сплошь забита в беспорядке отступающими войсками. Каких-каких частей и кого-кого здесь только не было?! Огромное количество артиллерийских, обозных, санитарных и интендантских повозок загромождали путь, не давая пешему пройти вперед, не говоря уж о конных. Все эти повозки и путь были покрыты бегущими с фронта товарищами, имевшими на плечах огромные узлы с награбленным добром. Физиономии этих товарищей просили кирпича, как выражались они сами. Грязные, небритые, распухшие от недостатка сна, желтые. Грязные серые папахи были небрежно сдвинуты на затылок и из-под них клочьями выбивались сальные шевелюры. Ворота как рубашек, так и шинелей были расстегнуты. У некоторых пояса были одеты через плечо сверх шинели – все это считалось шиком и хорошим тоном у господ товарищей. Все они, как пешие, так и сидящие на возах, все время выплевывали шелуху от семечек, а не имевшие семечек жевали черный хлеб. Крики и стоны раненых, пискливенькие голоса сестер, защищающих своих раненых и повозки, грубая ругань солдат, покрывавшая голоса сестер и раненых, ржание лошадей, скрип телег – все это наполняло воздух сплошным гулом.
Нам во что бы то ни стало нужно было протиснуться вперед, несмотря ни на какие препятствия.
– Справа по одному! – послышалась команда.
Мы двинулись вперед, не обращая внимания на ругань товарищей, с завистью смотревших на нас.
– Видишь, товарищ, куроедов, такие-сякие! Когда нужно отступать, так они всегда впереди нас, – кричал кто-то, сидевший на возу.
– Да они, такие-сякие, так и воевали! Они в тылу жирных кур жрали, да хороших баб имели. Мы знаем этих воинов! – ругался другой нам вслед.
Мы продолжали путь, молча. Вся эта бесконечная масса людей, запрудив всю дорогу, стояла, не двигаясь ни вперед, ни назад, так как дорога от Станиславова до Каменец-Подольска была также забита живой пробкой.
– Спасите, спасите! – долетал до моих ушей женский голос, когда мы проезжали через одну деревню.
– Ой, Исус, ой, Исус! – кричала женщина.
– Что там такое? – спросил я через повозки солдата, стоявшего по ту сторону шоссе.
– Ничего! – ответил тот, почесав у себя в затылке.
«Бабах, бабах!» – послышались как бы разрывы шрапнели. Оказалось, что взвод солдат громил винную лавку, брошенную хозяевами (убежавшими из деревни, услышав о приближении зверей), а женщину-караульщицу успели изнасиловать. Дверь лавки была железная, и товарищи решили бросить бомбу, чтобы взорвать ее и таким образом проникнуть в лавку.
– Эй, что вы там делаете? – крикнул я, подъезжая к этой группе поближе.
Я ехал впереди по приказанию командира полка в Станиславово, для связи к князю Багратиону-Мухранскому, командиру корпуса, куда входила и Дикая дивизия.
– Да ничего, товарищи там забавляются! – был ответ со стороны товарищей, лежавших поблизости громимой лавки и беспрестанно выплевывавших шелуху от семечек.
Товарищи-разгромщики, узнав по особой сигнализации от своих товарищей о приближении «косматых дьяволов», как будто в воду канули. Подъехав к лавке со своими джигитами, я увидел ту же картину, что и в Калуше. В лавке все было перевернуто вверх ногами.
Я с трудом пробрался в Станиславово, так как все дороги были заняты войсками. По прибытии в Станиславово я тотчас же отправился к князю, жившему в роскошном особняке. Он очень ласково принял меня и в числе с другими офицерами любезно пригласил отобедать с ним. Обед начался и кончился оживленной беседой. По окончании обеда князь ушел, но беседа продолжалась. Кто-то, между прочим, рассказал нам, что на днях к князю явился какой-то тип в галошах, с зонтиком и маленьким чемоданчиком под мышкой. Сначала он принял его за коммивояжера, и каково было удивление князя, когда этот тип отрекомендовался Гучковым и попросил принять его в один из вверенных князю кавалерийских полков. Князь был поражен нахальством Гучкова, явившегося к нему с подобного рода просьбой после того, как этот господин подписал приказ № 1.
Выслушав его просьбу, князь дал понять Александру Ивановичу, что он не может исполнить его просьбу, не заручившись согласием офицеров того полка, куда желает поступить г. Гучков.
– Ах, сволочь! – вырвалось невольно у одного из слушателей.
– Подождите, господин полковник, я еще не окончил! – обратился рассказчик к полковнику генерального штаба, произнесшему это слово.
Сделав два-три глотка хорошего венгерского вина, рассказчик продолжал:
– Несмотря на деликатный отказ князя, Гучков упорно и нахально настаивал на согласии князя, мотивируя тем, что он все-таки бывший военный министр.
– Ну, что с того, что вы были военным министром?! Сухомлинов тоже бывший военный министр, а сидит в тюрьме, – ответил князь.
– И что же этот нахал после таких слов князя? – спрашивали офицеры,
– Конечно, ничего! Ему ничего и не осталось, как взять свой мокрый зонтик, надеть грязные галоши и убраться к черту!!
Все расхохотались, кроме одного полковника генерального штаба, который очень серьезно сожалел о том, что эта личность пришла к князю в его отсутствие, так как он ничуть не постеснялся бы приказать спустить Гучкову штаны и всыпать пятьдесят горячих нагаек по тому месту, где спина теряет свое благородное название.
Начало конца
В Станиславове в это время поднялась беготня и шум. В некоторых местах города послышались взрывы. Началась кое-где и одиночная стрельба. Приехавший из полка ко мне туркмен сообщил, что немцы приближаются к Станиславову и среди войск паника, а чтобы еще больше усилить ее среди бегущих товарищей, немцы с аэроплана бросают бомбы и обстреливают их из пулеметов. В городе произошла тоже паника. Все улицы были запружены госпитальными, артиллерийскими, обозными и интендантскими повозками. Все были нервно настроены и растеряны. Крик скачущих казаков, брань солдат, мольбы интендантских чиновников, обращающихся к солдатам о спасении казенного имущества, – все это создавало хаос и еще большую панику. Какие-то темные личности кричали о скором приближении немцев и без того взвинченной толпе. Узнав об этом, князь приказал вывести все конные части из города и сосредоточить в трех верстах от него, куда обещал вскоре прибыть и сам. Текинскому полку князь приказал идти туда же.
Получив приказание от князя, я выехал навстречу полку, чтобы передать последний приказ князя командиру полка. Кстати, скажу, со Станиславовом товарищи не смогли поступить так, как с Калушем, ибо здесь жители, австрийцы и немцы, не так легко дали на разграбление свое имущество, имея у себя оружие. Этим-то оружием и провожали жители бегущих товарищей.
С трудом пробравшись к приближавшемуся к городу полку, я сообщил командиру полка о приказании князя и о том, что видел в городе. Полк направился к условленному месту. Мы принуждены были ехать по полю, так как дорога была забита, о чем я говорил выше, отступающею толпой.
Вот показался Дагестанский полк во главе с князем. Головная сотня, имевшая музыкантов, играла на своих зурнах и била в барабан. В это время в городе начался пожар – горело интендантство. Доносимый ветром едкий дым давал знать, что горела кожа и одежда.
– Товарищи, берите кто что может, а то горят сапоги, одежда, амуниция и вообще всякое добро. Чай, сахар и сливочное масло обливают керосином. Ради Бога, берите, кто что может, а то все даром достанется немцам! – кричали прискакавшие из интендантства солдаты и чиновники.
– Куда к черту нам ваш чай, сахар и масло, когда здесь сидишь и думаешь, как бы самим отсюда поскорее выбраться подобру-поздорову?! А они, сволочи, такие, сякие, раньше, когда мы сидели в окопах, ничего нам не давали, а теперь кричат: «Спасайте и берите!» Пусть все пропадет, а вместе с ним пропадайте и вы! – отвечали солдаты.
Все сидевшие на возах и стоявшие на шоссе солдаты были враждебно настроены против чиновников армии. В их взглядах я читал, что они за все эти беспорядки будут мстить всем тем, кто, по их мнению, явился причиной. Со стороны города доносилась стрельба. Дивизия стояла на месте, ожидая присоединения конных частей. Текинский полк готовился к отбытию дальше – в Каменец-Подольск. В это время откуда ни возьмись, с криком, стрелой пролетела верхом на лошади мимо дивизии сестра милосердия с распущенными волосами. Очевидно, лошадь, почуяв на своей спине неопытного седока, решила сбросить его. Сестра взывала о спасении. Выделенные из дивизии на поимку скачущей лошади всадники развели такую тревогу среди лошадей нашего полка, что сумятица поднялась по всему полю. Не было конца брани туркмен по адресу виновницы этой неожиданной тревоги.
– Разак-бек, вы когда-то спрашивали меня, что называется паническим бегством? Вот то, что вы сейчас видите, называется так, – сказал поручик Раевский, подходя ко мне.
– Садись! – послышалась команда.
Мы тронулись в путь. В одном месте, в глубоком нашем тылу, группа аэропланов неприятеля сбросила на нас несколько бомб и, обстреляв из пулеметов без ущерба для нас, быстро исчезла. Проехав двое суток, мы решили к вечеру остановиться в местечке, кажется Чертково. Место для ночлега я, мой вестовой и денщик выбрали около свиного хлева одной хаты, так как везде было битком набито солдатами. К хате, близ которой мы остановились, ежеминутно подходили и уходили солдаты с дороги, спрашивая то хлеба, то молока. Хозяйка хаты, женщина средних лет, имевшая двоих детей – девочку восьми лет и мальчика Петю, как называл его мой денщик Фока, одиннадцати лет, который приносил нам тайком хлеб и молоко, – стоя на пороге дома, отвечала приходившим солдатам: «Нима млека, нима и хлеба». На вопрос моего денщика, почему она не спит, хозяйка отвечала, что вчера ее обокрали солдаты и она теперь сторожит дом, не желая их впускать в него.
Все шоссе длинной лентой искрилось то мерцавшими, то исчезавшими в ночной темноте огоньками от закуривания папирос.
После нескольких дней, проведенных без сна, поевши, я задремал. Проснувшись перед рассветом, я отправился к моему начальнику за дальнейшими инструкциями. Возвратясь назад, я застал перепуганного денщика, который встретил меня словами:
– Ваше благородие, случилось несчастье!
Я быстро взглянул на своих лошадей и, увидев их, немного успокоился и спросил, в чем дело.
– Ночью кто-то убил хозяйку, ограбил все дочиста и увел двух свиней и корову, которая кормила ее и детей…
Я бросился в дом, и глазам моим представилась картина. В луже крови лежала хозяйка, на ее груди плакала девочка. Петя сидел, забившись в угол, и бессмысленно смотрел на всех приходивших для осмотра.
– Петя, кто убил твою маму? Почему ты не прибежал к нам за помощью? – спрашивал я и другие пехотные офицеры, тоже ночевавшие близко от хаты.
– Нима, нима! – бессмысленно отвечал мальчик, избегая разговора.
Все платье девочки было испачкано кровью матери. Она не могла ничего говорить, потеряв голос от рыданий. Комнаты были ограблены дочиста. На кровати уже не было тех подушек и покрывала, которыми я любовался, впервые увидев их. В доме все было перевернуто вверх дном. На полу валялись осколки горшков. Очевидно, искали молоко и, не найдя, со злости разбивали посуду. Убитая лежала с раздробленной ключицей и пробитой головой. От сильного удара топором глаза выскочили из орбит. Тут же, рядом с убитой, в луже крови лежал топор. Убитая была в ночной юбке, которая то вздувалась, то опускалась от ветра, проникавшего в комнату из окна и дверей. Детей куда-то забрали. Дом, в котором несколько часов тому назад била жизнь, превратился в могилу.
– Бедняжка несколько дней тому назад получила от мужа, военнопленного в России, письмо, который писал ей, что скоро война окончится и он приедет домой, чтобы забрать ее и детей и вернуться в Россию. Живется ему в России хорошо, и русские лучше, чем немцы, писал он, – сообщил моему денщику сосед убитой перед нашим отъездом.
С тяжелой душой я покинул этот дом. «За зло – злом, а за добро – добром получишь в этом мире!» – вспомнились слова Курбан Кулы.
Быть может, муж этой женщины теперь в рядах Красной армии убивает сотни женщин и детей, не шевельнув ни одним мускулом лица, мстя за смерть своей жены и за разбитое семейное счастье. Мне кажется, что это ясный ответ на вопрос, почему в чрезвычайках и в рядах Красной армии работают военнопленные.
В Каменец-Подольск
Первая половина июля.
На пути в Каменец-Подольск. Ясный солнечный день. Необъятные зеленые еще поля. На душе уныло. Перед глазами все еще крутится кошмар Калуша.
– Стой! – раздался голос командира головного эскадрона штаб-ротмистра Натензона.
Полк остановился на привал. Люди и лошади бесконечно счастливы этому случаю после утомительной и продолжительной езды. Появились огни, закурились чилимы (кальяны). Джигиты, некоторые, держа за уздечки своих лошадей, легли на спину, устремив глаза в безоблачное лазурное небо, предаваясь своим несбыточным мечтам, – уехать как можно скорее в Ахал, а там… там отдохнуть и, сидя вокруг очага в кибитке, делиться со своими тем, чему они были свидетелями в Великую войну народов, а рассказать у них было много. Другие весело смеялись, шутя друг с другом. Я, пользуясь стоянкой, отдав своего коня вестовому Бяшиму, подошел к группе офицеров головного эскадрона. Офицеры – кто лежал у канавы, а кто сидел. Один из них, поручик Раевский, читал газету «Русское Слово».
– Послушайте, послушайте! Ведь это очень смело сказано, да еще в такое время. Как красиво и сильно! Действительно! В самом деле! Наконец-то нашелся человек, который сказал всю горькую правду. Да здравствует генерал Корнилов! – говорил поручик Раевский, ударяя по странице газеты рукой.
В газете было написано: «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства – бежит! На полях, которые нельзя даже называть полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой этих немногих изменников, предателей и трусов. Я, генерал Корнилов, заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью героев, имеющих право видеть лучшие дни!»
Во время чтения газеты, помимо моей воли, слезы покатились из глаз. Предо мной рисовалась моя Хива со всей ее грязью, лестью, ложью, во главе с ее правителями. Здесь те же самые темнота, честолюбие, самолюбие, ложь, грязь. И в такой обстановке нашелся человек-пророк, пытающийся сказать ослепленным сущую правду, остановить их и направить на путь правильный. Эти слова газеты врезались в мой мозг, так как они исходили из глубины чистого сердца величайшего русского патриота и еще потому, что такое положение и. одиночество я сам не раз испытывал среди пустыни и мрака в Хиве. Предо мной предстала как живая фигура генерала Корнилова, каким я видел его, когда он в первый раз приехал в наш полк и спросил меня, указывая пальцем на мою лошадь и в то же время пронизывая меня своими узкими глазами: «Вы эту лошадь из Ахала привели?» В памяти мелькнули слова джигита: «Бай, бай, Хаджи Ага, какие глаза у этого человека! Я встретил в жизни только двух таких людей, один – Ак-Падишах, а другой – сегодняшний генерал!»
Увидя его самого, я был пленен им, а прочтя его требование сейчас, я сказал себе: «Если Аллах не послал свой гнев на Россию и эти люди не ослеплены Им, то ты – пророк, а я твой верующий ученик! Ты один только спасешь нас! Если ты позовешь верующих, то я первый из них приду к тебе».
Я бы стоял в раздумье очень долго, если бы не голос Кишик Казиева, разбудившего меня как бы от сна.
– Хаджи Ага, нэмэ хабар (какие новости в газете)?
Я подробно объяснил ему и подошедшим джигитам, охотникам до хабаров (новостей), о чем я прочел. Я заметил одно, что по мере моего рассказа по лицам джигитов прошла дрожь. Джигиты то желтели, то бледнели и вздыхали, но слушали очень внимательно.
– Ай, Хаджи Ага, нэ билэн! (я не знаю!). Ты видишь эту гору? – указал мне нагайкой довольно пожилой туркмен на высокий холм.
– Да! – ответил я.
– Если я верю в свою внутреннюю силу, то я эту гору легко положу себе на спину, конечно, при помощи моих верующих, как и я, товарищей. Если же моя вера и моих помощников чуть поколеблется, то эта гора легко нас раздавит!
Все молчали.
– А я знаю, – раз у сары уруса (рыжего русского) голова ушла, то и душа вышла. Только Аллах знает, что тут с нами! Если Кярнилоу верит в свою силу, то он может поднять Россию на свои плечи. А ведь она большая и тяжелая, может его раздавить, даже если и не будет у него на спине, как сказал мой сосед, – закончил кто-то, тоже пожилой.
– Ай, Хаджи Ага! Как бы то ни было, поскорее бы приблизиться к родному Ахалу. Я боюсь, чтобы у нас не было того, что мы сейчас видели в Калуше! – говорили другие.
– Хаджи Ага, нэ хабар? – спросил, подойдя ко мне, Баба Хан Менглиханов, ударяя меня по плечу концом нагайки и указывая мимикой бровей в сторону своего эскадрона, где нас ждало немного спирту, разбавленного с водой..
Я рассказал Баба Хану о том, что читал сейчас в газете.
– Да, да у нас в эскадроне офицеры тоже читают газеты, но не говорят нам ничего, а нам неудобно спрашивать их.
– Что?! Домой в Ахал?! Ты думаешь, в Ахале тебе сары урус (рыжий русский) так и даст отдохнуть?! Наверно, придется записываться в аламаны и делать набеги как на персов, так и на русских, ибо государство разрушено, и все вооруженные банды хлынут назад и будут грабить всех и кого попало, беспощадно проливая кровь, так как они превратились в зверей в продолжение трех лет войны, – говорил Баба Хан, услышав о желании туркмен ехать домой.
Не успели мы положить каждый в рот по куску мяса и запить всегдашней спутницей походов – водкой, как послышался голос Натензона: «По коням!»
Поспешно сев на коней, полк двинулся дальше, в Каменец-Подольск.
Нарушенная идиллия
В жаркий июньский день мы въехали в Каменец-Подольск. Сады и поля кругом утопали в зелени. Весь воздух был пропитан каким-то особенным благоуханием. Казалось, в городе был праздник: нарядная публика, одетая в светлые платья, беспечно гуляла по городу.
– Скажите, пожалуйста, корнет, нам не надо еще бежать? Говорят, что с фронта хлынула волна солдат, сметая все на своем пути. Это правда? Мне-то это не страшно – я прожила свой век, а вот только боюсь за судьбу моих девочек! – Такими словами встретила меня хозяйка-старуха, в доме которой была отведена мне комната.
– Ничего подобного! Кто вам рассказал эти небылицы? успокаивал я бедную перепуганную старуху, когда она поправляла своими дряхлыми руками мою подушку на кровати, стоявшей в маленькой, для меня предназначенной комнате.
– В этой комнате и на этой кровати, молодой человек, будете спать вы. Эта комната моего милого сына, Коли. На днях я получила от него письмо с фронта. Он у меня старый кадровый офицер, и пишет он мне, что война для России кончилась и русский воин, потеряв лик воина, превратился в бунтовщика, предателя, зверя. Нет сил удержать его в руках. Потеряна в нем честь и совесть и… так далее. Как вы думаете, это правда? – спрашивала она меня.
И на этот раз я постарался ее успокоить. В то время когда я разговаривал с нею, в моей памяти пробегали одна за другой картины: разгром Калуша, сумасшедший аптекарь и его изнасилованная девочка, серая масса, выплевывающая шелуху от семечек, запрудившая всю дорогу, и, наконец, труп женщины, убитой солдатами!..
Комната моя выходила в сад окнами, через который проникало изобилие света и аромат роз. Не успел я привести себя в порядок после дороги, как получил приглашение хозяйки с ними отобедать. Поблагодарив, я вошел в небольшую, но уютную столовую. Вся она блистала идеальной чистотой, которая говорила о внимании и заботливости двух барышень, с которыми меня здесь же и познакомила мать. Одной из них, О., было лет 17, а другой, Н. – лет 16, обе блондинки, интересные, милые и на редкость внимательные. Обед продолжался довольно долго. В течение его старуха засыпала меня вопросами о фронтовой жизни. Продолжительность обеда и докучные вопросы хозяйки были, однако, для меня незаметны в присутствии двух очаровательных барышень. В этой обстановке я отдыхал всем своим существом после пережитых кошмаров.
Я взял на «мушку» Н. и за чашкой кофе попросил ее сыграть что-нибудь на рояле. Слушая музыку, я забыл все на свете и просидел в этом милом обществе до вечера.
Был тихий, лунный, летний вечер. Соловьи заливались без умолку, когда мы с Н. сидели в саду на скамейке, делясь впечатлениями – она о Москве, а я – о Каменец-Подольске. Каждое дыхание и каждое движение этого очаровательного существа волновало меня, в особенности, когда она обращалась ко мне и, встретив мой взгляд, застенчиво опускала свои красивые глаза. Взяв ее руку, я только хотел начать свои излияния перед нею, как в это время раздался бычачий голос моего денщика, зовущий меня, что нарушило начавшуюся идиллию.
– Я здесь! Не ори! – вполголоса отвечал я ему, боясь разбудить мать и сестру Н.
– Виноват, ваше благородие! – сказал Фока, увидев меня с Н.
Сконфуженный Фока торопливо доложил мне о прибытии джигита с приказанием командира полка явиться к нему. Нечего было делать, пришлось идти. Прощаясь со мной, Н. просила меня по возвращении от командира полка сообщить ей о причине вызова.
– Вам не все равно, что скажет мне командир полка?
– Значит, не все равно, – ответила она, спрыгнув с окна своей спальни внутрь комнаты.
На минуту я застыл на месте, ловя воздушные поцелуи, которые она посылала мне. Удивительно хороша была она в эту минуту! В белом платье, при ярком лунном освещении, в расцвете своей юности, она напоминала мне утреннюю розу. Я невольно бросился к ней, но она, осторожно заперев окно своей спальни, исчезла внутри ее. Я посмотрел на часы, было три часа ночи. Я отправился к командиру полка.
– Вот что, корнет Хаджиев! Я получил из штаба фронта приказание послать туда к 8 часам утра 25 джигитов с одним офицером для охраны штаба. Поговорив с командирами эскадронов я пришел к заключению – послать вас. Извольте к семи часам утра с людьми быть готовыми! – закончил командир полка.
В то время, когда командир полка произнес слово «охрана», я невольно подумал об ответственности моей роли и о тех, кто пожелал доверить свою судьбу, а быть может и жизнь, мне. Пред моими глазами, как кинематографическая лента, опять пронеслись все ужасы творимых зверств, от которых теперь хотят защититься и просят помощи у кочевников-туркмен. Я знаю, что истый туркмен не выдаст обратившегося к нему за помощью, а скорее сам умрет. Как бы то ни было, выбор пал на мою долю, и я должен был, покоряясь воле Аллаха, идти, хотя от этого назначения я свободно мог отказаться, так как я был командирован от полка в Станиславово, к князю Багратиону, и командир полка мог бы назначить в очередь какого-нибудь другого офицера. Я хотел было об этом ему доложить, но почему-то язык не повернулся.
Выслушав командира полка и узнав о его намерении назначить мне людей по усмотрению командиров эскадронов, я, получив его разрешение высказать свое желание, указал на ответственность моей роли как офицера Текинского полка, на долю которого выпала эта трудная задача, и просил взять из полка тех людей, которых я хорошо знаю и на которых мог бы положиться в трудную минуту, а также просил увеличить число джигитов до сорока. Командир полка понял меня и, тут же согласившись, отпустил, обещав исполнить мою просьбу, предварительно поговорив с командирами эскадронов.
Я вышел. Было четыре часа утра – время намаза, и я прямо отправился к Курбан Ага. От командира я вышел в тяжелом настроении. На душе у меня лежала тяжесть, и мой верный спутник и барометр моей жизни – мое предчувствие, никогда еще не изменившее, теперь предсказывало мне что-то недоброе. Разум то был мрачен, то весело смеялся, указывая на мое легкомыслие и говоря: «Что ты воображаешь о себе со своими сорока отборными джигитами против грозы, силой Аллаха посланной на Родину в виде этих солдат-зверей с отнятым разумом. Ты – ничто! Захлебнешься в волне гнева Аллаха! Отстранись!»
Стоял тихий предрассветный час. Кругом была такая тишина, что, казалось, и вся природа спит, не желая нарушить эту очаровательную тишину. Свежий, чистый и слегка холодный воздух обволакивал и ласкал тело. Изредка доносилось пение пробуждавшихся птиц, которые словно ловили эту чарующую минуту, вознося хвалу Всевышнему Творцу. Сине-голубая часть восточного небосклона начала мало-помалу бледнеть, и звезды, искрившиеся, как осколки алмаза, стали прятаться за алой вуалью быстро восходившего солнца.
Придя к Курбан Ага, я застал у него муллу, и мы все втроем стали на молитву. По окончании намаза и после прочтения муллой обычной главы из Корана мои руки повисли в воздухе и губы шептали:
«О, Всемогущий Аллах, создатель меня и всего того, что вижу, мыслю. Хозяин моего разума, дав который, Ты сделал меня царем мира, а отняв его – сделаешь зверем, не понимающим цены, благ данных мне в этом мире. В эти тяжелые дни есть еще люди, верующие в Тебя, и они прибегают к нашей помощи, как утопающий хватается за соломинку, произнося Имя Твое и ища защиты. Если ты хочешь помочь, то эта соломинка спасет его. Мы сейчас представляем из себя эту соломинку, а Ты пошли помощь, укрепи нас. Помоги мне и моим людям!»
Чем больше я от искренней души молился, тем больше я чувствовал новый прилив силы и бодрости. Душе стало легче, и по ней пронеслась новая волна, отогнавшая всю душевную тяжесть, злую настойчивость разума. Сердце, разум и душа соединились в одно и крикнули мне: «Иди!» Эта светлая волна, примчавшаяся откуда-то ко мне в эту минуту, была – вера. Я просил Аллаха послать ее в душу каждого из моих людей, чтобы каждый из них был ею ободрен и пошел верующим на свое дело, так же как и я! Аминь!
– Эй, Хаджи Ага, что-то опять с тобой неладно?! – заметил Курбан Ага.
Я рассказал ему подробно о предстоящей моей командировке и ее трудности в такое тяжелое время.
– От кого охранять и кого? От гнева Аллаха? Если Аллах будет хранить охранителей, то охраняемые будут сохранены. Я сам лично не пошел бы на это дело, тем более после всего того, что видел и как могу представить себе будущее, балам!
– А если, Курбан Ага, веруешь?
– Тогда другое дело, балам. Если ты веришь, то можешь совершать чудеса. Я укажу тебе, кого брать из 4-го эскадрона. Иди также к Кишик Назиеву, Танг-Атар Артыкову, Менгли Ханову. Они все укажут тебе на тех джигитов, с которыми ты спокойно можешь идти, куда угодно. После этого ты можешь просить командира полка их взять, с согласия, конечно, командиров эскадронов.
Я так и сделал. Все эти перечисленные Курбан Ага офицеры очень охотно пошли мне навстречу и дали слово и в будущем поддержать меня во всем, если от них это будет зависеть. В пять часов утра возвратившись домой, яразбудил Фоку и сообщил ему о новой перекочевке и приказал быстро собрать вещи.
– Что это, ваше благородие! – ворчал он. – Опять вас куда-то посылают вне очереди? Думал, хоть здесь немного отдохнете, а вот теперь опять собирай вещи! Неужели нет в полку других офицеров, которых могли бы назначить?! Еще с вечера старуха-хозяйка радовалась, что вы будете у нее долго жить и что вы ей с первого взгляда очень понравились, – рассказывал Фока, собирая вещи. – «Слава Богу», – говорила мне старушка, – продолжал Фока, – «что не какому-нибудь прапорщику отвели мою комнату, а человеку воспитанному, да еще корнету».
– Какая разница между прапорщиком и корнетом? Оба офицера – слуги родины.
– Никак нет, ваше благородие! Она говорит, что прапорщик раньше жил у нее и что большинство из них даже ложку в руках держать не умели. «А твой барин, говорит, когда надо было войти в столовую, спросил разрешение, а при входе предварительно вытер свои ноги о коврик перед дверью, а господа прапорщики об этом никогда и не догадались. “Раз звали на обед, надо идти и есть”, и с грязными сапогами шли в гостиную, куда их никто не приглашал. “Куда нам всех церемоний на войне придерживаться. При прямо, коль зовут, и ешь, как попало, – рассуждали они”, – жаловалась старуха.
– Ну, ладно, ладно! – прервал я разглагольствование денщика. – Собирай скорее вещи, а я хочу немного отдохнуть.
Первые лучи утреннего солнца освещали мою уютную комнату, где я предполагал счастливо провести несколько дней. На ночном столике стояли цветы, принесенные заботливой Н. В окно видна скамейка под черешней, где вчера мы так счастливо сидели вдвоем. Стоя перед окном, я призадумался. Из этого состояния меня вывел вопрос Фоки, спрашивающего, какую лошадь оседлать – серого или булана?
– Серого! – ответил я и опять задумался.
Я бы долго стоял в таком состоянии, если бы меня не пробудил женский голос, спрашивающий, зачем собираются вещи, так заботливо и долго расставлявшиеся вчера.
– Барин от вас уезжает! – услыхал я голос Фоки.
– Как жаль, как жаль! Что так мало гостили у нас? – повторил тот же женский голос.
Выглянув в окно и увидав старуху-хозяйку, я поздоровался с ней.
– Что это вы вздумали так внезапно покидать нас, молодой корнет! Разве вам у нас не понравилось? – спрашивала старуха, подходя к моему окну.
Я сказал ей о моем назначении.
– Мы к вам как к родному успели привыкнуть. Вы не говорите барышням, что уезжаете. Они сегодня хотят приготовить вам ваш любимый пирог. Впрочем, когда вы уезжаете? – повторила опять свой вопрос старуха и, узнав, что сейчас, поспешно вошла в дом, чтобы позвать дочерей попрощаться со мной.
– Разак Бек, идите сюда! – послышался со стороны сада голос Н.
Я взглянул в окно и, увидев ее у окна ее комнаты, быстро спрыгнул в сад и подошел к ней.
– Я все слышала, что вы говорили маме, – сказала Н. В глазах ее стояли слезы.
– Н.! Н.! – звала мать со стороны запертой двери, желая разбудить дочь.
– Я сейчас, мамочка, – ответила Н., опускаясь машинально с подоконника.
Не прошло и пяти минут, как Н. вышла из своей комнаты. Она была слегка бледна, очевидно, от бессонницы.
– Что случилось, что так внезапно покидаете нас?
Я вкратце рассказал ей о причине моего отъезда.
– Очень жаль, что вы уезжаете, так как я за это короткое время успела привыкнуть к вам как к самому близкому человеку. Недаром говорится, что мимолетные и приятные встречи оставляют неизгладимый след. Ну, поезжайте куда хотите, только чтобы Господь Бог хранил вас везде, где бы вы ни были! – сказала она, всовывая мне в руку что-то завернутое в бумагу. – Храните эту вещь, она вам поможет в самые трудные минуты вашей жизни! – добавила она и, попрощавшись со мной, быстро ушла в дом.
– Н., ты куда? Разве ты уже попрощалась с Разак, – как ваша, молодой корнет, другая половина имени, я все забываю по старости, – говорила старуха, гладя по головке скучную О. – Вот видите, вот видите, как к вам успели привыкнуть в нашем доме, что даже тоскуют барышни! – продолжала старуха.
– Ваше благородие, лошадь подана, – прервал Фока эту сцену, подавая мой ятаган.
Сжимая в руке подаренную Н. вещицу, попрощавшись с матерью и О., я вскочил на коня и быстро выехал со двора дома гостеприимных хозяев.
– Ваше благородие, посмотрите на окно, барышня плачет! – сказал мне сзади ехавший Фока.
Оглянувшись и увидев плачущую Н., я послал ей последний прощальный привет.
У командира полка я застал всех эскадронных командиров.
– Каких вам джигитов надо и зачем именно выбирать их, когда вы должны отправиться в распоряжение штаба с теми, которых вам назначат сами командиры эскадронов! – с такими словами обратился ко мне подполковник Эргарт.
Выслушав его, я доложил ему о следующем:
– Я думаю, господин полковник, что моя роль, как начальника охраны, очень ответственна, а в особенности в такое тяжелое время, как сейчас; тем более что мне, как начальнику охраны, будут доверять не только имущество, но и жизнь, а потому я нахожу необходимым взять тех людей, которых я знаю.
Несмотря на приведенные доводы, полковник все же отказал дать мне отобранных джигитов из своего эскадрона.
– Ну что вы, корнет, говорите! Никакой опасности нет. Езжайте с теми людьми, которых назначит вам командир полка! – ответил он.
– Выбирайте из моего эскадрона самых лучших всадников, каких вы находите нужным взять, а если вы не знаете их, то я сам пойду сейчас в эскадрон и помогу выбрать их вам, корнет Хаджиев, – предложил ротмистр Натензон, командир 2-го эскадрона.
Командиры 3-го и 4-го эскадронов последовали примеру Натензона. Подполковник Эргарт, демонстративно обойденный командирами других эскадронов, то краснел, то бледнел, нервно крутя темляк «честно заработанного», как он говорил, оружия.
Начало службы великому бояру
– Хаджи Ага, нам кажется, что ты ведешь джигитов на праздник, так подобрал их и красиво нарядил, – смеялись Кишин Назиев, Баба Хан, Танг Атар Артыков и другие перед моим выездом в штаб.
– Я все это, друзья мои, не для того делаю, чтобы показать пышность моего приезда в штаб и богатство джигитов, а для того, чтобы первое наше впечатление вселило веру тем, кто ищет у нас защиты, и чтобы они свободно и спокойно могли работать, когда возле них – мы, – ответил я.
Ровно в 8 часов утра я прибыл в конном строю с моими людьми в штаб армии и, получив приказание явиться на вокзал, отправился туда.
Комендант станции представил меня коменданту поезда командующего армией – старому гусару, ротмистру князю Кропоткину, который приказал отослать тотчас же лошадей обратно в полк, а я со своими людьми должен был отправиться в поезде, так как командующий армией через час отбывал из Каменец-Подольска. Князь Кропоткин объяснил мне мою задачу, сказав, что я со своими людьми должен буду сопровождать командующего армией генерала Корнилова в Могилев. Джигитам был предоставлен вагон третьего класса, а мне купе во втором, рядом с князем. На мой отказ от купе и желание остаться с джигитами князь сказал, что начальник охраны поезда должен быть под рукой и ближе к командующему армией.
Джигиты своим видом, дисциплиной и оригинальностью костюма сразу привлекли внимание всех чинов штаба. Высокие и стройные джигиты были одеты в малиновые халаты.
Их гибкие фигуры в нарядных красивых шелковых халатах были туго-натуго перетянуты широкими толстыми туркменскими кушаками, за которыми были воткнуты пичаки (ножи) с белыми ручками. Сверх этого кушака находился серебряный пояс, украшенный разноцветными камнями, к которому прикреплялся ятаган. Красивые загорелые лица под большими черными папахами ежеминутно улыбались во время разговоров с чинами штаба, показывая ослепительно белые зубы. Услужливые, внимательные и на редкость симпатичные туркмены быстро завоевали симпатию всех чинов штаба, которые начали группами приходить, чтобы побеседовать с ними.
– В бою был? А пришлось ли тебе зарубить хоть одного немца? – спрашивал генерал Романовский стоявшего около вагона джигита.
– Так точно, Ваше Превосходительство! Трех! – отчетливо отчеканил тот.
– Да, Ваше Превосходительство, это не наши товарищи! На этих людей можно положиться и работать с ними! Не ошибся генерал Корнилов, поручив им охрану! – обратился к генералу Романовскому один из полковников генерального штаба.
Не прошло и часу после нашего приезда на вокзал, как подкатил большой автомобиль, в котором скромно сидел Уллу бояр (Великий бояр), как мне об этом доложил прибежавший дежурный джигит. Я вышел для встречи. Командующий, выйдя из автомобиля, крупными шагами направился к поезду. Поздоровавшись со мной и с парными часовыми, он быстро вошел в свой вагон, в котором был встречен своим сыном Юриком.
С этой минуты между ним и нами протянулась невидимая крепкая нить, связавшая его судьбу с судьбой сынов Ахала, которые с открытой душой пошли к нему, инстинктом чувствуя кристально-чистую душу своего Уллу бояра.
Поезд тронулся. Мое купе было битком набито офицерами, пришедшими полюбоваться моим оружием и молитвенным ковриком. Вошел ко мне и князь Крапоткин и, извинившись перед офицерами, пригласил к себе.
– Дзыбалдыкните-ка до дна, корнет! Это вам полезно перед обедом! – приказал он, преподнося мне полстакана коньяку, когда я вошел в его купе.
Он ни за что не хотел слушать мой протест. Я исполнил приказание князя и, выпив до дна, вернулся в свое купе. Со мной ехал один прапорщик пехотного полка, который тоже состоял в распоряжении князя. Нам подали обед, и мы вдвоем вмиг его уничтожили.
День был жаркий. Поезд мчался с бешеной быстротой, не останавливаясь даже на больших станциях, осаждавшихся в это время толпами товарищей, бежавших с фронта. Изредка поезд останавливался для пополнения паровоза водой. В таких случаях заранее вымуштрованные мною джигиты, с обнаженными ятаганами, выскакивали почти на ходу на платформу станции и, сделав три шага от поезда, круто поворачивались лицом к поезду, застывая в таком положении, не допуская никого близко без моего разрешения. Мною было категорически приказано им ни с кем из посторонних во время остановки поезда не разговаривать.
Такой способ появления джигитов на вокзале производил потрясающее впечатление на толпу. Товарищи, ожидавшие поезд и мечтавшие в него попасть, шарахались назад, давя друг друга, вмиг очищая платформу при столь неожиданном появлении джигитов со сверкающими ятаганами в руках, выскакивавших прямо на них. Все чины штаба хохотали, глядя на эту картину из окон вагона, и были очень довольны, что ни один товарищ не посмеет и мечтать не только сесть в поезд, но даже близко подойти к нему. Пока вся эта толпа приходила в себя, поезд успевал набрать воды и опять мчался вперед. Эта система очень понравилась князю, и он благодарил меня, говоря:
– Вы, корнет, как талантливый артист, сразу вошли в свою роль и поняли раньше, чем я успел вам сказать, что надо делать.
На одной из стоянок генералу Корнилову доложили о моей системе, и он вышел посмотреть на эту картину, которая ему так же понравилась, как и другим. Посмеявшись вдоволь над паническим бегством товарищей, он обратился ко мне с вопросом:
– Вы начальник охраны нашего поезда?
– Никак нет, Ваше Высокопревосходительство! – ответил я.
– А кто же? – удивился генерал Корнилов.
– Сначала Аллах, а потом я! – ответил я.
Генерал Корнилов улыбнулся и начал расспрашивать меня, какого я училища, был ли я в боях, есть ли у меня знаки отличия, кроме красного темляка. Уходя, задал мне вопрос, из какого я аула. Каково было его удивление, когда я ему ответил, что я хивинец.
– Как? Вы хивинец? – переспросил удивленный генерал и, получив удовлетворительный ответ, приказал генералу Романовскому что-то записать, а сам, уходя в вагон, о чем-то говорил окружающим его.
– Это еще небывалый случай… редкий экземпляр… – доносилось до моего слуха.
– Командующий приказал пригласить вас к общему столу, – сообщил мне князь, входя в купе, где я собирался обедать с моим спутником – прапорщиком.
– Посему, – продолжал князь, беря меня за кушак халата и таща за собой в свое купе, – извольте до дна! Что? Вы отказываетесь исполнить мое приказание?! Да еще приказание старого ахтырца!.. Сто пятьдесят прыжков! – приказал он, указывая мне место посредине купе.
Нечего было делать! Подобрав полы халаты и ятаган, я пустился прыгать. На диване со стаканами вина сидела группа гвардейцев, хохотавших до упада, глядя на эту картину. Отмахав 150 прыжков, проклиная всех князей на свете, потный, я вмиг проглотил стакан коньяка, прямо, не моргая и смотря в глаза князя, как он приказал это сделать.
– А теперь по-приятельски перейдем с тобой на «ты» и пойдем отведать генеральский обед! – сказал он, целуя меня.
За обедом
– Садитесь! – коротко приказал генерал Корнилов, сидевший во главе стола, когда я вошел в столовую.
За столом сидело несколько человек генералов и полковников генерального штаба, прислушиваясь к рассказам генерала Корнилова, интересно и увлекательно рассказывавшего в продолжение обеда.
– Корнет, голубчик, как я рад вас видеть, да еще офицером! – воскликнул генерал Лобачевский и, обращаясь к генералу Корнилову, продолжал:
– Ведь он, Ваше Превосходительство, учился в 3-м Московском кадетском корпусе, директором которого был я.
– Что же, обрадовались, генерал, встретив своего воспитанника? – спросил генерал Корнилов, улыбаясь и крутя свою бородку с очень бедной растительностью.
– Еще бы не радоваться! – ответил генерал Лобачевский. – Ведь он первый офицер из Хивы, окончивший наш корпус!
– Да-а?! – протянул генерал Корнилов, крутя свой ус правой рукой, на безымянном пальце которой было одето два кольца: обручальное и кольцо с китайскими иероглифами.
Наступило молчание, нарушаемое только стуком колес быстро мчавшегося поезда. Все ожидали следующее блюдо. Сидевший визави со мной полковник генерального штаба Плющевский-Плющик крутил шарик из хлеба, бросая изредка на меня ласковые взгляды. Несколько минут генерал Корнилов задумчиво глядел в окно, как бы что-то вспоминая, и вдруг, резко повернувшись к присутствующим, заговорил:
– Знаете, какой курьезный случай произошел на фронте во время последних наступлений? Негодяи товарищи, находившиеся на передовой линии, поднимали ноги, давая, таким образом, знать сзади лежавшим солдатам о своем желании или нежелании идти в наступление. Когда мне об этом доложили, я поразился способности русского солдата придумывать такого рода сигнализации.
Во время этого рассказа на правой щеке его образовались три морщины, маленькие глаза сверкали и лицо имело бронзовый цвет.
Подали третье блюдо. Беседа снова оживилась, центром ее был генерал Корнилов. Интересно и увлекательно он рассказывал сцены и картины нравов из персидской истории, вспоминал произведения персидских поэтов, часто декламируя большие отрывки на прекрасном персидском языке, переводя их после слушателям. Меткость, изящество, богатство иострота цитат очень нравились присутствующим, и они с наслаждением слушали его рассказы. Желая перевести слова Фирдоуси, который говорил, что «смерть – это вино. Чашка, в которую оно наливается, – жизнь. Наливший – его судьба. Нет ни одного существа, которое бы не пило этого вина», генерал Корнилов на минуту задумался, желая сказать это на персидском языке. Я попросил разрешения напомнить ему слова поэта. После этого случая он перебрасывался со мной и другими красивыми фразами на персидском языке.
Не допив свой чай, генерал Корнилов неожиданно для всех поднялся из-за стола и направился в свой вагон, где находились его жена и сын, ехавшие вместе с ним в Могилев.
– Голубчик, иди сюда! – обратился ко мне князь на одной стоянке. – Прикажи своему дьяволу слезть с денежного сундука. Мне надо вынуть оттуда кое-что. Все мое старание стащить этого черномазого с сундука пропало даром, и он чуть не отправил меня на тот свет. На мое приказание сойти он ответил, что его может сменить только корнет Хаджи, а других он не слушает. Ведь я твой начальник, говорю я ему, а он мне свое: «Я бас нэ знаит! Дабай карнэт Хаджи». Так вот, «карнэт Хаджи», давай-ка его сменим. Мне жаль его, что он 9 часов просидел на сундуке голодный. Но все-таки, голубчик, объяви им, что и я их начальник. А то я ему приказывал, а он знай все твердит свое: «Дабай карнэт Хаджи, дабай карнэт Хаджи!» Фу, черт возьми! – говорил, часто дыша, слегка сердитый князь.
Окружающие хохотали над неподчинением «диавола» старому гусару. В ответ на смех офицеров князь оправдывался:
– Черт знает! Черный дьявол какой-то! Чего доброго выстрелит в тебя, если с ним свяжешься! Ведь языка не знаешь!.. А он все твердит свое!..
Оказалось, что забытый часовой, который должен был смениться через 3 часа, пробыл на своем посту в закрытом вагоне у денежного ящика 9 часов без еды и питья. Приказанию князя он не подчинился, потому что хотел сдать мне печать в таком виде, в каком принял от меня.
– Как я ему мог сдать сундук, когда я его не знаю, а печать сдал ты мне. Не дай Аллах, что случится, потом будут говорить, что я виноват! Лучше я сдам, Ага, тебе, а ты кому хочешь! – резонно заявил туркмен часовой, когда я ему приказал покинуть сундук.
В этот день князю суждено было подвергаться всяким курьезным неприятностям. На одной из остановок паровоз должен был набирать воды. Станция, по обыкновению, была запружена солдатской массой, ожидавшей поезд. Князь по какому-то случаю должен был пойти к коменданту станции. Солдаты, узнав, что едет командующий, но не зная, кто именно, бросились к князю со словами:
– Господин генерал, вы тоже, значит, домой? Стало быть, война кончилась?
Его гусарские погоны с зигзагом и наружность ввели в заблуждение солдат, принявших князя за Брусилова. Князю надо было прибегнуть к помощи туркмен, чтобы осадить эту «сволочь», как он выражался, придя в вагон.
По донесению контрразведки, наш поезд в пути должны были взорвать. Поэтому, не доезжая одной станции до этого места, мне было приказано ехать вперед с двумя туркменами на паровозе для исследования пути. Доехав благополучно и не найдя ничего подозрительного на указанной станции, мы возвратились обратно.
Поезд прибыл в Бердичев.
– Корнет, иди сейчас же явись тому полковнику, который собирается ехать с командующим! – торопил меня князь, указывая на полковника, вышедшего из вагона вместе с генералом Корниловым и направлявшегося к автомобилю. – Мне известно, что вы сопровождаете командующего. Сколько человек джигитов имеете с собой? Прошу забрать их в город, где для вас отведена квартира. За людьми по приезде в город я пришлю автомобили. Вы теперь состоите в моем распоряжении! – сказал полковник, которому я поспешил представиться.
Полковник этот, Владимир Васильевич Голицын, был истинно преданный генералу Корнилову человек и состоял при нем старшим офицером для поручений.
Прошло около трех часов, а обещанного автомобиля не было. День был жаркий и солнечный. Сад же у вокзала, в котором были приготовлены столы для обеда офицеров штаба, оставшихся в поезде, утопал весь в зелени и благоухании.
– Ты, брат, теперь ушел из моих рук! – шутил князь, сидя за столом в тени черешни, попивая вино, появившееся в изобилии во время обеда, – за отсутствием генерала Корнилова.
– Не знаю теперь, куда пристать! Вы не знаете, Ваше Превосходительство, кто поведет дальше поезд? – спросил князь у одного генерала, сидевшего рядом с ним.
– Это мне так же известно, как если бы вы спросили меня, куда вы теперь пристанете? – ответил генерал, пожимая плечами. – Насчет поездки дальше ничего не известно, но, по-моему, генерал Корнилов скоро уедет отсюда дальше! – помолчав, полушепотом, прибавил генерал, глотая понемногу красное вино.
– А что, Ваше Превосходительство, на Шипке неспокойно? – задал князь вопрос:
– Мне кажется, да! – последовал ответ.
После обеда я по обыкновению пошел к своим джигитам попить зеленый чай и поделиться с ними тем, что знал.
– Бэ, Хаджи Ага, сколько их! – обратился ко мне один из них.
– Кого? – удивился я.
– Да генералов, полковников этих! Куда ни посмотри – везде встретишь их. Кто же на фронте остался, Ага? Вчера со мной произошел, такой случай. Стоял я на часах. Подходит ко мне вон тот генерал, – указал подбородком джигит на одного из генералов, – и спрашивает, много ли у нас в полку джигитов, не желающих воевать? Я на него крикнул: «Не рэзгобарить! А то стрылэй чечас!» А он: «Карашо, карашо!» и быстро ушел.
– Ага, Уллу бояр совсем непохож на этих генералов! – вмешался другой джигит. В двенадцать часов ночи, когда я сменял часовых, он вышел на площадку своего вагона и показал часовым, как надо держать винтовку. На чисто туркменском языке бояр спросил меня, из какого я аула, есть ли у меня родные, чем они занимаются и чем я занимался до поступления в полк. Оказывается, он очень многих туркмен помнит, с которыми когда-то ездил в Афганистан. Из нашего аула он также знает несколько туркмен, сопровождавших его во время поездки по Ахалу. Каждое его слово кололо меня в сердце, и я говорил сам себе: «Ты, бояр, хорошее сердце имеешь, и оно понимает наше. Ты Сердар, и за тобой можно в огонь и в воду идти без страха». Потом попросил у меня зеленого чая и спросил чурек, но у меня его не было. Попробовал немного чаю и сказал:
– Это не настоящий зеленый чай, который любят туркмены! Это персидский поддельный, который приготовляют персы для того, чтобы его сбыть неопытным туркменам по дешевой цене.
– Бэ, бэ, Ага, какой это человек! Ведь он говорит – 25 лет тому назад покинул Ахал, а вкус чая, чурека, имена людей до сих пор помнит! – говорили джигиты, удивляясь такой памяти генерала Корнилова.
– Хаджи Ага, Уллу бояр едет! – прервал нашу беседу старый унтер-офицер 2-го эскадрона Гельди Мурат.
Я вышел из вагона. В саду моментально все зашевелилось. Бутылки вмиг исчезли со стола. Отрезвевший князь бегом помчался встречать генерала Корнилова, который, выйдя из автомобиля, крупными шагами быстро направился к своему вагону. Глаза его были опущены и лицо желтое, как лимон. На лету принимая приветствия от присутствующих здесь офицеров и холодно пронизывая их всех маленькими глазами, он вошел в свой вагон в сопровождении В.В. Голицына и какого-то кубанского казака, который, как я узнал потом, был Степаном Васильевичем Завойко.
– Почему, зачем приехал обратно генерал Корнилов? – спрашивали офицеры один другого.
– Смертная казнь… Временное правительство… генерал Черемисов… генерал Корнилов. Завтра… – долетали до меня отрывки фраз В.В. Голицына, стоявшего на площадке вагона и говорившего что-то окружавшим его офицерам.
Чтобы не быть назойливым, я, решительно ничего не понимая, отошел от толпы к своему вагону.
– Голубчик, корнет, вы меня извините, что я не прислал автомобилей, ибо, как вы сами видите, генерал возвратился обратно, – сказал Голицын, взяв меня за кушак халата и глядя упорно в мои глаза.
– Господин полковник, разрешите обратиться к вам с маленькой просьбой – сказал я, выслушав его. И, получив разрешение я, продолжал: – Прошу вас, господин полковник, ознакомить меня с событиями этих дней, чтобы я, будучи в курсе дела, мог познакомить, до некоторой степени, с положением дел и моих людей, ибо у нас, среди туркмен, принято сперва подчиненным ясно объяснить, а потом требовать исполнения задачи. Боюсь, чтобы джигиты в критическую минуту не сказали мне, что они не были подготовлены. Будучи же подготовлены и в курсе дела, они пойдут в огонь и воду по одному движению руки своего начальника.
– Спасибо за откровенность. В будущем прошу обращаться так же лично ко мне за разъяснением всего непонятного. Генералу Корнилову вы известны с хорошей стороны. Он очень расположен к вам. Он надеется, что туркмены все как один человек во главе с их начальником будут честно и преданно служить Родине и ему, как служили до сих пор. Дело в том, что генерал Корнилов послал Временному правительству раньше, да и теперь, некоторые требования и впредь до получения удовлетворительного ответа он не хочет ехать в ставку в Могилев на пост Верховного главнокомандующего. А требования эти следующие: 1) ответственность перед собственной совестью и всем народом, 2) полное невмешательство в его оперативные распоряжении, а поэтому и в назначение высшего командного состава, 3) распространение мер, принятых за последнее время на фронте и на все те места тыла, где расположены пополнения армии, 4) принятие его предложений, посланных по телеграфу в ставку прежде, а именно:
1) введение смертной казни в тылу, главным образом, для обуздания распущенных банд запасных, 2) восстановление дисциплинарной власти начальников, 3) ограничение круга деятельности войсковых комитетов и установление их ответственности, 4) воспрещение митингов, противогосударственной пропаганды и въезда на театр войны всяких делегаций и агитаторов.
Потом генерал Корнилов был обижен действиями Временного правительства, которое, после удовлетворения этих требований, без ведома Верховного назначило генерала Черемисова главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Генерал Корнилов послал опять запрос в Петроград и до получения ответа отказывается ехать в ставку. Вот причина нашего возвращения в поезд. Теперь вам все ясно? – закончил полковник Голицын.
Вернувшись в вагон и собрав всех джигитов, я подробно и толково рассказал им о том, что знал от полковника Голицына, а по окончании рассказа я вскользь сделал предложение – высказать каждому свое мнение. Все опустили головы. Наступило молчание. Я снял папаху и расположился за гёок-чаем.
– Я не понимаю, Ага, что это за Временное правительство, которое желает иметь дезертиров на своей стороне. Эти дезертиры-звери, возвратившись в Россию, так же будут грабить и убивать невинных людей, как в Калуше. Один умный и честный человек находит средство оградить интересы граждан и благополучие родины, а этот Керэнски не желает принять это средство, которое может пригодиться для спасения того же чернолицаго Керэнски. Я думаю, Ага, если бы это Временное правительство могло видеть, что творилось в Калуше, то сразу согласилось бы подписать этот закон Уллу бояра! – сказал Халмухамед.
– Люди, не отличающие хорошее от дурного, – слепые, и во Временном правительстве сидят люди слепые и неразумные, и такие они потому, что, по моему, Ага, Аллах хочет послать урусам несчастие! – закончил Гельди, горячо приняв к сердцу мое объяснение о событиях.
На второй день мы также обедали в саду, но без генерала Корнилова, который обедал у себя в вагоне. Все сидевшие за столом были мрачны и неразговорчивы. Один только князь разговаривал со своим соседом вполголоса. Среди обедавших появилась новая фигура. Это был генерал Валуев. Почти в конце обеда меня вызвал Голицын, заявив, что меня просит командующий. Я, попросив разрешение у генерала Лобачевского, вышел из сада.
– Садитесь, – сказал генерал Корнилов, поздоровавшись и указывая стул, стоявший у окна вагона.
– Вы кто, хивинец-узбек или иомуд из Хивы? – был задан мне первый вопрос.
Получив ответ, генерал начал подробно расспрашивать меня, каким образом мне удалось в России окончить образование, так как в Хиве фанатизм развит сильнее, чем где-либо в других местах Средней Азии.
Я разъяснил ему вкратце, каких усилий и труда стоило мне мое образование. Заинтересованный моей жизнью, генерал Корнилов расспрашивал о Хиве, о народе и вскользь спросил, не скучно ли мне вдали от родных степей.
– Так точно, Ваше Высокопревосходительство, мне скучно без Хивы, но тоска по ней заслоняется тяжелой обстановкой, окружающей меня здесь.
– Да! – протянул генерал Корнилов, гладя подбородок и, быстро повернувшись к окну, начал смотреть в него, машинально крутя свой правый ус.
Когда он сказал это «да» с глубоким вздохом, то мне показалось, что он хотел сказать, что Россия погибнет, если правители ее не опомнятся сейчас. Наступила тишина. Генерал Корнилов опять заговорил:
– Вы сейчас с фронта и видели, что сделали «они» с армией. Превратили массу храбрейших русских воинов в стадо баранов. Вы понимаете, как это тяжело. Ясно, так дальше продолжаться не может, так как немцы не дремлют и они постараются использовать нашу революцию в свою пользу. Вам, наверно, известно мое требование к Временному правительству? Я жду ответа! Туркмен – хороший, послушный сын в руках хорошего отца. Вы, пожалуйста, держите их в руках и оградите от соприкосновения с товарищами, так как под видом товарищей часто попадаются агитаторы – шпионы немцев, – говорил он, пронизывая меня своими глазами.
– Ваше Высокопревосходительство, разрешите доложить! – сказал я.
Генерал Корнилов, оторвавшись от окна, куда он повернулся, сосредоточенно смотрел на меня.
Я рассказал ему высказанное мне мнение моих джигитов после рассказа им моего разговора с полковником Голицыным.
– Вот видите, Владимир Васильевич, какой народ эти туркмены! А ведь этот народ мы называли диким степняком, а рассуждают вот как! Если бы наши солдаты поняли и рассуждали так, как эти (подбородком указал на меня) степняки, разве мы тратили бы дорогое время на разговоры с «ними»?!
Глубокий вздох. Опять «Да!», и он, повернувшись профилем в окно, глядел, опустив голову, на гуляющих офицеров. Когда он произносил «Да!», я внутри говорил себе:
«Да, ведь ты мой пророк, а я твой верующий ученик, и пришел я к тебе потому, что твоя душа притянула меня к тебе и я ее понял давно. Боль ее – боль моей души. Да будет отдана моя жизнь за тебя, если это угодно Всевышнему Аллаху».
Против воли на глазах моих выступили опять слезы. Это были слезы моей души, которую кололи звучавшие истиной слова пророка. Наступила тишина. Генерал Корнилов ушел в себя и погрузился в думы. Глаза его скользили с одного угла оконной рамы в другой. Не прошло и минуты, как, будто вспомнив о чем-то важном, он, быстро повернувшись, обратился к полковнику Голицыну.
– Владимир Васильевич, пожалуйста, позвоните и попросите еще чаю для Хана и меня, – и опять погрузился в свои думы.
Явившийся на зов солдат убрал недопитую мною чашку, чтобы принести еще чаю, но я, поблагодарив, категорически отказался.
– Ваше Высокопревосходительство, вы очень метко дали молодому корнету титул Хана, – обратился полковник Голицын к генералу Корнилову, сосредоточенно смотревшему в окно и, казалось, ничего не слышавшему.
Вдруг, как бы проснувшись и прищурив свои и без того маленькие глаза, генерал Корнилов спросил полковник Голицына:
– Вы, Владимир Васильевич, ко мне?
– Так точно, Ваше Высокопревосходительство, я сказал, что вы очень метко изволили удостоить молодого корнета титулом Хана! Дай Господи, в добрый час! – повторил полковник Голицын.
– Как же! Как же! Он у нас отныне будет – Хан! – ласково сказал генерал Корнилов, глядя на меня и, заметив мои слезы на совершенно спокойном лице, встал и, пожав мою руку обеими мягкими маленькими руками, сказал:
– Ничего, Хан! Будем с вами работать! Только бы побольше мне таких людей, как вы и ваши джигиты. Тогда мне ничего не страшно.
Еще что-то хотел он сказать, но в это время в дверь вагона кто-то постучался.
– Войдите! – сказал генерал Корнилов.
Вошел полковник генерального штаба с какой-то бумагой. Отпуская меня, генерал Корнилов крепко пожал руку. С этой минуты все окружающие стали меня называть Хан. Титул этот впоследствии был утвержден за мной и Асфендиаром Ханом Хивинским.
Выйдя от генерала Корнилова, я прямо направился к джигитам. По дороге мне вспомнились слова придворного хивинского поэта, сказавшего в своих стихах, написанных в мою честь во время моего приезда кадетом в Хиву: «Не удивляйся, если придут за тобой люди с приглашением занять Хивинский престол». Кроме того, мне вспомнились слова Ишана, предсказавшего мне близость с великим человеком.
«Кто это “мы”, прапорщик?»
Было около пяти часов вечера, когда штабные в томительном ожидании ответа на посланное командующим условие Временному правительству нервно ходили взад и вперед, по запасным путям товарной станции, где стоял наш поезд со дня приезда в Бердичев, и, разбиваясь по группам, гадали, каков будет ответ.
– Кто, кто? – пронесся шепот. – Кто? Кто? – начали допытывать князя.
– Не знаю, кажется, прапорщик Филоненко! – отвечал князь, спеша навстречу идущей от паровоза в черной накидке фигуре.
Фигура эта то и дело улыбалась, кивая головой и бросая небрежные ответы на вопросы окружавших ее офицеров, желавших узнать, все ли обстоит благополучно. Это был комиссар Филоненко, приехавший от г. Керенского.
После часовой беседы он вышел от генерала Корнилова, красный и вспотевший, как после бани.
– Ну, что вы нам привезли нового и успокоительного? Как Петербург и г. Керенский? – засыпали его вопросами бывшие тут офицеры.
– Да ничего! Все благополучно! Но только видите ли что, генерал Корнилов что-то заартачился и не хочет «нам» уступить, – скороговоркой ответил Филоненко.
– То есть кому «нам», прапорщик? – пробасил один из гвардейцев, смеривши несчастного Филоненко с ног до головы холодным презрительным взглядом.
Тот, съежившись, как от холода, поспешно ответил:
– Временному правительству.
– Так что же – г. Керенский долго будет медлить? Расшевелите его и объясните ему, что время не терпит! – послышался чей-то нервный голос из группы.
– Да-с, видите ли что… Я сейчас буду вызывать Александра Федоровича к аппарату, – лепетал Филоненко, поспешно удирая в свой автомобиль.
Наконец, после четырех мучительных дней ожидания, генерал Корнилов уехал в город, и все сразу успокоились, узнав, что он принял пост Верховного и что, таким образом, всякая торговля и разговорчики Временного правительства окончены.
Не прошло и часу после отъезда генерала Корнилова в город, как за нами прибыло три автомобиля: два из них легковых, а третий грузовик для вещей. Быстро попрощавшись со всеми штабными, я со своими джигитами отправился в город, где нам была приготовлена квартира рядом с квартирой Верховного. Не успел я поставить своих часовых, как полковник Голицын передал мне приказание Верховного явиться в столовую.
Когда я и полковник Голицын вошли в столовую, генерала Корнилова там еще не было. Полуоткрытая дверь кабинета позволяла видеть его полусогнутую маленькую фигуру над картой и рядом с ним бравого красивого генерала, оказавшегося впоследствии его начальником штаба – генералом Николаем Николаевичем Духониным. Не прошло и пяти минут после нашего появления в столовой, как дверь кабинета открылась и генерал Корнилов в сопровождении генерала Духонина вошел в столовую. В этот день, как я узнал после, генерал Корнилов сдавал свой пост командующего армией генералу Духонину, ибо принял назначение на пост Верховного.
– Позвольте, Николай Николаевич, вам представить Хана, – сказал генерал Корнилов, представляя меня генералу Духонину.
Сели за стол. На обеде присутствовали следующие лица: генерал Корнилов, генерал Духонин, еще один генерал с двумя полковниками, фамилии которых я не помню, полковник Голицын, кажется, Василий Степанович Завойко и я.
Скромный и простой обед из трех блюд начался. На столе была единственная бутылка красного вина, к которой, за исключением полковника Голицына, пившего вино с водой, никто не прикасался. Во время обеда Верховный, как всегда, привлекал внимание всех своими интересными рассказами.
– Будьте добры, корнет, налейте мне воды, – обратился ко мне генерал Духонин, протягивая руку со стаканом к графину, стоявшему возле меня.
– Не обижайте Хана, Николай Николаевич! Ведь мы все его называем Ханом! – улыбаясь, заметил Верховный.
– Виноват, Лавр Георгиевич, я этого не знал! – ответил тенором смущенный Духонин.
– Как же, как же! – добавил генерал Корнилов, поправляя свою салфетку.
Генерал Корнилов в этот день был весел: говорил, смеялся, и вообще чувствовалось в нем приподнятое настроение. Обед очень скоро кончился, и генерал Корнилов с генералом Духониным скрылись за дверью кабинета. Я же отправился домой, где застал неожиданного гостя.
– Дорогой корнет! Ради Бога, приютите своего старого командира. Приехал представляться генералу Корнилову, да не найдя ночлега, благодаря переполнению гостиниц в городе, бродил по улицам. К счастью, встретил джигита, который привел меня к вам. Как рад видеть вас здесь! Ведь все вы – мои сыновья. Без вас мне скучно. Вас всех я всегда ношу в своем сердце! – растроганно говорил старый отец полка – Зыков, целуя меня по-отцовски.
Я уступил свою комнату. Не успел я войти во двор и сделать несколько шагов, как встретил джигита, несущего шкуру барана, который был подарен Зыковым на плов его сыновьям, туркменам. Не прошло и часа, как плов был готов, и, отдохнувши после дороги, генерал Зыков сидел в кругу джигитов, оживленно беседуя и запивая плов гёок-чаем.
– Что же, после меня в атаку ходили? – расспрашивал старый командир.
– Нет, Ага, полковник Кюгельген не любит атаку, – отвечали туркмены.
Зыков хохотал.
Через три дня генерал Зыков, попрощавшись со своими джигитами как с родными, будучи сам растроган их гостеприимством и любовью к нему, уехал на фронт.
Встреча народного героя
Конец июля 1917 года.
Наконец, после восьмидневного пребывания в Бердичеве, Верховный решил ехать в Могилев для приема ставки. Прибыв на станцию и расставив часовых в поезде, я ждал приезда Верховного. По приказанию полковника Голицына я поставил двух туркмен на паровозе. Эти джигиты должны были сторожить машиниста, чтобы он не удрал.
Во время обеда лица у всех были веселые и разговоры были оживленные. В этот день центром внимания был сотрудник «Русского Слова» Лембич, смешивший публику своими веселыми рассказами о том, как он очень удачно морочил кому-то голову своими статьями. Генерал Корнилов много смеялся во время рассказов Лембича, и вообще можно было заметить подъем настроения у всех присутствующих.
Приближаемся к Могилеву. Поезд мчится, оставляя за собой столб пыли. Деревни и станционные здания мелькают пред нами, как на кинематографической ленте. Чем ближе мы подъезжаем к Могилеву, тем тяжелее становится у меня на душе. Предчувствие чего-то неприятного не давало мне покоя, несмотря на то, что все вокруг были радостно настроены. Паровоз загудел, извещая о последней станции перед Могилевом. Туркмены поспешно приводили себя в порядок, переодеваясь в новые халаты, пригоняя винтовки и ятаганы.
– Хан, Верховный приказал вам сопровождать его на вокзале во время смотра георгиевцам. Сейчас идемте со мной в вагон Верховного, чтобы выйти с ним вместе на перрон вокзала, – торопил меня полковник Голицын.
Поезд остановился при звуках оркестра и при криках «ура!». Тысячная толпа засыпала генерала Корнилова цветами, как только он показался на площадке своего вагона.
– Да здравствует народный герой! Да здравствует Верховный главнокомандующий генерал Корнилов!
Верховный, спокойно приняв рапорт от почетного караула георгиевцев, обошел их, а затем, пропустив мимо себя церемониальным маршем, рассекая толстую стену из встречавших его людей, быстрыми шагами направился к своему автомобилю. Лицо у него в это время было очень строгое, серьезное. Я не уловил в нем чувства радости и довольства. Проводив Верховного до автомобиля, я с разрешения полковника Голицына возвратился к своим джигитам, чтобы снять их с постов и приготовиться к отъезду в полк.
Туркмены не могли прийти в себя от такой пышной встречи, устроенной Могилевом их Уллу бояру. Их поражало все: колоссальная толпа народа, масса цветов, могучие крики «ура», а особенно красота ружейных приемов георгиевцев.
Из толпы долетали отрывистые фразы.
– Ах, какие красавцы, ах, какие молодцы! Кто они такие?! Кавказцы?!
– Нет, это текинцы, туркмены! Конвой генерала Корнилова.
– Кто, чеченцы?
– Да нет, текинцы или туркмены, как их называют! Из Центральной Азии!
Джигитам предлагали папиросы, спички.
В этот момент я вспомнил слова конюха моего отца, старого Джавэра, который говорил:
«Когда барин важный, то его собаке бросают кость, когда она за барином идет в гости!»
Проведя ночь на вокзале, я на другой день утром отправился в ставку. Пришел во дворец, в котором еще так недавно жил Ак-Падишах. Полукруглое двухэтажное и не очень большое здание ничем меня не поразило, так как я представлял его себе чем-то грандиозным. Я думал, что наша роль охраны с приездом в Могилев закончена, а потому, придя в Ставку, я просил полковника Голицына, чтобы он доложил Верховному, прося его разрешения возвратиться в Каменец-Подольск для соединения с полком. Выслушав меня, полковник Голицын пошел к Верховному и, возвратившись, сказал следующее:
– Верховный приказал вам остаться при Ставке и нести внутреннюю охрану ее, предоставив внешнюю – георгиевцам.
На мой вопрос, почему георгиевцы назначаются на внешнюю, а мы на внутреннюю службу, и не обострит ли такое разделение службы отношений между ими и нами, полковник Голицын ответил, что он надеется на опытность в этом деле начальника охраны туркмен, который сумеет нести свою службу так, что ни о каком обострении отношений не будет и речи. Внешнюю охрану будут нести георгиевцы потому, что их не хочет обижать Верховный, а внутреннюю – мы, потому что Верховный больше доверяет нам, туркменам, и хочет, чтобы мы всегда были ближе к нему. А сейчас им, полковником, будет приказано перевезти моих людей с вокзала в Ставку, и по их прибытии он сам укажет, где поместиться мне с ними.
– Текинский полк тоже придет сюда через несколько дней! – закончил полковник Голицын.
После этого я, отправившись на вокзал, привез своих людей. Полковник Голицын лично представил меня коменданту Ставки полковнику Квашнину-Самарину и просил его быть мне полезным и в дальнейшем, оказывая свое содействие, если я в чем-нибудь буду нуждаться. Комендант тотчас же предоставил нам одну большую комнату в здании дежурного генерала ставки. Сейчас же раздобыли солому и стружки и, покрыв ими деревянный пол, джигиты разостлали по ним кто шинель, кто бурку и устроились хорошо. В отведенной нам комнате, как я узнал потом, Царь прощался со Ставкой, покидая ее после своего отречения.
Не прошло и получаса после приезда туркмен в Ставку, как прибежал ординарец с приказанием немедленно мне явиться к полковнику Голицыну.
– Хан, голубчик, во-первых, Верховный приказал, чтобы вы впредь обедали с ним, а во-вторых, сейчас же расставьте своих людей на посты во дворце, где вы сами найдете нужным. Не хочу вам указывать, так как я вполне уверен, что вы отлично знаете свои обязанности, – сказал мне полковник Голицын, когда я явился к нему.
Поблагодарив полковника Голицына за его доверие ко мне, я ушел. Обстоятельно объяснив туркменам о внимании и доверии к ним со стороны Верховного и об их роли, я привел их во дворец и расставил их на посты в следующем порядке: в саду – пять человек, около приемной комнаты в нижнем этаже – парных часовых, на верхнем этаже перед дверью приемной комнаты Верховного – парных часовых. Притом на обязанности часовых, которые находились в нижнем этаже, лежало бдительно следить за каждым движением георгиевцев. Мой помощник, старший унтер-офицер, должен был постоянно находиться здесь же, а я – в дежурной комнате. В ночное время число джигитов в саду, а также и на верхнем этаже между кухней и столовой Верховного увеличивалось вдвое.
С этой-то минуты и началась тяжелая, ответственная работа. Тяжела она была вот почему. После месячной фронтовой жизни, внезапно очутившись со мной у Великого бояра, туркмены, не получая необходимого отдыха, несли все время, денно и нощно, бдительную охранную службу. Спали мало, будучи все время начеку, часто не раздеваясь по трое, по четверо суток, и ели плохо, ибо туркмены не хотели питаться из общего котла приготовленной солдатской рукой пищей, в уверенности, что в ней варится и свинина, до которой русские были большие охотники. Питаясь консервами, гёок-чаем и хлебом, очень редко покупая мясо в складчину, они готовили плов, если, конечно, позволяли обстоятельства и время. При внезапном отъезде из Каменец-Подольска ими было взято очень ограниченное количество белья, так что бедные им джигиты загрязнились и износились совсем. Всякое хорошее известие, приносимое мною, радовало их, и можно было заметить повышение настроения, а худое волновало одинаково, как и меня, заставляя переживать и их нелегкие минуты. Все это в общей сложности нервировало их всех. Эту нервозность, однако, никто из них не высказывал в какой бы то ни было форме, терпеливо продолжая нести свою службу Великому бояру.
Все мое внимание с минуты приезда в ставку было сосредоточено на двух задачах:
1. Приложить все мои усилия к тому, чтобы дать возможность джигитам приблизиться к Великому бояру и чтобы Великий бояр и туркмены узнали друг друга, что облегчило бы мне многое в будущем. Зная привязчивость туркмена к человеку, понимающему его душу, я ничуть не боялся и не сомневался в том, что Уллу бояр, постоянно встречаясь с ними в Ставке, заслужит своим вниманием, простотой, доступностью и беседами общую любовь, и туркмены сами полюбят его детской любовью, любовью кочевника, а от этого зависело все в будущем.
2. Приложить все усилия к устранению всякого трения, которое могло бы произойти между туркменами и георгиевцами.
– Держите себя с часовыми георгиевцами очень внимательно и вежливо, не забывая, что вы делаете это для того, чтобы не испортить и не причинить вреда той задаче, которая на нас возложена Уллу бояром. Будьте корректны с ними и не показывайте даже вида, что вам больше доверяет сам Уллу бояр, чем им, так как найдутся вредные люди, которые внесут разлад между нами, а тогда цель не будет достигнута и Уллу бояру придется работать не так спокойно.
Прогулка
На другой день приезда в ставку, в 3 ч. 50 мин. пополудни, полковник Голицын сообщил мне, что Верховный сейчас выйдет в сад для своей предобеденной десятиминутной прогулки и желает, чтобы я сопровождал его. Я сейчас же отправился в приемную и там встретился с Верховным, который, выйдя из кабинета и поздоровавшись со мной на лету, приказал мне следовать за ним одним словом: «Идемте!» и направился в сад. Я поспешил за ним, так как, несмотря на свой небольшой рост, он шагал неимоверно крупными шагами. Мы вышли в маленький, но прелестный сад, находившийся на высоком обрыве сказочно красивого Днепра. Перед нами был чарующий вид. У ног извивался змеей Днепр, неся на своих быстрых волнах пароходы, баржи и лодки. На противоположном берегу его видна была, как на ладони, деревня Луполово, а за ней гладкая степь с темной полосой леса на горизонте. Не замечая картину, бывшую перед его глазами, заложив руки назад, опустив голову и сосредоточенно думая о чем-то, Верховный быстрыми шагами ходил из аллеи в аллею. Я же, подобрав одной рукой ятаган, мешавший мне шагать, другой придерживая свою громадную папаху, которая благодаря слишком большим волосам все время слезала назад, задыхаясь от жары, почти бегал за Верховным. Я бы, наверно, очень быстро «выдохся», если бы, случайно обернувшись ко мне, Верховный не заметил несчастное выражение моего лица и не остановился, спросив меня:
– Что, Хан, жарковато, а?
– Не от холода же я так вспотел, Ваше Высокопревосходительство! – ответил я хохотавшему Верховному.
Заметив, что он утомляет меня своими крупными шагами, Верховный сократил их почти на поларшина.
– Почему, Хан, у туркмен такие большие папахи? – спросил он, увидя, что моя папаха причиняет мне беспокойство.
Я рассказал ему о трех причинах, заставивших туркмен иметь эти огромные папахи. Он серьезно слушал меня, но, услыхав о третьей причине, громко расхохотался. В это время в сад вошел полковник Голицын пригласить Верховного к обеду и, увидев его хохочущим, поинтересовался о причине его смеха.
– Вероятно, Ваше Превосходительство, Хан вам рассказал что-нибудь интересное? – спросил Голицын.
Тот, отмахиваясь от него руками и задыхаясь от смеха, еле смог ответить:
– Да… да… сами спросите его… Я не могу! – и отправился в столовую.
Полковник Голицын, пожав плечами и глядя на меня большими глазами, последовал со мной за Верховным. В столовой мы застали всех стоящими у стола в ожидании Верховного.
– Моя жена, Хан! – представил меня Верховный покойной теперь Таисии Владимировне, а затем, представив меня генералу Лукомскому, обратился, смеясь, к сыну:
– Юрик, познакомься с Ханом. Это один из тех, которых ты боялся в дороге.
Мальчик подходил ко мне с опущенной головой и надутыми губами, как бы собираясь сейчас расплакаться, но все же произнес, здороваясь со мною:
– Я не боялся!
Верховный пригласил всех сесть. За обедом присутствовал в этот день начальник штаба Верховного генерал Лукомский, полковник Кислов, гвардейский полковник князь Гагарин, полковник Голицын, В.С. Завойко, прапорщик граф Шувалов и адъютанты: штаб-ротмистр Перепеловский, штаб-ротмистр Аркадий Павлович Корнилов и прапорщик Виктор Иванович Долинский. Скромный обед, получаемый из общей офицерской столовой ставки, прошел, по обыкновению, очень оживленно. Продолжался он очень недолго, и Верховный, не дождавшись сладкого и чая, удалился в свой кабинет, а за ним вскоре ушел и генерал Лукомский.
Как только Верховный ушел, сидевший напротив полковник Голицын обратился ко мне через стол:
– А ну-ка, Хан, расскажите, пожалуйста, теперь нам, что вы рассказали Верховному в саду.
Все присутствующие обернулись в нашу сторону. Я начал рассказывать:
– Верховный спросил меня, почему туркмены носят такие большие папахи, и я объяснил ему, что на это существуют три причины. Первая – каждая папаха имеет внутри войлок для поддерживания корпуса ее. Этот войлок очень часто спасает голову владельца от сабельного удара. Вторая – в самые лютые морозы туркмену тепло в своей папахе, а в дороге она иногда заменяет подушку. Третья – у туркмен существует обычай очень рано выбирать себе невесту (с девяти, десяти лет). Выбрав невесту, жених ударяет ее своей папахой. Если она выдержит этот удар и не упадет, то годится как жена, если нет, то жених ищет другую.
Окружающие, услыхав о третьей причине, которую я, кстати сказать, рассказал шутки ради, – хохотали.
Время не терпит
Начало августа 1917 года.
Как-то на одной из прогулок в саду дежурный офицер гвардейский полковник князь Гагарин доложил Верховному, что его желает видеть брат.
– Брат? – удивленно открыв глаза, спросил Верховный. Вы что-то не так поняли! Расспросите его как следует, – приказал Верховный князю.
Тот, быстро возвратившись, доложил, что расспросил как следует, «и все-таки оказывается, что он ваш брат, Ваше Высокопревосходительство».
Верховный, выслушав, произнес удивленно:
– Не может быть… Ничего не понимаю. Давайте-ка его сюда! – приказал он князю, уходя в гостиную.
– Лавр, брат, что ты не узнаешь меня? – потянулся было к нему пожилой казак одного из сибирских полков.
– Подожди! Пойдем… Поговорим с тобой! – сказал Верховный, уводя казака в кабинет.
Минут через пять оба брата вышли из кабинета. Верховный был желтый, как лимон, а у казака были влажные глаза – очевидно, он расплакался при виде брата. Представив всем присутствующим своего брата, Верховный сел за стол. За обедом брат сидел между Верховным и Таисией Владимировной и, не смущаясь присутствием столь многих высоких чинов, запросто ел хлеб Верховного, который тот брал для себя. Рассказывал о своем хозяйстве в Сибири и о том, как он, узнав в полку, что его брат Лавр назначен Верховным главнокомандующим, решил после долгих лет разлуки поехать погостить на недельку к нему.
Верховный, довольный присутствием брата, слушал его, посмеиваясь, и так же запросто расспрашивал о хозяйстве, доме в Сибири.
– Что же, в твоем полку много нежелающих воевать? – спросил он вдруг брата.
– Куда таперича война? – отвечал тот, громко хлебая суп из тарелки и, не обращая внимание на лежавшую перед ним салфетку, вытирал рыжие усы своей большой жилистой рукой.
Верховный, глядя в окно, глубоко вздыхал. Через два дня Верховный, отправляя своего брата на фронт, говорил ему:
– Поезжай, брат, на фронт. Время не терпит. Теперь каждый человек нам дорог.
Шли дни за днями. В ставке кипела работа. Беспрерывно слышался стук телеграфных аппаратов и пишущих машинок, гул от разговоров приходивших и уходивших из Ставки лиц. Каждую секунду видны были фигуры, мелькающие из одного отделения в другое, офицеров генерального штаба в аксельбантах, с бумагами в руках, звеневших шпорами. Все лица сосредоточены и серьезны. Я часто встречал на лестнице, ведущей к Верховному, генерала Лукомского, завоевавшего нашу любовь своим простым и симпатичным отношением ко мне и к туркменам. Туркмены называли его Кзыл Юзли – Краснощекий бояр.
– Хан Ага, где наш Кзыл Юзли? Не болен ли? – спрашивали туркмены, если генерал Лукомский запаздывал на одну минуту с докладом к Верховному.
– Ну как, Хан, голубчик, живем? – спрашивал при каждой встрече генерал Лукомский, здороваясь со мной.
В одиннадцать часов начинался прием иностранных представителей. Здесь можно было видеть представителя Великобритании генерала Бартера в сопровождении полковника Эдверса, тощего француза генерала Жанена, карапузиков-японцев, итальянцев, румын и других. Лица всех сосредоточены и озабочены, кроме японцев, которые очень вежливо разговаривали и имели на лицах отпечаток веселости. Через минуту все они из приемной попадали в кабинет, дверь которого запиралась генералом Лукомским, и доклад начинался.
Таким образом, жизнь в Ставке шла своим чередом, а в это время с фронта приходили все более неприятные вести: немцы наступают и наступают, грозя взять Ригу, солдаты или митингуют, не желая воевать, или сдаются пачками в плен, или бегут по домам. Жители города относились к этим вестям безразлично, а Ставку эти вести волновали, и она нервничала. Недавно веселая жизнь как штабных чинов, так и прибывающих с фронта становилась все мрачнее и мрачнее. Чувствовалось приближение грозы. Петроград все торгуется. Время не терпит! На душе тяжело. Появившиеся в это время в городе ораторы-евреи открыто митинговали в городском театре, развращая и без того уже успевшего развратиться русского солдата и население сообщением, что война окончена и что долг каждого из нас ехать на фронт и звать домой бывших еще там товарищей.
В один из таких тревожных дней полковник Голицын приказал мне усилить внутреннюю охрану до двадцати пяти человек, так как до него дошли слухи, что местные солдаты-геогриевцы хотят напасть на Ставку. В маленькую комнату, находившуюся возле столовой, было помещено 15, а в саду была поставлена охрана из десяти человек. Туркмены, тоже поняв важность наступающего момента, говорили мне:
– Ай, Хан Ага, лицо у Кзыл Юзли бояра тоже пожелтело. Он тоже, как Уллу бояр, по ночам не спит.
Веселым и интересным беседам во время обедов пришел конец. Верховный за обедом почти не разговаривал и часто, не окончив свою еду, уходил в свой кабинет. Нервы у всех в ставке были натянуты, как струны, и казалось, что вот-вот приближается момент, когда струны оборвутся. В эти дни к Верховному приезжали командующие армиями, корпусами, дивизиями, о чем-то совещались с ним и, получив какие-то инструкции, возвращались обратно к себе. В начале августа за обедом можно было встретить генерала Деникина с генералом Марковым, генералов Юденича, Валуева и других. Но все-таки обеды проходили мрачно, и только иногда их оживлял своими интересными рассказами Алексей Феодорович Аладьин, приехавший от Временного правительства с профессором Яковлевым для переговоров с Верховным и оставшийся с ним впоследствии во все дни сидения в Быхове.
В полку не унимаются
Первая половина августа 1917 года.
Наш полк был переброшен из Каменец-Подольска в Могилев. Для него было приготовлено комендантом Ставки место в селе Луполово. В этот день, т. е. в день приезда полка, ко мне пришел полковник Григорьев и заявил, что приготовленное для полка место ему не нравится, так как оно находится далеко от города, не имеет комфорта больших квартир и что господам офицерам будет трудно бывать в городе. Он приказал мне отыскать квартиры для полка ближе к городу, мотивируя тем, что я имею много знакомых в Ставке и через них я обязан устроить полк хорошо. Меня крайне удивило такое требование полковника Григорьева, предъявленное мне, как к квартирьеру полка, в то время когда я находился в распоряжении Верховного и нес службу более серьезную, чем отыскивание комфортабельных квартир для господ офицеров полка. Несмотря на то, что Ставка переживала тяжелые дни и каждую минуту надо было быть начеку, я, желая помочь своему полку и с разрешения князя Голицына, очень удивившегося моей просьбе и давшего неохотно свое разрешение, отправился с адъютантом коменданта Ставки, прапорщиком Лузиным, отыскивать в городе квартиры, требуемые полковником Григорьевым. К сожалению, все наши четырехчасовые поиски оказались тщетными, и мы возвратились ни с чем. Явившийся полковник. Григорьев устроил мне скандал, узнав, что требуемые квартиры не отысканы.
– Господин полковник, я думаю, что нам ничего не удастся сделать в смысле подыскания другого места, так как, благодаря пребыванию в Могилеве массы офицеров, все квартиры, находящиеся в распоряжении коменданта Ставки, переполнены, и все наши поиски не привели ни к чему, – сказал я.
Взбешенный полковник Григорьев прервал меня с пеной у рта.
– Кто это «мы»?!
– Я и прапорщик Лузин! – ответил я.
– Как вы, молокосос, смеете говорить «мы»? – кричал полковник Григорьев, не слушая моего ответа. – Молокосос, служит три дня в Ставке и уже говорит «мы»! Я, старый полковник, терпеть не могу таких разговоров. Извольте заявить своей Ставке, чтобы нас разместили там, где мы хотим, а иначе полк уйдет туда, где его могут устроить хорошо.
Помня заветы опытных офицеров полка, говоривших: «Когда Григорьев расходится, надо тихо удаляться!» – я тихо ушел. По дороге в Ставку я с грустью думал, что, к сожалению, в эти тяжелые дни, переживаемые Россией, большинство таких Григорьевых и Эргартов больше заботятся о комфорте, вместо того чтобы подумать о серьезности переживаемого времени.
Полк был размещен в Луполове. Только командиру полка отвели квартиру в городе с целью держать его близко к Ставке. Через три дня после приезда полка в Могилев я подал Верховному, через штаб-ротмистра Перепелевского, рапорт, в котором просил разрешения Верховного вернуться в полк. По правде сказать, в период службы у Верховного мои нервы расшатались окончательно от бессонницы и усталости. В течение суток мне приходилось спать не больше трех-четырех часов и неделями, бывало, я не снимал сапог. К тому же мне хотелось дать возможность и другим офицерам полка послужить в Ставке.
– Хан, дорогой, зайди сейчас ко мне, есть важное дело, – сказал полковник Голицын, выйдя от Верховного слегка взволнованным.
Я пришел к нему.
– Садись, Хан (Голицын питал ко мне отцовскую нежность, и мы были на «ты»). Ведь ты знаешь, что я тебя люблю, как Васю (его сын), и я обижен на тебя, что ты, не посоветовавшись со мной, подал такого рода рапорт Верховному. Разве ты не веришь ему и не любишь его? Если ты не веришь и не любишь, то тогда, конечно, можешь вернуться к себе в полк.
Нашу беседу прервал Верховный, вызвавший звонком к себе в кабинет полковника Голицына. Не прошло и пяти минут, как полковник Голицын вызвал и меня к Верховному. Усадив меня, Верховный спросил о причине, вызвавшей этот рапорт. Я ответил, что я желаю дать возможность и другим офицерам полка послужить ему.
– Нет, Хан, кроме вас я не желаю никого. Я вам верю. Если вы верите мне, то прошу вас остаться и продолжать службу. Надеюсь, что вы исполните мою просьбу. А? Вы же, Владимир Васильевич, Бога ради, узнайте, не обидел ли кто Хана? – И, взяв с меня слово, что меня никто не притесняет, он отпустил меня. Я опять по-прежнему продолжал нести свою службу.
Благодаря тому что немцы все нажимали и нажимали на русский фронт, нервы ставки натянулись до крайности. Верховный был молчалив и во время прогулок все вздыхал. Однажды, подойдя к обрыву в саду над Днепром, он тяжело задумался. Я спросил, как дела с Петроградом. Махнув рукой, он сурово ответил, указывая подбородком в сторону Петрограда:
– Там сидят правители России и торгуются между собой. У них нет ни капли мужества и силы… Они губят Россию. Время не терпит, а они все разговаривают! – И он опять задумался.
Я посмотрел на Верховного и вспомнил джигита, говорившего мне когда-то в дороге, что если бы он был близок к Верховному и последний верил ему, то он сказал бы:
– Эй, бояр, брось все это дело, так как Россию уже продали. Во главе ее стоят предатели, а ты один против них ничего не сделаешь!
Но вместе с тем я вспомнил, что одинокому путнику в пустыне сам Аллах попутчик, и во мне с новой силой загорелась вера в этого человека и его дело. Мне хотелось сказать ему: «Лучше погибнем вместе в борьбе с предателями, чем увидим позор нашей родины». В эту минуту мне показалось, что он прочел мои мысли, ибо, обращаясь ко мне, Верховный, задумчиво, с глубоким вздохом произнес:
– Мне кажется, Хан, с этими господами без крутых мер не обойдемся!
Так думал в эти дни Верховный.
Разговор этот произошел шестого августа, после первой нашей поездки в Петроград. Эта поездка в Петроград (3 августа) ничем для нас, туркмен, не ознаменовалась. Сопровождали мы Великого бояра в Зимний дворец и в военное министерство, где была встреча Верховного с «военным министром» Савинковым, и в тот же вечер выехали в Ставку. В поездку эту Верховного сопровождали кроме нас, туркмен, Завойко, генерал Романовский, полковники: Плющевский-Плющик, Голицын и Моторный; из адъютантов – штаб-ротмистр Корнилов.
Вечером 6 августа меня вызвал к себе полковник Голицын и задал вопрос: верю ли я так же в джигитов полка, как в тех, которые находятся со мной в ставке?
– Полку предстоит исключительная боевая задача. Верховный надеется только на Текинский полк! – добавил он.
Выслушав полковника Голицына, я ответил ему следующее:
– За всех джигитов полка я поручиться не могу, так как большинства из них я не знаю, но думаю, что, поработав с ними немного, можно было бы подготовить таких же верных и преданных людей, каких я сейчас имею при себе.
– Когда и как можно это сделать? – задал мне вопрос полковник.
– Прежде всего, по-моему, между Верховным и полком должна быть тесная связь. Для этой цели надо приглашать для несения службы в ставке популярных среди джигитов офицеров-мусульман с теми джигитами, которых последние хорошо знают. Я надеюсь, что частые встречи их с Верховным во время несения службы будут на них действовать так же, как на меня и моих людей. Думаю, что для этой работы потребуется не меньше месяца. А без такой методической подготовки у меня лично нет надежды, что может что-нибудь выйти из этой исключительной боевой задачи, которую Верховный собирается возложить на Текинский полк, – ответил я.
– Благодарю тебе, дорогой, за твой сердечный и мудрый совет, – сказал полковник Голицын, идя к Верховному с моим ответом.
Верховный мое мнение одобрил и возложил на меня выполнение этой задачи.
Прошло несколько дней после приведенной нашей беседы с полковником Голицыным. Как я узнал уже потом, в ставку явился полковник Кюгельген с рапортом Верховному, прося об отчислении из полка в резерв чинов следующих офицеров-мусульман: корнетов Силяба Сердарова и Ата Мурадова и прапорщиков: Курбан Кулы, Кулниязова, Коч Кулы и Шах Кулы. Все это были офицеры заслуженные, боевые и пользующиеся любовью джигитов. Конечно, все это было решено при участии полковников Григорьева и Эргарта, желавших, очевидно, поместить в полк своих друзей, а таких – желавших попасть во время революции в Текинский полк, – было довольно много. Эти люди не понимали, что, делая такую вещь, они могли остаться в полку одни, так как все туркмены уйдут за своими офицерами, и полк будет состоять не из джигитов, а из шестнадцати человек русских офицеров во главе с фон Кюгельгеном.
Приняв полковника Кюгельгена и поговорив с ним, Верховный, отпуская его, сказал: «Нет! Пусть остаются. Сейчас не время заниматься отчислением или переводами»… Об этом я не знал ничего. Верховный вызвал меня через полковника Голицына и спросил мое мнение об офицерах, подлежащих, по просьбе Кюгельгена, к отчислению в резерв чинов. Поблагодарив Верховного за доверие, я ответил, что если Верховному не понадобится в будущем Текинский полк, то офицеров этих можно удалить. Если же Верховный желает иметь около себя надежных людей, то надо их оставить в полку.
– Я точно так же думал и решил оставить. Полк Текинский и в нем как офицеры, так и всадники должны быть туркмены. Я даже не знаю, по какому вообще праву у них в полку больше офицеров русских, чем туркмен?! – обратился с последней фразой Верховный к полковнику Голицыну.
Через три или четыре дня после рапорта полковника Кюгельгена прапорщик Баба Хан Менглиханов передал мне просьбу полковника Ураз Сердара, уже успевшего прибыть из отпуска в полк. Я отправился и застал старого Сердара в его маленькой комнате, сколоченной на скорую руку из досок и легко доступную ветрам со всех четырех сторон благодаря изобилию щелей.
– Садись, Хан Ага! Есть большая новость. Баба, давай нам чай! – приказал он своему вестовому и продолжал: – Ты, вероятно, служа в Ставке, уже знаешь, что полковник Кюгельген в компании с полковниками Григорьевым и Эргартом желают удалить из полка лучших офицеров-туркмен? Я думаю, что вся эта компания так действует потому, что хочет заполнить освободившиеся места своими друзьями. Этого мало. Эргарт по-прежнему сплетничает, а Григорьев помогает вздувать всякие истории, создавая невыносимое положение для офицеров-туркмен. Я все это отлично понимаю, но не хочу предпринимать каких бы то ни было мер, так как знаю, по твоим словам, что полку предстоит серьезная работа, – я не хочу мешать общему делу. Если я затею здесь какую-нибудь историю, то нас могут принять за бунтовщиков, взбесившихся с жиру, а поэтому я решил взять с собой Курбан Агу и тихо, не ссорясь с русскими офицерами, под видом отпуска уехать в Ахал, ибо если я уеду, поссорившись с ними, то ни один джигит не останется в полку. Я рассказываю тебе все это, чтобы узнать твое мнение по этому поводу.
Я постарался успокоить старого Сердара, сообщив ему о том, что Верховный ответил полковнику Кюгельгену. Подробно объяснив обстановку, я указал на тяжелое время и просил его забыть личные счеты ради общего дела, во главе которого стоит Уллу бояр.
– Будь великодушным, Сердар, – сказал я, – как отец твой, и верным, разумным помощником Уллу бояра. Единственная надежда его и ставки на тебя и на джигитов, а потому не обращай внимания на этих господ и поддержи меня, приготовив полк к предстоящей работе. Великий Аллах все видит и Сам накажет этих неблагородных сплетников, уже и так Им наказанных.
Сердар внимательно выслушал меня до конца и глубоко вздохнул. Наступила тишина. Лицо его приобрело темно-бронзовый цвет. Глотнув два-три глотка гёок-чая, он сказал:
– Хан балам (сын мой), я верю в Уллу бояра, верю и тебе. Понимаю душу твою отлично, понимаю и то, что ты хочешь, чтобы наш ротозей-туркмен вернулся в Ахал с добрым именем, а не как беглец с поля чести. Но что я сделаю с этими людьми, которые хотят помешать этому? Хорошо, балам, я забуду все. Работай! Старый Сердар к услугам Уллу бояра. Сделаю все, что в моих силах. Эй, Баба, позови сюда Курбан Агу, Коч Кулы, Шах Кулы, Баба Хана, Силяб Сердарова и Ата Мурадова!
Это были офицеры, подлежавшие увольнению.
Когда все они собрались, Сердар сообщил им о предполагаемом их увольнении и об ответе Верховного Кюгельгену. Велико было удивление некоторых, даже не подозревавших об этой интриге.
– Вы должны держаться крепко друг за друга и поддерживать Хана, слушаясь его во всем, так как он, находясь близко к Уллу бояру, лучше вас понимает положение вещей и будет сообщать вам все то, что передаст ему Уллу бояр. Каждый из вас должен подготовить своих джигитов к предстоящей работе, дабы они смогли с честью выполнить задачу, которая будет возложена на них Уллу бояром.
Когда я вернулся из полка, Верховный тотчас вызвал меня и поинтересовался, в чем там дело. Я ничего ему об интригах не рассказал, успокоив лишь, что все обстоит благополучно. Скажи я тогда одно слово, и кто знает, где бы очутились эти господа полковники во главе с командиром?!
После отказа Верховного отчислить офицеров-туркмен из полка полковники сразу переменили свое отношение ко всем офицерам-туркменам и ко мне. Они сразу же превратились из вызывающих крикливых господ в очень предупредительных и корректных. Туркмены отлично понимали причину такой перемены и по-прежнему держались в стороне, живя в полку своим тесным кружком.
Петроград
9 августа 1917 года.
В яркий солнечный день полковник Голицын приказал мне взять сорок человек джигитов с двумя пулеметами и отправиться на вокзал.
–Верховный сегодня едет в Петроград. Путь опасный, и могут произойти неприятности как в пути, так и в самом Петрограде. От этой поездки, дорогой Хан, зависит все будущее нашей многострадальной родины, поэтому выбирай людей таких же верных и надежных, как ты сам, – предупредил меня полковник Голицын.
– Эй, Ага, джигит один раз рождается, и после смерти он должен оставить честное имя потомству, – отвечали мне джигиты, когда я им объяснил, что поездка опасная и что, быть может, все мы погибнем вместе с Уллу бояром.
Быстро собрав все, что нужно, мы поехали на вокзал, куда прибыл и Уллу бояр. Поезд тронулся. Порядок несения службы в поезде был таков же, как во время переезда Уллу бояра из Каменец-Подольска в Могилев. Во время обеда за стол был также приглашен, по приказанию Верховного, мой помощник, прапорщик Шах Кулы. В продолжение обеда Верховный, разговаривая с ним, расспрашивал об аульной жизни, о жизни молодых туркмен, об обычаях во время свадьбы и т. д. Сам Уллу бояр рассказывал также интересные вещи из жизни текинцев. Шах Кулы, влюбленный в Уллу бояра больше, чем я, после обеда за гёок-чаем в компании джигитов делился своими впечатлениями.
– Ба, Хан, за этого бояра умереть не страшно. Мне исполнилось 55 лет, и я много людей видел на своем веку и скажу тебе правду, что если он возьмет в свои руки всех этих петроградских говорунов, то спасет Россию! – говорил Шах Кулы, вытирая с лица пот, вызванный гёок-чаем.
– Не кажется ли тебе, Шах Кулы Ага, что Уллу бояр и есть тот человек с железной волей и твердой рукой, нужный для спасения России, о котором ты мечтал в первые дни революции? Помнишь?
– Да, да. Мне кажется, именно это тот человек, о котором я говорил тогда! Как ты все помнишь? Какая у тебя память? А я, признаться, забыл об этом.
– Веришь ли ты, Шах Кулы Ага, этому человеку и лежит ли твое сердце к нему? – спросил я.
– Бэ, Хан, сын мой! Если бы мое сердце не лежало к нему и мы не верили бы в него, то разве поехали бы так охотно с тобой, зная заранее, что можем не вернуться из этой поездки?! А вот лучше скажи мне, заметил ли ты его манеру говорить? Какая сила воли чувствуется в каждом его слове! Когда я видел Уллу бояра за обедом, то мне казалось, что это сидит лев, окруженный лисицами, волками и шакалами. Посмотри, как он знает народ. Я поражался, слушая его. Как он понимает психологию русского солдата!
Речь шла о том, что Верховный за обедом рассказывал, как Керенский на автомобиле по дороге на позиции с пеной у рта уверял Верховного, будто это (июньское) наступление – революционный порыв свободного русского воина. Верховный хладнокровно ответил, что он сам солдат и русского солдата знает хорошо, и считает, что этот порыв вовсе не революционный и не свободный, как думает Керенский, а случайный и что он так же быстро испарится, как пришел. Конечно, результаты этого порыва долго не заставили себя ждать. Они теперь видны: революционный и свободный русский воин этот порыв преподнес г. Керенскому в виде Калуша и Станиславова, а впоследствии – коммунизма. Удивительно то, что сам Керенский в одежде сестры милосердия убежал первым из России, от этого милого порыва свободного воина!
Верховного сопровождали на этот раз полковник генеральная штаба Моторный, полковник Плющевский-Плющик, полковник Голицын и Завойко.
– Ты возьмешь всех своих людей и пулеметы, оставив в поезде лишь часовых, причем пулеметы должны быть так замаскированы, чтобы во дворце никому в голову не могло прийти, что мы приехали с ними. У джигитов оружие исправно, а в особенности ятаганы? – спрашивал меня Голицын на последней станции перед Петроградом.
Поезд остановился, и я со своими джигитами в пяти автомобилях прибыли с Верховным в Зимний дворец. Пулеметы системы «Кольт», искусно спрятанные под бурками джигитов, были пронесены – один наверх, а другой в сад. Верховный в сопровождении полковников Моторного, Плющевского-Плющика, Голицына и других отправился в зал заседания. Я шел за Голицыным, который перекрестился при входе во дворец.
Перед тем как войти в зал заседания, дверь которой охраняли два юнкера из школы прапорщиков, полковник Голицын полушепотом отдал мне приказание: «Как только я выйду в приемную и сделаю тебе условный знак кивком головы, ты должен броситься со своими джигитами и сделать то, что может понадобиться в таких случаях!»
Я принял все меры предосторожности: против возможного появления внутреннего караула было поставлено восемь человек джигитов. За дверью приемной находился Шах Кулы с пятью джигитами, остальные же стояли на протяжении всей лестницы, образуя цепочку, началом которой был я, а концом – пулемет, находившийся в саду. Мною было приказано джигитам покончить все дело одним холодным оружием – ножами, ятаганами, а огнестрельное пустить в ход лишь в крайности. Я вышел в коридор на мгновение, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Шах Кулы обратился ко мне:
– Хан, а ведь мы забыли помолиться. Давайте, джигиты, помолимся. «О, ты единственный спутник наш, Аллах. Не оставь нас без своей милости, если мы погибнем сегодня. Не осрами нас, если останемся в живых!» – закончил молитву Шах Кулы.
– Джигиты, рубите, совершенно не стесняясь, эту сволочь – как на ученье в Ахале! – расслышал я слова Шах Кулы, возвращаясь в приемную.
Прошло некоторое время в томительном ожидании. От нервного напряжения по спине то и дело волной пробегала дрожь. В горле пересохло. Через открытую дверь приемной я заметил, что лица джигитов, находившихся с Шах Кулы в коридоре, были бледны и сосредоточены. Кто из них освобождал рукоятку ятагана от ремня, кто пробовал нож, а кто надевал тесемку папахи на подбородок, чтобы папаха не упала во время схватки.
Наступил томительный момент в ожидании появления полковника Голицына, которого каждый из нас ждал с замиранием сердца.
В приемную вошли Борис Савинков и Терещенко. Последний при виде туркмен восхищенно шепнул своему спутнику:
– Какая прелесть! Как эти красавцы освежают зрение! Вы попросите у генерала Корнилова оставить здесь в Петрограде человек сорок этих молодцов!
– Едва ли он согласится! К тому же они очень преданы лично Корнилову, так что эта мечта неосуществима! – возразил Савинков.
– Согласились бы вы остаться у нас? – обратился ко мне Терещенко.
– Никак нет, мы служим только Верховному! – ответил я.
– М-м!.. – промычал Савинков, прищурив свои маленькие проницательные глаза и выпуская клубы дыма изо рта.
– Хан, с этих господ мы тоже снимем головы? – спросил меня Шах Кулы по-туркменски в то время, когда Савинков, быстро докурив свою папиросу, собрался уже войти в зал заседания. Я ничего не ответил, но, глядя на веселые лица собеседников, я невольно подумал: неужели они не предчувствуют опасности, ибо, возможно, через несколько мгновений все они будут лежать, трепеща под нашими ятаганами!!
Зимний дворец произвел на меня отвратительное и тяжелое впечатление. Мне казалось, что я нахожусь в доме, хозяин которого только что умер, не оставив после себя наследников, и чужие люди, не умеющие ценить этот дом, пришли в него, разрушают все и тащат, что возможно. В длинном полутемном коридоре портреты царей были обтянуты кисеей, чего не было раньше, когда я приезжал сюда с Ханом.
Теперь дворец был доступен всем, кто хотел войти в него. Полы были грязные. В одной комнате дворца помещался юнкерский караул. Одни юнкера лежали на полу на тюфяках, другие сидели, мирно беседуя.
Вдруг, после двухчасового совещания, открылась дверь зала заседания, и на пороге показался Голицын. Я невольно схватился за рукоятку ятагана, но Голицын, быстро направляясь ко мне, шепнул:
– Все благополучно! Собирай людей и приготовься к отправке на вокзал.
Пулеметы вынесли так же незаметно, как и принесли.
Быстро собрав людей и положив пулеметы в автомобиль, я вернулся опять в приемную комнату. Спустя четверть часа вышел Верховный – хмурый и задумчивый. Это обстоятельство меня удивило. Я никак не мог понять, почему он хмурится, если все благополучно. Мы все возвратились на вокзал. Начался обед, во время которого Верховный продолжал оставаться хмурым. Ел он сосредоточенно и говорил очень мало, тихим басом. Лишь на минуту развеселился он, когда ему напомнили о комическом случае, происшедшем во время совещания. Дело было в следующем. Во время заседания из сада дворца послышался взрыв как бы от брошенной бомбы. Оказалось же, что это лопнула шина грузового автомобиля, на котором привезли провиант для караула дворца. При звуке этого внезапного «взрыва» побледневший Керенский чуть не бросился под стол. В продолжение обеда Верховный все о чем-то думал. Мне казалось, что он не был удовлетворен сегодняшним заседанием и придумывал новые пути для осуществления своей идеи. Обед окончился, и я вышел, чтобы сменить часового на паровозе. Было семь часов вечера, и поезд готовился к отбытию.
– Хан, иди сюда. Кто-то хочет войти к Уллу бояру! – доложил мне Шах Кулы.
Направляясь к вагону Верховного, я издали заметил какого-то типа, похожего на парикмахера, во френче защитного цвета, с кепкой на голове, который входил в вагон Верховного. На мой вопрос, кто он такой и зачем его впустили без моего разрешения, часовые ответили, что этот тип – Керенский и его приказал впустить сам Уллу бояр.
Оказалось, что этот доморощенный глава Временного правительства, не зная такой простой вещи, что разговаривать с часовыми воспрещается, обратился к часовым, желая попасть в вагон Верховного, когда те его не впускали.
– Что же, голубчики, я ведь сам Керенский, – сказал он, очевидно, желая порадовать туркмен своим именем.
– Нылзэ! – был короткий ответ со стороны часовых. Верховный случайно увидел из окна своего вагона эту сцену, вышел на площадку и приказал часовым на туркменском языке впустить этого шута, изображавшего из себя Наполеона.
Глядя на эту державную фигуру главы правительства, я невольно вспомнил хивинскую пословицу, говорившую: «Если ты не бек по рождению, то не знаешь цены своего сокола и пускаешь его на ворону». Так и Керенский, вместо того чтобы бросить лучших сынов России на врага, бросил их на грабежи и убийства.
Неожиданная встреча
10 августа 1917 года.
– Господин корнет, не будете ли вы так любезны попросить адъютанта генерала Корнилова, чтобы тот доложил генералу о желании трех дам видеть его! – с этими словами обратилась ко мне одна из дам, находившихся на перроне вокзала в Петрограде, перед самым нашим отъездом в Могилев.
Узнав в говорившей мою старую знакомую, я спросил ее, не узнает ли она меня.
– Нет! – удивленно протянула она, смерив меня с ног до головы через лорнет долгим взглядом.
– Помните, семь лет тому назад полковник Белов вез из Ташкента в Петербург маленького хивинца для определения в корпус, и вы всю дорогу от Самары угощали его конфетами, а по приезде в Петербург любезно пригласили бывать у вас?
– Этот маленький хивинец были вы? – быстро перебила меня София Михайловна Анненкова, очевидно вспомнив о дороге и нашем знакомстве.
Обрадовавшись мне, она поспешила представить меня своим спутницам, из которых одна была княгиня (фамилии ее, к сожалению, не помню), а другая – прапорщик Бочкарева. Поцеловав ручку княгине, я обратился к Бочкаревой, пожимая ее руку:
– Разрешите не прикладываться к вашей ручке, ибо вы имеете чин офицера и к тому же меньше, чем мой.
– Пожалуйста, пожалуйста! – говорила Бочкарева, сильно покраснев. Спутницы ее громко расхохотались.
В это время Верховный, провожая Керенского до дверей вагона и увидев меня в обществе весело смеющихся дам, улыбнулся и погрозил мне пальцем. Когда я подошел к нему доложить о просьбе их, он, снова грозя пальцем, полушутливо проговорил:
– Хан, амурничаете? Смотрите вы у меня!..
Во время приема дам Верховный удивлялся, слушая рассказы Софии Михайловны Анненковой о первой нашей встрече[5].
– И он вас сразу узнал, спустя семь лет? – удивленно переспросил Верховный.
– Да, представьте! Да еще через вуаль! – оживленно говорила София Михайловна, ласково глядя на меня.
История нашей встречи с ней была такова. Семь лет тому назад, то есть в 1909 году, я ехал в сопровождении полковника Белова, бывшего правителя канцелярии покойного великого князя Николая Константиновича, жившего в Ташкенте, в Петербург для представления его брату, великому князю Константину Константиновичу, после чего я должен был поступить в один из корпусов. На станции Самара в жаркий летний день, после обеда, я сидел в купе с полковником Беловым за чашкой чая. Изнемогая от жары, Белов сказал мне:
– Разак бек, я хочу немного отдохнуть. Вы же можете делать все, что угодно. Прошу только во время остановок не выходить на станцию, так как поезд может уйти, а вы останетесь на станции. Вот лучше возьмите эту книжку и прочтите ее, она очень интересная, – и он всунул мне в руку «Штабс-капитана Рыбникова» Куприна.
Я вышел из купе в коридор вагона, а оттуда отправился в вагон-салон. При входе туда сразу мое внимание было приковано к большим красивым серым глазам элегантно одетой дамы, читавшей через лорнет журнал. Она была одна, и воздух вагона был насыщен ее тонкими духами. Увидав меня в оригинальном костюме, она спросила, кто я и куда еду. Получив ответ, она пригласила меня сесть поближе и, разговаривая, угощала конфетами. Узнав, что я еду в сопровождении полковника Белова, она попросила меня позвать его, говоря, что она, генеральша София Михайловна Анненкова, желает с ним поговорить.
Я разбудил полковника, и он, быстро приведя себя в порядок, отправился к ней. Кстати сказать, Белов принадлежал к числу людей, всегда жаждавших и искавших знакомства с гранд-дамами, имеющими большие связи в Петербурге и могущими, при случае, сказать несколько слов в его пользу там, где это понадобится. София Михайловна, расспросив Белова о нескольких общих знакомых в Ташкенте, попросила привести меня к ней в Петербурге, говоря, что если понадобится ее содействие при поступлении в корпус, она с удовольствием сделает все, что от нее зависит, ибо она и ее муж очень любят хивинцев и туркмен и ей будет приятно оказать содействие в получении образования первому хивинцу.
– Вы, молодой человек, не стесняйтесь и заходите к нам один, если полковник будет занят. Мы обедаем в шесть часов! – при прощании говорила София Михайловна.
Спустя семь лет судьбе было угодно устроить еще раз мне встречу с этой симпатичной и сердечной дамой, пожелавшей когда-то оказать свое содействие моим добрым намерениям в стремлении к образованию.
Московское совещание
Возвратясь из Петрограда в Могилев, мы застали его в еще более нервном состоянии, так как немцы энергично наступали на Ригу. Среди гражданского населения города царила паника. Какие-то темные личности распускали слух, что немцы, забрав Ригу, направятся в Петроград, а после заберут в руки всю Россию. Одни волновались, а другие равнодушно говорили:
– Не все ли равно – немцы, англичане или кто другой заберет Россию, лишь бы скорей наступил конец этой безалаберщине!
Ставка тоже нервничала, получая вести с фронта одна хуже другой. Заходя иногда в штаб по делам, я постоянно видел группы офицеров из двух-трех человек, нервно толкующих о текущих событиях. На площадке перед приемной комнатой Верховного я видел те же сцены, и часто до моих ушей долетали отдельные слова ожидавших в приемной комнате начальствующих лиц, прибывших с фронта, что солдаты не хотят воевать, что война проиграна, что думает Ставка и принимает ли она какие-нибудь меры, и т. д.
Одиннадцатого августа полковник Голицын сообщил мне, что Верховный сегодня едет в Москву на совещание, а поэтому число офицеров-туркмен нужно увеличить на двух-трех человек для несения службы охраны на паровозе. Я обратился в полк с просьбой прислать ко мне нужных офицеров.
– Что вы, батенька мой, все требуете к себе офицеров из туркмен, в то время как из русских никто еще не служил в Ставке?! – задал мне вопрос адъютант полка поручик Нейдгарт.
– Русские офицеры, слава Богу, знают, кто такой генерал Корнилов, а туркмены нет! – ответил я.
– Все же я посылаю к вам поручиков Конкова и Рененкампфа! – возразил мне по телефону адъютант полка.
В пути, увидя поручиков Рененкампфа и Конкова, полковник Голицын, широко открывая глаза, спросил меня:
– Разве эти офицеры туркмены? Где же офицеры-туркмены, которых я приказал тебе вызвать из полка?!
Во избежание какого-либо инцидента я объяснил ему, что офицеры-туркмены заняты несением службы в полку и на их место прислали русских. На это полковник Голицын, недоверчиво пожав плечами, недовольно произнес:
– Я думаю, здесь что-то не то! Во всяком случае жаль, что ты не потрудился сообщить мне об этом в Могилеве. Разреши впредь мне самому требовать людей из полка!
В девять часов утра 12 августа мы приехали в Москву. День стоял жаркий и солнечный. Вокзал был настолько переполнен народом, встречавшим Верховного, что яблоку негде было упасть. Сотни тысяч глаз были прикованы к генералу Корнилову. При его появлении вся эта многотысячная толпа громко кричала: «Да здравствует народный герой генерал Корнилов!» Заиграла музыка, и грянуло могучее «ура!». Верховный вышел из вагона, чтобы принять рапорт от почетного караула женского батальона прапорщика Бочкаревой. Толпа засыпала Верховного цветами. Встречая Верховного, Родичев произнес речь, вызвавшую слезы не только у слушателей, но и у самого старика-оратора.
– Дорогой Хан, не отставайте от Верховного, так как кто-нибудь из его врагов в толпе может пырнуть ножом в бок, – произнес кто-то мне на ухо, слегка подталкивая меня к Верховному, слушавшему речь г. Родичева.
Я обернулся и увидел около себя взволнованного генерала Крымова.
По окончании речи Родичева Верховный, осыпаемый цветами, направился к выходу, но толпа офицеров-корниловцев во главе с капитаном Неженцевым подхватила его на руки и при громких криках «ура!» донесла к ожидавшему его у подъезда вокзала автомобилю. Верховный в сопровождении нарядно одетых туркмен направился к Иверской часовне Божией Матери. От вокзала до самой часовни улицы были битком набиты народом, ожидавшим проезда Верховного и при появлении его махавшим платками и кричавшим: «Да здравствует народный герой! Да здравствует Верховный главнокомандующий!»
Помолившись в часовне, Верховный возвратился на вокзал, где его ожидали П.Н. Милюков, генерал Каледин, генерал М.В. Алексеев и полковник М.А. Караулов.
Полковник Голицын приказал оцепить вагон Верховного, чтобы никто из посторонних не мог подойти к нему.
– Сейчас начнется совещание чрезвычайной важности! – объяснил мне полковник Голицын.
Вмиг ятаганы засверкали, и вагон Уллу бояра был оцеплен текинцами. Через два часа совещание окончилось, и участники вышли на перрон вокзала. Тут их сфотографировал специально приехавший из города фотограф. Верховный, увидев меня, подозвал к себе и приказал сфотографировать с ним и меня. После этого полковник Голицын, давая мне билет на Московское совещание, передал приказание Верховного, выразившего желание, чтобы я сопровождал его завтра в Большой театр.
13 августа, около десяти часов утра, поставив парных часовых у входа Большого театра, я быстро возвратился в поезд, чтобы сопровождать Верховного на совещание. У театра он был встречен огромной толпой народа, устроившей ему с большим энтузиазмом бурные овации. Поздоровавшись с часовыми, Верховный направился в свою ложу, находившуюся в первом ярусе. Его сопровождали: полковник Голицын, адъютант прапорщик Долинский и я. При появлении Верховного в ложе все находившиеся в театре встали, за исключением, конечно, совдепа (около 60 человек). В это время я рассматривал физиономии этих хамов и предателей, погубивших Россию. Представители иностранных держав также поднялись и, стоя, долго аплодировали.
Полковник Караулов, представитель терских казаков, возмущенный поведением совдепа, крикнул:
– Встать, мерзавцы! Хамы!
Весь театр наполнился криками: «Да здравствует народный герой! Да здравствует великий патриот!» и т. д.
Раскланявшись со всеми присутствующими и иностранными представителями из своей ложи, где находились вместе с Верховным генерал Каледин, полковники Караулов, Плющевский-Плющик, Голицын, Пронин, капитан Роженко, если не ошибаюсь, и есаул Ногаев, Верховный сел и начал рассматривать собравшуюся публику.
Даже Керенский не мог остановить беспрерывный гул от аплодисментов и принужден был просить Верховного выйти, дабы этим дать возможность восстановить тишину. Верховный исполнил его просьбу и удалился в совещательную комнату. Проходя через зал в совещательную комнату, он был окружен восторженной толпой. В буквальном смысле слова приходилось отбивать своего Уллу бояра от этой толпы. Пробравшись в совещательную комнату, Верховный полушутливо на туркменском языке спросил меня:
– Что им от меня нужно, Хан?
Керенский в это время кое-как восстановил тишину и обратился к присутствующим с небольшой речью, в которой говорил, что Россия переживает сейчас тяжелое время и каждая минута дорога, а потому просить заседание быть спокойным.
Конечно, сделанное полковником Карауловым замечание совдепу не прошло незамеченным, и они потребовали выяснения, кто по их адресу бросил оскорбление. Поднявшись со своего места, представитель Оренбургского казачества есаул Ногаев заявил, что оскорбил совдеп он и готов дать в любую минуту какое угодно удовлетворение.
По возвращении Верховного в ложу совещание наконец было открыто. Керенский сказал пространную речь об общем положении России. В речи его было много пышных и красивых слов, но ничего дельного. За Керенским говорили профессор Алексинский, Набоков и Родичев, речи которых волновали присутствующих. После них пришла очередь говорить Верховному.
Верховный никогда не был хорошим оратором, но все же он спокойным голосом, толково и ясно обрисовал современное состояние фронта и тыла, приводя параллель между производством всего необходимого для фронта при монархии и теперь. Он доказал, что производительность всего технического материала, требуемого армией, упала до минимума. Он подробно описывал плачевное состояние и материальное положение инвалидов-офицеров. Я не буду подробно передавать речь Верховного, так как она известна всей России, а скажу лишь, что на веровавших в спасение России она произвела потрясающее впечатление. Все время речь эта прерывалась аплодисментами.
За Верховным говорили генералы Каледин и Алексеев. Не дождавшись окончания речи генерала Алексеева, Верховный уехал на вокзал. В тот же день, в пять часов вечера, мы выехали из Москвы в Могилев.
Перед грозой
По возвращении Верховного с Московского совещания в Ставку к нему начали прибывать с фронта генералы, занимавшие высшие посты. Он подолгу совещался с ними и давал им соответствующие инструкции.
После взятия немцами Риги в Ставке началась лихорадочная работа. Ставка резко изменила свою физиономию. Всем было как-то не по себе, и чувствовалось, что люди приготовляются к чему-то, сами не зная к чему. Все волновались, задавая друг другу вопросы, что будет дальше. Знающие молчали, предоставляя интересовавшимся толковать надвигающиеся события как им угодно.
Кзыл Юзли бояр был сосредоточен и молчалив. Часто проходя глубоко задумавшись мимо, он даже не здоровался с туркменами, очевидно, забывая об их присутствии.
Однажды, провожая из кабинета Верховного комиссара Филоненко, полковник Голицын, обращаясь ко мне, приказал:
– Хан, арестуй этого господина!
Филоненко был тотчас арестован и временно посажен в приемной комнате нижнего этажа. Там он чуть не умер от страха, когда на его вопрос, обращенный к туркменам-часовым, что будут делать с ним дальше, любимые им, как он говорил, туркмены отвечали коротко и неутешительно:
– Ны разгобарибэть! Стрылэт будем!
Филоненко просидел под арестом не больше полутора часов и был освобожден по приказанию Верховного. Когда я пришел освобождать его, он взмолился:
– Хан, дорогой, скажите, пожалуйста, своим туркменам, что я освобожден по приказанию Верховного, чтобы они не стали придираться ко мне вне Ставки, не зная об этом.
В этот день за обедом Верховный был мрачен больше, чем когда-либо, все время молчал и даже не разговаривал со своим сыном Юриком и дочерью – Наталией Лавровной. Всегда жизнерадостный и веселый, генерал Крымов, около недели уже обедавший с нами, тоже в этот день был очень мрачен. Обед прошел почти в молчании. Верховный очень мало ел, и даже Таисия Владимировна не в состоянии была внушить ему, что и в эти дни все же нужно питаться, тем более что он проводил последние ночи без сна.
– А чай? – говорила она встававшему из-за стола мужу, который, ответив одним словом: «Нет!», тихо удалялся в кабинет, крутя на ходу свою бородку.
В один из таких дней, после обеда, когда я разговаривал с полковником Голицыным в приемной, дверь кабинета открылась и на пороге показался Верховный, провожавший генерала Крымова. Очевидно, продолжая начатый разговор, он, как бы подчеркивая каждое слово и пронизывая насквозь генерала Крымова холодными глазами, говорил:
– Итак, повторяю вам еще раз. По прибытии на место немедленно сообщите об этом мне. Никаких переговоров и разговоров с «ними» без моего разрешения не ведите. Вы сами понимаете, что если начнете с «ними» разговоры, то все дело рухнет. Особенно охраняйте своих людей от говорунов.
Генерал Крымов почтительно слушал Верховного, повторяя время от времени: «Слушаюсь! Слушаюсь, Ваше Превосходительство!»
– Ну, с Богом! – сказал Верховный, пожав Крымову руку, и опять вошел в кабинет.
Попрощавшись с Верховным, генерал Крымов подошел к нам и, прощаясь с полковником Голицыным и со мной, обратился ко мне:
– Голубчик, Хан, сначала Бог, а потом вы со своими людьми охраняйте этого человека! – указал он большим пальцем на дверь кабинета Верховного. – Не покидайте ни на минуту его. Он любит вас и верит вам.
Я успокоил генерала. Он уехал. Прошло, кажется, три-четыре дня после отъезда генерала Крымова. Вся Ставка жадно ждала известий из Петрограда. Я, по обыкновению, ходил в сад на прогулки. Верховный, не говоря ни слова, опустив голову вниз, сосредоточенно шагал по саду, что-то шепча про себя, и очень скоро возвращался в столовую. В один из таких дней я ожидал Верховного в гостиной, чтобы сопровождать его на прогулку, когда быстро прошел мимо меня с какой-то бумагой полковник Голицын, на ходу говоря:
– Дорогой, сейчас явись в типографию Ставки и заставь напечатать… – не кончив фразы, он бросился к кабинету Верховного.
Я, не понимая ничего, крикнул ему вслед:
– Что напечатать?!
– Воззвание! – ответил уже на пороге полковник и скрылся в кабинете.
Я решил ждать в приемной, пока не выйдет полковник Голицын, и толком узнать у него, в чем дело.
– Ты оставайся сам в Ставке, а в типографию пошли надежного человека. Там что-то с капитаном Брагиным неладно. Типография не хочет печатать! Верховный решил выпустить воззвание! – объяснил полковник Голицын, выйдя из кабинета Верховного.
Получив такое распоряжение, я попросил к себе Баба Хана, которому сказал:
– Баба Хан! Как-то ты дал мне слово умереть вместе! Этот момент пришел! Будь готов! Немедленно со своими людьми поезжай в типографию в распоряжение капитана Брагина. Товарищи-рабочие не хотят напечатать воззвание Верховного к народу и армии. К утру требуемое количество воззваний должно быть напечатано. Если товарищи будут много разговаривать, то ты сам знаешь, что нужно делать в таких случаях.
Типография была оцеплена джигитами, и Баба Хан заявил рабочим, что никто из них не выйдет отсюда живым, если к утру не будет напечатано требуемое количество воззваний. К трем часам утра было напечатано их несколько тысяч, и Баба Хан вернулся ко мне, чтобы сообщить об этом.
В Ставке поднялась страшная суматоха. Телеграф и железные дороги между Могилевом и Петроградом не действовали. В Ставке и городе говорили о предстоящем бое между Ставкой и Петроградом.
«Война! Да неужели? Не может быть! Все проиграно! Ну, что вы говорите?» – долетало часто до моего слуха. Но слова эти оставались словами, а мы, туркмены, с непоколебимой верой продолжали нести нашу службу у Великого бояра. Только изредка я вспоминал пророческие слова Курбана, говорившего: «Одна область пойдет против другой и один город против другого. Кровь будет литься рекой» и т. д.
Мои джигиты спокойно ждали надвигающихся событий, несмотря на то, что нашлись и в эти дни в городе предатели, подогревавшие их, и они, возвращаясь из отпуска, говорили мне:
– Хан Ага, что это такое? В городе говорят, что недолго нам осталось жить здесь. «Скоро придется вам снять эти папахи, которыми вы наводите на нас такой страх».
На мой вопрос, кто говорит такой вздор, джигиты указали на евреев-лавочников.
– А что на это ответили вы? – спросил я.
– Скорее туркмен твою башку снимет, чем свою папаху, – дружно смеясь, ответили джигиты.
В Ставку начали поступать телеграммы с фронта от командующих армиями, кто пойдет с Верховным, а кто останется верен Временному правительству. Поддержка с фронтов оказалась очень мала и людей, идущих на помощь Верховному – тоже.
Кажется, с 27 августа Верховный начал посылать людей во все стороны для подготовки народа к предстоящей совместной работе. Одним из первых уехал Завойко и Александр Ильич Дутов, причем первый уехал на Дон, а второй в Оренбург для подготовления казаков. Верховный приказал мне дать двух джигитов для сопровождения их до Гомеля, так как они ехали туда в автомобиле. В эти тревожные дни охрана города Могилева перешла всецело в руки текинцев. Были расставлены по городу посты, а за город высланы разъезды. Город сначала был объявлен на военном, а потом на осадном положении.
Часть вторая
Перемена декораций
28 августа 1917 года.
Настал день, когда все войсковые части и жители Могилева начали собираться на площадь перед Ставкой. Вскоре она вся набилась народом. Больше всего в этой толпе были видны неряшливые фигуры солдат, беспрерывно щелкавших семечки, и евреи, которые в толпе солдат, как бы не понимая, что происходит, задавали им вопросы, исподтишка подмигивая друг другу (еврей – еврею).
– Господин товагиш, говогат, что сюда едет сам Кегенски! Это пгавда? Что он, дугак, может сделать здесь, когда у генегала Когнилова так много войска!..
Вот один из таких шнырявших в толпе евреев подошел к группе солдат.
– Товагищи, вы не знаете, зачем ми сюда собрались?!
– Не знаю! – коротко ответил один из солдат, довольно пожилой, с рыжей бородой.
Высморкавшись в сторону и вытерев кулаком нос, он обратился к соседу:
– Федя, дай курева!
Пока Федя рылся в кармане шинели и вытаскивал замусленную сумочку с махоркой, юркий еврейчик подошел к другой группе со словами:
– Ви, товагищи, не знаете цели этого парада?
Товарищи поежились, сделали движение плечами и, ни слова не произнося, продолжали выплевывать шелуху от семечек. Глаза у всех были прикованы к большой двери Ставки, откуда должен был выйти Верховный.
– Ты что, с луны упал, что ли? – сказал один из них, повернувшись к еврею и смерив его с ног до головы.
– Что ви, что ви, товагищ, такой стгашный вопгос задаете мне? Что же от меня бедного осталось бы при падении с такой висоты?! – И, сразу заметив строгий вид солдат, он, вытащив из-за пазухи пачку папирос и спички, начал обходить группу.
Солдаты с удовольствием затягивались папиросами.
– Керенский обозвал Корнилова изменником, а тот – яво, а таперича идет вот такая штука. Понял? – произнес один из солдат, соединяя указательные пальцы один против другого.
– Знацит, война, товагищ?!
– Навярняка! Пущай воюют! Таперича их черед – начальников. А нам-то що? Мы кончили воевать, а таперича будем смотреть, кто кому из них голову свернет, – вставил один чубастый парень, потирая руки.
– Значит, товагищи, тепег пойдем против Кегенского?
– Вы-то да, а мы-то нет! – произнес рыжий солдат, который заинтересовался, не упал ли еврей с луны, – пряча «по разсеянности» спички еврея в свой карман. Подаренные папиросы произвели желаемое действие на солдат, и они более дружески и доверчиво продолжали беседовать с евреем.
– Я, товагищи, не дугак! Я воевал два с половиной года и с меня достаточно.
– На каком хронте вы были, товарищ? А зачем частную одежду носите, если вы солдат? – спросил кто-то.
– Я бил на Гумынском (Румынском) фгонте фейфейгком. Пропеллером ранило мою печенку и до сих пог болит здесь, – сказал еврей, второпях всовывая в рот папиросу горящим концом.
– Где, товарищ, ваши печенки? Разве оне на груди бывают? – дружно засмеялись солдаты.
– Нет, товагищи, я ищу мои спички! – сказал еврей, быстро исправив ошибку и вытащив новую коробку спичек, снова начал предлагать их солдатам.
Немного погодя, еврей подошел к другой группе и там, вынимая все новые и новые пачки папирос и спичек, продолжал разговор в прежнем духе, так и не показав смеющимся солдатам, в какой части тела находится его раненая печенка.
После парада мне случайно пришлось слышать беседу двух евреев:
– Лазарь, что «он» (Корнилов) сказал?
– А, здгаствуйте, Самуил Исаич! Ви спгашиваете, что он сказал? Он говогил, что он бгюнет (брюнет), а Кегенский – самый настоящий рыжий… Ви поняли меня? Ви видели Кегенский – он действительно рыжий?
– Ша! Ша! Лазарь! – говорил Самуил Исаевич, поднося указательный палец к губам и подходя поближе.
– Почему ша? Что знацит ша? Разве ми до сих пор не свободны? Где же свобода слова, пецати?
После виденных сценок я долго удивлялся умению агитаторов вызывать молчаливого солдата на разговоры – папиросами, спичками, шутками и вообще всеми средствами, подходившими к данной обстановке. А сколько пачек папирос и спичек было роздано ими сегодня солдатам, чтобы разжечь и восстановить их против начальников и смутить еще больше ум, и без того помутившийся от всех событий! Видя их и слушая их разговоры, я подумал: «За зло злом, а за добро добром получишь рано или поздно! Чем больше ты будешь сеять зло, тем скорее встретишь конец свой. Покой души у тебя с этого дня нарушен, и он вернется только тогда, когда омоется твоя кровь кровью же! А ведь нет тайного преступления на свете, которое в конце концов не стало бы явным. За преступлением всегда следует строгое наказание. Так рассуждали наши предки. Пройдут годы, века, но кровь, выпущенная из горла невинных людей благодаря подлой маклерской игре беспринципных людей ради сегодняшней личной цели, будет возмещена кровью же. Она прольется в виде бунта, войны, революции и чего бы то ни было, но прольется! Люди долго будут искать причину, но главная причина – закон Всемогущего Ахалла – закон возмездия!
Меня спросили однажды мои соотечественники о том, когда наконец восстановится мир.
– Тогда, когда прольется в мире столько крови, а быть может и больше, сколько ее вышло из тела России. До тех пор не будет восстановлен мир в мире, пока не будет он прощен сперва Аллахом, а потом Россией, – ответил я.
В три часа пополудни 28 августа на площадь вышел Верховный. При его появлении вся площадь как бы замерла. Все глаза были прикованы к нему. На мгновенье взглянув на собравшуюся толпу, он крупными и уверенными шагами прошел в центр ее и начал говорить.
Я уже упоминал что Верховный не был хорошим оратором и к тому же говорил тихим голосом, так что стоявшие далеко не могли слышать его, а поэтому начали раздаваться крики: «Громче, не слышно!»
Сейчас же был вынесен из ставки стол, и, став на него, Верховный продолжал свою речь. Толпа с замиранием сердца и с жадностью слушала.
Верховный говорил, что он удивляется наглости Керенского, объявившего его, Верховного, изменником родины. Этот человек сам изменник родины, так как усыплял народ трескучими фразами, скрывая настоящее ужасное положение России.
– Вот вам случай, – говорил Верховный. – На петроградском совещании, когда я искренно начал обрисовывать настоящее тяжелое положение России, меня остановили, предупредив, чтобы я был осторожен и что не обо всем нужно откровенно говорить.
Затем Верховный обвинил Временное правительство в бездействии власти, результатом чего явилось свободное разгуливание в тылу и на фронте немецких шпионов и частые взрывы в Архангельске, Казани, Петрограде и других местах России, что этим Временное правительство разложило армию, превратив дисциплинированных, храбрейших солдат в глупое стадо баранов. Заканчивая свою речь, Верховный сказал:
– Меня обвиняет Керенский в том, что я желаю захватить власть в свои руки. Мне ли, сыну простого казака, мечтать о захвате власти и быть властелином над народом, который только что получил долгожданную свободу? Я, генерал Корнилов, клянусь довести страну до Учредительного собрания…
Как только он окончил свою речь, вся площадь загудела и раздались крики:
– Да здравствует народный вождь генерал Корнилов!
Слушая речь Верховного и глядя на восторженно кричащую толпу, мне показалось, что многие из этих людей не поняли такую правдивую и простую речь Верховного. Кричат они под влиянием момента, а стоит им отойти сто шагов от этой площади и встретить какого-нибудь митингового оратора, который заговорил бы против Верховного, они также устроят ему овации, слепо веря его словам, и пойдут с ним против Верховного, забыв, что десять минут тому назад они восторженно приветствовали его. «Темнота, темнота!» – повторял я вслух, идя за Верховным.
Казалось и природа сочувствовала общему настроению. День был пасмурный и холодный. Листья деревьев, потеряв свой красивый зеленый цвет, переменили его на красно-желтый. Вся земля была покрыта густым слоем желтых листьев, которые грустно шуршали под ногами.
Пропустив войсковые части мимо себя церемониальным маршем, Верховный пошел в Ставку. Через приемную, где на подоконнике большого окна стоял, глядя на площадь, сын его, Юрик, а за ним Таисия Владимировна и Наталия Лавровна, – он направился прямо в свой кабинет, как бы не замечая присутствия стоявших у окна, и не обернулся даже на зов Юрика, кричавшего: «Папа! Папа!» Угрюмая Таисия Владимировна тоже было обратилась к нему, но, видя его состояние, тотчас смолкла, а Верховный очнулся от своей глубокой задумчивости, только подойдя к двери своего кабинета. Обернувшись к Таисии Владимировне, он спросил:
– Ты что – ко мне?!
– Да! – ответила она.
– Потом, – тихо произнес Верховный и вошел в кабинет.
Вошел за ним и я.
Верховный был угрюм. Лицо его выражало внутреннее волнение, глаза, как всегда, были холодны, но блестели, горели ярким огнем. Я снял с него шинель и положил на кресло. Держа фуражку в руке, сосредоточенно глядя в окно и крутя подбородком, он опять погрузился в думы, изредка произнося слово: «Да!» Я собирался было выйти, но он остановил меня и, подойдя ко мне, засунув обе руки в карманы, сказал:
– Ну, как, Хан, джигиты поняли меня и ту подлую игру, которую сыграли со мной г. Керенский и Ко? А? А какая мерзость?! Ведь надо же дойти до такой пошлости! Вы, пожалуйста, Хан, объясните, если кто из джигитов не понял, и держите их в руках, ограждая от влияний вредных агитаторов!
Верховный в эту минуту был страшен. Он был желт, глаза сверкали, низкий голос порой дрожал. Я таким его видел три раза за время моей близкой к нему службы: в этот день, 26 ноября и 30 марта 1918 года. Эти три момента у меня так запечатлелись в памяти, что я до сего дня порой вижу Верховного ясно перед собой и голос его звучит в моих ушах: «Хан, а ведь нас свои предали». И как только я увижу теперь образ Верховного и услышу его голос, то сейчас же начинаю молиться, чтобы успокоить себя и его. И, действительно, после чистой молитвы успокаиваюсь. Это успокоение, как я думаю, приходит потому, что душа Верховного успокаивается. Ведь душа – бессмертная. Особенно не забуду его четкий голос перед рассветом вблизи Гначбау в ночь на 2 апреля: «Хан, ведь нас свои предали!»
В Ставке кипела лихорадочная работа. Все чины Ставки в эти дни крайне нервничали.
Кзыл Юзли бояр был хмур и мрачен.
– Ну, Хан, голубчик, как живем? – спрашивал он меня иногда, но не так весело, как в первые дни нашего приезда в Могилев.
Люди мои совершенно измотались без сна и отдыха и плохо ели. К тому же постоянная бдительность, тревожное настроение и создавшаяся обстановка – все это действовало на джигитов. Но не было ни одного слова жалобы.
– Хан, вот я уже четвертые сутки не снимаю сапог, а спал за это время в общей сложности не больше двенадцати часов! – говорил мне Шах Кулы.
Несмотря на чинимые Эргартом и Григорьевым разные интриги, мне все же удалось держать в своих руках основной состав охраны – сорок джигитов, выехавших со мной еще из Каменец-Подольска, так как большинство из них сами не хотели сменяться.
Наш полк был занят несением охранной службы в городе и окрестностях его.
Спустя три или четыре дня после выступления Верховного внезапно распространился слух о смерти генерала Крымова.
– Что! Убит?! Кто-кто?.. Генерал!.. Какой-какой? Да Крымов! – переходила в ставке весть о смерти генерала Крымова из уст в уста.
О смерти генерала Крымова ходили разные слухи. Одни говорили, что он сам застрелился, узнав, что его люди ему изменили, разложенные делегацией от исполнительного комитета, высланной Керенским навстречу двигавшемуся к Петрограду корпусу, с татарином Токумбетовым во главе. Другие утверждали, что якобы Керенский вызвал генерала Крымова к себе – показать телеграмму Ставки о самоубийстве генерала Корнилова и, наконец, другая версия, что якобы Керенский, вызвав генерала Крымова, показал ему фальшивую телеграмму от генерала Корнилова, в которой приказывалось ему немедленно возвратиться в Могилев и что во время разговора адъютант Керенского застрелил генерала Крымова. Вообще же никто не мог разгадать тайну смерти генерала Крымова.
В Могилеве во время выступления Верховного были следующие части: ординарческая сотня, Корниловский ударный полк, Текинский полк, батальон георгиевцев, а несколько позже прибыл первый Сибирский казачий полк. Необходимо заметить, что в Ставке мало верили в поддержку георгиевцев и сибирцев.
31 августа в городе пронесся слух, что едет из Петрограда генерал Алексеев с эшелоном войск для усмирения гененерала Корнилова. Этот слух мне принес из города мой Фока. Я очень удивился, услыхав это, так как в Ставке ничего подобного никто не слышал, но к вечеру этот слух подтвердился, ибо в четыре часа того же дня на площади перед приемной показалась скромная фигура генерала Алексеева в сопровождении какого-то штатского, оказавшегося Вырубовым, приехавшим с генералом Алексеевым.
– Скажите, голубчик, где генерал Корнилов и могу ли его видеть? – спросил меня своим тихим голосом, слегка покашливая, генерал Алексеев.
Верховный, подперев обеими руками голову, полусогнувшись, стоял над картой, когда я, тихо приоткрыв дверь, вошел в кабинет. Увидев меня, он выпрямился и спросил:
– В чем дело, Хан?
Я, взглянув на него, заметил на лице два красных следа от худых его рук. Я доложил о приезде генерала Алексеева.
– Генерал Алексеев один или с кем-нибудь? – спросил он меня.
Получив от меня ответ, Верховный приказал пригласить генерала Алексеева в кабинет. Когда я вышел, генерал Алексеев стоял в приемной и вытирал платком очки, сморщив глаза и держа под мышкой портфель из черной кожи; сбоку – простая шашка с кавказской портупеей.
Не успел я подойти к нему и доложить, как дверь кабинета открылась и на пороге показался Верховный, вышедший встретить старика – начальника штаба Царя.
– Михаил Васильевич, пожалуйте, – обратился Верховный к генералу Алексееву, который, попросив Вырубова обождать его в дежурной комнате, направился к Верховному.
Совещание в кабинете Верховного продолжалось довольно долго. Было около шести часов вечера, когда генерал Алексеев покинул Ставку. В этот день за обедом посторонних никого не было. Были только Таисия Владимировна, дочь, сын Верховного, полковник Голицын, Аладьин, Долинский и я.
Верховный был мрачен и слегка покашливал. Крутя свою бородку, он сосредоточенно глядел в одну точку стола. Было видно, что он переживал что-то тяжелое. Ел также сосредоточенно, не говоря ни слова. Не было за обедом обычных шумных бесед. Изредка стук ножей и тарелок, а иногда громкий шепот да вопросы Юрика нарушали жуткую тишину. Верховный, глядя на сына сосредоточенно, неохотно отвечал на его вопросы чисто детского характера. Юрик спрашивал:
– Папа, почему тебя в корпусе называли налимом? Оттого, что у тебя большая голова?
Присутствующие невольно слегка улыбались, а Верховный, как бы не слыша вопроса сына, смотрел на него. Юрик повторил свой вопрос, и, вдруг расширив глаза, Верховный, улыбаясь и обводя глазами всех сидевших, ответил:
– Да, меня в корпусе называли налимом, а вот тебя, наверно, назовут китайцем!
Верховный улыбался, но улыбка эта продолжалась недолго, и он опять погрузился в свои думы. Изредка нарушала тишину и Таисия Владимировна, останавливая веселого сына:
– Юрик, что ты, не понимаешь, что сейчас не время болтать! Ну, довольно! Сиди, как сидят все!
Верховный думая, что Таисия Владимировна говорит с ним, оборачивался и спрашивал:
– Что ты – ко мне?!
Вот в такой-то момент вдруг Верховный прервал тишину, обратившись ко мне:
– Дорогой Хан, прикажите своим джигитам продать мою лошадь, а деньги, вырученные от продажи, передать от меня конвою для покупки зеленого чая, – произнес низким басом Верховный.
– Никак нет, Ваше Высокопревосходительство, этим вы обидите джигитов! По-моему, будет лучше, если мы лошадь на время отправим в наш полк, ибо я верю, что придет день, когда я увижу вас на ней опять! – ответил я.
– Что? – вдруг неожиданно весело расхохотался Верховный, поднеся салфетку ко рту.
– Когда же, вы думаете, это может быть? – смеясь, спросил он.
– Когда – в точности я не могу вам доложить, но мое сердце и предчувствие говорят, что это будет так! – ответил я.
– Насколько я успел привыкнуть к Хану, настолько верю и предсказаниям его. Давайте проверим его, Ваше Превосходительство, и лошадь отдадим в Текинский полк, и пусть пока она находится там. Дай Господи, чтобы слова нашего Хана сбылись и мы могли бы вас видеть на ней опять! – поддержал меня полковник Голицын.
– Да, да, я также согласен с Ханом. Я верю ему. Ведь правда – Иншалла! Все будет хорошо! – сказал Алексей Феодорович Аладьин, оборачиваясь ко мне («Иншалла!» – Если захочет Аллах! Выражение это Аладьин слышал от меня).
Верховный согласился, и его лошадь была отдана в полк. Кстати, замечу, что эту лошадь поднес Корниловский ударный полк своему шефу. Она была худа, слепа на один глаз и хромала на заднюю правую.
Спустя несколько времени по городу распространился новый слух, переданный мне на этот раз туркменами, что генерал Корнилов сложил оружие и его хотят арестовать. Я был поражен, что народ обо всех событиях в городе узнавал раньше нас, близких к Верховному.
Меня удивляло, почему местом Ставки был выбран Могилев, где 90 % населения состояло из людей, не любящих Россию, и, конечно, потому и немцам легко было через них узнавать наши секретные распоряжения. А ведь все это стоило жизни сотням тысяч людей!
31 августа парные часовые от георгиевцев покинули Ставку, так как с приездом генерала Алексеева весь гарнизон Могилева перешел в его ведение. По уходе георгиевцев мною тотчас же были поставлены парные часовые из туркмен.
Та часть Ставки, где жил Верховный, в буквальном смысле слова опустела. Не было того оживления, как раньше, не было также и приемов как иностранцев, так и своих. Кругом стояла зловещая тишина, изредка нарушаемая покашливанием часовых-туркмен, несших по моему личному приказанию свою службу, как и прежде.
Черный день
1 сентября 1917 года.
На другой день после приезда генерала Алексеева все приближенные к Верховному лица были генералом Алексеевым арестованы и началось дознание, которое производила верховная следственная комиссия, прибывшая из Петрограда.
Полковник Голицын, Аладьин, Долинский, Юрик и я сидели в столовой, разговаривая. Юрик как ребенок, не понимая того тяжелого положения, в котором находились мы, то и дело, шаля, прерывал нашу беседу. Верховный, по обыкновению, был в кабинете и сидел над картой. Вдруг из приемной комнаты послышался голос командира нашего полка полковника Кюгельгена:
– Здравствуйте, господа!
Приход полковника без доклада сначала удивил нас всех, но, вспомнив, что сейчас нет ни дежурного офицера, ни дневальных, которые ушли вчера, мы успокоились. Я подошел к нему. Поздоровавшись со мной, полковник Кюгельген спросил меня, можно ли ему видеть Верховного, так как он приехал получить от него предписание о том, что Текинский полк с этого дня входит в ведение генерала Алексеева.
– Я имею от генерала Корнилова устное извещение, но желаю получить его распоряжение по этому поводу еще и в письменной форме. Вы же, корнет, собирайте своих людей и сейчас же отправляйтесь в полк! – закончил полковник.
Выслушав полковника Кюгельгена, я обратился к нему с просьбой разрешить мне остаться с моими джигитами около Верховного и продолжать свою службу по-прежнему, мотивируя свою просьбу тем, что возле него сейчас нет никого, кроме полковника Голицына, Аладьина и Долинского, а в такие тяжелые дни никто не имеет нравственного права оставить его одного. На это полковник Кюгельген мне возразил, что такого разрешения, без согласия генерала Алексеева, которому он подчинен, дать мне не может.
– Ваша миссия окончена! Сегодня же со своими людьми присоединяйтесь к полку! – сказал он, повернув меня лицом к кабинету и слегка подталкивая в спину тремя пальцами.
Войдя в кабинет, я доложил Верховному о желании полковника Кюгельгена видеть его.
– А! Командир полка? Пусть войдет! – приказал Верховный.
Получив от Верховного, что нужно, полковник Кюгельген, выйдя из кабинета, опять приказал мне поспешить в полк.
– Никак нет, господин полковник! Я в полк не пойду до тех пор, пока дело Верховного не выяснится.
– Что такое! Неповиновение начальству? Вы что же, батенька мой, хотите под суд? Собирайте людей и поспешите в полк! – приказал он уходя.
– Искренно благодарю вас, Хан! Я этого и ждал от вас, – сказал Верховный, стоя у порога кабинета. – Я вам всегда верил и был расположен к вам как к своему сыну.
Оказывается, весь наш разговор с Кюгельгеном он слышал, ибо дверь кабинета была приоткрыта. Голицын и Аладьин также поблагодарили меня, причем Голицын сказал мне:
– Кюгельген ничего тебе сделать не может, если, конечно, твои джигиты пожелают остаться с тобой.
– Своих джигитов я знаю. Они так же верят в правоту дела Верховного, как и я. Но я думаю, что мне не мешает съездить в полк и узнать мнение Сердара и его офицеров-мусульман. Если они согласятся, то я никакого суда не боюсь, и пусть тогда Верховный попросит генерала Алексеева, чтобы тот оставил нас при нем. Доложи об этом Верховному и попроси разрешение мне ехать в полк, – сказал я Голицыну.
– Если весь ваш полк и ваши люди не захотят остаться при мне, то я все-таки прошу вас не покидать меня! – сказал мне Верховный, отпуская в полк.
Передаю эти слова лишь потому, что они – оценка Верховного роли туркмен в эти тяжелые дни.
Везде были сумрачные, встревоженные лица. Везде что-то затаенное. И только у одних текинцев по-прежнему были открытые, доброжелательные лица и всегда во всем точное и быстрое исполнение. Они поверили в Уллу бояра, а с верой не расстаются так легко! «Теперь тяжело, завтра будет легче. Что же – подождем!» – как будто говорили они, и в эти тяжелые дни лишь окрепла душевная личная связь их с Верховным.
Когда я приехал в полк, то полковник Григорьев, попавшийся мне первым навстречу, с иронией спросил:
– Ну что, корнет, покончили вы со своим генералом?
Поздоровавшись с ним и не отвечая ничего на его глупую иронию, я поспешил к Сердару. Выслушав меня, Сердар сказал: «Пожалуй, оставайся около Верховного и передай, сын мой, ему, что мы не георгиевцы и в такую минуту его не оставим! Если же русские офицеры полка будут иметь что-либо против этого, то мы им скажем лишь одно слово: “Прощайте”!»
О своем решении остаться с Верховным я говорил с ротмистром Натензоном, командиром второго эскадрона:
– Дорогой Хан, передай Верховному, что и я со своим эскадроном готов умереть за него!
Поздно вечером я вернулся в Ставку из полка, довольный полученной поддержкой. Голицын, Аладьин и Долинский бросились ко мне навстречу, тревожно спрашивая:
– Ну что, остаетесь или покидаете нас?
– Друг или недруг? – добавил Аладьин. Получив ответ, они начали прыгать, кричать «ура». А Юрик, повиснув на моей шее, кричал звонким голосом:
– Мама, Хан останется с нами! Он не уходит!
На этот крик вышел Верховный, спрашивая, что это за бунт.
– Это – ликование, Ваше Превосходительство, оттого что Хан со своими джигитами остается с нами по-прежнему! – доложил полковник Голицын.
– А-а! – протянул Верховный и добавил: – Конечно, Хан нас не оставит в такие тяжелые дни!
После этого я отправился к своим джигитам и спросил их, будем ли мы все продолжать нашу службу у Уллу бояра с прежней верой в него.
– Ты же сам останешься при Уллу бояре? Зачем тогда нас спрашиваешь? Мы с тобой, Хан! Веди нас куда хочешь! – отвечали мне джигиты.
Узнав от меня о мнении Сердара и джигитов, Верховный написал об этом тотчас же бумагу генералу Алексееву.
Вечером того же дня я встретил коменданта Ставки полковника Квашнина-Самарина.
– Какие молодцы, Хан, ваши джигиты! Какая любовь и преданность своему вождю! Я беседовал с ними, и они все как один хотят остаться с вами при Верховном! – говорил мне он.
– А какое было бы счастье, если бы наш русский солдат понимал так же о долге чести, как эти степняки! – вмешался тут же присутствовавший полковник Тимановский, командир Георгиевского батальона. – А вы помните, что произошло с нашими георгиевцами?
– Как же! Вы хотите сказать относительно маленького бунтика? – поспешил ответить Квашнин-Самарин.
– Да, ведь идиоты, подпив, решили идти в Ставку, чтобы покончить с ней, забыв, что у генерала Корнилова есть такие люди, как эти! – указал полковник Тимановский на меня. – Они бы их изрубили, как капусту. Я им об этом так и заявил. Ведь эта сволочь с жиру бесится!
– А они что? – спросил Квашнин-Самарин.
– А что они! Стоят, как болваны. Ведь наш солдат выносливый, хороший и храбрый, пока не наткнется на человека храбрее его. При первом столкновении с таким человеком он теряет всю свою храбрость и становится рабом его. Так и здесь! Дисциплинированный батальон солдат, груди которых увешены георгиевскими крестами, испугались, когда им сказали, что поблизости находится туркменский разъезд. Вся эта публика слышала о подвигах туркмен, а к тому же некоторые из них видели туркмен в деле. Эти-то товарищи удержали остальных баранов от выступления до моего приезда в батальон! – закончил полковник Тимановский.
Начались тяжелые дни Ставки. Все близкие Верховного томились в мучительной тревоге за него.
Один только Алексей Феодорович Аладьин был тверд и не поддавался общему настроению.
– «Иншалла! Все будет хорошо!» – говорит Хан, и все будет хорошо! Я ему верю. Правда, Хан, все будет хорошо? – спрашивал меня Аладьин.
– Хан, голубчик, идите в кабинет и стащите из письменного стола Лавра Георгиевича револьвер, а то он еще может застрелиться! – рыдали Таисия Владимировна и Наталия Лавровна.
– Хан! – крикнул Верховный, выйдя из кабинета. – Пожалуйста, успокойте их, а то они нам мешают.
В это время в кабинете Верховного были члены следственной комиссии.
Увидав плачущих, он подошел к жене.
– Ну что ты! Довольно, довольно! Пойдем! – говорил Верховный, беря ее за руку и уводя в спальню.
Пользуясь отсутствием Верховного в кабинете, Долинский вытащил из ящика стола его револьвер и передал Наталии Лавровне.
От полковника Голицына я узнал, что Верховного и всех причастных к «мятежу» лиц хотят отправить куда-то из Ставки. Куда именно, он не знал.
На мой вопрос: «Будем ли мы с Верховным всюду, где бы он ни находился?» – Голицын ответил, что это зависит от генерала Алексеева: если он захочет, то – да, а если не захочет, то – нет!
Утром, когда я был в приемной, Верховный, проходя мимо в кабинет, сказал:
– Нас завтра хотят поместить в одной из гостиниц города. Вы будете со мной, Хан! А какую штуку сыграли со мной! Мерзавцы! – добавил он, входя в кабинет.
– Все великие люди страдали! – ответил я ему вслед. В этот день в столовой завтракали только пять человек: Верховный, полковник Голицын, Аладьин, Долинский и я.
На джигитов такая обстановка действовала удручающе, и они часто тяжело вздыхали.
– Бэ, бэ, Хан Ага, что сделали с нашим бояром! В ставке льются слезы! Жаль, что подлец Керэнски тогда в Петрограде ускользнул из-под нашего ятагана! – говорили мне, вскипая душой, джигиты.
– Ничего! Аллах все видит! Придет время – виновники этой позорной игры и предатели Родины расплатятся жестоко! – успокаивал я джигитов и они верили в это.
В дни общих слез один только Юрик сохранял постоянное присутствие духа и, разбирая коллекцию монет, стараясь не замечать матери и сестры, серьезно собрав губы бантиком, спрашивал меня:
– Скажите, пожалуйста, Хан, почему на этой монете персидский шах с крючком вместо носа?
Верховный настоял, чтобы семья его уехала куда-нибудь из Могилева. После краткого совещания с женой Верховный решил отправить семью в Москву. Таисия Владимировна, снабженная подложным паспортом, выехала на вокзал. Ее провожали Долинский и я, причем Долинский до Москвы, а я только до вокзала.
Запущенный и грязный вокзал был битком набит солдатами, удиравшими домой. Они то и дело предъявляли коменданту станции самые нелепые требования. Комендант станции, узнав, что едет семья Верховного, с трудом нашел два места для нее, в отходящем поезде. При этом он, как свой человек, волнуясь, предупредил, что в поезде едут какие-то комитетчики, которые проверяют документы, но, узнав, что бумаги в порядке, комендант успокоился. С меня взяли еще раз слово, что я не оставлю Верховного, и мы простились.
Поезд тронулся, и семья Верховного, со слезами на глазах, уехала с того вокзала, где не так давно их встречала многотысячная толпа при звуках оркестра, кричавшая: «Да здравствует народный вождь генерал Корнилов!» и т. д.
Видя иронию судьбы, я невольно вспомнил одного хивинского поэта, говорившего:
«О, судьба! Если я буду говорить о твоей несправедливости даже день и ночь, то жизни моей все же не хватит для этого!»
Вспомнил я и предание Востока: «Гамаюн (легендарная птица) несет свое яйцо на лету. Яйцо это летит к земле сорок лет. У земли яйцо лопается, и из него вылетает птенец. Тень этого птенца, упавшая на человека, делает его царем. Все жители вселенной мечтают для себя об этом миге и ждут его. И эта-то священная птица питается в степи падалью, в то время когда муха, своим присутствием внушающая нам только отвращение, питается тем же, чем и мы. Где, где, судьба, твоя справедливость?..»
Верховный, узнав о благополучном отъезде семьи, несколько успокоился.
На новой квартире
2 сентября 1917 года.
– Хан, дорогой, пойдем со мной в гостиницу «Метрополь» выбирать комнату для Верховного, так как его хотят перевести туда! – сказал полковник Голицын.
Полковник Квашнин-Самарин, полковник Голицын и я отправились в «Метрополь», поразивший нас своей грязью и неуютностью. «Метрополь» состоял из двух этажей: верхнего, в котором хотели поместить Великого бояра-узника, и нижнего, где, по моему плану, должен был помещаться конвой из текинцев. После короткого осмотра помещения мы остановились на угловой комнате в конце коридора, имевшей четыре окна, выходившие на две улицы. Благодаря изобилию света она выглядела и чище, и уютнее других. После осмотра «Метрополя» мы возвратились в Ставку.
Половина двенадцатого ночи. Верховный, собираясь ехать в «Метрополь» и одевая шинель, говорил Голицыну: «Владимир Васильевич, все бумаги должны находиться в руках надежного человека. Какую цену они имеют в будущем, вы сами понимаете!..» Он был бледен, но совершенно спокоен и даже шутил.
– Так что, Хан, говорите: едем на дачу? – спрашивал он меня, улыбаясь.
Я взглянул на кабинет Верховного и мысленно произнес: «Провались сквозь землю проклятые стены твои, сложенные, очевидно, не в добрый час и руками проклятого человека, в несчастном месте. Вошел к тебе Царь и вышел нищим! Вошел пророк – его предали и распяли. Кого еще ты готовишь за ними?!» Немые стены молчали мрачно, погруженные в глубокую тайну своей силы.
– Что это за шум, Хан? – спросил Верховный, направляясь к лестнице, ведшей вниз к выходу.
– Прибыли текинцы сопровождать своего Уллу бояра, – ответил я.
Верховный разом остановился, побледнел еще больше, и по лицу его, как бы от внутренней дрожи, пробежала судорога. Быстро повернувшись ко мне и сильно сжав мне руку, он взволнованно произнес:
– Благодарю вас всех, истинные воины!
Наш полк был выстроен шпалерами от дворца до «Метрополя». Все джигиты с нетерпением ждали своего вождя. Воинственный вид текинцев на нервных, тонконогих жеребцах, то и дело ржавших и нарушавших ночную тишину, и наводивших страх на недругов бояра, бряцание оружия и блеск стальных пик при электрическом свете – все это создавало картину, которую я не в силах описать.
– Смирно! – прозвучал в ночной тишине сильный голос Сердара при появлении бояра.
Встав во весь рост в автомобиле, в котором сидел и генерал Лукомский, Верховный поздоровался с Сердаром и быстро опустился на свое место. Автомобиль помчался по направлению к гостинице среди живой аллеи из текинцев. Жители, спрятавшись в свои дома, как кроты из нор следили за происходившим, не понимая цели ночного парада. Приехав в «Метрополь» и поздоровавшись с часовыми туркменами, поставленными мною заранее, Верховный поднялся на второй этаж.
– Куда же прикажете? – обратился он к коменданту Квашнину-Самарину, который и проводил Верховного к выбранной нами комнате.
– О, как хорошо здесь! Скажите, пожалуйста, даже кровать есть! А кто же за все это будет платить, Хан? – спрашивал меня Верховный, входя в свою комнату.
Раздеваясь, Верховный попросил меня дать ему стакан воды. Подавая Верховному воду, я увидел полковника Голицына с туго набитым портфелем из черной кожи. Верховный, прощаясь с ним, говорил:
– Успокойте Таисию Владимировну, передав, что все пока благополучно, и не забудьте также сказать, что Хан со мной.
– Ну, дорогой Хан, будь здоров. Сперва Господь Бог, а потом ты – следи за своим отцом! Поручаю его тебе, а тебя Господу Богу! – говорил Голицын перед своим отъездом.
На рассвете Голицын незаметно исчез, боясь быть арестованным и не желая, чтобы документы Верховного попали в чужие руки. Он уехал куда-то на три-четыре дня.
Вместе с Верховным в «Метрополе» находились генералы: Лукомский, Романовский, Ванновский, Кисляков; полковники: Плющевский-Плющик, Пронин, Сидорин, Шайтанов, Каит Беков, Новосильцев; капитаны: Роженко, Брагин, Ряснянский, есаул И.А. Родионов и др.
Узники поместились по два-три человека в каждой комнате, двери которых никем не запирались, так что узники свободно сообщались между собою. Частым гостем Верховного был генерал Лукомский, который, проходя к Верховному, подолгу оставался, проводя время в беседах. Обед, завтрак и ужин для узников брались из общей офицерской столовой. Чай или кофе, пока их приносили, остывали, так что приходилось подогревать. Порядок охраны был таков. От наружной двери до верхнего этажа по лестнице цепочкой мной были размещены джигиты. На верхнем этаже в кухне было помещено десять человек. У парадной двери гостиницы парные часовые и под окном Верховного в нижнем этаже на всякий случай на ночь ставили двух джигитов, из боязни, чтобы кто-нибудь не поднялся при помощи аркана к Верховному. Остальные джигиты были размещены в нижнем этаже.
В первую ночь никто не спал. Настало утро. Не успели первые лучи осеннего солнца осветить «Метрополь», как перед ним собралась толпа солдат, указывая пальцами и подбородками на окна заключенных.
– А где самый мятежник-то помещается? Слышь, товарищ?! – спрашивали друг друга солдаты.
– Говорят, что сам главарь сидит вон в той комнате. Вон, видишь, как он важно разгуливает по комнате-то! – указывал другой пальцем по направлению комнаты Верховного.
– Ишь ты, тоже хотел быть царем! Мало было тебе быть генералом, да раскатывать на автомобиле! А таперича сиди, голубчик, здесь. Не особенно тебе сладко здесь после дворца-то! – говорили, смеясь, товарищи.
– Он ведь хотел быть царем, а потом нашего брата, этак, опять на позицию! Ах вы, такие-сякие! Всех бы вас прикончить. А этих сволочей еще тут кормят! – послышался чей-то голос.
– Неужели, товагищи, еще будем воевать? – задал вопрос какой-то еврейчик из толпы злобно настроенному солдату.
– Какая там война! А если и будет, то надо всю эту сволочь вперед пустить, которые только и сидели что в тылах, да в штабах, отрастив пузо, да чаек попивали, посылая нашего брата с голыми руками на немецкие пулеметы!
– Что вы говогите, товагищ! Дайте Когнилову выйти отсюда, и он опять начнет бить немцев, посылая нас в окопы. Ведь он наш Сувогов! – разжигал сердца черни тот же самый еврейчик.
Все это я слышал, стоя в толпе, против окна Верховного. Видя и слыша это, я пришел к заключению, что жителям Могилева за ночь стало известно, где и как были размещены заключенные, благодаря болтливости служанок-евреек «Метрополя». И у меня промелькнула мысль – удалить всю прислугу гостиницы и заменить их туркменами.
Простояв немного в толпе солдат, я направился в гостиницу, чтобы спросить разрешения у Верховного осуществить свою мысль относительно замены прислуги. Не успел я переступить порога комнаты Верховного, как он обратился ко мне, указывая на окно:
– Посмотрите, Хан, что сделали «они» в такой короткий срок!
Не говоря ему ничего о только что слышанном, я просил лишь опустить шторы и разрешить мне заменить прислугу гостиницы туркменами, мотивируя свою просьбу тем, что чем меньше будет здесь посторонних, тем спокойнее будет узникам. Одобрив мой проект, Верховный добавил:
– Мне кажется, Хан, что собравшаяся там толпа очень злобно настроена против нас. Как вы думаете?
Я ничего на это не ответил, ибо не желал его расстраивать, а он не повторял больше этого вопроса. Мне показалось, что Верховный видел меня в окно среди солдат и потому он и задал такой вопрос.
Выйдя из комнаты Верховного, я немедленно отпустил всю прислугу «Метрополя», заменив ее туркменами. К Верховному я назначил особого джигита – Реджэба, который и оставался при нем вплоть до 26 ноября 1917 года. Фотография его, между прочим, помещена в книге воспоминаний генерала Деникина, на 94-й странице, вверху над георгиевцем.
Прислугу-туркмен, а в особенности Реджэба, все заключенные быстро полюбили за преданность и услужливость.
Два дня спустя началось паломничество в «Метрополь» всех сочувствующих. Приносили цветы, книги, газеты, сласти и всякую еду. Верховный начал получать массу писем.
– Во всех этих письмах проклинают Временное правительство! – говорил мне Верховный, когда я приходил к нему.
Среди посетителей были и такие люди, которые предлагали деньги и свою помощь для освобождения Верховного. Узнав о таком колоссальном наплыве посетителей, местные комитетчики вызвали меня и заявили, что если впредь будут продолжаться посещения и передачи всяких вещей узникам, то всех их, с генералом Корниловым во главе, переведут в Петропавловскую крепость.
Выслушав их, я совершенно спокойно ответил, что узникам еще не предъявлено обвинение в государственной измене и они все находятся сейчас, по приказанию такого знатока законов, как сам адвокат Керенский, лишь под домашним арестом, а все лица, находящиеся под таким арестом, имеют право видеть своих родственников и получать книги и газеты. Правда, каждый раз это делается с разрешения начальства.
– А кто же, по вашему, является здесь начальством? – спросили меня товарищи.
– Ясно, что комендант! – ответил я и, уходя, добавил: – Кроме того, товарищи, не забывайте, что все они находятся не в тюрьме, а в гостинице.
Придя в гостиницу, я о своем разговоре с комитетчиками рассказал Верховному, который, выслушав меня, громко расхохотался:
– Хорош домашний арест в гостинице, да еще с приставленными часовыми. Боже, как они невежественны! – говорил Верховный.
Вскоре генералом Алексеевым была получена от Керенского телеграмма о возвращении на свои места тех полков, которые были вызваны Верховным перед его выступлением в Могилев.
Первым уходил из Могилева Корниловский ударный полк, который, проходя с музыкой мимо открытых окон Верховного, кричал: «Да здравствует генерал Корнилов! Ура!» и бросал вверх шапки. Верховный, стоя у окна, благословлял их и движением руки прощался с ними. Полк прошел, но Верховный еще долго смотрел вслед ему.
После ухода Корниловского полка вдруг в «Метрополь» явилась непрошеная охрана из георгиевцев. Они стали нести внешнюю охрану, а мы, туркмены, – внутреннюю. С приходом георгиевцев наступили тяжелые дни для посетителей. Начальник охраны георгиевцев старался всячески притеснять посетителей. Письма, газеты, книги и еда, приносимые извне, не пропускались без разрешения коменданта. Посетителям приходилось несколько раз спрашивать разрешения то коменданта, то комитетчиков. Будучи знакомы с настроением непрошеной охраны, узники волновались и просили меня усилить число джигитов во внутренней охране. Туркмен тоже очень раздражало присутствие новых охранителей, так как последние бесцеремонно обыскивали их. Видя все это и не желая прерывать связи с внешним миром, Верховный придумал следующий план, дав в нем место и моему посредничеству: я должен был снять поблизости комнату, куда бы в известные часы могли приходить близкие лица узников для передачи последним писем, вещей и т. д., а от них получать ответы. Кроме того, туда должны были являться и все посланные Верховным для связи в разные места России. Их письма и ответы на них также должен был передавать я. Все это сделать мог я, как начальник охраны, не подвергавшийся обыску.
В «Метрополе» Верховный день и ночь что-то писал. Я не понимаю до сих пор, почему он здесь чувствовал себя гораздо бодрее, чем в Ставке. Он часто беседовал со мной и с джигитами. Слыша смешные рассказы и наивные вопросы джигитов, Верховный хохотал здоровым смехом и с облегченным сердцем уходил к себе. Иногда я переводил ему выдержки из стихов хивинских поэтов,которые ему очень нравились.
Так проходили дни за днями, до 12 сентября 1917 года.
Быхов
8 сентября 1917 года.
В этот день вечером комендант Квашнин-Самарин, встретив меня на улице, сообщил мне о предстоящем переводе узников из Могилева в Быхов, который находился в сорока верстах от Могилева.
– Получено предписание из Петрограда. Этот перевод мотивируется тем, что узникам безопаснее будет в Быхове, – закончил комендант.
На мой вопрос, когда их переведут в Быхов, Квашнин-Самарин ответил незнанием, так как школа, в которой собираются их поместить, еще не приспособлена для приема гостей.
– Едва ли только туркменам придется нести дальше охранную службу у генерала Корнилова. Я думаю, туда назначат георгиевцев! – закончил он.
Услышав это, я отправился в полк, чтобы поговорить с Сердаром и узнать его мнение.
– Ты, балам, большой дипломат. Подумай и скажи, чем я могу быть полезен тебе, я весь в твоем распоряжении. До сих пор ты очень умело нес свою службу у Великого бояра и в будущем, даст Аллах, будешь с ним! Говори, не стесняясь, и я буду рад помочь тебе! – говорил мне старый Сердар.
Я начал рассказывать Сердару о том, что думал в эти дни Великий бояр.
– Тайные агенты Керенского могут подпоить георгиевцев и в одну ночь свободно покончить с узниками. Сердар Ага, георгиевцам доверять судьбу заключенных нельзя. Мы должны быть с ними до конца. Узники сейчас беспомощны, как новорожденные дети, – говорил я.
Сердар сосредоточенно слушал меня.
– Хан, сын мой, а что если мы будем просить Керенского об оставлении нас, туркмен, при бояре в Быхове?! Подумай, как можно подействовать? – сказал Сердар.
– Просить Керенского нельзя, он не поймет нас, Сердар Ага, а надо требовать в категорической форме, чтобы он наш полк оставил при Великом бояре! – сказал я.
– Тогда действуй! Я готов поддержать тебя всеми мерами. Поступай, балам, так, как тебе подсказывает твоя совесть. Постарайся, чтобы доброе имя туркмен не было запачкано. Я тебе разрешаю говорить от моего имени там, где это потребуется, чтобы нас оставили при Верховном! – закончил Сердар.
Переговорив об этом со штаб-ротмистром Натензоном, Баба Ханом, Мистуловым и Танг Атар Артыковым, я с легкой душой поспешил в «Метрополь» к Верховному.
В тот же вечер в «Метрополь» специально приехал штаб-ротмистр Натензон и обещал мне, дав честное слово офицера, поддержать меня во всем, в чем я только буду нуждаться.
– Хан, я вам очень верю, Верховного люблю и готов умереть за него! Мой эскадрон всегда к услугам Верховного! – говорил Натензон с влажными глазами.
Я передал обо всем этом Верховному, и он, позвав к себе Натензона, пожал ему руку и поблагодарил его.
После доклада Верховному о моем разговоре с Сердаром он послал меня с письмом к коменданту. Комендант, выслушав меня, попросил отправиться с ним к дежурному генералу Ставки для вручения письма от Верховного и личной передачи ему заявления Сердара. Дежурный генерал, внимательно выслушав меня, обещал сделать все, что в его силах, и сказал, что, переговорив с генералом Алексеевым, он сообщит о результате Верховному.
Весть о переводе узников в Быхов без текинцев произвела на них удручающее впечатление. Некоторым казалось, что теперь уже все кончено и без текинцев георгиевцы в Быхове растерзают узников.
Что пережили узники и мы, туркмены, до ответа от генерала Алексеева, представляю судить читателю.
У меня даже созрел план на случай отказа текинцам в охране узников. План этот заключался в следующем: в Быхове или близ него держать нужное количество джигитов по частным домам. Эти джигиты должны были уволиться из полка в отпуск и поселиться в тех местах, где им будет указано, и жить там, негласно, а в критический для узников момент – ворваться в тюрьму, вырезать георгиевцев и освободить узников во главе с Великим бояром.
Своим планом я поехал поделиться со старым Сердаром.
– Подожди, сын мой, что скажет Керенский. Если будет от него ответ недобрый, то эта идея хороша, и мы будем готовиться к ней, – сказал Сердар, выслушав меня. А затем, подумав, в свою очередь предложил:
– А что, Хан, если мы всех узников переоденем в халаты и выпустим на волю, пока они еще сидят в «Метрополе»?
Вернувшись, я доложил о наших планах Верховному, который, поблагодарив меня и всех сочувствующих ему, сказал, что он, как честный солдат, этого сейчас сделать не может, так как хочет ждать суда. Если же он будет уверен, что никакого суда над ним не будет и что это тоже одна из подлых выдумок Керенского и если будет грозить опасность жизни доверившихся ему людей, то эту идею бегства он с большим удовольствием использует.
– Бежать мне, это дело нетрудное, но я боюсь за судьбу офицеров, еще оставшихся на фронте. Их может перебить чернь. За свою личную жизнь, Хан, я не боюсь, но когда я думаю о несчастных униженных – об офицерстве, то мне становится больно и страшно. Лучше, Хан, терпеливо будем ждать конца! – сказал в заключение Верховный.
За три дня до перевода узников в Быхов полковник Голицын, комендант и я отправились для осмотра школы, которая, по словам коменданта, исполкомом приводилась в надлежащий вид для узников.
Быхов – старинная польская крепость, находящаяся на высоком и крутом берегу реки Днепра, который в этом месте делает изгибы, что придает реке вид ползущей змеи. Развалины старых стен и башни свидетельствуют о ее былом могуществе и недоступности. Все население этой старинной крепости-деревни состоит из евреев, за исключением нескольких русских семейств. Близость железной и великолепной шоссейной дорог ничуть не способствовала ее оживлению и благоустройству вследствие плохой администрации и к тому же незаинтересованности в этом самих жителей. Кривые и весьма грязные улицы с некрасивыми и неопрятными домами свидетельствовали о неряшливости их обитателей. Мы приехали в Быхов в автомобиле. Первое впечатление было отвратительное. Школа, по словам исполкома приготовленная для приема узников, была совсем непригодна для жилья. Она стояла у самой стены крепости, на высоком холме, так что с одной стороны открывался чудный вид на Днепр и леса, находящихся за ним, а с другой лежали грязные улицы, дома и дворы. На некоторых окнах были сделаны решетки. Мебели также было очень мало: парты, старые табуретки, и лишь в нескольких комнатах были кровати с соломенными матрасами. Печи были не исправлены, несмотря на то, что уже наступили холода. Возмущенный состоянием этой школы полковник Голицын спросил коменданта:
– Почему здесь все в таком беспорядке и неужели исполком думает перевести живых людей в эту яму, где и покойников поставить было бы противно?!
Комендант успокаивал Голицына тем, что все будет исправлено.
Накануне перевода узников мы все втроем опять приехали в Быхов. Я пошел выбрать комнату Верховному. Каково было мое разочарование, когда я застал школу в таком же состоянии, как и в первый раз. На мой вопрос, почему ничего не исправлено и неужели комендант не мог принять нужные меры, он ответил.
– Дорогой Хан, с этой сволочью ничего не поделаешь, никто из заседающих в исполкоме пальца о палец не хочет ударить, да, говоря правду, и я не хочу надоедать им, боясь этим ухудшить положение узников! – откровенно признался комендант.
Мы с Голицыным выбрали угловую комнату для Верховного, выходившую окнами на Днепр.
По возвращении нашем в «Метрополь» узники засыпали нас вопросами о Быхове. Не зная, что ждет их в будущем, они нервничали.
За день до перевода в Быхов Верховный мне сообщил, что текинцам разрешено остаться при нем.
Пришло приказание исполкома, чтобы при переводе арестованных из «Метрополя» в Быхов их сопровождала рота георгиевцев и сорок человек текинцев, несущих сейчас охрану в «Метрополе». Узнав об этом, Верховный сказал мне, посылая с письмом к дежурному генералу:
– Если от георгиевцев будет рота, то текинцев должно быть не меньше эскадрона, а то и два, если возможно. Постарайтесь, голубчик Хан, и вы помочь в этом направлении.
После долгой и усиленной переписки узников со Ставкой, Ставки с Петроградом, дежурного генерала с генералом Алексеевым, коменданта с исполкомом с величайшим трудом удалось наконец вырвать разрешение на один эскадрон. Получив это разрешение, комендант немедленно приехал в «Метрополь», чтобы известить меня об этом.
– Ну, Хан, голубчик, как вы хотите, а я уж с ними больше общаться не буду! С этими зазнавшимися рабами разговаривать невозможно, – говорил, после беседы с товарищами, комендант, вытирая свой лоб платком и имея вид человека, только что выскочившего из жаркой бани.
В темную сентябрьскую ночь полк опять растянулся шпалерами от «Метрополя» до вокзала. На улицах, благодаря позднему часу, почти не было движения. Весь город спал. Звезды на небе слабо мерцали – близилось время рассвета. Прибыв на вокзал, Верховный со своими спутниками поместился в вагоне второго класса, специально приготовленном товарищами для арестованных. Во время посадки текинцев произошел маленький инцидент, окончившийся благополучно.
Присутствовавшие при посадке два члена исполкома вдруг обратились ко мне:
– Что же вы, корнет, на роту георгиевцев берете больше 250 человек текинцев? Как это понять? Будьтедобры, объясните нам.
– Здесь много лишних людей, например кашевары, кузнецы, вестовые, фуражиры, портные, сапожники и т. д. Все они должны будут возвратиться из Быхова, как только там устроятся узники! – успокоил я их.
Выслушав мое длинное объяснение и доказательства, товарищи, сомнительно покачав головами, произнесли:
– Ой, что-то здесь не так! – и удалились.
В это время посадка уже закончилась, и мы двинулись в путь.
Да простит мне и Сердару Аллах! Поезд тронулся. Все собрались в коридоре вагона и начались расспросы о Быхове.
– Хан, голубчик, расскажите нам еще раз, что представляет из себя Быхов. А туркмены там так же будут бодры, как до сих пор? Не боитесь ли вы, что их смогут разложить георгиевцы? Вы их хорошо знаете, скажите нам правду! – просил меня капитан Брагин.
– Туркмены любят и верят Верховному. Верят они искренно. Если они дали слово охранять его и быть с ним всюду, то, я надеюсь, не переменят свое решение, так как у чистокровных туркмен не должно быть двух слов. Кроме того, у туркмен существует обычай не выдавать того, кто к ним обращается за помощью. Верховный есть наш гость, а вы – гости Верховного! Гость для туркмена – неприкосновенное лицо, – ответил я.
– Дай Бог, дорогой Хан, чтобы было все так, как говорите вы нам. Если Господь даст, Верховный останется жив, то все мы и мыслящая Россия будем благодарны вам, текинцам! – говорил донской писатель есаул Иван Александрович Родионов.
– Что, что говорит Хан? – спросил вышедший в коридор вагона Кзыл Юзли с лицом уже бронзового цвета.
Когда ему передали, о чем говорил я, он, выпуская клубы дыма и сдвигая брови, произнес:
– Дай Бог, дай Бог, Хан!
– Что вы, Хан, митингуете? – спросил, подходя к нам, Верховный и, узнав в чем дело, сказал: – Да, Хан предсказал мне, что я еще буду ездить на моей лошади. А, в общем, наш Хан не теряет бодрости!
– Ваше Превосходительство, тогда и мы потеряли бы ее! Ведь правда, «Иншалла, все будет хорошо?!» – говорил Аладьин, хлопая меня по плечу.
Между прочим, в пути капитан Брагин предлагал мне из бывших при нем денег крупную сумму для раздачи джигитам на случай, если кто-нибудь успеет разложить их и внушить бросать охрану заключенных, но я успокоил его, сказав:
– Александр Павлович, поверьте, мы и без этого останемся при Верховном.
Через час поезд остановился на станции Быхов. Всем прибывшим были поданы извозчики, кроме Верховного, который с генералом Лукомским поехал в автомобиле коменданта Ставки.
Приехав в школу, место заключения Верховного, я, как уже бывший здесь, показывал дорогу.
– Ваше Высокопревосходительство, налево и ваша комната здесь! – указал я, сопровождая Верховного на второй этаж.
Войдя в свою комнату и остановившись на средине ее, Верховный шутливо обратился ко мне и полковнику Голицыну:
– Наверно – это лучшая комната?
Быстро раздевшись, он отправился в коридор посмотреть, как размещаются прибывающие. В коридоре была суматоха. Стоял шум от говора и расспросов постепенно прибывавших и искавших для себя уголка.
В Быхов приехали не все арестованные, так как часть из них, например полковники Плющевский-Плющик, Сидорин, Шайтанов, Каитбеков и др., были освобождены.
Кзыл Юзли занял комнату напротив Верховного, отказавшись от предложения его поселиться в комнате с ним вместе. Постепенно все разместились. То здесь, то там слышались вопросы заключенных, задаваемые один другому:
– Ну, как вы устроились и с кем?
– А вы, Ваше Превосходительство, как? Довольны своей комнатой? – спрашивал Роженко Кзыл Юзли, который, пуская клубы дыма, рассеянно и нехотя ответил:
– Да, ничего! Вот она, как изволите видеть!
Лицо его от бессонных ночей покрылось морщинами и было угрюмо. Нахмурив лоб, он пошел вдоль коридора, думая тяжелую думу и то и дело выкуривая папиросу за папиросой. А Верховный в это время стал обходить комнаты, желая узнать, кто и как устроился.
– Ах, как хорошо у вас, господа, – говорил Верховный, входя в комнату, где помещались капитан Брагин, есаул Родионов и г. Аладьин. – О, да у вас роскошная мебель – парты! – воскликнул он, шутя.
В комнате Верховного не было кровати, а потому мы, отыскав у жителей Быхова старый, развалившийся клеенчатый диван, притащили его в комнату и поставили к стенке у окна, чтобы он не упал. Этот диван в первое время служил Верховному и постелью, и диваном при приеме гостей из соседних комнат во время чрезвычайных совещаний.
Верховный со дня приезда в Быхов раза два обедал в столовой, а потом стал обедать и ужинать у себя в комнате, куда ему все приносилось Реджэбом.
Свое время Верховный распределил так: с утра до обеда читал иностранные сводки, следил за боями на Западном фронте и делал свои заметки. Большую часть этого времени он проводил за картой. После обеда он ложился на диван и, закрывая глаза на минут 30, отдыхал, но таких дней за все сидение в Быхове я заметил немного. Он выходил на прогулку, а после ужина садился и писал письма или же свои мемуары. На мой вопрос, заданный Верховному, почему он не пишет днем, я получил ответ:
– По ночам, Хан, тишина, и создается особое настроение писать.
У Верховного начали уставать глаза от мерцания свечей, а потому в одну из поездок в Могилев я купил ему лампу.
Несмотря на то, что по ночам уже были холода, печив школе не топились, так как их долго не исправляли, а потому на ночь Верховного приходилось укутывать в туркменскую бурку и шинель. С большим трудом и за большие деньги пришлось нанять уже зазнавшихся рабочих чтобы исправить кухню, печи и вообще все необходимое, а то приходилось обед получать из Могилева. Привозили его на автомобиле и, конечно, холодным. На подогревание его уходило слишком много времени и труда.
Верхний и часть нижнего этажа были заняты заключенными. В двух комнатах помещались несшие внутреннюю охрану туркмены. В одной из свободных комнат жили офицеры георгиевцы и офицеры туркмены, в другой – георгиевцы. Внутреннюю охрану несли текинцы, а внешнюю – георгиевцы.
Отец и сын
С Верховным в Быхов, как я уже говорил, прибыли два эскадрона, а именно второй эскадрон с его командиром ротмистром Натензоном и 3-й – с командиром Бек Узаровым, искренно преданным Верховному, и с веселыми и храбрыми офицерами, прапорщиками Баба Ханом Менглихановым и Генэ Мистуловым.
Комендантом Быхова Верховный неожиданно назначил полковника Григорьева, случайно приехавшего в Быхов. Это назначение на такой ответственный пост в исключительно тяжелое время такого легкомысленного и не имеющего никакого авторитета в глазах туркмен интригана и недоброжелательно настроенного к Верховному человека подействовало на туркмен удручающе. Это назначение было равносильно тому, что во главе львов Верховный поставил лису с бараньей головой. Меня стали упрекать как офицеры, так и джигиты в том, что я способствовал его назначению, а когда узнали о моей непричастности к этому, то еще сильнее упрекали за то, что я, как человек близкий к Верховному, вовремя не предупредил его. Когда же я объяснил им, что я не имею никакого нравственного права говорить Верховному о ком бы то ни было из чинов полка, будучи сам офицером этого полка, и что, кроме того, не имею привычки вмешиваться в распоряжения Верховного, ибо он сам, как полководец, больше знает людей и, очевидно, назначая полковника Григорьева комендантом, он имел свои соображения, – туркмены успокаивались мало.
– Ай, Хан, я боюсь, чтобы Григорьев не подвел Верховного! – говорил в отчаянии Баба Хан.
Как мы узнали потом, полковник Григорьев сумел проникнуть в среду узников и, снискав их доверие, убедил, что он создал наш полк и что он самый старый офицер его. Узники доложили об этом Верховному, который потому и назначил его комендантом Быхова.
Верховный с первого дня приезда в Быхов вследствие упорной работы ложился спать почти каждую ночь очень поздно. В одну из таких ночей я, лежа на скамейке, служившей мне постелью, которая находилась под большим окном в коридоре между дверью Кзыл Юзли и Верховного, услышал голос Верховного, зовущего Реджэба. Разбудив спавшего богатырским сном Реджэба, я послал его к Верховному. Сонный Реджэб, протирая кулаком свои глаза и торопясь на кухню вскипятить чай для Уллу бояра, задержавшись около меня, сказал:
– Бэ, Хан Ага, Уллу бояр очень любит чай пить! Час тому назад я подал ему полную тюмчу чая, а он сейчас опять хочет. Он пьет чаю больше даже самого Сердара!
Услышав разговор, Верховный вышел в коридор и, увидев меня, очень удивился.
– Где же вы, Хан дорогой, спите? – спросил он меня. И, узнав, что я сплю со дня приезда в Быхов за его дверью на скамейке, сказал:
– Пожалуйста, Хан, устраивайтесь в комнате у меня безо всякого стеснения. Ведь вы член нашей семьи!
Поблагодарив его за внимание, я наотрез отказался от его предложения, ссылаясь на то, что мне и здесь хорошо. Постояв с полминуты молча и как бы вспомнив о чем-то, Верховный обратился ко мне:
– Кстати, Хан, я хотел сегодня поговорить с вами, да забыл. Я знаю, что вы вконец измотались. Но что я могу сделать, голубчик, когда у меня нет человека, которому бы я мог доверять так же, как вам. Вам же я верю, как своему сыну. Дело, видите ли, вот в чем: я и все находящиеся здесь желали бы продолжать поддерживать связь с внешним миром. Многие из арестованных, оторванные от семьи и знакомых, начинают нервничать. Я лично тоже хочу беспрерывно поддерживать связь со Ставкой, с иностранной миссией, посылать в разные места в России людей, письма и получать ответы. А самое главное, от чего зависит наше благополучие здесь, это зорко следить за оставшимися туркменами в Могилеве и по мере возможности оградить их от вредной агитации товарищей, дабы и они не разложились и не заразили бы и наших джигитов. Зная ваше влияние на джигитов, я остановился на вас и прошу нам всем помочь. Если вы согласны, то завтра я попрошу вас проехать в Ставку! – закончил Верховный.
– Благодарю, Ваше Высокопревосходительство, за ваше ко мне доверие. Если я смогу принести хотя бы малую часть пользы общему делу, я готов на самопожертвование! – ответил я.
Во время нашей беседы неожиданно из-за туч выползла луна, осветив через большое окно коридор и фигуру Верховного, стоявшего на пороге открытой двери своей комнаты.
– Ого, как ярко светит луна! Как в Туркестане в степи! – промолвил он, очевидно, вспомнив о прелести степной тишины во время такой лунной ночи, как сейчас.
На мой вопрос о семье Верховный ответил:
– Семья-то, Хан, слава Богу, ничего! Устроилась! А вот положение России осложняется. Идет новая беда – большевизм. Это страшно!
– Неужели, Ваше Высокопревосходительство, нельзя предотвратить ее? – спросил я.
– Вот видите сами, Хан, как ее предотвращают, – так, что мы с вами сидим здесь!.. Все это работа немецких рук и их ставленников! Боясь нашей армии, немцы разложат ее окончательно. Еще есть время и надежда спасти армию и страну из рук этих подлых людей и от коварных замыслов кайзера. Но нужно спешить. Ах, негодяй, негодяй! – произнес он, очевидно, по адресу нового «диктатора» России, войдя в свою комнату.
Сосредоточенно пройдя несколько раз из угла в угол почти пустой комнаты, он опять вышел в коридор и спросил меня о Реджэбе, а также и о том, как разместились джигиты и георгиевцы.
– Я не могу выйти отсюда, чтобы посмотреть, как разместились люди, как живут и чем питаются. Вы будьте добры, сами завтра обойдите их и, если что не так, скажите мне.
В это время показался Реджэб.
– Эй, Реджэб батыр, готов ли, наконец, твой чай? Я думал, что тебя увели персы! – обратился к нему на туркменском языке Верховный.
Реджэб, услышав слова Верховного, так сильно расхохотался, что разлил половину чая, с трудом им вскипяченного. Верховному и мне пришлось унимать его, боясь, что своим смехом он разбудит спящего Кзыл Юзли.
– Эй, бояр! – проговорил Реджэб, ставя чайник на стол. – Ты сам говоришь, что я батыр, а как же персы могут увести батыра?! Текинца они увести не могут… Сам Аллах создал этот народ для того, чтобы текинцы уводили их и продавали.
– Конечно, конечно, я знаю, что туркмены – батыры! – смеялся Верховный, не ожидавший такого ответа.
– Ты, Реджэб, хотя бы один раз в сутки вызывал Верховного на смех так, чтобы он засмеялся от души! Ты должен знать, что веселый смех – залог бодрости! – советовал я ему, когда он вышел в коридор.
– Я, Ага, так и делаю. Вчера он, когда я после обеда подавал чай, спросил об обычаях туркмен при женитьбе. Я ему рассказал одну историю из моей личной жизни. Слушая, Верховный хохотал до слез, – говорил сметливый Реджэб.
После этого мы не спали и, совершив омовение с Реджэбом, помолились, а потом сошли вниз в караульное помещение пить зеленый чай с Баба Ханом, который в эту ночь был дежурным.
– Хан, дорогой друг! Пока мы вблизи Уллу бояра, если, конечно, Аллах не отнимет душу у нас раньше, чем у Верховного, мы общиплем крылья той птице, которая дерзнет перелететь над головой Верховного. Не беспокойся, я тебе в этом даю слово Баба Хана! – говорил он, успокаивая меня, когда я просил его быть бдительным в моем отсутствии.
Я таким и знал Баба Хана по совместной службе в эти черные дни. Я верил ему и любил его.
Уезжая из Быхова в Могилев, я всегда сам себя успокаивал, говоря, что слава Аллаху – в Быхове находятся Натензон, Баба Хан и Мистулов, а на небе – Сам Всесильный Аллах, значит, нечего беспокоиться за судьбу узников.
Спустя неделю после нашей ночной беседы с Верховным я должен был взять на себя обязанность служить живой связью между узниками и внешним миром. Узники были обрадованы тем, что эту задачу Верховный возложил на меня, и каждый из них, не утая ничего от меня, без всякого стеснения, как своему родному давал поручения. Получая от узников письма и устные поручения, я выезжал из Быхова в Могилев на своем сером жеребце, который делал аккуратно 40 верст в четыре часа. К одиннадцати часам я приезжал в Могилев и сейчас же отправлялся в Ставку, заходил к семьям заключенных, вручая им письма и получая от них ответы, делал покупки, бывал в полку у Сердара, а вечером опять ехал в Быхов, но уже на моем булане, который ухитрялся делать это расстояние в 3 часа 50 мин. Возвращаясь поздно вечером, поделившись с Верховным впечатлениями о Могилеве, Ставке и о полке и собрав поручения на завтра, я тотчас же отправлялся спать и засыпал как убитый. А рано утром снова в путь, и снова то же самое, что и вчера. Больше всего времени я тратил на поездку на вокзал, до которого от центра города было довольно далеко. Нужно было не опоздать, чтобы вовремя атаковать молодую газетчицу. Говорю «атаковать» потому, что приходилось брать газету с боем. Время для России было очень интересное, и читать обывателю было что. Особенно пассивного обывателя интересовала судьба узников и дальнейшая роль самого «диктатора». Поэтому за полчаса до прихода поезда стекалось на вокзал такое количество народу, что если заранее не занять удобную позицию, останешься без газеты. Чтобы не приезжать в Быхов с пустыми руками, мне приходилось ехать на вокзал за час до прихода поезда и выбирать позицию, чтобы первым вцепиться в газеты раньше самой хозяйки и на лету кричать ей о числе захваченных газет, чтобы завтра расплатиться. Получив самое главное – радость победы, я уже спокойно ехал в город, чтобы быстро все покончить, а затем спешить в Быхов.
Разумеется, эти поездки были не из легких, и Верховный однажды, заметив мой утомленный вид, сказал мне:
– Хан, дорогой, ради Бога, совершайте свои рейсы в автомобиле коменданта ставки, так как я боюсь, что вы скоро свалитесь.
Эта идея Верховного была хороша, пока комендант ездил в Быхов ежедневно, но когда он начал ездить раз в неделю, а иногда в две недели раз, то мне приходилось бегать то в Ставку, то в офицерскую столовую и искать случайно отходящего в Быхов автомобиля. Это еще больше увеличило хлопоты. В поезде совершать путешествие почти не удавалось, так как в Ставке не сразу давали мне ответы, да и в полку иногда задерживался так долго, что поезд уходил. А автомобиль, если и находился, то он зачастую бывал битком набит, и мне приходилось ехать на его «крыльях». Продолжительная дорога, холод, теснота, неудобство, а, главное, голод, ибо время обеда в офицерской столовой часто приходилось пропускать, – все это расшатало мне нервы.
Верховный, узнав об этих трудностях и поговорив с полковником Новосильцевым (председателем союза офицеров), снабдил меня письмом на имя полковника Каит Бекова (помощника Новосильцева), который должен был помочь мне поддерживать связь узников с внешним миром. Полковник Каит Беков с радостью пошел мне навстречу. Он отвел мне одну комнату в номерах гостиницы «Франция», где жил сам он и семьи многих узников. В этой комнате я должен был принимать посетителей, приезжавших из разных мест России с поручением к Верховному и желавших попасть в Быхов, а также принимать письма и вещи от родственников и знакомых заключенных. Таким образом, комната эта явилась местом свидания для едущих в Быхов офицеров, складом для вещей, предназначенных узникам, адресом для Ставки и иностранной миссии и главным образом местом собрания как самих офицеров-туркмен, так и джигитов.
Жизнь в Быхове текла своим чередом. Обедали узники все за общим столом, за которым присутствовал иногда Верховный, а после приезда бердичевской группы обвиняемых он стал обедать один в комнате. Обед привозился первое время из Могилева, а когда была исправлена кухня, то готовился на месте. После обеда все узники имели право гулять в запущенном саду, окружавшем школу. Во время прогулки они разбивались на группы или обступали со всех сторон Верховного, слушая его интересные рассказы о событиях на Западном фронте у союзников. Благодаря тому что внутреннюю охрану несли текинцы, узники свободно могли сообщаться друг с другом и, собираясь каждый вечер в одной из комнат, они по очереди читали лекции, занимались английским языком или просто беседовали, чтобы рассеять тоску и скоротать время.
На дворе стояла глубокая осень. Земля была покрыта опавшими листьями, как ковром. Вид голых деревьев не радовал взор. И без того неприветливая школа-тюрьма с наступлением этого времени приняла еще более угрюмый вид.
Несмотря на то, что теперь каждый из узников мало-помалу приобретал все необходимое через своих знакомых и родственников и связь с ними была налажена хорошо, все же настроение их было подавленное. Темная неизвестность будущего как червь точила их душу. Они тревожно и с большим вниманием прислушивались к новостям извне. Каждая мелочь, приятная или неприятная, сильно их волновала. Услышав шум подъезжавшего к их тюрьме автомобиля или экипажа, они тревожно бросались к окнам, чтобы посмотреть, кто приехал и что привез нового и успокоительного. Узнав какую-нибудь новость, они спешили поделиться друг с другом ею и своими впечатлениями.
В начале октября в Быховскую «тюрьму» привезли бердичевскую группу заключенных. Прибыли они в ужасном виде.
– Какая здесь у вас благодать! Какое счастье, что вы окружены верными людьми. Бесконечно рад вас видеть среди ваших текинцев, Ваше Превосходительство, особенно в такое время! – говорил генерал Орлов Верховному, вытирая часто свой глаз, который чуть-чуть не был выбит чернью, когда их вели по улицам Бердичева.
– Какие унижения, оскорбления и издевательства испытали мы от своих же русских, пока добрались сюда! – говорили генералы Эльснер и Орлов Верховному.
Глаз генерала Орлова был красен от кровоизлияния и вокруг него был большой синяк. Генерал Эльснер рассказывал, как жители Бердичева и солдаты бросали в них камнями, требуя самосуда. Слушая рассказы новоприбывших, Верховный глубоко вздыхал.
Приезд новых лиц и особенно присутствие генерала Маркова внесли новую и свежую струю в однообразную и тяжелую жизнь узников. Во время прогулок узников по саду я часто видел генерала Маркова прыгающим в чехарду, – он и ввел здесь эту игру. Конечно, ему также тяжела была эта жизнь, но он своими веселыми шутками и живым характером старался поддерживать бодрое настроение узников. Иногда, шутя со мной, он говорил:
– Ну, Хан, когда вы нам разрешите разъехаться по домам и поблагодарить вас за ваше милое гостеприимство?!
Октябрь принес новое осложнение, новые переживания, тоску и печаль узникам, а в особенности Верховному, который все это переживал не так за себя, как за заключенных с ним. Верховный в этот месяц перенес немало огорчений и лишений. Октябрьские дни для него были самыми тяжелыми днями в его жизни. Дело в том, что после приезда бердичевских узников начались со стороны сочувствующих им постоянные посещения в Быхове и чрезмерное злоупотребление любезностью коменданта Ставки, дававшего им разрешение на свой страх и риск. Однажды, встретив меня, он сказал:
– Хан, я боюсь, что узников отправят еще подальше. Нельзя же в самом деле так злоупотреблять такими частыми поездками в Быхов! Ведь эти господа не понимают, что частыми приездами в Быхов они могут обратить внимание товарищей на заключенных, и тогда в один прекрасный день узников отправят в Петроград или еще куда-нибудь подальше. Вы, дорогой, самое близкое лицо Верховного и предупредите узников, ради Бога, чтобы они попросили своих близких посещать их не чаще двух, трех раз в неделю. Ох, боюсь, боюсь, Хан!!
Я все это передал Верховному, который согласился с комендантом и обещал переговорить лично с каждым.
Я состоял главным образом при четырех генералах: самом Уллу бояре, Кзыл Юзли бояре, генерале Романовском и генерале Эрдели. Они все, за исключением генерала Эрдели, усиленно поддерживали связь со Ставкой. Верховный всегда писал письма и получал ответы от генерала Духонина.
Было это приблизительно в половине октября (если не ошибаюсь), когда я, возвратясь из Могилева, хотел пройти к Верховному, но был остановлен генералом Романовским, который вдруг задал мне такой вопрос:
– Вы, дорогой Хан, ничего не слыхали об уходе текинцев? Как они у вас в Могилеве? Мы слышали, что среди них идет брожение. Это правда?
Получив от меня успокоительный ответ, он продолжал свою прогулку по коридору с Кзыл Юзли.
Конечно, при таких обстоятельствах жизнь заключенных становилась с каждым днем все более и более тревожной. Не помогали поднятию настроения вечерние лекции, уроки английского языка, интересные рассказы капитана Брагина и А.Ф. Аладьина.
Все эти волнения и разговоры заключенных сильно действовали на Верховного, и без того страшно много переживавшего в эти дни. Он чувствовал себя невольным виновником их сидения здесь. К тому же опять начавшиеся сплетни в полку также не могли радовать его. Войдя к нему, я застал его сидящим за столом над картой.
– А, дорогой Хан! Здравствуйте! Садитесь. Я хочу поговорить с вами, – сказал он, пожав мою как лед холодную руку. Я сел.
– В полку все благополучно? – задал он вопрос, пронизывая меня насквозь своим взглядом.
– Слава Богу, все обстоит великолепно, Ваше Высокопревосходительство! – ответил я.
– А Могилев?
– Я бываю каждый день среди офицеров-туркмен и их джигитов! Ничего недоброго мое сердце не чувствует! – ответил я.
– А верите ли тому, что джигиты 1-го и 4-го эскадронов вне влияний товарищеских агитаций и останутся до конца с нами? – опять пронизывая меня своим взглядом, спросил Верховный.
Я быль удивлен этим вопросом и повышенным настроением Верховного, но, не задумываясь, ответил:
– Да, они останутся с вами до конца!
– Благодарю, Хан, я вам верю! – произнес Верховный и начал говорить: – Дело, видите ли, вот в чем. Сегодня у меня был полковник Григорьев и сообщил, что Ураз Сердар допустил какую-то бестактность в отношении офицеров первого эскадрона и просил меня, чтобы я принял срочные меры против джигитов четвертого эскадрона, которые, по словам Григорьева, разложились окончательно и пытаются разложить джигитов первого эскадрона, и что Сердар по своей пассивности никаких мер против агитации джигитов не предпринимает. Я ждал вас и хотел узнать ваше мнение. Слава Богу, Хан, вы меня успокоили. Завтра приедет полковник Кюгельген. Я его вызвал! – закончил Верховный.
Успокаивая Верховного, я сказал ему, что никаких мер не требуется для успокоения джигитов. Мое предчувствие говорит, что Иншалла! Все будет хорошо! Верховный засмеялся, говоря: «Дай Бог, дай Бог, Хан!» и, быстро повернув голову и взглянув на икону, стоявшую на столе, которую он получил от какого-то монастыря (сейчас не помню его название), сказал:
– Хотел послать в ваш полк эту икону, но когда вспомнил, что он состоит из мусульман, то решил послать ее в Корниловский ударный полк.
Побыв с Верховным с полчаса и доложив о моих впечатлениях о Могилеве и Ставке, я вышел с тем, чтобы вручить письма и газеты узникам. Узнав о роли полковника Григорьева, который, вместо того чтобы действовать на узников успокоительно, старался встревожить их душу сплетнями даже в такое тяжелое время, я, идя по темному коридору в тяжелом раздумье, говорил сам себе: «Аллах, Ты сам все видишь!»
На другой день после разговора с полковником Кюгельгеном я застал Верховного еще более взволнованным. Увидя меня, он сказал:
– Черт знает, Хан, что творится в вашем полку! Это какая-то яма. Как этот полк просуществовал до сих пор, имея у себя таких офицеров, только Бог знает это. Я приказал, чтобы полковника Эргарта с его эскадроном прислали сюда. Я нахожу, что будет лучше, если этот господин будет находиться ближе ко мне. Черт знает как Кюгельген держит полк, допуская в нем всякие сплетни среди подчиненных ему лиц, да еще в такое время. Я возлагал большие надежды на полк в Могилеве, а он оказывается вот какой!.. Да… рыба портится с головы. Я джигитов ничуть не виню, а виню всецело командира, что распустил офицеров… Я не верю этому болтуну Григорьеву. Старый сплетник! Что вы скажете о нем, Хан? Вы же их всех знаете больше, чем я!
– Что бы вы, Ваше Высокопревосходительство, сказали на моем месте? – ответил я.
– Вы, Хан, упорно не хотите говорить мне о тех господах, которые сейчас вносят смуту в нашу жизнь, и без того нелегкую. Я понимаю вас, конечно, – вам тяжело говорить худое о своих, но все же необходимо изолироваться от таких господ вовремя! – закончил Верховный и глубоко вздохнул.
– Ваше Высокопревосходительство, я прошу вас меньше уделять внимания этим лицам и быть вполне спокойным. Этим вы дадите возможность верящим вам со спокойной душой довести эту тяжелую задачу до счастливого конца. Даю вам слово сына, что со стороны туркмен опасность не грозит и мое сердце, которому вы верите, совершенно спокойно, и я надеюсь, Иншалла, все будет хорошо, – и слезы выступили из моих глаз.
Верховный встал и, подойдя ко мне, погладив по голове, сказал:
– Ну-ну, Хан. Я верю вам и вашему сердцу. Я спокоен, когда вы около меня. Ну, ну… Вот я получил от Таисии Владимировны письмо, в котором моя семья посылает вам искренний привет. Прочтите. Вот здесь печать Юрика – от пальцев, – говорил Верховный, тронутый моими искренними словами.
Опасения Квашнина-Самарина за судьбу узников оправдались очень скоро.
В один прекрасный день, во время послеобеденного отдыха на диване, сладкий сон Верховного был нарушен неожиданно незнакомым женским голосом, говорившим:
– О, как здесь хорошо! Да они живут здесь, как в хорошем отеле, а не в тюрьме!
Открыв глаза, Верховный увидел пред собой вертлявую и стриженую женщину-еврейку в сопровождении какого-то полуштатского типа, очевидно, члена исполнительного комитета. На его вопрос, кто она такая и как она попала в его комнату без разрешения и что ей нужно, она, не обращая внимания на вопросы Верховного, начала что-то быстро писать, держа себя вызывающе.
– Сударыня, потрудитесь сию же минуту оставить меня, иначе я принужден буду вас арестовать! – произнес Верховный, выведенный из себя бесцеремонностью этой непрошеной особы.
– Я корреспондентка из Петрограда, – вздумала было она возражать, но, увидев появившегося на пороге Реджэба и оскал его зубов, поспешно покинула Верховного.
Желая узнать, каким образом без его разрешения комендант Быхова пустил к нему эту нахальную особу, Верховный приказал позвать полковника Григорьева, который в это время сидел за бутылкой коньяка, ничего не зная о происшедшем.
– Хорош вы комендант, когда не знаете, что делается у вас под носом. Ведь таким образом вы можете пропустить не еврейку-корреспондентку, а десяток товарищей, которые разделаются с нами в одну минуту, а вы об этом также знать не будете, занятые своим приятным делом. С этой минуты вы не комендант. Вы, полковник Григорьев, свободны!
Под впечатлением происшедшего Верховный хотел сдать комендатуру в руки полевого коменданта, который был назначен своим корпусным командиром, комендантом всего Быховского района. Я удержал Верховного от этой мысли, говоря, что это назначение вызовет некоторое недовольство среди джигитов полка.
– Ради честной и преданной службы джигитов лучше этого не делать. Из-за одного лица падет тень на всех джигитов полка, и самолюбивые джигиты будут убиты этим вашим действием, Ваше Высокопревосходительство, – говорил я, прося Верховного.
Верховный, возмущенный поступком Григорьева, сильно волновался и, не возражая мне, встал и сосредоточенно начал шагать по комнате взад и вперед.
– Да, я с вами согласен, Хан. В самом деле, текинцы обиделись бы, – сказал он, приостановившись, и опять продолжал ходить.
Вошел Кзыл Юзли, и я вышел.
Как я узнал на другой день, Верховный назначил комендантом другого старшего офицера полка, полковника Эргарта, а Григорьева командировал с поручением в Ахал для набора новых джигитов. Когда я, удивленный данной Григорьеву командировкой, спросил Верховного, что побудило его послать Григорьева, он меня успокоил, сказав:
– Я знаю, Хан, что он там ничего не сделает, но я придумал эту командировку для того, чтобы безболезненно изъять его отсюда. Я назначил комендантом полковника Эргарта, и мне кажется, что последний немного серьезнее. Хотя… – Верховный покачал головой… – и на него у меня очень мало надежды! – закончил он.
Результатом григорьевской истории явилось то, что корреспондентка-еврейка, сделавшая визит в Быхов, в самых ярких красках начала описывать жизнь и обстановку заключенных. По ее словам, выходило, что узники живут чуть ли не в раю. Все это еще больше возбуждало темную массу, и без того уже враждебно настроенную против заключенных. Она также написала и о текинцах, якобы они своими налетами и грабежами держат весь Могилев в страхе. По ночам убивают жителей, а днем грабят кур и поросят. «Вообще необходимо принять, как можно скорее меры, для избавления жителей от насилий этих диких азиатов!» – писала она. Эту газету я привез из Могилева Верховному. Прочитав ее, он возмущенно заметил:
– Вот видите, что наделал этот старый сплетник Григорьев. Кажется, нет проще дела, как быть комендантом здесь; а он и этого не сумел вести как следует. Какой срам! А он ведь опытный и старый полковник и имел претензии на что-то большее! Сколько надо усилий, чтобы уладить теперь эту историю!
Действительно, Верховному стоило больших усилий и переживаний улаживание этого дела. Кому только не полетели письма: генералам Духонину, Дитерихсу, дежурному генералу и другим лицам с просьбой оказать содействие.
Не успели узники прийти в себя, как точно громом поразила их новая неприятность, а именно уход Квашнина-Самарина с должности коменданта Ставки и замена его грузином полковником Инскервели, который был настроен большевистски и недоброжелательно к узникам, – и намерение Ставки, под давлением местного совета, перевести узников в глухое местечко Чириков, где находилось много дезертиров солдат. Последнее известие сильно взволновало узников и, конечно, больше всего Верховного, который, отправляя меня в Могилев с письмом, говорил:
– Передайте это письмо и попросите ответа устно, если у генерала Духонина не будет времени для письменного ответа.
Кзыл Юзли просил меня передать письмо генералу Дитерихсу и тоже просил ответа.
– Мне кажется, Хан, Лавр Георгиевич начинает нервничать, не правда ли, а? – спросил генерал Духонин своим тенором, прочитав письмо.
– Поневоле начнешь волноваться, Ваше Высокопревосходительство, когда все сидящие с ним в Быхове обратили свои взоры и надежды только на него! – ответил я.
– Хорошо! Пожалуйста, Хан, передайте Лавру Георгиевичу, что я своевременно приму все меры для предупреждения событий, и попросите его от моего имени, чтобы он не очень волновался. Все пока обстоит, слава Богу, благополучно, – говорил генерал Духонин, запечатывая свое письмо.
Генерал Дитерихс тоже тут же написал ответ. Он почему-то все время покачивал головой при чтении письма Кзыл Юзли бояра.
Получив ответ, Верховный успокоился.
Полковник Инскервелли по вступлении на должность коменданта Ставки, сразу же начал чинить препятствия желавшим ехать в Быхов.
Встретив меня в Ставке, новый комендант обратился ко мне:
– Мне известно, что много лиц попадают в Быхов без моего разрешения, а вы, текинцы, таких лиц пропускаете! Разве вам не известно, что доступ к узникам может быть разрешен только самим комендантом Ставки? Видно, вас Квашнин здорово избаловал. На днях будет мною объявлен приказ начальникам стражи ни в коем случае не допускать лиц, желающих проникнуть к узникам в Быхов, без разрешения коменданта.
– Слушаюсь, господин полковник. А теперь разрешите мне быть свободным? – спросил я.
– Да, вы свободны!
По приезде я передал обо всем Верховному.
– Отлично! Завтра передайте этому типу, чтобы он явился ко мне. Тем более что он еще не представился мне после вступления на эту должность! – сказал Верховный.
На следующий день, придя к коменданту Ставки, я доложил ему:
– Верховный вас просит пожаловать сегодня в Быхов.
– Хорошо, я сам было собирался ехать сегодня! – буркнул он.
По прибытии в Быхов полковник Инскервели первым делом пошел по комнатам караула. Узнав об этом, Верховный приказал:
– Передайте коменданту, чтобы он сейчас же явился сюда. Он еще успеет повидаться с караулом.
Не успев обойти караул, комендант поднялся наверх к Верховному, который встретил его следующими словами:
– Здравствуйте, полковник! До меня дошли слухи, что вы собираетесь притеснять семьи господ заключенных, пожелавших приехать навестить их. Вы что же, не офицер и не понимаете, за что мы сидим? Извольте с сегодняшнего дня не причинять препятствий желающим навестить нас!
Комендант пытался что-то сказать, но Верховный, повысив тон, оборвал:
– Что такое? Вы изволите возражать?! Да я вас сию же минуту прикажу арестовать!.. Потрудитесь исполнить то, что я вам приказываю!
– Слушаюсь, слушаюсь! – отвечал совершенно растерявшийся комендант, сбавив тон и вытянувшись перед Верховным.
Я и Реджэб были готовы при первом зове Верховного арестовать коменданта-большевика. Но – не удалось! Он вне себя вышел от Верховного и, даже не заходя к туркменам, поспешил выехать в Могилев. Никакого приказа так и не последовало, а посетители, избалованные теперь самим же Инскервелли, посещали Быхов еще чаще, чем при полковнике Квашнине.
Каждый раз при моем возвращении из Могилева и появлении среди заключенных они все бросались ко мне навстречу, как дети к отцу, засыпая вопросами: есть ли письма, какие газеты, журналы и какие новости я им привез сегодня, и спокойно ли в полку? Получившие письма на мгновение успокаивались, читая их, а не получившие – грустно уходили в сторону, ожидая, когда счастливцы поделятся с ними новостями. Во время чтения писем, лица одних становились веселыми, а другие хмурились. Мне почему-то всегда хотелось радовать трех лиц: Кзыл Юзли и генералов Кислякова и Романовского. Когда для них не было писем и поручений, то мне как-то самому было тяжело и неприятно ехать в Быхов к ним с пустыми руками. Когда же я мог обрадовать их приятными письмами или известием, то радовался сам, видя их радость. Каждый раз по пути в Могилев я просил Аллаха дать мне возможность порадовать их, а в особенности исстрадавшуюся душу Кзыл Юзли.
Из всех лиц, виденных мною за время пребывания Верховного в Быхове, я не забуду неискренности чинов штаба Британской военной миссии и вынесенного мною оттуда впечатления.
Еще в самом начале по приезде в Быхов Верховный послал меня с письмом к главе Великобританской военной миссии при Ставке, генералу Бартеру. Кроме письма Верховного, меня снабдил рекомендательным письмом полковник Пронин к генералу Базилевскому, состоявшему при иностранной миссии, с просьбой, чтобы последний доверился мне как самому близкому человеку Верховного и узников и передавал через меня письма и сведения о настроении иностранцев в отношении к узникам и текущим событиям.
По прибытии в миссию, представившись начальнику штаба Бартера полковнику Эдверсу, я вручил ему письмо Верховного, прося ответа. Взяв письмо, он отправился к генералу Бартеру, собиравшемуся идти в Ставку (было уже одиннадцать часов утра). Возвратившись назад с письмом Верховного, Эдверс начал искать среди своих бумаг переписку Верховного, когда последний был еще в Ставке, и стал сравнивать ее с письмом, привезенным мною. Главным образом он обратил внимание на подпись, рассматривая ее при помощи каких-то стекол. После долгих и упорных «химических и физических» анализов он от своего имени написал Верховному письмо, прося ответа.
Прочитав письмо Эдверса, Верховный произнес:
– Удивительные люди эти англичане. Ведь им я раньше писал и сейчас пишу, а они до сих пор незнакомы с моим почерком.
Могилев лихорадочно готовился к встрече «победителя» Керенского. Как его встретил Могилев, писать не буду, так как об этом писалось в свое время много. Скажу только, что весь город был иллюминован, улицы полны толпой. Говорили, что в этот день, т. е. в день приезда «диктатора» в Могилев, еврейское население преподнесло Керенскому золотое яйцо на серебряном блюде. Кроме того, в честь Керенского был дан банкет, на который были приглашены кроме чинов Ставки и чины иностранных миссий. На другой день после этого банкета я повез генералу Бартеру письмо, написанное Верховным и Аладьиным. Получив это письмо, полковник Эдверс опять куда-то исчез, очевидно, для сличения подписей и почерка. Возвратившись, он сообщил мне буквально следующее:
– В своем письме генерал Корнилов считает вас за своего сына и поэтому я хочу сказать вам, что ему пожалован королем Великобритании самый высший орден.
Взяв меня за плечо, он подвел к шкафу, где находился в футляре орден, и показал его. На мой вопрос, когда Верховный может получить пожалованный орден, он ответил, что есть надежда, что это будет очень скоро. При вручении этого ордена необходима некоторая церемония, которой нельзя проделать сейчас.
– Передайте генералу Корнилову, что вчера по поводу его у генерала Бартера был разговор с Керенским, который заключался приблизительно в следующем:
– За что генерала Корнилова посадили в тюрьму в Быхове? – спросил Керенского генерал Бартер.
– С изменником родины иначе не поступают! – ответил Керенский.
– Никакой измены я в его действиях не вижу и считаю Корнилова честнейшим человеком и хорошим патриотом, могущим спасти Россию! – возразил Бартер.
– Но какой же он патриот, когда он изменил родине! – опять повторил Керенский.
– Мне кажется, придет время, когда вы поедете в Быхов и на коленях будете просить прощения у этого человека! – закончил генерал Бартер.
На мой вопрос, как реагирует Великобритания на теперешние события и думает ли правительство помочь России, а, в частности, и узникам, Эдверс ответил:
– Мы получили предписание от своего правительства не вмешиваться во внутренние русские дела.
Глядя в его глаза, я прочитал и окончание: «Еще Россия не дошла до положения Персии. Мы придем помочь ей тогда, когда она окончательно развалится и когда русские полки не будут угрожать нашей Индии».
Затем Эдверс просил передать Верховному о желании генерала Бартера приехать в Быхов, чтобы пожать руку ему. Снабдив меня сигарами, газетами и сводками, Эдверс, прощаясь со мной, просил заходить к нему как можно чаще побеседовать, этому он будет очень рад, потому что я хивинец, а он много читал о Туркестане и очень интересуется им.
Узнав от меня содержание нашей беседы, Великий бояр призадумался. Потом, покачав головой, тихо сказал:
– Ах так, они теперь не хотят вмешиваться в наши дела! Спасибо за откровенность! Для меня интереснее знать эти слова, чем получить их орден.
А я про себя подумал: «Обманутая, преданная, униженная и одинокая моя родина, Великая Русь!!»
Неудавшиеся маневры Керенского
Через два дня после банкета, данного Керенскому в Могилеве, я получил от Сердара письмо, в котором он просил меня как можно скорее приехать в полк, так как есть очень важное дело. Я поспешил в полк. Сердар сидел у себя в комнате с каким-то молодым человеком в штатском платье и в студенческой фуражке. При моем появлении Сердар представил своего собеседника мне, причем, обращаясь ко мне, он произнес по-туркменски
– Познакомься с этим господином. Он желает говорить с джигитами полка.
– Ах, это вы Хан Хаджиев?! Очень приятно познакомиться с вами! Я о вас много слышал! Вы, кажется, из Хивы? – обратился ко мне этот господин на чистом татарско-казанском наречии.
Он очень удивился, когда я ответил ему на его родном языке – я говорю по-туркменски, по-таджикски, по-турецки, по-киргизски, по-узбекски, по-казанско-татарски и кое-что по-персидски. Кстати сказать, знание этих языков мне во многом очень помогло и даже спасло мне жизнь в путешествии от берегов Черного моря через Персию до Бухары и от Бухары до Индии, но об этом потом.
На мой вопрос, зачем понадобилось ему беседовать с джигитами, он ответил:
– Я уполномочен центральным комитетом мусульман для переговоров со всеми братьями-мусульманами, состоящими на военной службе в рядах русской армии. Я хочу сказать своим братьям-мусульманам, что для нас настало время всеобщего объединения. Я желаю вывести их из русских полков для создания исключительно мусульманских военных частей. Война для нас, мусульман, закончилась, и мы не обязаны вмешиваться в чужие для нас русские дела, когда у нас есть свои цели, которые теперь надо осуществить. Вот, например, вы, туркмены, зачем вы находитесь здесь и охраняете каких-то русских генералов, которые, спасаясь сейчас за вашей спиной, вас же, при первом счастливом для них моменте, бросят и спасибо не скажут. Все это потому, что вы не понимаете их. Когда была война, мы обязаны были защищать Россию, а раз она кончилась, то все мы имеем право ехать по домам и заниматься своими делами.
Выслушав его, я обратился к Сердару с просьбой не допускать к этому типу ни одного джигита, прежде чем он не скажет нам, офицерам, все то, что хочет сказать джигитам. Все это я сказал Сердару по-туркменски, чтобы гость нас не понял.
Сердар, не зная татарского языка и не поняв потому ни одного слова из сказанного гостем-татарином, спросил меня:
– Что этот молодой человек тебе отбарабанил?
Я ответил, что он все скоро узнает, так как этот господин повторит все сказанное мне на русском языке.
На мое предложение поговорить по-русски со всеми офицерами полка молодой человек категорически отказался, мотивируя тем, что этот полк состоит из мусульман, а поэтому он хочет говорить исключительно с офицерами-мусульманами и джигитами и только по-татарски. Мне пришлось (с разрешения Сердара) объяснить ему, что, во-первых, ни один джигит не знает татарского языка, а во-вторых, у туркмен существует обычай: сначала должны узнать обо всем старшие для того, чтобы объяснить младшим, а потому ни один джигит без согласия и совета своих старших ничего не сделает, несмотря на то, что сейчас революционное время. После этого офицеры-мусульмане были собраны и попросили пришедшего господина говорить с ними по-русски, так как по-татарски они не понимают. Он им то же сказал, что мне и Сердару.
– Нет, балам, – возразил Сердар, выслушав до конца молодого человека. – Нам об этом сейчас нечего думать. У нас есть своя задача, которую мы должны выполнить. Не правда ли, дети? – обратился он к офицерам и те согласились с ним.
– Разреши задать этому господину только два вопроса, – сказал я Сердару и, получив согласие, обратился к гостю: – Есть ли в России достаточное количество мусульманской интеллигенции для всеобщего объединения и дальнейшего самостоятельного существования, да и честно ли вообще все это начинать теперь, в черные дни России? А затем мы дали слово туркмен охранять генерала Корнилова до конца, нарушив которое мы явимся изменниками, и будет ли нам после этого место среди объединенных мусульман?
– Нет! – прервали меня все, заговорив сразу по-туркменски. – Мы и так уже объединены!
– Этого господина, наверно, прислал Керенский! – крикнул подпоручик Танг Атар Артыков.
Подождав немного, пока все успокоились, я обратился к пришедшему:
– Вот вы мечтаете о всеобщем объединении мусульман, а перед приездом сюда не позаботились узнать о психологии и нравах туркмен.
– Хорошо, что джигиты не слышали того, что он говорил нам. Они бы убили его! – заговорили опять офицеры.
Уничтоженный объединитель, не ожидавший такого оборота дела, встряхивая свою фуражку, проговорил:
– Хорошо, хорошо, мы друг друга не поняли… Я желал вам добра, как своим мусульманам, но вы меня не поняли. Тогда разрешите мне взять с собой одного из ваших офицеров, с которым желает поговорить господин Керенский. Это желание господина Керенского, – обратился он к Сердару.
– Хорошо, поезжай, сын мой, Хан, ты! – сказал Сердар.
По дороге на вокзал я узнал, что этот господин был один из членов той делегации, посланной Керенским, которая и разложила третий конный корпус генерала Крымова. Фамилия его была Токумбетов.
По прибытии на вокзал где жил в поезде Керенский, оставив меня перед вагоном Керенского, Токумбетов со словами: «Я сейчас, я сейчас… подождите!» – исчез в нем. Прошло полчаса, а Токумбетов все не возвращался, а вместо него начали появляться краса и гордость русской революции – матросы с налитыми кровью глазами и вооруженные до зубов. Все они рослые как один, в фуражках, лихо сдвинутых на затылок, были пьяны. Пулеметные ленты через плечо, револьверы за поясом и винтовки в руках придавали им разбойничий вид. Очевидно, Керенский, выслушав доклад своего посланца и узнав о непоколебимой верности текинцев своему Уллу бояру, не захотел разговаривать со мной, заранее зная бесполезность этих разговоров, а кроме того, очевидно, боялся открыть свой секрет сыну Уллу бояра – мне.
– Это один из орлов Корнилова! – долетели до моих ушей слова георгиевца, который, указывая на меня, разговаривал с матросами.
Проходивший мимо комендант станции, увидев меня, удивился и спросил, что я тут делаю, и, узнав, в чем дело, посоветовал скорее отсюда уехать. Я последовал совету коменданта и уехал. До сих пор я не знаю, почему меня комендант станции предупредил.
Наступал день отъезда Сердара и Курбан Ага в Ахал. Они ехали, чтобы успокоить Ахал, который желал видеть полк в Ахале, и, кроме того, Сердар должен был привезти запасных джигитов. Мне захотелось порадовать старика Курбан Ага и покатать его в автомобиле, в котором он, кстати сказать, в своей жизни ни разу не ездил. Накануне отъезда, посадив его в автомобиль, я повез старика в Быхов. По дороге у меня мелькнула мысль попросить его посмотреть на узников и определить, кто из них и что из себя представляет. После долгих и упорных упрашиваний Курбан Ага согласился исполнить мою просьбу, но все-таки укоризненно сказал мне:
– Эй, балам, ты думаешь, что я святой или предсказатель?!
Приехав в Быхов, я повел Курбан Ага в сад, где в это время гуляли все заключенные. Окинув всех их быстрым и внимательным взглядом, поглаживая свою длинную бороду, он, указывая на Верховного, произнес:
– Этот сокол!.. А кто это тот, прыгающий сары орус (рыжий рус)? – указал он на генерала Маркова. – Я его не знаю. Он может быть сильными крыльями сокола, а может быть и самым соколом!
Старик замолчал. Потом, взглянув на генерала Деникина, сказал:
– Этот, толстый, – переспевшая тыква, без внутренности!
– А кто же, по-твоему, остальные, Курбан Ага? – спросил я, заинтересованный его своеобразным определением.
– Если хочешь знать правду, балам, то, по-моему, всех нужно продать и за вырученные деньги содержать первых двух! Ну, а теперь вези меня обратно в Могилев! – закончил он.
Уезжавших Сердара и Курбан Ага я проводил на вокзал и с тоской глядел на отходивший поезд, посылая свой привет Туркестану. После их отъезда я вернулся к себе, где застал генералов Разгонова и Потоцкого, родственника генерала Маркова. С генералом Разгоновым я был знаком раньше, и он меня представил Потоцкому.
– Я, молодой корнет, к вам с маленькой просьбой, – обратился ко мне генерал Потоцкий. – Керенский назначает меня начальником карательного отряда, который должен посылаться в Хиву для усмирения иомудов. Я прошу вас ехать со мной, во-первых, как офицера русской армии, а во-вторых, как хивинца, знающего свой народ и страну. Будучи неопытным и не умея отличить иомуда от хивинца, я боюсь пролить невинную хивинскую кровь. Поэтому-то мне и хочется, чтобы вы были со мной.
Выслушав генерала Потоцкого, я ответил:
– Ваше Превосходительство! Мне не хотелось бы вести в Хиву карательный отряд, так как тогда народ увидит во мне палача, а я этого не хотел бы. Да кроме того, можно ли теперь говорить и думать об усмирении разбойников, когда сам господин Керенский выпустил на свободу всех разбойников? Если русские разбойники остались после ряда преступлений не наказанными, а получили свободу, то почему же иомуды, добивающиеся своей самостоятельности от Хана Хивинского, на которую они имеют полное право, должны быть поголовно уничтожены? Я никак не пойму психологии Керенского – с одной стороны, дающего полную свободу, а с другой – отнимающего то, что так недавно щедро и хвастливо дал. Если хотите, Ваше Превосходительство, знать мое мнение, как офицера и хивинца, то скажу вам одно: не вмешивайтесь в дела иомудов. Мне достоверно известно, что они хорошо вооружены и смогут встретить и дать отпор теперь какому угодно отряду. Иомуды еще не забыли море крови, пролитой генералом Мадритовым, и скажу вам заранее, что если вы поедете, то ни вы, ни один из ваших солдат уже не возвратится обратно. А самое главное, Верховный едва ли разрешит мне ехать с вами. Давайте-ка лучше, Ваше Превосходительство, начнем усмирять здешних разбойников, чем ехать за тысячи верст в пустыню искать их. Я думаю и верю, что судьба иомудских разбойников зависит от судьбы русских разбойников!
– Спасибо, корнет, за добрый совет, – сказал генерал Потоцкий и прибавил: – Раньше, не будучи знаком с обстановкой, я соглашался ехать, а теперь, узнав, что мне нужно, конечно, отказываюсь. Благодарю вас за откровенность!
– Конечно, конечно! Вот видите, как корнет искренно и хорошо обрисовал обстановку, и я нахожу, что вам нет никакого смысла ехать за несколько тысяч верст воевать с иомудами. Да Бог с ними! – говорил генерал Разгонов. Прощаясь, генерал Потоцкий обратился к генералу Разгонову:
– Уж больно казаки рвутся в Хиву, а на фронт не хотят!
– Мало ли что рвутся – они ничего не понимают, зато вам теперь все ясно! – возразил генерал Разгонов.
«В Хиве и у туркмен уже ничего не осталось для грабежа казакам. Все дочиста было разграблено и сожжено казаками генерала Мадритова», – хотел сказать я, но удержался.
Как я потом узнал, генерал Потоцкий отказался от этой поездки. Этим не кончился маневр.
Через две недели после моей беседы с генералами ко мне пришел старший унтер-офицер из пулеметной команды Айча батыра.
– Ты слышал, Хан Ага, новость? Командир полка получил от Керенского телеграмму, в которой будто бы говорится, что полк должен ехать в Ахал для охраны персидской границы и как будто бы об этом просил Керенского Ахал. Не знаю, правда ли это? Джигиты послали меня узнать у тебя.
Узнав это, я немедленно пригласил к себе поручика Конкова и подпоручика Танг Атар Артыкова, которые подтвердили о получении командиром полка такой телеграммы, добавив, что они боялись сообщить об этом джигитам, чтобы многие из них не ушли из полка…
– Танг Атар, ты сперва позови всех унтер-офицеров к себе под предлогом обычного плова и во время разговора скажи им, что, посылая эту дьявольски хорошо обдуманную телеграмму, Керенский имел в виду этим заставить весь полк разъехаться, оставив Верховного – нашего Уллу бояра – на съедение георгиевцам. Керенский, очевидно, надеется, что весь полк соблазнится этим – уехать в Ахал, нести охрану персидской границы и, ловя контрабандистов, зарабатывать большие деньги, зная, кроме того, что там никаких частей, кроме текинцев, не будет. Скажи им, что неужели же мы свое слово, данное Уллу бояру, совесть и честь туркмен продадим за ограбленное на границе золото? Неужели мы, потомки рыцарей, соблазняясь золотом, предадим в руки ненавистного врага гостя Ахала, обратившегося к нам за защитой? Неужели, наконец, мы допустим, чтобы нас потомство называло предателями? Ты поговори с джигитами четвертого эскадрона, а я, с помощью Всевышнего Аллаха, поговорю через Баба Хана с быховцами! – закончил я.
Выслушав это, полковник Каит Беков, присутствовавший тут же, после ухода офицеров, прижимая меня к себе с влажными глазами, сказал:
– Дорогой мой брат, да не умрет имя твое!
Спустя два дня джигиты изъявили свое согласие остаться на своем посту, а поручик Конков, подпоручик Танг Атар Артыков и я составили телеграмму на имя Керенского и, по одобрению полковника Кюгельгена, отправили ее в Петроград.
Телеграмма была приблизительно следующего содержания:
«Узники прибегли к нашей помощи и мы по нашей вековой традиции обязаны оказать ее им. Мы надеемся, что господин Керенский, как туркестанец, поймет нашу роль и исполнит просьбу, разрешив остаться при генерале Корнилове до конца». Подпись командира полка.
Придя от командира полка, я застал у себя штаб-ротмистра Апрелева, с которым мы составили письмо в Ахал на имя штаб-ротмистра Авезбаева, который, как мы узнали потом, являлся одним из горячо сочувствующих уходу полка в Ахал, рассчитывая впоследствии быть его командиром. Письмо это было передано Айча батыру, который ехал в Ахал. Содержание письма приблизительно было следующее:
«Господин Ротмистр!
Заранее извиняюсь, что пишу Вам без Вашего разрешения. Я не имел возможности, за неимением времени, лично представиться Вам во время моего приезда в полк. Сейчас же пишу Вам, ввиду того что к этому меня вынуждают обстоятельства. Я надеюсь, что Вы, поняв меня, по мере сил своих пойдете навстречу.
Дело, видите ли, в следующем. Состоя с первой половины июля 1917 года близко к генералу Корнилову и той политической обстановке, в которой протекала его деятельность, я, совместно с джигитами, решил не покидать его, обвиненного господином Керенским в измене и заключенного в тюрьму. Джигиты дали мне слово, а я генералу Корнилову – не покидать его до тех пор, пока жизнь его не будет вне опасности, которая грозит со стороны его врагов и черни. Джигиты мною подготовлены и в курсе дела. Они любят и привязались к генералу Корнилову, как и он к ним.
Я прошу Вас, господин Ротмистр, как истинного текинца и брата по вере, помочь мне, доведя до сведения всех родителей джигитов о высокой роли, взятой на себя их сыновьями. Я глубоко уверен в том, что каждый истинный сын Ахала, верный традиции своих славных предков, не позовет своего сына домой в такой час, когда кругом измена и предательство, а терпеливо и спокойно ожидая, даст ему возможность довести взятую на себя задачу до конца и вернуться в Ахал подлинно благородным сыном благородного отца.
Уважающий Вас Хан Хаджиев. 15 октября, 1917 г. Могилев».
Другое письмо, подобное первому, я послал Ураз Сердару.
Это была последняя попытка отстранить текинцев от Верховного. Господин Керенский мог бы придумать еще и другие планы, но близкое выступление большевиков и боязнь уже за себя самого не дали ему осуществить их. Мы оставались около Верховного, несмотря на все трудности и препятствия.
Здесь я хочу отметить один из вечеров и указать на то, как верные Уллу бояру текинцы жили одной мыслью с ним и радовались, когда радовался и бояр. Всякая новость извне, будь она хорошая или плохая, одинаково волновала и бояра, и туркмен.
Однажды поздно вечером, как всегда, я привез письма, газеты и журналы. К этому времени все узники уже обжились и настроение их улучшилось. Среди привезенных мною газет оказался один номер газеты «Русь», издававшейся А.А. Сувориным в Петрограде. Эта газета и явилась причиной радости узников, поднимая настроение и бодрость своим содержанием. Читая ее, узники чувствовали себя не совсем одинокими и радовались, что в такое тяжелое время всеобщей купли-продажи в России нашелся честный человек, понявший, за что томятся узники в Быхове, и не побоявшийся всенародно обвинить в их заключении главу русского правительства, назвав его полным именем.
На первой своей странице «Русь» огромными буквами печатала, называя Керенского полным его именем, и советовала ему, пока не поздно, ехать в Быхов и на коленях просить прощения у русского патриота генерала Корнилова.
Должен сказать, что в этот день на вокзале газету «Русь» буквально рвали из рук продавщицы. Захватив газету, я отошел в сторону и начал читать ее. Недалеко от меня стояли два солдата. Один из них читал тоже газету «Русь». Прочтя первую страницу, читавший, обращаясь к своему товарищу, сказал:
– Глянь, товарищ, Керенского называют изменником и советуют ему ехать в Быхов и на коленях просить прощения у русского патриота генерала Корнилова.
– Ничего не разберешь, кто виноват, кто прав. И не нам судить. Заверни-ка, товарищ, газету – на курево пригодится! – ответил другой.
А у выхода из вокзала я услышал:
– Ах, мерзавец! Посмотрите-ка, как смел Суворин нашего Керенского обзывать так? Зачем Керенский это допускает?! Отчего не арестует и не пошлет редактора к его друзьям-патриотам?! – с жаром говорил какой-то тип в кепи, брызжа слюной и в азарте сбивая свою кепи на затылок.
– Ша! Не все ли тебе равно, Моше, что Суворин будет кричать в Петрограде или Быхове? Разве ты не знаешь этих людей? Чем больше они кричат, тем больше портят свои дела! Ну так пусть себе кричат! Иди ты сам себе, а Суворин сам себе! Все равно ему никто не даст шесть копеек за его газету (газета стоила 5 копеек). Скажешь, что я говорю неправду? – резонно заметил другой пожилой господин, отводя горячившегося в сторону.
– …Можете себе представить, Иван Феодорович! Это уж слишком смело сказано! Не знаю, как на это будет реагировать Саша Керенский?! Ай да молодец Суворин! Честный человек. Когда вся гнилая интеллигенция, потеряв голову, бежит за этим адвокатишкой, льстя ему и продавая свою совесть и честь, нашелся единственный человек, который после Корнилова называет Керенского своим именем. Дай Бог таких честных людей, как Суворин, побольше! – говорил какой-то солидный штатский господин, обращаясь к своему спутнику – полковнику.
Быховцам «Русь» понравилась всем, и Верховный несколько раз повторял: «Молодец Суворин! Не ожидал! Как вам это нравится?» А Реджэб, одним ухом слышавший чтение этой газеты, прибежал ко мне и, стараясь передать содержание ее по-русски, говорил:
– Ай, Хан Ага, молодец Суворов Ага, что он нашего Уллу бояра любит. Он говорит Керенский: «Иды, садысь перед Гярнилау! Ишак ты, зачем его посадыл в Бихоу? Што он тэбе вор, ах ты такой-сякой!» Правда это, Ага?
И, зараженный общим ликованием узников, он спросил меня, на этот раз уже по-туркменски:
– Если, Ага, это правда, то русский народ, прочтя это, скоро придет сюда и освободит нашего бояра?
По прочтении газеты «Русь» в коридоре школы-тюрьмы было большое оживление. Заключенные, разбиваясь на группы, делились впечатлениями. Верховный также вышел в коридор и, стоя на пороге своей комнаты, начал беседовать со мной. На мой вопрос, есть ли надежда на то, что генерал Духонин поможет нам вовремя выбраться отсюда в случае выступления большевиков, Верховный, махнув рукой, произнес:
– Он все мямлит! Посмотрим дальше…
В это время появился Реджэб, неся Верховному лампу, и, услышав слово «большевик», обратился ко мне по-текински с вопросом:
– Хан Ага, я никак не могу понять, что такое «большобик»? «Большовой» – это значит большой, а что такое «бик»?
– Что такое? – удивленно спросил так же по-туркменски Верховный.
Реджэб, склонив от смущения налево свою голову, повторил свой вопрос.
– Хорошо, вот сейчас я объясню тебе. Видишь с генералом Лукомским разговаривает кто-то? Это и есть большевик! – ответил Верховный, указывая на генерала Романовского.
– Почему, Ага? – удивился Реджэб.
– А потому, что он большой! – пояснил Верховный, стараясь сдержать смех.
В это время генерал Романовский, заметив, что Верховный смотрит на него, а Реджэб показывает пальцем, подошел к нам и спросил, в чем дело.
– Я даю урок по определению большевиков, и Реджэб проявляет колоссальную способность. Ну-ка, Реджеб, кто большевик? – спросил Верховный.
– Вот Ага! – наивно указал пальцем Реджэб на Романовского, широко открывшего глаза от удивления.
– А еще кто? – стараясь быть серьезным, спросил Верховный.
– Еренэль Ердел (генерал Эрдели)! – так же серьезно ответил Реджэб, указывая пальцем на беспечно гулявшего генерала Эрдели.
Верховный не выдержал и громко расхохотался.
– Ваше Превосходительство, что, Реджэб по росту определяет, что ли? – спросил наконец генерал Романовский у хохотавшего Уллу бояра.
– Да, да! – говорил, захлебываясь от смеха, Верховный.
– После таких понятий о большевизме может случиться, что он свободно нас и прикончит! Разве можно, Ваше Превосходительство, натравливать Реджэба на меня и Эрдели? Ведь вы сами понимаете, каков он! – полусерьезно и полушутливо говорил генерал Романовский.
Реджэб, догадавшись, что над ним пошутили, сконфуженно ушел, но не успел я появиться в караульном помещении, куда зашел, чтобы поговорить с Баба Ханом, как он обратился ко мне:
– Хан Ага, генерал Романовский на меня не сердится, что я его называл большобиком. Объясни, Ага, пожалуйста, нам, кто такие люди-большебики? Георгиевцы день и ночь говорят о них. Хвалят и не дождутся их прихода. Они говорят нам, что большевики хорошие люди и хотят дать нам землю и полную свободу. Говорят, что с приходом большебиков не будет ни генералов, ни офицеров. Войны тоже не будет, и все заживут хорошо. Это правда? Объясни нам, пожалуйста!
– Бэ, бе, бэ… – слышались удивленные голоса джигитов, когда я объяснил им, что такое большевизм.
– Ага, к нам не подойдут законы большевизма – ведь мы мусульмане! – вставил кто-то из присутствовавших.
– Дай Аллах, чтобы мы всегда остались сильными, объединенными и верующими в Единого Аллаха, – тогда нам никто в мире не опасен! – успокоил я его.
В один прекрасный вечер в Быхов явились товарищи из Могилева и заявили коменданту о своем желании видеть Верховного, дабы убедиться, что он еще находится в Быхове и никуда не бежал. Узнав об этом, я доложил Верховному.
– Негодяи! – возмущенно произнес Верховный. – Ну, да ничего, я им покажусь, а после этого, Хан, нам свободнее будет действовать! – сказал он, собираясь выйти.
Выйдя в коридор и увидев стоявших у лестницы товарищей, я, разозленный их присутствием и нахальством, произнес:
– Сейчас Верховный пройдет в уборную – смотрите!
Действительно, Верховный, не подозревая о близком присутствии товарищей и не видя их благодаря скудному освещению в коридоре и на лестнице, прошел в уборную. Этим «смотр» был закончен. Узнав об отъезде товарищей, ожидавший их Верховный очень удивился и много смеялся тому, что эти господа остались удовлетворены таким «смотром».
В конце октября Верховный начал пачками (в два-три человека) отправлять узников на Дон. Беглецы наряжались в разные платья, чтобы не быть узнанными. Бегство их было придумано очень ловко. Капитан Чунихин, бывший узник, но прежде всех освобожденный, куда-то исчезал и через два-три дня появлялся в Быхове с какими-то документами за подписью самого Шабловского на имя коменданта Ставки, в которых указывались имена узников, подлежавших освобождению, и те, свободно выйдя из Быхова, исчезали – кто на Дон, а кто в другие города необъятной России.
Бегство
Большевики перешли в наступление, и начались бои с войсками Временного правительства. В Быхове с каждым днем количество узников становилось все меньше. Большевики в эти дни все сильнее и сильнее нажимали на войска Керенского, и Петроград был накануне падения. Доблестный генерал Краснов отчаянно боролся с большевиками под Петроградом! В Могилеве везде было оживление, а в Ставке нервы всех натянуты.
17 ноября было получено известие, что Керенский разбит большевиками и принужден был в костюме сестры милосердия бежать неизвестно куда и что в Могилев двигаются большевицкие эшелоны во главе с прапорщиком Крыленко. 19 ноября в четыре часа дня в Могилеве был объявлен военно-революционный трибунал, без разрешения которого никто не мог выехать из города. Вокзал был оцеплен красноармейцами и георгиевцами.
В последний день и в последний час стою я у письменного стола генерала Духонина и жду ответ на письмо Верховного, переданное мною в 6 часов утра. Генерал Духонин, сильно нервничая, пробегает ответ и, быстро запечатав, отдает его мне со словами:
– Передайте, Хан, Верховному мой искренний привет и пожелание ему счастливого пути. Торопитесь!
Я спешу к себе. Проходя мимо ставки, я заметил нагруженные автомобили с бумагами, из которых часть была нагружена, а часть еще нагружалась.
– Ваше благородие, скорее уезжайте отсюда! Вас ищут товарищи и хотят арестовать! – предупредил меня испуганный Фока, когда я пришел к себе на квартиру.
Не успел я надеть ятаган, как в комнату вошел адъютант генерала Эрдели и, волнуясь, сказал:
– Хан, скорее уезжайте отсюда! На вашей шее я вижу болтающуюся веревку!
Я зашел к полковнику Каит Бекову, жившему рядом со мной, чтобы попрощаться. С ним я за эти дни близко сошелся.
– Ты, дорогой Хан, охранял нас до сих пор, а теперь настал час, когда я тебя должен охранять. Время опасное. Я провожу тебя до Быхова! – сказал он, опоясываясь и беря свой револьвер и кинжал, ибо он, как дагестанец, носил черкеску.
Подойдя к телефону, я позвонил в полк и просил прислать булана, на котором я приехал утром. Не успел я назвать место, куда надо прислать лошадь, как услышал голос, говоривший по телефону:
– Ах, голубчик, попались! Теперь вы от нас не уйдете! Где вы сейчас находитесь?
Не отвечая на вопрос, я с полковником Каит Бековым поспешили поскорее выбраться из Могилева в Быхов, чтобы о случившемся передать Верховному.
Сделав кой-какие распоряжения Фоке, мы выскочили из комнаты.
– Не беспокойтесь, барин, я вас отыщу на Дону и привезу все вещи! – кричал нам вслед Фока.
– Хан, и я с вами! – раздался на темной лестнице голос капитана Попова, георгиевца.
Втроем мы вышли на улицу. Было шесть часов вечера. Вблизи были слышны выстрелы, очевидно, начались расстрелы. На дворе зима. Метель настолько сильна, что в двух шагах ничего не видно. Адский холод сковывал наши тела в легких шинелях. С неимоверным трудом осторожно пробравшись на другую сторону Днепра, мы очутились на шоссе, идущем из Могилева в Быхов. Темнота, холод и вьюга. Каждый нагонявший нас автомобиль заставлял прятаться в лес. Думали, что это погоня. Без четверти двенадцать мы пришли в Быхов. Я передал Верховному письмо генерала Духонина. Бегло прочитав его, он произнес:
– Нам ничего не остается, как возможно скорее выбраться отсюда! Пошлите ко мне сейчас же коменданта полковника Эргарта!
В эту ночь, кроме Верховного, в быховской тюрьме уже никого из узников не было.
Явившемуся коменданту Верховный приказал, чтобы эскадроны были готовы к часу – выступаем, и нужно спешить, ибо в городе уже большевики!
Я отправился к ротмистру Натензону, чтобы узнать, готов ли он со своим эскадроном к исключительно трудному походу. На заданный ему вопрос об этом я получил ответ:
– Хан, я был готов с моим эскадроном со дня приезда сюда!
Услышав это, я с волнением сказал ему:
– Дорогой ротмистр, единственная надежда Верховного и моя – только на вас и на третий эскадрон.
– Дорогой Хан, мой труп будет лежать там, где и труп Верховного. Я об этом вам говорил и дал слово еще в бытность нашу в Могилеве! – проговорил Натензен и поспешил к джигитам своего эскадрона.
В эскадронах зашевелились, приготовляясь в далекий путь. Лошади, почуяв сборы и дорогу, ржали, нервничали и рыли передними копытами рыхлую землю, смешанную со снегом. Я укладывал свою бурку и одеяло, чтобы приторочить к седлу, когда комендант вызвал меня к себе. У него я застал каких-то двух типов, одетых в солдатские шинели, которые заявили, что они желают видеть Верховного и сообщить ему по секрету нечто весьма важное и неотложное.
– К сожалению, Верховный вас сейчас принять не может, он очень занят. Не соблаговолите ли мне сообщить все, а я передам Верховному? – ответил я им.
– Мы – ударники, прибывшие по приказанию генерала Духонина в Могилев. После выступления большевиков мы, не желая подчиниться им, едем на фронт. Мы знаем, что генерал Корнилов невинно пострадал, и поэтому мы желаем приютить его в нашем эшелоне, который будет проходить из Могилева через Быхов, так как мы все боимся за его участь. Завтра большевики могут явиться сюда и растерзать всех узников. Мы командированы сюда офицерами нашего полка! – закончили они.
Я доложил об этом Верховному.
– А не большевики ли это, присланные сюда своими товарищами разузнать, находимся ли мы еще в Быхове и не собираемся ли бежать? Передайте им мою благодарность и скажите им, что я еще не собираюсь бежать, – сказал Верховный, посылая меня к пришедшим, а вдогонку крикнул: – Хан, голубчик, возвращайтесь как можно скорее!
Когда я вернулся, Верховный сидел и уничтожал какие-то бумаги.
– Укладывайте, Хан, поскорее вещи. Сейчас мы выезжаем. Стоит появиться на Днепре одной моторной лодке с товарищами и пулеметом, и мы с вами не будем в состоянии отсюда выбраться, – говорил Верховный, складывая географическую карту.
– Много ли тут у вас вещей-то? Мыло да полотенце! – ответил я.
Разбирая бумаги, Верховный вытащил из ящика стола фотографическую карточку своей семьи и, вырезав себя ножом, произнес, показывая на Юрика.
– Где он теперь, Хан? – и глубоко вздохнул.
– В постели! – ответил я.
Верховный улыбнулся и проговорил:
– Отделяю я себя на фотографии от них потому, что если, не дай Бог, что-нибудь со мной случится, то товарищи, увидев эту фотографию, могут не узнать моей семьи, а если увидят на ней и меня с ними в генеральских погонах, то – пропало!
Отделение острым ножом себя от семьи подействовало на меня удручающе. «Лучше бы ты порвал эту карточку на клочки; чем то, что сделал ты сейчас. Не дай Аллах, как бы ты этим сам не отделил себя навсегда от семьи!» – говорил я мысленно, глядя на эту операцию. В это время я почувствовал, что что-то больно хлестнуло по моему сердцу, до этого спокойному, и оно с этой минуты вплоть до 31 марта было как бы в агонии. Лишь одна светлая и крепкая вера в Уллу бояра боролась и порой побеждала эту боль.
– Садитесь, Хан! – сказал Верховный, когда все было готово.
Я сел и невольно еще раз окинул взглядом комнату, в которой я с приемным моим отцом в последнюю минуту перед выступлением в путь обращаемся с молитвой к Всевышнему Аллаху. Довольно большая чистая комната с ослепительно белыми стенами была в хаотическом беспорядке. Постель не убрана, стулья разбросаны, на полу и на столе лежала разорванная в клочки куча бумаги. Большая, светлая лампа, свидетельница тяжелых дней Великого бояра-узника, ярким светом горевшая на столе, освещала белые стены комнаты, а они как бы приветливо улыбались и желали нам счастливого пути. Там и сям в разных местах комнаты лежали брошенные старые вещи: платья, ботинки, гимнастерки, чемоданы и чемоданчики.
Помолившись, мы оба вышли из комнаты.
– Вы куда, Ваше Высокопревосходительство? – удивился я, увидев, что Верховный входит в караульное помещение георгиевцев.
– Я хочу попрощаться с георгиевцами, Хан, – ответил он, входя к ним.
Взвод текинцев с ручными гранатами и винтовками под командой поручика Рененкампфа занял все выходы и входы в помещение георгиевцев.
Войдя в помещение, Верховный сказал георгиевцам приблизительно следующее:
– Пришло время, когда я должен покинуть Быхов и ехать на Дон и там дождаться справедливого всенародного суда. Негодяй Керенский меня заключил сюда, а сам убежал, оставив Россию на произвол судьбы. Спасибо вам за верную службу мне!
Затем он обратился к офицерам-георгиевцам с указанием, как распределить деньги, оставляемые им караулу.
– Счастливого пути, господин генерал! Ура! – закричали георгиевцы, и Верховный вышел.
Ровно в половине первого ночи по моему приказанию была подана Верховному та самая лошадь, которую он когда-то хотел продать, а вырученные деньги отдать конвою. Увидев ее, он обрадовался. Ласково потрепав ее по шее, он сел на нее и, обращаясь ко мне, произнес:
– Я очень рад, Хан, видеть ее опять. Большое спасибо за ваше искреннее пожелание!
Затем он пересел на поданного текинцем, вестовым Тилла, жеребца, принадлежавшего полковнику Эргарту.
– А вы куда, господин капитан и господин прапорщик? – задавали георгиевцы вопросы своим офицерам – Попову и Гришину, которые, сев на лошадей, поспешно отвечали:
– Мы так! Только проводим текинцев!
Ко мне подошел проститься полковник Каит Беков.
– Ну, Хан дорогой, пусть Аллах будет твоим спутником! – проговорил он, обнимая меня с влажными глазами.
– Что, полковник, вы сильно полюбили Хана за это время? – спросил Верховный Каит Бекова.
– Как не любить такого молодца, да еще к тому же и нашего спасителя! – ответил он, прощаясь с Верховным.
– Да, это правда, мы многим обязаны ему, – сказал Верховный.
Погода изменилась – метель стихла, и взошла луна, осветив все кругом ярким светом. Кругом была мертвая тишина, нарушаемая лишь ржанием лошадей и тихим разговором джигитов. Лица у всех были суровы и сосредоточены. В больших папахах и в необъятной ширины бурках (правда, были они не у всех), на стройных аргамаках справа по три, потянулись джигиты 1-го, 2-го и 3-го эскадронов при пулеметной команде за ехавшим впереди их Великим бояром. Несмотря на такой поздний час, жители Быхова высыпали на улицу, с жадностью ловя на лету каждое слово, чтобы узнать причину ночного «парада». Телеграфная линия и железнодорожные мосты со стороны Могилева, по указанию Верховного, были подорваны заранее, до выступления.
Быстрой рысью мы выехали на шоссе. Здесь Верховный дал десять минут отдыха, поджидая отставших джигитов. Через 10 минут тронулись дальше. По приказанию Верховного я ехал впереди эскадронов, сзади его, и мне невольно пришла в голову мысль: «Куда ведет нас этот небольшой, скромно сидящий на лошади, человек?»
Длинная дорога на Дон, неизвестность там и вообще неизвестность будущего беспокоили меня, но, взглянув на спокойно ехавшего и слегка покачивающегося Верховного, я сразу успокоился и очнулся как бы от глубокого сна. Чего же бояться, когда он с нами?! Он ведь мой пророк!
Месяц плыл по небу, ярко освещая кругом поля и леса. После метели ночь была тихая, но морозная. Стволы винтовок и концы стальных пик при лунном свете блистали. Ленивые и полусонные разговоры джигитов понемногу начали смолкать и скоро совсем умолкли. Наступила тишина, нарушаемая храпом лошадей и ударами копыт о мерзлую землю. Проехав верст десять по шоссе, мы круто свернули в поле.
– Нам нужно быть как можно дальше от железных дорог и шоссе! – объяснил Верховный такой крутой поворот.
Длинной вереницей шли эскадроны. Жеребцы, так долго стоявшие без движения, грызя удила, рвались вперед. Яркий лунный свет начал ослабевать. Близился рассвет. От дыхания людей и лошадей тянулись длинной лентой облака пара. На папахах, бурках, бородах людей и на мордах лошадей лежал слой инея. Чем больше рассветало, тем больше морозило. Стволы винтовок и концы пик, покрытые инеем, уже не блистали. А мы все двигались и двигались вперед.
Первые неприятности
– Стой! – раздалась команда полковника Эргарта, ведшего три эскадрона за отсутствием командира полка, который с 4-м эскадроном должен был присоединиться позже.
Остановились мы в имении одного поляка, где должны были отдохнуть и покормить лошадей после продолжительной, трудной и бездорожной езды. Было девять часов утра. В этом имении мы встретили теплый, радушный прием. Верховный не показывал вида, что он устал после утомительного пути, и, обходя туркмен, говорил им, чтобы они лучше покормили лошадей и отдохнули сами, так как путь предстоит далекий и очень тяжелый. Обходя ряды туркмен и видя, что большинство из джигитов первого эскадрона и пулеметной команды очень легко одеты и мерзнут, он посоветовал им одеться потеплее.
– Во что, бояр, мы оденемся, когда у нас, кроме того, что ты видишь, ничего нет! – отвечали джигиты.
– Как так нет? И даже перчаток не имеете? – спрашивал пораженный Верховный.
Возмущенный до глубины души таким халатным отношением к делу начальствующих лиц полка, он приказал тотчас же позвать полковника Эргарта.
– Почему туркмены не получили теплых вещей? Ведь я же говорил об этом вам и командиру полка. Господа, нельзя же так относиться к делу. Пожалели бы хоть этих безмолвных с чистыми душами людей. Вывели в такой сильный мороз почти голыми. Ведь вы, полковник, знали, что предстоит зимний поход, почему вы не изволили исполнить мое приказание – снабдить людей теплой одеждой? Видите, как вы меня подвели!
– Ваше Превосходительство! В полку не было достаточного количества теплых вещей, – вздумал было возразить полковник Эргарт, но Верховный прервал его, сказав:
– Если в полку не было, то почему мне не сообщили об этом своевременно. Кому-кому, а туркменам я достал бы из-под земли требуемое количество всего необходимого. Приказываю вам, полковник, где только возможно и каких бы денег это ни стоило, как можно скорее раздобыть для джигитов полушубки, перчатки и вообще все теплое. Имейте в виду, за исполнением этого следить буду я сам! – подчеркнул Верховный, отпуская полковника Эргарта.
– Черт знает, Хан, какое у вас в полку начальство! И как этот полк существовал до сих пор при таком отношении господ офицеров к бедным джигитам – я понять не могу! Не мог же в самом деле я, сидя в Быхове и имея массу других забот, кроме ежедневного разбора ссор и сплетен офицеров вашего полка, заниматься одеванием и кормлением джигитов? Командир и все офицеры полка знали о предстоящем походе и обязанность каждого из них была узнать, есть ли у джигитов все необходимое, и если нет, то сообщить об этом мне. Они не сделали этого и вывели людей раздетыми! Это упущение начальников я понимаю не как нежелание идти в поход, а как желание вооружить всех туркмен против меня, так как каждый из них может сказать мне: «Бояр, ты ведешь нас в такой сильный мороз совершенно раздетыми. Мы не можем идти дальше, а потому прощай!» И конечно, они имеют полное нравственное право сказать и сделать это, а я ничего не могу возразить им благодаря преступному отношению к делу этих господ, на которых когда-то я так надеялся! – говорил Верховный, когда я принес ему чай. Я предложил чай Верховному.
– Ничего я не хочу, Хан, – отказался он от чая и, взявшись обеими руками за голову, глубоко задумался.
Потом, как бы вспомнив что-то, он обратился ко мне:
– Хан, голубчик, почему вы не предупредили меня об этом в Быхове? Разве вы не знали?
– Ваше Высокопревосходительство, помните, в Быхове я доложил вам ответ командира полка, который говорил, что все необходимое для похода он достанет? Потом вы сами знаете, что было возложено на меня. Дело снабжения полка вещами не входило совсем в круг моих обязанностей.
– Да, да я вас понимаю, Хан, вы правы!.. Если бы это произошло в другое время, то всех этих господ я, не задумываясь, отдал бы под суд! – произнес, немного подумав, Верховный, не отрываясь от окна, через которое он видел джигитов, которые обмотав свои руки и шеи разноцветными тряпками и платками, били друг друга по спинам кулаками и прыгали, желая согреться до костра, который еще не был зажжен.
– Ваше Высокопревосходительство, я надеюсь, что джигиты не оставят вас, несмотря на все тяжелые условия. Скорее они оставят виновников их плачевного состояния. Они верят вам и любят вас! – сказал я в ответ.
– Знаю я, Хан, что они мне верят и любят, но мне-то стыдно перед ними, – произнес Верховный, все глядя в окно.
Надо заметить, что, начиная от командира и кончая младшим офицером полка, конечно, за исключением всего второго эскадрона и офицеров-мусульман, никто не хотел этого похода и не готовился к нему, думая, что он не состоится вследствие нежелания джигитов. Один только второй эскадрон был готов к походу в полном смысле этого слова. При моих разговорах с полковниками Эргартом и Кюгельгеном относительно предстоящего похода они мне говорили:
– Неужели твой генерал серьезно решится на такой рискованный шаг? Тогда полк погиб!
Такая неуверенность, халатное отношение к своим обязанностям и незнание настроений и психологии своих подчиненных и были причиной гибели джигитов славного Текинского полка.
Вошел хозяин имения и принес завтрак. Верховный поинтересовался, сколько верст отсюда до Могилева.
– 90 верст! – ответил хозяин.
Попрощавшись и расплатившись с гостеприимным хозяином, мы двинулись дальше. Проехав без остановки весь день, до заката солнца, приблизительно в пять часов вечера мы остановились в одной деревне на ночлег. В деревне нас встретили радушно и приняли нас за черкесов. Приехали мы измученные, мокрые и голодные, так как пройденный путь был очень тяжелый. В одном месте в лесу мы встретили огромное торфяное болото, затянутое льдом. Верховный провалился вместе с лошадью, желая проехать через него, и остался жив лишь потому, что мощный жеребец вынес его на другой берег. После этого Верховный приказал рубить лес и проложить мост через болото, по которому все прошли, намокнув, однако, до костей.
Разместившись по хатам в тепле после тяжелой дороги, мы почувствовали себя счастливыми. Пока одежда Верховного сушилась у растопленной печи и вскипал самовар, я пошел к джигитам, чтобы побеседовать с ними и посмотреть, как они разместились. В одной из хат за самоваром я застал мирно беседующих джигитов, пригласивших меня пить с ними чай.
– Бэ, бэ, ну и холод был сегодня! Да переход тоже хорош! Таких переходов мы и на войне не делали! – проговорил один из джигитов.
– Ай, чего жаловаться, скоро у всех будут теплые вещи. бояр приказал покупать нам полушубки. Ведь это правда, Хан Ага?! – спросил другой.
– Бояру стоило взглянуть один раз на нас, чтобы узнать, что нам холодно. Это не Кюгельген и не Эргарт! – добавил третий.
Хозяин хаты, пожилой мужик, радушно угощавший джигитов чаем, очевидно, наскучив слушать туркменскую речь, прервал нас вопросом:
– Откедова и куды путь держите, добрые молодцы?
– Не ходят железные дороги, а чтобы долго их не ждать, сели на своих лошадей и давай домой! – отвечал кто-то на плохом русском языке.
– Ай да молодцы, ай да молодцы! Ну, что таперича, видать война-то окончена? – интересовался старик.
– Да какая теперь, отец, война, когда сам видишь, что мы возвращаемся домой.
– Так, так, – покачал головой старик. – А вы, робята, Ляксандра Дерюгина небось не слыхали? Он что-то тоже в ваших краях воевал?
– Нет, не слыхал… Ты лучше, отец, давай-ка нам молока, а то мы голодные! – просили джигиты старика.
– Молока? – широко открыв глаза, переспросил дед. – Не знаю, есть ли оно у нас. Анюта, посмотри, есть ли молоко? Если есть, то тащи сюда!
Пока Анюта принесла молоко, самовар вскипел второй раз.
– Кушайте, робята, кушайте на здоровье! Чай, проголодались, – гостеприимно угощал дед джигитов.
– Анюта, сделай им еще вареники, да не жалей сала. Пусть они увидят твое мастерство, – сказал старик, обращаясь к своей дочке.
– Да с чего я сделаю, тятя, когда нету сала, – ответила стоявшая у печки краснощекая Анюта.
– Как нету? Пойди попроси у Семёныча!.. Скажи ему, что завтра вернем… А то эти молодцы голодны, надо их хорошенько накормить! – распорядился старик. – Помнишь, наш Ляксандер писал о ихнем гостеприимстве. Наверно, он тоже сейчас сидит в гостях у этих косматых молодцов, – говорил дед вслед уходившей Анюте.
– Мой сын писал нам, что народ ваш последнее со своего отдает нашим солдатам. Больно русских уважают, лучше, чем турок, – говорил дед, наливая чай и закрывая самовар, успевший нагреть еще сильнее и без того теплую хату.
– Твой сын тоже солдат, что ли? – спросил кто-то из джигитов.
– Да, мой сын солдат. Он дерется на Кавказе. Как это место-то называется? Эх, память-то моя… – дед начал вспоминать города на турецком фронте.
– Микулич, подь сюды! – позвал появившийся на пороге хаты мужик с окладистой бородой в черных валенках и в полушубке.
– Чаво тебе надобно? Подь ты сюды, да откушай с нами чайку! – пригласил пришедшего хозяин, не двигаясь с места.
– Да нету!.. Я не хочу чаю!.. Подь сюда, до тебя есть важное дело! – опять позвал Микулича пришедший, оставаясь на своем месте.
– Вечно, брат Семёныч, у тебя дела! – произнес недовольный Микулич, направляясь в сени.
– Э, брат, не все благополучно обстоит с этими-то дьяволами! – донесся до меня громкий шепот Семёныча.
– А что? Да ты говори погромче, они все равно ничего не понимают и по-русски плохо говорят, – сказал Микулич.
– Эти дьяволы везут из тюрьмы своего главаря разбойника Корнилова, который, говорят, нашего Царя сместил. Помнишь, Царя нашего, Николая-то? За это Керенский посадил яво в тюрьму, а эти дьяволы освободили яво и везут в свои края, чтобы потом в Рассеей устраивать бунты да смуты.
Мне было больно и интересно слушать их разговор, на который туркмены, занятые едой, не обращали внимание.
– Да что ты брешешь, Семёныч! – возразил Микулич.
– Ей-ей, вот тебе святая икона, Микулич!
– Кто тебе об этом сказывал, Семёныч?
– Да наши русские солдаты, которых они забрали в неволю и вязут их к себе, чтобы потом продавать туркам!
– А я-то сдуру делю с ними последнее! – протянул Микулич.
– Солдаты говорят, – продолжал Семёныч, – что завтра приедут гонцы ловить эту шайку, тогда уж нас не поблагодарят за наше гостеприимство.
– Да как же таперича быть, Семёныч?
– Ты как хош, Микулич, а я сейчас уезжаю из села… Подальше от греха. Недаром наш Петрович запряг своих лошадей в сани да уехал, – говорил Семёныч, – лучше подальше быть. Если какое следствие начнется, то меня дома не было и я знать ничаво не знаю! Ты, Микулич, им ничего не отпускай, а если будут просить – говори «нима». Будут деньги предлагать, не бери – оне у них все фальшивые, об этом их невольники-солдаты сказывают. Ну, прощай, Микулич!
– Прощай, Семёныч! А ежели еще чаво у тебя будет новаго, то извести – спасибо свое скажу! – ответил Микулич вслед выходившему из сеней Семёнычу.
– Куда делись домовладельцы? Нам нужно сено. Не хочется, Ага, ломать замки сеновала! – спрашивали меня туркмены после долгих поисков хозяев, не понимая причин их исчезновения.
Возвратясь к Верховному, я застал его сидящим у стола над картой.
– Ну хорошо, что вы пришли. Мне хочется чаю, но я ждал вас. Давайте выпьем чайку. Что нового? – спросил Верховный, когда я приготовлял все к чаю.
Я передал все, что слышал в хате Микулича.
– Эх, какие негодяи эти солдаты… Боже, какая темнота… Надо принять меры против этих негодяев! Оказывается – мы сами везем большевиков! – проговорил Верховный, тяжело вздыхая.
В это время хозяин хаты принес кипящий самовар. Верховный предложил ему выпить с нами чаю.
– Да, да, господин генерал, теперь очень трудненько будет собирать православный народ, так как он не был подготовлен к революции, которую устроила кучка негодяев без согласия и совета деревни, – ответил хозяин хаты, когда Верховный спросил его мнение относительно текущих событий.
– Вы не слышали о выступлении большевиков и много ли в вашей деревне сочувствующих им? – спросил Верховный хозяина, заметив, что он более или менее толковый мужик.
– Да ребятишки что-то говорили вроде того, как говорите, о выступлении. Но я думаю, едва ли здесь найдется кто-нибудь, как вы изволите говорить, сочувствующий. Здесь у нас все больше землевладельцы, собственники, а вольно-шатающихся мы не уважаем. Эти-то приезжие элементы, у которых нет ни кола, ни двора, болтают, что большевики им дадут землю и сравняют с нами.
– Как вас зовут? – спросил Верховный, вызывая на разговор мужика.
– Василич, – ответил он.
– Вы сами-то понимаете ли о большевизме, что он такое, откуда и куда ведет народ? – задал вопрос Верховный.
– Как же, как же, мне сын мой писал, что эта штука не из важных, да и сам я немного читал по этому делу. Мы народ темный, да к тому же земледельческий, и многое не понимаем и что не понимаем, спрашиваем у старосты. Он нам толково объясняет все непонятное.
– А он откуда знает? – спросил Верховный.
– Видите ли, у него есть сын студент, который посылает отцу много газет, книг и писем, да очень наказывает ему в каждом письме. «Ты, – говорит, – читай все, что я тебе присылаю, а я когда приеду, то сделаю тебе экзамен».
– А ваш сын где? – спросил Верховный разговорившегося мужика.
– Мой сын у коменданта в Казани служит писарем. Тоже образовался, не желает сюда ехать. «Уж больно вы темные люди, – говорит он, – скучно с вами!» Он тоже много пишет и горюет, что Рассея разваливается и что надобно, говорит в своем письме, человека, как Николай Николаевич, чтобы башку свернул этой сволочи – говорунам-то!
– Откуда он Николая Николаевича знает? – спросил Верховный.
– Как же не знать, он служил у него на Кавказе. Мой сын все жалуется на Керенского, больно не уважает его. «Какой-то адвокатишка – царем сделался!» – говорит.
В это самое время в окно хаты кто-то постучал и, услышав окрик парных часовых, быстро отошел. Василич вышел и больше не вернулся. Услышав стук, я тут же подумал, что и этот, рассуждающий более или менее толково, так же убежит из деревни, зараженный стадным страхом за свою шкуру, забыв все свои рассуждения. Ведь, в сущности, вся Россия состоит из Микуличей, Семёнычей и Василичей. Разве они понимают генерала Корнилова, его идею об армии и т. д. Темнота кругом, и темных людей можно легко сбить с толку!
До нашего отъезда мы больше уже не видели ни Василича, ни его жены. В пять часов утра Верховный, выпив две чашки чаю и съев два яйца всмятку, приготовленных мною, собирался было выходить, чтобы ехать дальше, когда пришел Эргарт и доложил, что все выехавшие с нами из Быхова солдаты обоза с денщиками офицеров (таких было не больше 20 человек), забрав лучших запасных лошадей, обобрав офицеров и захватив все инструменты и некоторое необходимое в походе имущество, ночью сбежали.
– Даже мой эскадронный трубач, прослуживший в полку более 15 лет и пользовавшийся всеми привилегиями, и тот сбежал! – закончил Эргарт.
– Я был подготовлен и хотел сегодня принять меры. Хан мне вчера докладывал об их агитации среди жителей деревни… Я очень рад, что избавились от этой нечисти. Но, с другой стороны, очень жаль, что мы остались без подков и инструментов! – говорил Верховный, пораженный новой неприятной вестью.
Несмотря на его спокойный вид, я все же заметил, что новая неприятность сильно огорчила Верховного.
У еврея
Спустя шесть часов после выступления из той деревни, откуда сбежали обозники, к нам присоединился полковник Кюгельген с четвертым эскадроном. Он подъехал к Верховному, чтобы доложить о своем прибытии. Выслушав его рапорт, Верховный спросил:
– Вам известно, что сегодня ночью из полка убежали кузнецы и денщики, захватив вещи своих офицеров, лошадей и инструменты?
– Так точно, Ваше Превосходительство. Мы имеем кузнецов из туркмен, но у них теперь нет ни подков, ни инструментов, – доложил Кюгельген.
– Так, полковник! Значит, мы в дальнейшем остались без подков и инструментов, а путь тяжелый и продолжительный. Придется все время ведь ехать по мерзлой земле, через замерзшие болота и реки. Черт знает, что вы за люди, господа, и как вы командовали текинцами до сих пор при таком отношении, я никак не понимаю! Ведь вы, полковник, знали о походе? Почему же у вас все в таком беспорядке и полк совершенно не подготовлен к зимним походам? Времени для подготовки полка у вас было хоть отбавляй. При первой возможности – подковать лошадей, потерявших подковы и как можно скорее одеть людей! Я приказал полковнику Эргарту сделать все это, но повторяю еще раз вам. Суммы для этой цели будете получать у казначея капитана Попова (георгиевец)! – закончил Верховный.
Проехав с четырех часов утра до пяти вечера (третий день пути), Верховный решил дать полку дневку, и для осуществления этого решения были высланы вперед квартирьеры. На этот раз Верховному была отведена хата одного еврея. Хозяин, седой старик, очень радушно встретил нас и усадил на почетное место. Появившаяся из кухни старуха-хозяйка дряхлыми руками накрыла стол чистой белой скатертью. Верховный со мной вышел посмотреть, как разместился полк. Убедившись, что джигиты хорошо и тепло устроились, он вернулся в свою хату.
– Откуда и куда путь держите, господин генерал, в такое тревожное время, если это не секрет? – спросил старик еврей, когда его жена удалилась на кухню.
– Домой едем! – ответил, как бы нехотя, Верховный.
– Домой? Это хорошо! Это очень хорошо! – одобрил старик.
– Скажите, какие новости доходят до вас из Могилева? – спросил Верховный.
– Какие новости? Кровавые, кошмарные! – ответил старик.
Верховному интересно было узнать, занят ли Могилев большевиками, и вообще всякие сообщения о Могилеве интересовали его.
– Говорят, что позавчера матросы убили генерала Духонина! – поразил нас старик.
Перекрестившись, Верховный произнес:
– Мир праху твоему, Николай Николаевич! Дождался-таки! Не слушался меня, а ведь я его предупреждал об этом. Жаль, хороший генерал был! – закончил Верховный и глубоко вздохнул.
В это время из кухни показалась дочь хозяина, очевидно, помогавшая матери в приготовлении обеда. Она была до такой степени красива, что я буквально окаменел от восхищения и пришел в себя лишь от громкого голоса Верховного, говорившего:
– Довольно, Хан, довольно есть ее глазами!
– Вы едете из Быхова? – спросила она, поднося Верховному тарелку хорошего борща.
– А вы откуда знаете, что я еду из Быхова? – удивленно спросил ее Верховный.
– Вы – генерал Корнилов, если не ошибаюсь? – спросила она, прямо глядя ему в глаза и не отвечая на вопрос.
– Нет! – ответил Верховный, подмигивая мне и ожидая, что скажет она дальше.
– Нет, вы тот генерал Корнилов, который невинно пострадал и был заточен Керенским в тюрьму, – твердо произнесла она.
– Нет, сударыня, вы ошибаетесь! Я только начальник отряда. Откуда вы изволили взять, что я генерал Корнилов? – шутил Верховный.
– Нет, генерал, я вас хорошо знаю, – сказала она, с радушием угощая нас.
– Откуда же вы все-таки меня знаете? – поинтересовался Верховный.
– Вот откуда я вас знаю! – сказала она, подавая Верховному фотографическую карточку, где он был снят на вокзале во время своего приезда на Московское совещание. На этой фотографии корниловцы несли Верховного на руках.
– О, она у нас молодчина! Все знает! – говорил старик, любуясь дочерью.
– Теперь нужно сознаться, ибо доказано документально, что я Корнилов, – улыбнулся Верховный.
– Сперва у меня над головой в спальне висел портрет Керенского, но после того, как он вас заточил в Быховскую тюрьму, вы заняли его место.
– Ах, вот как! А чем же объяснить такую перемену? – спросил Верховный.
– Он предал вас, а вместе с вами и нас!
– То есть кого «нас», барышня? – удивился Верховный.
– Нас, бедный люд! – ответила она.
– Соня, ты лучше сыграй им что-нибудь, а то ты опять начнешь увлекаться своими героями! – вмешался отец.
– Ах, папа, вы всегда не даете мне возможности вдоволь наговориться с людьми, которыми я дорожу. Их у нас так мало всегда бывает! – рассердилась Соня.
– Ну, не злись! Я только боюсь, что ты со своим разговором утомляешь господина генерала, а он и без того устал! – возразил отец.
– Вы, господин генерал, нас извините за нашу хату: мы люди бедные. Здесь есть хаты богаче, но все хозяева сбежали, узнав о приходе вашего отряда. Кто-то из деревни в деревню передает, что едет главарь шайки Корнилов, бежавший из Быховской тюрьмы, который забирает богатых купцов, чтобы потом взять с них богатый выкуп. Вот все и разбежались. Когда приехал ваш офицер для подыскания квартир отряду, то я послал Соню сказать ему, чтобы он для вас взял квартиру у нас.
– Да, да! Я об этом просила вашего офицера! – поддержала отца Соня.
– Господи, если бы все русские так понимали, как они! – тихо проговорил Верховный и, взявшись обеими руками за голову, задумался над картой.
Через некоторое время пришел командир полка, чтобы получить маршрут движения на следующий день и для посылки квартирьеров на те места, которые намечал Верховный. Желая отвлечь внимание Сони, которая засыпала его вопросами, мешая разговору с Кюгельгеном, Верховный обратился ко мне:
– Хан, дорогой, спойте что-нибудь барышне!
Соня, ухватившись за данную мысль, начала также просить меня спеть что-нибудь. Сначала я удивился просьбе Верховного, понимая его просьбу в буквальном смысле, так как никогда в жизни ни на чем не играл и не пел, но,задумавшись на мгновение о просьбе Верховного, я сразу понял, о каком пении он меня просил. Уютно устроившись с Соней на диване, мы так увлеклись разговором, что не заметили, как Верховный, окончив свою работу, подошел к нам.
– Ну, барышня, нравится вам пение моего Хана? – спросил Верховный Соню, глядя на нее с улыбкой.
– О да, генерал, он удивительно живо и красиво умеет рассказывать! – ответила Соня.
Хорошо отдохнув и вдоволь поевши, мы собирались выступить дальше, когда симпатичный и гостеприимный старичок, подойдя к нам, передал мне какой-то сверток со словами:
– Это господину генералу и вам от Сонечки!
– Как жаль, что вы так скоро уезжаете и как счастливы мы были принять в нашем доме такую великую личность, как вы, господин генерал! – говорил старичок еврей, провожая нас.
Проехав верст тридцать и развернув сверток во время привала, я нашел в нем большую жирную курицу, вкусно приготовленную с чесноком, шесть яиц, хлеб и даже соль, положенную заботливой рукой Сони. Подарок пришелся нам кстати, и мы уничтожили его дочиста, благодарно вспоминая Соню.
Хитрый купец
Чем дальше мы ехали, тем больше встречали недружелюбие со стороны жителей деревень, через которые приходилось проезжать. Все жители шарахались от нас, не желая давать ничего, даже за деньги. Как только мы выезжали из какой-нибудь деревни, так из нее сейчас же передавали в другие деревни о том, что едет шайка Корнилова, которой не надо ничего давать, а всячески ей препятствовать во всем. При въезде в деревню мужики безмолвно и злобно исподлобья смотрели на нас, толпясь по обеим сторонам улицы, и большинство из них даже не здоровалось с нами. На их лицах я читал: «Поезжайте, такие-сякие! Все равно далеко не уедете. Вот на днях вас всех переловим, и эти жеребцы, которые сейчас так танцуют под вами, будут пахать нашу землю, а ваши ятаганы пойдут на серпы!»
Молча и злобно смотрели мужики, тая ненависть к нам. Через два дня езды после деревни, где нас так радушно встретил еврей, мы остановились на дневку в новой деревне, жители которой при нашем появлении большей частью убежали. Быстро соскочив с лошади, я отправился отыскивать хату, предназначенную для Верховного. Хата была большая, но нетопленная. На мой вопрос, где хозяин, жена его ответила, что он уехал по делам в Сураж. Пришлось самому растопить печку, и когда вошел Верховный, я, поставив парных часовых, сам побежал искать провиант, чтобы приготовить еду, ибо что бы я ни спросил у хозяйки, она отвечала отказом.
После долгой и утомительной дороги голодные и измученные джигиты, встретив такой прием, выходили из себя. Пришлось собственными силами носить воду, добывать Бог ведает откуда дрова, готовить самим обед, да еще заботиться о размещении лошадей в тепле и приискании для них корма. Вся эта бестолковщина и суета нервировала людей, и без того усталые нервы остро реагировали на всякий пустяк. Люди ссорились из-за мелочей. Видя недружелюбное отношение населения, халатность начальствующих лиц полка к своим обязанностям, холод и голод, причиненные этим для джигитов, Верховный начал тяжело задумываться. Каждый день он узнавал о том, что джигиты начали отставать от полка. То оказывалось, что в полку много лошадей с набитыми спинами и потерянными подковами, которые не могут идти дальше, то жители не хотят продать ни за какие деньги нужных вещей, лошадей, провиант как для людей, так и для лошадей. Все это сильно отражалось на Верховном, и он уже не надеялся при таких обстоятельствах добраться с полком на Дон.
В те дни, когда второй эскадрон шел в головном отряде, Верховный несколько успокаивался, ибо видел и людей хорошо одетых, и хорошую внешность лошадей, и все это было благодаря заботам не на словах, а на деле командира эскадрона ротмистра Натензона. Джигиты его эскадрона имели все необходимые теплые вещи, включительно до бурок и перчаток. Будучи всегда сытыми и тепло одетыми, они чувствовали себя довольными и любили и гордились своим командиром. Когда кто-либо из джигитов жаловался на то, что сегодня они выступили без чая, то другие говорили ему:
– Что ты, чернолицый, разве в Ахале мать тебя каждый день белым хлебом кормила? Ты забыл, что твой отец выезжал в долгий путь, в аламаны, с горсточкой пшеницы в кармане?! Не забывай, что ты сын туркмена и находишься сейчас в походе. Если ты один день нашел что-нибудь съестное, то благодари Аллаха за это три дня. Вспомни нашу пословицу, говорящую: «Мучения путника равносильны мучениям грешника в аду, как бы путь ни был легок».
Если кто-либо из джигитов других эскадронов обращался к своему вахмистру за чаем, сахаром или табаком, то тот отвечал ему:
– Ты что воображаешь! Что твой командир – Натензон?
Несмотря на тяжелую в общем обстановку, туркмены не теряли бодрость духа и верили Уллу бояру.
– Это, Хан, ничего, что дорога тяжелая, – говорили они, когда я приходил побеседовать с ними. – Потерпим еще несколько дней, довезем бояра благополучно на Дон, а там Аллах даст и мы уедем в Ахал. Только бы довезти его благополучно, больше нам ничего не надо.
То же самое туркмены говорили и Верховному, когда он сам разговаривал с ними.
После таких разговоров настроение Верховного улучшалось, и он говорил мне:
– Хан, если бы у меня была дивизия таких джигитов, конечно, не с такими начальниками, как Кюгельген, Эргарт и Ко, то я бы мог многое сделать!
Но эти хорошие минуты быстро улетучивались с появлением Эргарта или Кюгельгена. Оба эти господина портили настроение Верховному – каждый по-своему. Кюгельген раздражал Верховного, как плохой командир полка, но и только, в то время как Эргарт изводил его своей назойливостью и сплетнями.
– Хан, если бы вы знали, как мне надоел Эргарт! Вместо того, чтобы быть возле своих людей в такое тяжелое время и исполнять добросовестно свои обязанности, он вечно приходит ко мне, мешая мне работать. Мне крайне неприятно его присутствие, но еще неприятнее указать ему его место, отослав в эскадрон. В конце концов я должен буду сделать ему замечание, но не понимаю, как он сам об этом не может догадаться! – раздраженно говорил мне Верховный, выведенный из себя назойливостью полковника Эргарта.
– Хан, я не понимаю нахальства Эргарта! Он то и дело просит меня доложить о нем Верховному, а часто, обходя меня, сам стучится к нему, не давая бояру абсолютно покоя! – говорил поручик Бровчинский, офицер 2-го эскадрона, беспредельно преданный Верховному, услышав однажды разговор Верховного со мной в его присутствии.
Действительно, Эргарт все время надоедал Верховному частым своим посещением по мелочам. Но Эргарт этими посещениями хотел показать полку, что он очень близок к Верховному и что тот во всем советуется с ним. Однажды Эргарт даже попытался позондировать почву и подготовить Верховного к тому, чтобы тот назначил его по прибытии на Дон командиром полка. Но Верховный резко оборвал его словами:
– Полковник, сейчас не время заниматься праздными разговорами!
– Почему, Хан, ты не хочешь сказать Эргарту, чтобы он сократил свои посещения Верховного? – спрашивал, злясь, Бровчинский.
– Если я скажу об этом Эргарту, то он подумает, что лично мне неприятно его присутствие у Верховного, и сделает из этого лишь новую сплетню! Лучше будет, если сам Верховный об этом ему скажет, когда придет время! – ответил я Бровчинскому.
– Нам всем хорошо известно, почему Эргарт торчит все время здесь, а не в своем эскадроне. Эргарту стыдно смотреть в глаза джигитам после того, как Верховный разнес его, что он вывел своих людей в поход раздетыми. Эскадроном фактически управляет поручик Конков, который постепенно одевает людей. К тому же Эргарт боится джигитов! – говорил Бровчинский.
Политика Эргарта напомнила мне один восточный рассказ. Герой этого рассказа – купец, желая добиться популярности среди народа и добившись этого, решил, что он теперь может выгодно обделывать свои коммерческие дела, и стал придумывать способы, как этого лучше достичь. Однажды его осенила блестящая мысль. Взяв большой бриллиант, он пошел с ним к царю и поднес ему этот бриллиант. Восхищенный царь спросил, что хочет купец получить за свой подарок.
– Мне ничего не нужно, но если вы, ваше величество, хотите сделать меня счастливым, то на завтрашнем празднике, когда вы выйдете к народу, позовите меня из толпы к себе и скажите мне что-либо на ухо.
Не поняв значения просьбы и удивившись, царь согласился. На другой день, при громадном стечении народа, царь приказал своим придворным отыскать купца, и когда тот явился, царь, не зная, что сказать, спросил его на ухо:
– Как ты поживаешь?
Сделав серьезное лицо и пожав плечами, купец так же на ухо ответил царю:
– Благодарю, ваше величество!
– Теперь ты удовлетворен? – спросил царь. Купец важно кивнул головой и отправился на свое место. При его появлении толпа шарахнулась в сторону, давая ему дорогу, так как видела его интимно разговаривавшим с царем.
В этот же день он получил все свои долги от людей, которые ранее не хотели вернуть ему, и сделал столько выгодных сделок, что он во много раз окупил подаренный бриллиант. Таким образом, хитрый купец добился того, чего хотел.
Но Верховный оказался умнее царя: он сразу понял замысел хитрого купца – полковника Эргарта.
Араб
Отъехав верст пять от нашей последней стоянки, Верховный позвал меня и сказал:
– Полковник Эргарт доложил мне, что в имении, где он ночевал вчера, есть чистокровный араб, которого хозяин-немец хочет продать за 1500 рублей, не желая, чтобы конь этот попал в руки большевиков. Имение это в пяти верстах от нашей последней стоянки. Поэтому прошу вас получить у казначея требуемую сумму, взять несколько джигитов, поехать в имение и, купив этого коня, привести его сюда.
Взяв шесть человек джигитов, получив деньги и расспросив о дороге в имение, я отправился. Имение это не было так близко, как об этом говорил Эргарт, – оно лежало в десяти верстах. Пришлось ехать по крайне враждебно настроенным местам. Заблудившись в лесу, через который лежал путь, голодные, холодные, в три часа пополудни мы приехали в имение.
Окружившие нас мужики начали спрашивать, что нам нужно здесь и где наш отряд, о котором они слышали. Уклоняясь от ответа, поставив часовых у лошадей и приняв все меры предосторожности, я, по приглашению хозяйки-немки, вошел в старинный барский дом с роскошной обстановкой и весьма богатой библиотекой. Хозяйка была настолько любезна, что угостила меня вкусным и сытным обедом со старым вином. Джигиты тоже получили от нее хлеб с маслом и молоко. Прекрасное большое имение стояло запущенным, так как мужики со дня «свободушки» не хотели работать и насильно уводили из имения то коров, то лошадей.
– Я не хочу, чтобы эта лошадь попала в руки хамов и только поэтому ее продаю. Пожалуйста, господин офицер, берегите ее! – говорила хозяйка плачущим голосом, когда из конюшни выводили купленную мною лошадь.
– Хан Ага, и это араб? – спросил один из джигитов, понимавший толк в лошадях, сделав большие глаза при виде «араба».
– Если, Ага, этот конь араб, то мой вдвойне араб! – говорил джигит, смеясь над выбором полковника Эргарта. – Жаль, что здесь нет самого бояра: он никогда бы не заплатил эти деньги, да, наверное, и не купил бы эту лошадь, так как, я думаю, он понимает толк в лошадях.
Лошадь эта была серой масти в яблоках, роста маленького, но жирная, что, очевидно, и привлекло внимание полковника Эргарта. Пока лошадь выводили и разыскивали попону, чтобы покрыть ее, я пошел в дом, чтобы расплатиться с хозяйкой и получить расписку. Не успел я войти в дом, как туда же пришли и мужики.
– Дозвольте к вам войтить и побеседовать с новоприбывшими! – сказал один из мужиков, стоя у порога столовой.
– Господи, когда мне будет покой от этих дураков? – шепотом сказала хозяйка, идя к ним.
– Что вам надобно от меня? Почему вас интересует мой дом вообще в последнее время?
– Нам надобно узнать об этих господах, которые, говорят, едут и грабят мирных жителей по дороге. Это правда, хозяйка? – спросил стоявший впереди мужик.
– Господа, да это совсем не они, а большевики, которые успели проникнуть во все деревни! – ответила хозяйка.
Желая узнать, в чем дело, и я подошел к пришедшим.
– Нам надобно узнать, что вы за люди и куды путь держите? – спросил меня тот же мужик.
– Мы казаки Дикой дивизии. Сейчас за нами движется сюда сорок тысяч казаков. Им нужны квартиры и фураж для лошадей. Я, как квартирьер, еду вперед, чтобы приготовить квартиры и все необходимое для дивизии. В доме этой дамы я отвожу квартиру для моего начальника дивизии.
– Сколько вы говорите? Сорок тысяч? Боже мой, как много! И все сюда едут? – перебил меня пораженный мужик, которого начал тащить за полушубок стоявший сзади его товарищ, как бы говоря: «идем отсюда поскорее, это не они».
Заметив это движение, я, повысив голос, приказал:
– Идите сейчас же в вашу деревню и передайте старосте, чтобы он немедленно явился сюда ко мне. Я хочу ему отдать распоряжение относительно приготовления квартир и корма для дивизии. Да пусть поторопится. Наш начальник дивизии – злой. Если к завтрашнему утру не будет все приготовлено, то он старосту может повесить!
– Спроси, Иваныч, зачем их сюда несет?! – просил какой-то старик с рыжей бородой разговаривавшего со мной мужика.
Последний поспешил заявить, что староста он и что постарается приготовить поскорее все требуемое.
– А нам передали иначе… Стало быть, это неправда! Говорили, что Корнилов, атаман шайки, убежал из Быховской тюрьмы и что надобно его поймать, а если нельзя, то его банде всячески мешать, не давая им ни корма, ни ночлега. А ежели кто окажет сочувствие, то тому смерть.
– Наша дивизия-то и идет ловить его! – сказал я.
– Ежели это так, то надобно помочь, робята. Когда, говоришь, барин, ваши-то приедут? – И, узнав, что завтра, староста поспешил в деревню.
Воспользовавшись уходом мужиков, я хотел поскорее уехать, но не мог, так как лошадь оказалась не подкованной. Пока нашли кузнеца, пока уломали его, пообещав пять целковых, и пока подковали передние ноги, стало садиться солнце. Когда все было готово, в имении опять появился какой-то тип, по виду бывший солдат, который мне заявил:
– Вы отсюда не уедете, так как по всем признакам и по тому, что передали нам по телефону, вы принадлежите к отряду Корнилова, бежавшего из тюрьмы. Староста с мужиками сейчас придут сюда.
Предвидя, какой разговор предстоит мне со старостой, я, быстро попрощавшись с хозяйкой, приказав джигитам садиться и захватить купленного коня, сказав пришедшему: «Я сам поеду к твоему старосте!» – и пустив лошадей рысью, мы направились к мосту, который отделял деревню от леса.
– Стой! Староста – направо! – кричал нам вслед пришедший, но мы, не обращая внимания, продолжали путь в том же направлении.
Спускались сумерки. Мороз с каждой минутой становился сильнее. Снег комьями летел из-под копыт лошадей.
– Стойте, дьяволы! Стрелять будем! – раздались голоса справа у моста, где виднелись какие-то фигуры, шедшие, очевидно, арестовать нас или захватить мост, чтобы пресечь нам дорогу.
Вместо ответа, пришпорив сильнее коней, мы помчались стрелой по плохому деревянному обмерзшему мосту. Сзади нас раздалось два выстрела. Какие трудности мы преодолели с арабом в эту минуту, одному Аллаху известно! Услышав выстрелы, он заметался из стороны в сторону, то порываясь вперед, то пытаясь вырваться, то становясь на дыбы.
– Мамет, держи крепко! За рекой мы спасены! – кричал я джигиту, увидя эту картину.
Туркмен, обмотав обе руки веревкой, на которой он вел араба, выпустив поводья своего коня, мчался за мной, таща изо всей силы обезумевшего от страха араба.
Проскочив мост, мы скрылись в лесу, где поехали шагом.
– Бэ, Ага, какой неприятный день для нас. Хорошо, что ты сразу догадался, в чем дело. Не догадайся во время ты, и мы бы оставили в имении и наши головы, и араба. Наше счастье, Ага, что они плохо были вооружены. Как-то мы теперь перескочим через деревню, что впереди?! Тут все – враги! – говорили джигиты, немного успокоившись.
– Ничего, джигиты! Аллах с нами. Проскочим! – ответил кто-то.
Зная Верховного как человека, никогда и ничего не жалевшего для близких ему людей и очень скупого в отношении себя, я поразился его прихоти купить за такие большие деньги коня в то время, когда надо было беречь каждую копейку. Кроме того, не видя и не зная этого несчастного араба, он поверил человеку (Эргарту), которого, как говорил, хорошо знал. Зачем ему надо было покупать этого «араба»? Для себя? Едва ли, ибо все кони полка были в его распоряжении, да и он терял уже надежду доехать на Дон верхом. Для полка? Тогда зачем же тратить столько денег и вести араба за собой на поводу?
– Это, Ага, не конь, а ишак! Если бы у него было хоть немного чистой крови, то он, почуяв опасность, был бы послушным, как и наши, а этого он не понял, испугался и начал беситься! – заметил один из джигитов, как бы прочитав мои мысли.
Было уже совсем темно, когда мы подъехали к какому-то хутору, где решили подождать восхода луны, чтобы при свете ее отыскать следы прошедшего вперед полка.
– Ага, полк прошел здесь! Посмотри, это все следы лошадей нашего полка! – сказал следопыт, при лунном свете отыскавши на мерзлой земле следы подков.
– Не пропускай эти следы, веди по ним! – приказал я следопыту, ехавшему впереди нас, так как дорога разветвлялась во все стороны.
В три часа утра мы увидели вдали большие огни, которые то вспыхивали, то потухали.
– Это наш полк! – крикнул радостно следопыт.
– Кто едет? Стой! – послышался оклик по-русски. Этот был окрик поручика Раевского. Увидев меня, он, подойдя ко мне и здороваясь, сказал:
– Знаете, Хан, если бы вы еще через полчаса не вернулись, то генерал послал бы меня на розыски вас. Слава Богу, все благополучно? Привели араба? Где он? Дайте, Бога ради, взглянуть на него. Ну, знаете, и идиот же этот Эргарт, рекомендовавший эту покупку! Разве генерал лошадей не знает? Ну, слава Богу, голубчик, что вы живы и здоровы вернулись, это самое главное! Я очень рад видеть вас, и генерал также будет рад, что вы возвратились невредимы. Он раскаивался потом, что послал вас за этой лошадью. «Как бы его не убили, бедняжку!» – говорил он вчера нам.
На мой вопрос, что тут делают люди, поручик ответил, что полк переходит реку и что Верховный с эскадронами уже на другом берегу, а сейчас переходит пулеметная команда. Подъехав к реке, я увидел следующую картину: человек тридцать туркмен были заняты на берегу разбором ветхих и брошенных домов. Их крыши и деревянные стены шли на постилку по льду. Нетолстый лед гнулся под ногами людей и лошадей.
– Больше соломы! Соломы давайте, а то лед не выдержит! – кричали джигиты.
Огни, которые мы видели издали, служили освещением переправы.
– Веди поскорее! Не задерживайся! Веди, веди, не бойся! – слышались голоса джигитов.
Вот дошла и до меня очередь переправляться с диким арабом, который то становился на дыбы, то лягал подходивших.
– Побольше соломы тащите, а то опять вода появилась над льдом! – слышал я, когда, читая молитву, шел по льду, держа за трензель свою лошадь.
Под ногами лед поддавался и трещал. Сквозь солому выступала вода. «Булдых!» – услышал я сзади, и через мгновение послышались душераздирающие крики:
– Тащи!.. Остальные назад! Подожди!.. Тащи!.. Не выпускай поводья!.. Течение уносит!.. А ты куда прешь?! Назад!.. Ну, слава Богу!.. Вытащили. Да… да!
Я вышел благополучно на другой берег. Оказалось, что провалился один из моих джигитов. Стоял предрассветный час. Звезды на небе, потеряв свой волшебный блеск, собирались исчезнуть. Восток слегка румянился. Везде иней… на полях, деревьях, людях, лошадях. Люди усталые, измученные, без сна, но вид у них бодрый. Не слышно ни слова ропота. Лошади стоят и спят. С высокого холма следил за переправой усталыми, но все еще горящими и пронизывающими глазами сам Уллу бояр.
– Ну что, дорогой Хан, все благополучно? А я уже раскаивался, что послал вас! Где араб? – спросил Верховный.
Подвожу.
– Да это ведь не араб! – произнес разочарованный Верховный, глядя на лошадь. – Прикажите отдать ее моему конюху, чтобы он накрыл толстой попоной и вел за нами! – полусердитым тоном произнес он.
Переправа закончилась в пять часов утра, и мы без сна, еды и отдыха тронулись дальше.
Чуткие души
Проехав безостановочно целый день после ночной переправы, мы вечером остановились в имении помещика Катрожникова. Здесь Верховный дал полку четвертую дневку и приказал перековать лошадей. Целый день он был занят осмотром полка, хотя это было дело полковника Кюгельгена. Беседуя с туркменами, Верховный спрашивал, многие ли из них еще не получили теплые вещи и много ли негодных к дальнейшему пути лошадей? Узнав, что полк еще далеко не одет и количество отстающих джигитов все растет и растет, он страшно разозлился. В этом имении им было приказано бросить несколько аргамаков, которые не были в состоянии преодолеть дальнейший путь. В числе брошенных оказался премированный красавец серый жеребец поручика Нейдгарта.
Наконец терпение Верховного лопнуло. Раздраженный беспорядком в полку и назойливым торчанием полковника Эргарта у него, Верховный, позвав командира полка, приказал передать офицерам, чтобы они все находились на своих местах и занимались своим делом, вместо того чтобы беспокоить его и мешать ему работать. И только после этого приказания Верховный немного отдохнул от бесцеремонных посетителей.
Хозяин имения встретил нас очень радушно и приветливо. Обрадовавшись прибытию столь высокого гостя, он устроил роскошный обед и ужин, к которым были приглашены из ближайших имений даже дамы. Забыв тяжелый путь, вечером, под звуки грамофона мы все танцевали, отдыхая в этой уютной обстановке, были счастливы и довольны. Все неприятности и усталость были разом забыты. Перед отъездом из имения помещик предупредил Верховного, что большевики, узнав от бежавших солдат нашего полка, что генерал Корнилов едет на Дон, начали сосредотачивать свои силы на узловых станциях, чтобы поймать его. После этого сообщения Верховный, задумавшись, начал что-то отмечать на карте красным и синим карандашами.
– Это сообщение, Хан, голубчик, не из приятных. Банда эта не была бы страшна, если бы полк находился в других руках, – сказал мне Верховный, узнав от командира полка, что в полку нет ни одного золотника взрывчатых веществ, никаких инструментов для порчи железнодорожных мостов, путей, телеграфных линий и никаких медикаментов на случай боя.
Верховный был мрачен и задумчив.
Выступив из имения перед рассветом и проехав верст сорок, мы подъехали к городу Суражу. Перед мостом Суража, приняв все меры на случай встречи с большевиками, мы с заряженными винтовками в руках въехали в город. Было около десяти часов утра. Несмотря на то, что солнце ярко светило, было очень холодно. Граждане города, высыпавши на улицы, приветливо кланялись и крестили нас, когда мы проезжали мимо них. Отъехав приблизительно версты три от Суража, мы остановились в одном бедном селе, совершенно непохожем на те, которые встречали до сих пор. Жители его не бежали от нас, так как до них, очевидно, еще не дошло сообщение о чудовищном атамане шайки – Корнилове.
Верховный вошел в первую попавшуюся избу.
– Хан, передайте полковнику Кюгельгену, что мы через два часа выступаем и чтобы люди не особенно разбредались! – приказал мне Верховный.
Исполнив приказание, я возвратился в хату и застал Верховного разговаривающим с мужиком, хозяином хаты.
– Что ты скажешь о появлении большевиков у Клинцов? Может быть, знаешь, зачем они там появились? – спросил его Верховный.
– Не смогу доложить! Пущай являются – значит, есть дело, коли их привязли туда! – ответил мужик и, помолчав немного, спросил: – А вот вы мне скажите, куда вы путь держите?!
– Домой! – ответил Верховный.
– Домой? А где ваш дом-то?
– На Кавказе!
– Вот что! А почему верхами, а не по железке?
– Потому что железка занята!
– На Кавказ… Вот что!!! – протянул мужик.
– А что? – поинтересовался Верховный.
– Да ничаво! – и опять немного помолчав, добавил: – Едва ли вы доедете!
– А почему бы нам не доехать? – удивился Верховный.
– Да уж больно у людей и у лошадей вид-то измученный. Да к тому же и зима-то суровая, а путь далекий, да и тяжелый! – сказал мужик, прищурив глаза и доставая из кармана махорку.
Верховный глубоко вздохнул, вынул карту и погрузился в думы.
Действительно, вид лошадей и людей за шесть дней тяжелого пути от холода, голода и бессонницы сильно изменился. С каждым днем число отстающих от полка джигитов все увеличивалось. Они отставали пачками – по два-три человека вследствие болезней, да и оттого, что лошади их хромали, потеряв подковы, или, просто отстав, попадали в руки враждебно настроенных мужиков, которые их убивали и обирали. Таким образом, и без того далеко не полный полк, состоявший из четырех эскадронов, из которых каждый имел не больше 70–80 человек, по мере движения вперед все таял и таял.
– Эй, дядя, свари-ка нам картошки! – обратился Верховный к мужику, как бы очнувшись от глубокого сна и на мгновение оторвавшись от карты.
– Почаму бы и нет, коли она есть! – промолвил мужик, выходя в сени.
Верховный сидел молча, задумавшись над картой. Мужик принес картошку и поставил ее вариться. Солнце скрылось за тучами, подул ветер и пошел снег. За самоваром в теплой хате было так хорошо и уютно, что клонило ко сну. Самовар равномерно шипел на столе, обдавая всех присутствующих паром. Была тишина, нарушаемая бурлением воды, кипевшей в горшке, в котором варилась картошка. Вдруг на дворе перед окном, где сидел Верховный, послышались детские голоса, спрашивающие, где хата генерала Корнилова. Желая выйти, чтобы узнать, в чем дело, я открыл дверь хаты и на пороге столкнулся с маленьким кадетом, спрашивающим разрешения войти. Получив разрешение и войдя в хату, он обратился к Верховному со словами:
– Ваше Высокопревосходительство! Узнав, что Вы проехали из Быхова до Суража благополучно, мы пришли от души поздравить Вас и пожелать Вам дальнейшего счастливого пути. Наши родители не могли это сделать, так как Вы безостановочно проследовали через город.
Широко открыв глаза от удивления и выслушав до конца малыша, Верховный, улыбнувшись, спросил:
– Вы что, одни сюда пришли? И откуда вы узнали, что я остановился здесь?
– Я узнал от Ваших людей, что Вы остановились здесь, и сюда пришел не один, а с другими. Разрешите и им войти?
– Конечно, конечно! – ответил Верховный, улыбаясь, все еще не приходя в себя.
Вся изба вмиг наполнилась детьми, одетыми по праздничному и с цветами в руках, которые они по очереди подносили Верховному. Тронутый этим, Верховный, поцеловав кадета и одну маленькую девочку и посадив их к себе на колени, спросил:
– Откуда вы узнали, что я – Корнилов?
– Узнали мы об этом от своих родных, и кроме того, в доме каждого из нас есть Ваша карточка! – отвечали они.
– Вас Керенский посадил в карцер? – спрашивала одна девочка и, не успев получить ответ, задавала другой вопрос: – А зачем Вы сели?
– Ведь Вы больсой! – удивлялась другая.
Верховный, краснея, хохотал и, обернувшись в мою сторону, сказал:
– Слышите, Хан?! – и немного погодя, лаская кадета, вздохнул и с влажными глазами добавил: – А он с Юрика будет, Хан?
– Нет, а Вы сказите, поцему Вас «он» посадил в карцер? – настойчиво повторяла девочка, не получив ответа на прежде заданный вопрос.
– А потому, что я не выучил свой урок! – ответил Верховный.
– А зачем Вы не приказали Вашему денщику выпороть Керенского? – спрашивала другая.
Услышав это, Верховный расхохотался.
– Фу, как я не люблю Керенского! – надув губки, произнесла девочка, интересовавшаяся арестом Верховного.
– Бог его накажет за это! – произнес серьезно кадет.
– Дай Бог, дай Бог! – повторили хором дети, складывая ручонки как бы перед молитвой.
За разговором с детьми мы не заметили, как прошло время, назначенное для отдыха. Не допив чая и положив горячие картошки в карманы, простившись с детьми, мы двинулись дальше.
– Счастливого пути, счастливого пути! – кричали дети нам вслед, махая ручонками и платками.
– Какие прелестные создания! Как легко становится на душе после беседы с этими чуткими и чистыми созданиями! – сказал в пути Верховный, поворачиваясь ко мне.
Долго он не мог забыть светлую минуту прихода детей, понявших своей чистой детской душой незаслуженные страдания великого патриота.
Отъехав немного от последней остановки, Верховный приказал командиру полка выслать разъезд к железнодорожной станции Унеча с целью выяснить, есть ли там какие-нибудь воинские эшелоны, если же их там нет, то отвести на станции квартиры для полка.
По назначению командира полка в Унечу должен был поехать с двумя взводами совсем неопытный в военном деле брат начальника пулеметной команды, прапорщик Рененкампф. Вызвав его к себе, Верховный приказал:
– Прапорщик Рененкамф, по приезде в Унечу вы немедленно донесите мне, есть ли там воинские части, и если есть, то когда они прибыли. В случае отсутствия частей отведите там квартиры для полка. Кроме того, заняв станцию, порвите телеграфные провода и на всех перекрестках дорог поставьте маяки.
Маяки эти должны были быть поставлены для того, чтобы мы могли, не прибегая к посторонней помощи в разыскивании дороги, свободно ехать. Предполагалось, что к Унече мы подойдем уже поздно.
День клонился к вечеру. Дул пронизывающий сильный северный ветер, бросая в лицо путникам тучи снега. Желая согреться, люди слезли с лошадей и пошли пешком. Верховный и я, слезши с лошадей и повернувшись боком к ветру, тоже пошли пешком. Идя, заговорили мы о Юрике, о семье и о жизни в Быхове и вообще говорили обо всем, чтобы, как говорят туркмены, «резать дорогу». Пройдя пешком версты три-четыре и съев по две картошки, мы решили сесть на лошадей. Остановились. Верховный, глядя вдаль и как бы вспомнив что-то забытое, сказал:
– Одно меня беспокоит, Хан, благополучно ли доехал генерал Деникин на Дон? Очень будет жаль, если он попадет в руки большевиков.
На усах висели ледяные сосульки.
– Ничего, Ваше Высокопревосходительство, даст Аллах – он благополучно доберется на Дон. Уехал он не в такой обстановке, в какой изволите ехать Вы. В общей массе незаметно проехать – легко, тем более что все внимание большевиков сосредоточено на нас! – ответил я.
Оглянувшись назад, я увидел редкую картину, на которую тотчас же обратил внимание и Верховного, собиравшегося сесть на подведенного Тиллой жеребца.
– Посмотрите, Ваше Высокопревосходительство, какая редкая картина! Жаль, что у нас нет фотографического аппарата, чтобы запечатлеть эту картину похода из Быхова на Дон! – сказал я, обращая внимание Верховного на виденное мною сзади.
Полк спускался с холма. Фигуры джигитов в бурках и в шинелях, в больших черных папахах, все как один облепленные снегом и с ледяными сосульками в бородах и усах, с шеями и руками, обмотанными разноцветными тряпками, ведя на поводьях своих изнуренных лошадей, боком двигались против ветра. Усталые боевые соратники их, верные друзья, свидетели лихих атак на полях Червонной Руси – аргамаки, печально опустив головы, покорно двигались за своими хозяевами туда, куда вела их эта маленькая незаметная фигура человека, прозванного ими же Великим бояром. Глядя на эту картину, я невольно вспомнил картину отступления Наполеона из Москвы.
Стало темнеть, когда мы въехали в лежавшее недалеко от Унечи село Красновичи.
По улицам села Красновичи навстречу нам попадались мужики, которые смотрели на нас злобно исподлобья. Большая часть из встреченных с нами не здоровалась, а на наш вопрос, проехали ли сегодня здесь солдаты в больших папахах, они отвечали, протягивая каждую букву:
– Про-е-ха-ли!
Впереди полка, слегка покачиваясь, ехал Верховный.
– Далеко ли до Унечи и как туда проехать? – спросил он у одного мужика, переходившего нам дорогу.
– Недалече… Езжай так, прямо, впяреди тебя будет лес, лесок-то проедешь, а там уже до Унечи рукой подать! – ответил, высморкавшись и одевая рукавицы, мужик.
Верховный расспрашивал мужиков о дороге потому, что прапорщик Рененкампф не оставил нигде ни одного маяка, да и вообще не исполнил приказания.
Поехали по направлению леса, стоявшего впереди громадной и неприступной горой.
– Хан, голубчик, вы едете рядом со мной и никогда не хотите спросить у встречных, куда и как нужно ехать. Все я должен расспрашивать! – заметил Верховный, подозвав меня к себе.
– Ваше Высокопревосходительство, отец мой и старики-туркмены учили меня следующему: «Никогда не езди в то место, куда ты не знаешь дорогу. Если же тебя заставляет нужда ехать туда, то бери проводника, которому ты веришь. Сделав семь шагов от своего дома, ты уже находишься всецело в руках своего проводника! Едучи по враждебной земле, никогда не спрашивай дорогу у встречных, так как эти люди могут указать тебе неправильное направление!» – ответил я.
– Отчасти, Хан, это правда, но все же для того, чтобы проверить дорогу по карте, надо их спрашивать! – сказал Верховный.
– Ваше Высокопревосходительство, если вы хотя каплю доверяете мне, то прошу вас не возлагать на меня эту обязанность, так как им я не верю, а если мы заблудимся, то вся вина тогда ляжет на мою совесть, – просил я Верховного. – Вот этот мужик указал нам дорогу, и мы не проверили, правильно ли он нам указал ее, – закончил я.
– Хорошо, хорошо, Хан, если не доверяете, то лучше не спрашивать их! – сказал Верховный, а немного погодя, вынув карту и складывая ее, добавил: – Я хотел было проверить путь по карте, но нельзя, темно.
Стало совсем темно, когда мы подъезжали к лесу.
– Ваше Высокопревосходительство, если вы хотите знать мое мнение, то я посоветовал бы Вам сегодня остановиться на ночлег в селе Красновичи! – сказал я, подъехав к Верховному.
– Почему, Хан, вдруг такое предложение? – удивился Верховный. – Ведь мужик сказал, что за этим лесом будет Унеча!
– Туда мы приедем поздно ночью, и будет тяжело найти людям квартиры, а вернувшись в Красновичи, они легко их найдут не только для себя, но и для лошадей. Мы так быстро ехали, что люди и лошади измучились, устали и промерзли! – сказал я.
– Ничего, Хан, пусть люди немного потерпят! Приедем в Унечу и отдохнем. В Красновичи возвращаться не хочется, так как мы уже его проехали. Не стоит терять времени! – проговорил Верховный, когда мы въехали в лес.
Через громадный темный лес пролегала небольшая и узкая дорога. В лесу лежал глубокий снег, что дало нам возможность ясно отличать дорогу, вившуюся среди него резко-черной лентой. Огромные столетние деревья, покрытые снегом, стояли молчаливо, не шевелясь. Кругом была зловещая тишина. Вокруг ни души. Тишину эту нарушил Верховный, который не мог забыть халатности прапорщика Рененкампфа.
– Черт знает что за господин этот Рененкампф?! Почему он здесь не оставил маяка, я же приказал! Нет, это безобразие!.. Да! – вздохнул он, заметив в лесу другую дорогу, шедшую влево. – Вот теперь узнай, куда надо ехать!.. Нет, это полное безобразие! Черт знает что такое! – добавил он, направляя своего коня прямо, не сворачивая влево.
Стало еще темнее и с трудом можно было различать предметы. Только сверху была видна полоса уходившего куда-то вдаль неба, напоминавшая собою реку. Измученные люди стали нервничать и ругать Рененкампфа за то, что он не поставил маяки. Были слышны отдельные голоса среди джигитов, говорившие, что бояр слишком мягок с офицерами полка и что он должен был прибрать их к рукам сразу, как только сел на лошадь. Назначать же офицеров в таких случаях должен был он сам, а не поручать командиру полка, с которым никто не хочет считаться.
– Не забывайте, что Уллу бояр наш гость и поэтому он не желает распоряжаться чужой кухней! – успокаивал я нервничавших, подъезжая к ним.
Проехав два часа, мы заслышали впереди стук колес.
– Стой! Кто едет? – спросил Верховный, остановив ехавшего.
– Я – батюшка из села Красновичи! – был ответ.
– Батюшка, скажите, пожалуйста, как надо ехать на Унечу? – спросил Верховный.
– В Унечу? – удивленным голосом переспросил батюшка. – Вы уже давно проехали ту дорогу, которая ведет в Унечу! – ответил батюшка.
– Как проехали? – в свою очередь удивился Верховный.
– Да так! Ведь вы, наверно, заметили дорогу, идущую влево в начале леса? Да? Вот это и есть дорога на Унечу! – пояснил батюшка и, попросив разрешение, поехал дальше на своей паре по направлению Красновичей.
Возмущенный до глубины души распущенностью прапорщика Рененкампфа, не говоря ни слова, Верховный приказал командиру полка повернуть полк назад. Проехав назад два часа, ровно в десять мы поехали по дороге, идущей влево и указанной батюшкой. Ехать по этой дороге было почти невозможно, так как она была очень узкая, да к тому же она скоро прекратилась, и мы двинулись вперед на авось. Лошади проламывали лед и начали проваливаться в воду. Оказалось, что мы ехали по болоту, покрытому льдом и снегом. Люди спешились и, проваливаясь в воду, которая через мгновение превращалась в ледяную кору на их одеждах, двигались вперед. Наконец, после тяжелой часовой ходьбы, мы влезли в такую чащу, что двинуться вперед не было никакой возможности. Верховный, поручики Конков, Салазкин и я, пошли вперед со спичками искать дорогу, но не найдя ее, через некоторое время возвратились.
– Назад! – раздраженно приказал Верховный и сам пошел вперед.
Повернув лошадей, мы с трудом возвращались по уже пройденному кошмарному пути, пока, наконец, вновь выбрались на главную дорогу. Было около 12 часов ночи.
– Хан, поезжайте в Красновичи и привезите из первой попавшейся избы мужика! – приказал Верховный.
После часа езды я с четырьмя джигитами приехал в село Красновичи, которое, погруженное во мрак, спало мертвым сном. Собаки с лаем набросились на нас. Я постучал в дверь хаты, стоявшей на самом краю деревни.
– Кто там? – послышался сонный и недовольный мужской голос.
– Мы! – ответил я.
– Кто же это «мы»? – спросил тот же голос.
– Открывай, есть к тебе дело!
– Какое там дело ночью? Кто вы такие?
– Открывай же, а то взорвем твой дом, черт тебя возьми! – крикнул я ему, выведенный из терпения.
Мужик немедленно открыл.
– Ну, чаво вам надобно? – произнес он, почесывая затылок.
– Садись скорее на лошадь. Поедешь с нами показать дорогу на Унечу. За это получишь пять целковых! – обещал я мужику.
– Нету! Я не поеду, и денег мне не нужно!
Не успел он произнести эти слова, как два туркмена, схватив его, посадили на лошадь. Увидя это, его жена заплакала и притащила ему полушубок и шапку с рукавицами, который на него одели туркмены.
Не доезжая до леса, мы встретили Верховного, возвращавшегося с полком в Красновичи.
– Везите, Хан, его обратно! Мы будем ночевать в Красновичах! – приказал Верховный, увидев меня с мужиком.
– Слышь, земляк!.. – взмолился мужик, когда я собирался было ехать обратно.
– Что тебе нужно? – спросил я его.
– Прикажи этим дьяволам, чтобы они мои ноги-то развязали. А то больно веревка-то режет…
Оказалось, туркмены, посадив его на лошадь, успели связать ему ноги под брюхом лошади, чтобы мужик не соскочил.
– Мы, Хан Ага, с ним поступили, как с персом! – пояснили мне джигиты, смеясь.
Мужика мы везли с собой. Завидя дом, он, набравшись смелости, обратился ко мне:
– А что же пять целковых-то, барин?
Получив деньги, он успокоился и, лишь посматривая на джигитов, говорил:
– Эй вы, дьяволы, а как ловко посадили меня-то на лошадь!
Войдя в избу и увидя, что жена его все еще плачет, он, успокаивая ее, говорил:
– Ну, чаво, дура, плачешь? Разве не видишь, что я вернулся?! Получи деньги, да сосчитай!
Верховный решил остановиться у священника. Войдя в дом, он начал укорять священника за то, что тот направил нас по ложному пути, и рассказал, как было. Священник, широко открыв глаза, уверял Верховного, что это был не он.
– Нет, я никуда не ездил. Я весь вечер был дома! Быть может, это был священник из другого села или наш дьяк? А ну-ка, пойди узнай, дома ли он? Если дома, то позови его сюда. Скажи: «Вас батюшка просит!» – добавил он, посылая сына за дьяком.
Пока Верховный разговаривал с пришедшим дьяком, я, все еще не веря священнику, побывал в его сарае, где стояли дрожки, оказавшиеся совершенно чистыми и сухими. А придя в конюшню, я убедился, что лошади и попоны тоже были сухие. Обо всем этом я доложил Верховному, успокоив этим и его. Выпив по чашке чаю в три часа ночи мы с Верховным улеглись в одной комнате.
Предательство
Верховный имел обыкновение выступать не позже пяти часов утра, а иногда и в четыре. Джигиты в Красновичах не успели отдохнуть. Пока они находили квартиры для себя, помещение и корм для лошадей, наступило утро, когда не приходилось уже думать о сне или отдыхе, а надо было выступать.
Верховный приказал командиру полка в четыре часа утра послать двух туркмен к прапорщику Рененкампфу, чтобы узнать у него, в каком положении находится порученное ему дело и может ли полк идти в Унечу. О результатах немедленно сообщить ему.
Напившись чаю, Верховный пожелал проехать в полк, который ждал его в пешем строю за деревней в открытом поле. В этот день, 26 ноября, Верховный хотел поздравить полк с праздником Св. Георгия.
Лошади уже не играли и не танцевали на месте, как это бывало в первые дни выезда из Быхова, а стояли хмуро, лениво открывая и закрывая свои глаза и поджимая хвосты. Их хозяева, стоявшие возле них, были бодрее. Мороз давал себя чувствовать, и джигиты, чтобы согреться, прыгали и били друг друга по спине. Место, где был построен полк, было заметно издали – над ним от дыхания стояло большое облако пара.
– Бяшим, хозяйка в хате, где ты остановился вчера на ночлег, кажется, была молодая и красивая. Разве тебя она не согрела? Что ты дрожишь, как голодная борзая?! – заметил кто-то из джигитов, увидев дрожавшего от холода Бяшима, моего вестового.
– Какой черт может думать сейчас о красоте и о женщине, когда я уже третий день не сплю, потому что останавливаемся очень поздно и выступаем очень рано. От холода и усталости мой собственный нос мне кажется тяжелым. А ты, Сарик, толкуешь о женщине! – ответил Бяшим.
– Подожди, Бяшим, если Аллах будет нашим спутником, то, приехав благополучно с бояром на Дон, отдохнем как следует. А там отправимся в Ахал, где тебя с нетерпением ждет твоя невеста! – успокаивал Бяшима Сарик.
– Дай Аллах, дай Аллах поскорее доехать благополучно. А то мы сейчас как затравленные в степи волки. Русские не только не хотят нам помочь, а даже продавать ничего не хотят за наши деньги. Все прячут. Я никак не могу понять одного: почему жители всех деревень относятся к нам так враждебно. Ведь мы же везем не текинского Хана, а их же Верховного Главнокомандующего, русского человека! – вмешался кто-то.
– Эй, пусть один Аллах будет нашим другом, а что эти люди относятся к нам враждебно, это ничего! – ответил Сарик.
Я доложил Верховному, что полк построился, и мы, попрощавшись с батюшкой, поехали к полку.
– Полк, смирно! Господа офицеры! – раздалась команда командира полка, когда Верховный подъезжал к полку.
Спешившись и приняв рапорт от командира полка, поздоровавшись с ним и с полком, Верховный произнес приблизительно следующую речь:
– Славные туркмены! Поздравляю вас с праздником Св. Георгия. Вы покрыли себя славой, оставшись верными заветам своих славных предков, в дни тяжелых испытаний нашей Родины. Я знал вас как верных сынов России по прежней моей службе в Средней Азии. Окруженный такими соратниками, я не боюсь никакой опасности со стороны тех, которые избрали путь неправды и преступления. Негодяй Керенский, не считаясь с переживаемыми Родиной испытаниями, создал такую обстановку, из которой верным сынам России трудно найти выход. Этот выход я надеюсь найти только с оружием в руках, а не словами. Может быть, мне придется перенести еще горчайшие испытания, но опираясь на таких верных молодцов, как вы, туркмены, я уверен, что преодолею все препятствия. Я верю, что, собравшись с силами на Дону, мы твердо пойдем против предателей и врагов Родины. Поздравляю вас с Георгиевским штандартом, который вы давно заслужили! Низкий поклон вам, мои верные текинцы! Пройдут годы и придет время, когда вас будет благодарить вся Россия. С нами Бог!
Полк, затаив дыхание, молча выслушал речь Верховного. По лицам туркмен можно было прочесть, что их очень мало трогает Георгиевский штандарт и будущие планы бояра. Их интересовало не это, а как бы поскорее довезти бояра, куда он стремится, и затем с разрешения его уехать домой.
– Объясните мои слова туркменам! – приказал Верховный командиру полка, закончив свою речь, а сам отошел в сторону.
– Хан Ага, переведи точно, что сказал бояр! – кричали джигиты из строя.
Услыхав это, командир полка приказал мне перевести речь Верховного. Войдя в гущу джигитов, я перевел ее. Не успел я закончить перевода, как окружавшие меня джигиты заговорили:
– Эй, бояр, бояр, ты говоришь о Георгиевском штандарте, георгиевских крестах. Пусть все это останется у тебя. Сердце туркмена крестами не украсишь и штандартом не укроешь. За твой низкий поклон мы отвечаем тебе тем же. Ты один только понял нас, и лишь ты обращал на нас внимание во все время похода. Мы поняли тебя и знаем, что ты переживаешь и как болеешь за нас душой. Нам ничего не надо! Дай Аллах, чтобы мы добрались, куда ты хочешь, а там ты нас отпустишь в наш родной Ахал. А если вздумаешь ехать с нами дальше, милости просим, будешь нашим желанным гостем. Ты это, Хан Ага, передай нашему бояру.
– Хорошо, Хан, по приезде на Дон я их отпущу с радостью. Они имеют на это полное право и требовать от них больше того, что они сделали, я не вправе. Я искренно признателен за их честную службу общему делу и благодарю за их приглашение. Вы это им передайте, пожалуйста, Хан, при удобном случае, а сейчас вперед! – сказал Верховный, намереваясь сесть на лошадь.
В это самое время, откуда я не знаю, к нам подошел мужик в новом полушубке желтого цвета.
– Здравствуйте, господин генерал! – обратился он к Верховному, сняв шапку.
– Здравствуй! Ты кто, большевик? – спросил Верховный.
– Я простой мужик, но у меня от всех этих разговоров и вопросов идет кругом голова. Один приходит – хвалит большевизм, а другой – меньшевизм. Я не понимаю ни того ни другого, а поэтому не знаю, как и быть.
– М-м… Из какого ты села? – спросил Верховный.
– Здешний! – ответил мужик и добавил: – Больно вы, господин генерал, сладко давеча говорили своим солдатам. Действительно, язви его, Керенский убежал, да говорят еще, в одежде сестры, – засмеялся мужик, прищурив глаза и вытирая иней с усов.
– А, сладко! – повторил Верховный, садясь на лошадь и слегка улыбаясь.
– Господин генерал, кажется, вы едете в Унечу и заблудились. Дорога до Унечи очень короткая. Разрешите мне проводить вас кратчайшим путем. Кстати, мне нужно там быть по одному делу, но мне не хотелось бы идти пешком! – говорил мужик уже севшему на лошадь Верховному.
– Ты знаешь кратчайшую дорогу?.. Полковник, дайте ему лошадь! – приказал Верховный командиру полка.
Мужику моментально была подана лошадь, и Верховный, а за ним и весь полк двинулись вперед.
Было около восьми часов утра. Все кругом было покрыто толстой пеленой ослепительно белого снега. Солнце уже несколько поднялось. Прозрачный и чистый воздух легко вдыхался легкими, а пробегавшая по спине волна холода заставляла ежиться все тело и еще плотнее кутаться. Полк двигался длинной лентой по необъятному для глаза полю. Сонные джигиты очень лениво отвечали на задаваемые им вопросы, ежеминутно сладко зевая. Лошади, как бы очнувшись от тяжкой думы, пройдя некоторое расстояние, разошлись. Из-под копыт лошадей летели твердые комья хрустящего снега. Второй эскадрон шел головным. Когда я, исполнив просьбу Верховного о передаче благодарности джигитам, возвращался на свое место, меня подозвал к себе ротмистр Натензон и просил меня передать Верховному, чтобы тот приказал реквизировать чай в Унече для джигитов, если таковой там найдется.
– У меня истощается запас, и вы сами понимаете, как тяжело джигитам выступать по утрам без чая. Я надеюсь, Хан, что вы сумеете доложить Верховному! – закончил он.
От села Красновичи мы отъехали не больше пяти верст. Мужик вел нас по совершенно новой дороге. Я подъехал к Верховному, чтобы передать просьбу Натензена. Не успел я открыть рот, как откуда-то раздался выстрел. Услышав выстрел, мужик рванулся вперед и, отъехав на небольшое расстояние, соскочил на ходу с лошади и лег на землю. После первого выстрела, очевидно служившего сигналом мужику, которого, кстати сказать, я успел, кажется, прикончить из маузера, начался беспрерывный пулеметный и ружейный огонь с трех сторон, косивший наши ряды. Произошел такой кошмар, который до сих пор не может изгладиться из моей памяти. Здесь суждено было лечь костьми многим славным сынам Ахала в неравном бою с предателями.
«Пах… пах… пах!..» – слышались залпы из леса, расположенного в виде подковы, в которую полк почти въехал. Вмиг лошадь Верховного, поднявшись на дыбы и опустившись, круто повернула и, как стрела, помчалась назад, перепрыгивая через трупы лежавших, как скошенные снопы, людей и лошадей.
– Дорогой Хан, удержите мою лошадь! – крикнул Верховный, когда я нагнал его.
Схватив за повод с левой стороны, я начал осаживать взбесившегося жеребца. Примчавшийся без папахи ротмистр Натензон схватил лошадь Верховного с правой стороны, боясь, что она вырвется из моих рук.
– Много ли убитых, Хан? Много ли? – отрывисто спрашивал Верховный, желтый, как лимон, с неестественно расширенными зрачками. В эту минуту он был страшен. Мне казалось, что его брови и усы стояли дыбом.
– Ах, мерзавец! Негодяй! Предал нас! – повторял он. Глядя на Верховного, у меня мелькнула мысль: насколько прав был старый Курбан Ага, назвавший в Быхове Верховного соколом. Он действительно был похож на него даже и в том, что, кидаясь на самом близком расстоянии на жертву, сокол бывает слеп и совершенно не замечает присутствия над ней сети, раскинутой для ловли его самого. При сильном ударе по жертве колья, поддерживающие сеть, вместе с нею падают на сокола, и он остается в плену. Так и здесь. Сидя в Быхове, Верховный знал о намерениях немцев на Западном фронте, о предательстве большевиков, о том, что ожидает Россию, а физиономию предателя, стоявшего перед ним, он не мог разгадать, и какому-то ничтожному мужику он доверил самое дорогое – свою жизнь и жизнь тех, кто безропотно шел за ним, веря в его гений.
– Ротмистр Натензон, передайте командиру полка, чтобы он немедленно собрал полк!.. Хан же останется со мной! – приказал Верховный, мчась под градом пулеметных и ружейных пуль вперед.
Проскакав немного, мы с Верховным спустились в лощину, где было как бы мертвое пространство.
– Хан, и вы поезжайте к командиру полка. Передайте ему, чтобы он как можно скорее собрал полк, так как нас могут сейчас окружить и тогда отсюда не уйти! – сказал Верховный, оценив позицию большевиков.
Поднявшись наверх и проехав под беспрерывным огнем немного вперед, я увидел следующую картину: на всем поле смерти лежали убитые джигиты и их лошади, кругом валялись бурки и папахи. Много лошадей без седоков, со съехавшими седлами, носились по полю с громким ржанием. Мулы пулеметной команды, сбросив с себя пулеметы, мчались в сторону села Красновичи. Крики джигитов, стоны раненых, ржание лошадей и беспрерывные залпы, трескотня пулеметов – все это создавало кошмарную картину.
– Мою лошадь убили! Где Верховный? – спросил командир полка, подбегая ко мне.
Указав место, где находился Верховный, и передав приказание его, я ускакал обратно. Прибывшему командиру полка Верховный повторил приказание:
– Соберите немедленно людей, полковник Кюгельген!
– Ваше Превосходительство! Нет трубача. Он убежал к большевикам, а люди разбрелись во все стороны! – ответил командир полка.
– Я вам приказываю во что бы то ни стало собрать полк! – сурово приказал Верховный.
Джигитов, которые спасаясь помчались было к селу Красновичи, встретили залпами, и большинство из них погибло, а уцелевшие прискакали потом к нам. Там же был растерзан и поручик Раевский, храбро защищавшийся от большевиков. Оказалось, как я потом узнал в Клинцах, встреченный нами вчера ночью батюшка был комиссар. Направив нас по ложной дороге, он успел перебросить в Красновичи роту солдат, которые ночевали вместе с нами в одном селе. Не трогали же они нас лишь потому, что их было меньше. Утром же, когда мы попали в засаду, они начали обстреливать нас в спину.
Проезжая через поле «сражения», я увидел моего вестового, красавца Бяшима, лежавшего ниц и державшего свою голову обеими руками. Рядом с ним лежала, тоже убитая, его лошадь. Снег вокруг их был пропитан кровью. Какая ирония судьбы! Ведь всего час тому назад красивый и жизнерадостный Бяшим мечтал довести своего бояра на Дон, а потом самому помчаться к своему родному Ахалу, где нет лжи, предательства, измены, где под чистым лазурным небом расстилаются необъятные степи, в которых бродят стада баранов и верблюдов, где царица природа так ласкова, так близка ему. В этих родных степях он любил носиться, как вихрь, на своем неутомимом аргамаке, в малиновом халате, покоряя сердца молодых текинок. Молодой, сильный джигит, с кипучим сердцем, как бурлящая дарья (река), был уверен в своей силе и непобедимости, думая, что лихому джигиту ничто в мире не страшно, когда он имеет сердце, ятаган и верного аргамака. Ведь его предки, да и он сам, этому учились с ранних лет. У них в Ахале говорили: «Сперва подвиг, а потом – сын! Ищи подвигов, красивых, достойных тебя самого, и если их найдешь – имей сына, чтобы было что ему рассказать и требовать от него то, что имеешь ты сам!»
Тогда ему в голову не могло прийти, что в мире существует нечто, что сильнее его могучих рук, острее его ятагана и быстрее его скакуна, нечто, могущее безвременно свалить его, как молодой тополь, и ни одному лихому джигиту не устоять перед этим. Это нечто – гнусное предательство, от которого свалился и лежит он теперь неподвижно, залитый кровью, не успев даже обнажить свой ятаган, подарок деда, не раз защищавший его, а рядом и его верный конь. Убили его предательски из-за угла, когда он этого не мог и ожидать, пустив в спину пулю, те жалкие трусы, которые боялись встретиться с ним, когда Бяшим имел в руках свой крепко сжатый ятаган.
Итак, Бяшим убит! За что? За то ли, что он любил и верил в своего Великого бояра? За то ли, что когда кругом расцвела гнусность, предательство и обман, он подал бояру руку и сказал: «Аллах хочет послать великое несчастье твоим соотечественникам. Он отнял у них разум, и они ослепли. Они могут убить тебя, нашего Уллу бояра. Уйдем отсюда»? За то ли, что он после пятимесячной тяжелой ответственной службы, полной издевательства со стороны обезумевших людей, теперь бережно вез бояра, несмотря на стужу, голод и усталость, день и ночь охраняя его от тех же русских людей, со стороны которых он ежеминутно должен был ждать предательства? За то ли, что когда кругом шла продажа совести, чести и самого дорогого – Родины, он остался неподкупным и своего бояра не продал за презренный метал? За то ли, что он, услышав голос всей России, обращенный к бояру – «Спаси!», вез его теперь для будущей России? За то ли, что все трусы бросили бояра в тяжелую минуту его жизни и спрятались, а Бяшиму сказали: «Ты спаси бояра!» Вот этот-то Бяшим, крепко сжав поводья своего друга, носившего его не раз на немецкие пулеметы, теперь лежит бездыханный. Наверно, Всевышнему Аллаху, Создателю мира, было жалко разлучить друзей и Он решил взять их к себе обоих.
Умолкнут выстрелы, наступит тишина и из леса выйдет двуногий зверь, оберет убитого догола и бросит его. Наступит ночь, взойдет луна, и из лесу выйдут на смену двуногим звери четвероногие и раздерут на части заледенелое тело и, облизав свои окровавленные морды, тоже уйдут. А там?.. Забушуют ветры, падет опять снег и не останется не только следа от пролитой здесь крови, но даже следа от самого Бяшима.
А в Ахале старушка-мать Бяшима долго и напрасно будет ждать его и расспрашивать о сыне свидетелей дня предательства и горько плакать. Но я верю, что память о нем не умрет, как и не простится невинно пролитая кровь его. Прольют предатели за кровь Бяшима свою, если не в лесу, то во дворцах, в домах, в хижинах, в степях и вообще повсюду, где бы ни появились они, пролившие кровь невинных людей. Только Всевышний Аллах может распоряжаться жизнью людей, потому что Он их создал и Он их хозяин, а потому жестоко накажет Он воров, посмевших отнять чужую жизнь. Да будут прокляты все предатели и люди, содействовавшие этому в лихолетье нашей Родины! А тебе, Бяшим, слава! Слава и всем тем джигитам, кто остался верен до конца своему Великому бояру!
Пройдут годы, а быть может века, но придет тот день, день чествования памяти Великого бояра, патриота Русской земли, когда вспомнят подвиги и жертвы его соратников и верных сынов Родины – туркмен, кровью запечатлевших свою верность Уллу бояру!
От меня же примите теперь братский низкий поклон все джигиты славного Текинского полка, а в особенности те, кто нес свою службу Великому бояру со мной с июля 1917 года. Вы честно и бескорыстно несли ее в самые тяжелые дни жизни Родины, оставаясь послушными моему голосу, совету и данному вами слову. Вы предпочли умереть, но не нарушить его. Слава и мой низкий поклон и вам, мои дорогие и добрые друзья, понявшие и от чистой души помогавшие мне словом и делом в дни моей тяжелой службы у Великого бояра: вам – Сердар Ага, Натензон, Бек Узаров, Раевский, Кишин Казиев, Танг Атар Артыков, Баба Хан Менглиханов, Курбан Кулы, Мистул бояр, Ата Мурадов, Силяб Сердаров и Коч Кулы!..
…Итак, командиру полка было приказано собрать полк, и мы с Верховным поехали в направлении леса. Увидев нас, уцелевшие постепенно начали присоединяться к нам.
– Что с вами, капитан? – спросил Верховный подъехавшего к нам капитана Попова, который с раздробленной ногой, истекая кровью, молил перевязать его. Но… не было ни врача и ни единого бинта, да нужно было спасать Уллу бояра, и капитан Попов, как и другие раненые, был оставлен на произвол судьбы.
Кое-как собрав 100–150 человек, мы тронулись по другой дороге тем же лесом, все еще обстреливаемым со всех сторон.
Гибель полка
Въехав в лес, мы вышли из сферы губительного огня. Здесь уже не было полка, а был настоящий аламан после набега. Ржание лошадей, искавших своих хозяев, оставшихся на поле брани, голоса людей, звавших по именам своих друзей, чтобы удостовериться, живы ли они, стоны раненых и, наконец, отчаянная брань по адресу предателей наполняли воздух. Проехав немного, мы остановились на 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Верховный, отъехав в сторону, остановился. Он был молчалив и мрачен. Видя всю эту картину и потеряв окончательно надежду доехать с полком на Дон, а главное, очевидно, сознавая свою ошибку в выборе проводника-предателя, благодаря которому было потеряно так много людей, он сильно нервничал и никого не замечал, сосредоточенно глядя в землю. Не заметил он даже и меня, подъехавшего к нему вплотную, и очнулся лишь тогда, когда услышал мою просьбу подтянуть ослабевшую подпругу его лошади. Верховный слез с коня и тихо сказал:
– Хан, передайте, пожалуйста, командиру полка, что надо торопиться. Нам еще предстоит сегодня переход через железную дорогу, да скажите также, чтобы он послал в дозор более опытных офицеров.
Передав приказание, я вернулся к Верховному, и мы тронулись. Люди, потрясенные только что пережитым кошмаром, неожиданным предательством и потерей своих товарищей, понемногу начали приходить в себя. Сначала на взмыленных и изнуренных лошадях все ехали молча, но потом мало-помалу начали друг с другом разговаривать. Жалели и плакали о своих родных и друзьях, оставшихся на поле «брани». Настроение было тяжко-подавленное.
– Вот до чего довела излишняя доверчивость нашего бояра. Благодаря ей погибло так много людей, которые в будущем очень бы пригодились ему самому! – произнес кто-то.
– Эй, бояр, сердар и полководец, что случилось с тобой, что ты был сегодня так неосторожен?! Ты ведь хорошо знал, в каких руках находится полк? Почему не вел его сам и заранее не принял мер предосторожности? Кроме того, ведь тебе вчера было известно о присутствии врага в Унече и в Клинцах, а ты, отдав себя и нас в руки первого встречного мужика, повел на смерть. Ведь ты же знал со дня отъезда из Быхова, что мы окружены предателями, и от них ты должен был ждать предательства каждую минуту! – говорил один из джигитов, потерявший двоюродного брата.
– Эй, Хан, сегодня джигиты в ловушке зря погибли. Жаль, Ага, этих молодых тополей, которых так безжалостно срубила рука предателя! – отвечали некоторые, когда я пытался их утешить.
– Жаль, что бояр не бросил нас в атаку на эту дрянь! – говорили другие.
– Нет, Хан, я не мог дать боя по трем причинам: во-первых, на лес в атаку нельзя идти в конном строю; во-вторых, вообще вести с ними бой мы не можем, так как это отняло бы много времени и большевики, воспользовавшись этим, подвезли бы свои силы с ближайших станций и не выпустили бы из нас ни одного отсюда, и, в-третьих, нам еще предстоит переход железной дороги, где может опять произойти столкновение с большевиками, а для этого необходимо беречь силы, которых у нас не так уж много. Хан, я отлично понимаю состояние полка сейчас, но принять бой было невозможно! – сказал мне Верховный тихим голосом, услышав жалобы джигитов.
Узнав, что дозоры еще не высланы, Верховный на сей раз сам их выслал. Было выслано три дозора: вправо – дозор с поручиком Конковым, влево – с поручиком Бровчинским и вперед с корнетом Силяб Сердаром.
Часов в одиннадцать утра к полку присоединился и прапорщик Рененкампф со своими людьми. Увидя его, Верховный, нервничая, спросил:
– Где вы изволили пропадать, прапорщик? Где маяки, которые я вам приказал выставить вчера? Почему не донесли о том, что дорога на Унечу занята большевиками и что творится в самой Унече? Вы видите, что осталось от полка благодаря халатности и недобросовестному отношению вашему к делу. В другое время я поступил бы с вами, господа, иначе, но… теперь… уходите с глаз моих, чтобы я вас больше и не видел! – говорил раздраженный Верховный.
Около двух часов дня мы увидели высокую железнодорожную насыпь.
– Железная дорога! Железная дорога! – послышалось среди джигитов.
Каждый видел в ней свое спасение. Только бы перейти ее – и мы спасены! Выехав из леса, мы вплотную подъехали к высокой железнодорожной насыпи. Справа, в верстах полутора от нас, показался длинный товарный поезд. Увидя его, Верховный приказал взобраться как можно быстрее на насыпь и перейти железную дорогу и сам первый рванулся вперед.
– А не лучше было бы, Ваше Высокопревосходительство, подождать в лесу до ночи и, воспользовавшись темнотой, переехать железную дорогу! – сказал я Верховному.
– Нет, Хан, большевики до вечера могут окружить нас. Сейчас одного паровоза с пулеметом достаточно, чтобы отрезать нам дорогу! – ответил он.
– Скорее, скорее! – торопил Верховный джигитов.
Вдруг шедший поезд остановился и паровоз начал выпускать клубы пара. В это самое время Верховный и я с неимоверными усилиями начали карабкаться вверх по крутой и мерзлой насыпи. Выехав раньше других на насыпь, я увидел Силяб Сердарова, махавшего платком, а влево – поручика Бровчинского, махавшего своей белой папахой и кричавшего:
– Назад, Ваше Высокопревосходительство! Назад, бронепоезд приближается!
Верховный сосредоточил все свое внимание на товарном поезде и ничего другого не видел. Часть джигитов уже были на насыпи, а часть еще карабкалась на измученных аргамаках.
– Ваше Высокопревосходительство! Бронепоезд идет! – крикнул я, оторвав его внимание от товарного поезда.
– А! Где?
Не успели мы повернуть своих лошадей, как броневик, заметив нас, развил полный ход и через минуту, очутившись в шагах двухстах от нас, на ходу начал обстреливать нас в спину из двух пулеметов и двух орудий.
– Назад! – крикнул Верховный и бросился с лошадью с насыпи.
В беспорядке, сломя голову, мы летели вниз. Убитые люди и лошади катились с насыпи. Неподкованные лошади скользили и падали, увлекая с собою и всадников. Сила огня была настолько велика, что впереди стоявший молодой лесок был скошен в одно мгновение. Упавшие деревья и ветки затрудняли нам движение.
– Хан, я падаю! – крикнул мчавшийся впереди Верховный, под которым убили в это время лошадь.
Мощная рука джигита подхватила Верховного и унесла его вперед. Мой жеребец, взбесившись от творившегося ада, несся, как стрела, и удержать его было невозможно, ибо сзади неслись другие. С этой минуты я больше не видел Верховного до нашей встречи на Дону.
Под пулеметным и орудийным огнем мы мчались по молодому лесу кто куда. Люди кричали, падая с лошадей, лошади ржали, снаряды рвались и пули, как пчелы, жужжали вокруг нас.
– Хан, я ранен… поддержите!.. Удержите лошадь!.. – кричал мчавшийся рядом со мной прапорщик Рененкампф.
– Если можете, то постарайтесь удержаться в седле до той хаты, – ответил я ему, держа направление к одиноко стоявшей впереди нас хате, так как остановиться не было возможности, как я уже сказал, вследствие того, что сзади мчались другие.
Нас нагнал полковой адъютант. За хатой мы слезли. Над нашими головами то и дело еще пролетали пули, пронизывая остроконечную соломенную крышу хаты. За нами сюда же прискакало и девять человек джигитов во главе с вахмистром 2-го эскадрона Черкесом, из коих один джигит был ранен и один болен.
– Гельди Мурат, поезжай и разыщи местонахождение Верховного и сообщи нам! – приказал я унтер-офицеру 2-го эскадрона.
Гельди уехал и не возвращался. Подождав около часа и видя, что Гельди не возвращается, а между тем наступает темнота, мы решили идти к деревне Павловичи, где по приказанию Верховного должен был собраться полк, в случае если ему придется перейти железную дорогу по частям. Тут мы услышали и ружейные выстрелы большевиков, очевидно, шедших к месту боя на помощь своему бронепоезду «ловить» туркмен. Услышанные выстрелы еще больше укрепили наше решение выбраться отсюда как можно скорее. Проехав некоторое время и видя, что по лесу нет никакой возможности продвигаться верхом, мы решили проститься с нашими товарищами-аргамаками, носившими нас до сих пор, и идти пешком. Слезши с лошадей, мы начали быстро снимать с себя погоны, спарывать канты с шинелей, бросать ятаганы, револьверы, уничтожать документы. Я уничтожил и все письма Верховного, которые писал он мне из Быхова в Могилев с разными поручениями. Пришлось бросить все серебряные и золотые вещи, одним словом, все, что могло бы соблазнить большевиков. Сняв верхнюю часть папахи, т. е. мех, мы натянули на свои головы остроконечное их основание из войлока. Грязные, худые, небритые и измученные, в этих фантастических шапках мы были похожи скорее на китайцев или на корейцев, но не на туркмен. Прощаясь с лошадью, я поцеловал ей морду. Аргамаки стояли смирно и не подозревали даже, что мы, люди, бросаем так предательски их голодными в лесу на произвол судьбы. Кругом стоял еще гул от орудийных выстрелов и трескотня винтовок. Мы двинулись вперед, но не успели сделать и двадцати шагов, как за нами вереницей потянулись и наши лошади. Глядя на них, некоторые из джигитов плакали. Моя лошадь шла, шла и застряла между двумя деревьями. Она смотрела на меня, как бы прося освободить ее. Я подошел, еще раз поцеловал и поспешил нагнать своих спутников.
Красноармейцы шли по следам полка, грабя убитых, убивая живых, обирая их папахи, ятаганы, лошадей, одним словом, все вплоть до нижнего белья. Стояла вакханалия мародерства. Вот одна из сценок, свидетель которой остался случайно жив.
Вечер… В лесу стоит мертвая тишина, которая изредка прерывается лишь выстрелами – это добивают туркмен. По мере наступления темноты снег кажется еще белее. Столетние деревья, свидетели людского безумия, стоят молчаливо, тая в себе стоны мучеников, убиваемых людьми-зверями.
– Вы чаво, такие-сякие, везли Корнилова, а? – задал красноармеец вопрос, поймав отставшего раненого туркмена.
– Ми…
– Да, такой-сякой, конечно, ты, а не мы! Зачем он нам? – прервал джигита красноармеец, держа на перевес винтовку и глядя в упор ему в глаза.
– Ми бизом (везем) твой яранал, он рускэ человэк!
– А, так на тебе, яранал! – ударил красноармеец в грудь туркмена.
– Ванька, чаво ты царамонишься, дурак! Пырни ему в пузу да обирай поскорее добро, а то сзади идут товарищи. Поздно будет! – советовал находившийся тут же рослый детина, примеряя сверх одежды бриджи, вытащенные из куржума только что приконченного им джигита.
– Вынимай-ка деньги да скидывай с себя все! А где серебряный пояс, вот к этому! – показывал товарищ на ятаган непонимавшему туркмену.
– Нэту! – отвечал тот, разводя руками.
– Ты, такой-сякой, наверно, зарыл в снег? Я тебя заставлю найтить… Стой! – говорил красноармеец, обшаривая куржум своей жертвы.
– Твоя говорит «дэнэг нэту»! – говорил он, продолжая смотреть в глаза жертве и держа винтовку перед самой грудью.
Туркмен стоял почти голый на снегу, так как шинель, гимнастерка, сапоги и папаха были с него уже сняты большевиком.
– Нэту!.. Тивоя бизял бсё! Болшэ нэту! – отвечал туркмен.
– Что ты, дурак-Ванька, до сих пор разговоры разговариваешь! Пырни, да и баста! – повторил опять рослый детина, показывая товарищу красное сукно джигита, подаренное в Могилеве Верховным полку для бриджей.
Ванька, увидев у приятеля красное сукно и взбешенный, что больше ничего не может получить от своей жертвы, выругавшись трехэтажным словом, всадил штык в грудь джигита.
– Вай, Алла, Алла, эй! – вскрикнул тот и побежал, оставляя на снегу длинную полосу крови.
Ванька же со своим товарищем сейчас же бросились в другую сторону на розыски новых жертв.
Как только они скрылись в глубь леса, пришла новая партия красноармейцев.
– Фу ты, все почему-то голые попадаются мне… Как будто кто сидит в лесу и обирает их! – произнес один из новоприбывших, здоровенный рыжий детина, ударив ногой по голове умирающего туркмена.
– А ты знаешь, Федорыч, что я достал? – похвастался бородатый красноармеец, показывая неудачнику серебряную портупею с камнями от ятагана. – Это, брат, богатство. Ведь все это серябро, да камни какие красивые! По теперешнему времени это много стоит! – закончил он.
– Вишь, как тебе повезло! – говорил завистливо Федорыч, взглянув на портупею и принимаясь осматривать старый куржум, только что ограбленный Ванькой и брошенный за ненадобностью.
– И здесь ничего нет! – ругался рыжий Федорыч. – А как же ты его… того?! – поинтересовался он, оглядывая портупею, которую примерял бородач.
– Да это было так: стою я этак за деревом и вижу, один из этих диаволов слез недалече от меня с коня. Я выскочил и стал пред ним, как перед медведем, и говорю: «Давай все, что есть у тебя, а то заколю!»
– На! – говорит тот, вытаскивая из кармана деньги и стаскивая переметную суму с лошади.
– Нет, – говорю, – давай это!.. – показываю на пояс.
– Нэт, эта мой баранчук (сын), моя кибитка пойдет, – отвечает этот дьявол.
Я заставил его снять все, а потом говорю: «Давай твой пояс с шашкой!», а он все знай твердит: «баранчук, да баранчук», но, видя, что я от него не отстану, он вытащил свою шашку и, поставив перед собой, начал этак подниматься и опускаться (совершал предсмертную молитву). Мне стало холодно, да и не было времени ждать его царамонии, и я его этак пырнул штыком в спину. Он, схватив свою шашку, бросился на меня. Я дал по нему два выстрела в упор, чтобы свалить его с ног. Он упал. Когда я подошел к нему, то он, держа сломанную шашку в руках, уже здыхал. Я, как дал ему прикладом по черепу, он сейчас и здох, так и не отдал шашку! Сломал ее, а не дал мне! – закончил бородач.
– Какой крепкий народ эти азиаты! – проговорил Федорыч и, услышав вдруг ржание брошенных лошадей, побежал в глубь леса.
Так суждено было умирать сынам Ахала в лесах Черниговской губернии!
В этот день погиб наш полк, за исключением 1-го эскадрона, сдавшегося большевикам с тремя офицерами во главе: поручиками Конковым и Захаровым и корнетом Салазкиным, да около семидесяти пяти человек с ранеными и больными, находившимися с Верховным.
После пережитого кошмара в группе оставшихся с Верховным произошла следующая сцена:
– Наш полк погиб благодаря излишней доверчивости и растерянности бояра. Надежды, что он нас доведет на Дон, нет никакой! А потому пусть лучше каждый из нас постарается найти себе дорогу, а Уллу бояр пусть едет один! – закончил свою речь Баллар Яранов, старший унтер-офицер 4-го эскадрона.
Два-три человека из джигитов поддержали его, а остальные своим молчанием соглашались с говорившим, подбодренные к тому же и штабс-ротмистром Фаворским, который не постеснялся тоже поддержать оратора.
Услышав это, Верховный, вскочив на пень, обратился к джигитам со словами:
– Значит, вы хотите выдать меня большевикам? Нет! Лучше вы своими руками, руками туркмен, застрелите меня!
Джигиты опустили головы, и наступила тишина.
– Ваше Высокопревосходительство! Садитесь на лошадь! Джигиты! Не забывайте, что вы туркмены, а не предатели. Весь позор вашего поступка ляжет на ваше потомство! За мной! – закричал, махая рукой, ротмистр Натензон, с непокрытой головой, вовремя учтя настроение туркмен.
Тронулись опять за своим бояром, но уже со слабой верой в него.
– …Мы шли за ним лишь, чтобы не быть предателями и довести его, куда он хотел, а прежней веры у нас уже не было – она была поколеблена! – говорил мне Баллар Яранов, когда приехал в Новочеркасск к Верховному, чтобы попрощаться с ним и получить его разрешение ехать домой, в Ахал.
После этой сцены, проехав еще некоторое расстояние с джигитами и убедившись, что с ними пройти на Дон нет никакой возможности, Верховный принужден был пробираться дальше один. Обо всем этом он рассказал мне сам, когда мы встретились на Дону.
Мытарства
Темная ночь. Мы в дремучем лесу. Кругом тишина и везде снег больше аршина. Холодно, голодно и без сна. Наша будущность представлялась мне в виде этой ночи. Как идти, куда и зачем? Эти вопросы сжимали сердце, но вера, вера сильная в пророка, заставляла встряхиваться. Некоторые еще не могли прийти в себя от только что пережитого. Джигиты шли и все спрашивали меня, не попал ли бояр в руки большевиков? Шли без остановок и отдыха всю ночь и, подойдя к железной дороге, усталые, голодные, замерзшие, почти бессознательно свалились в одну из находившихся здесь ям, чтобы отдохнуть хоть пять минут перед переходом железнодорожной линии. Яма, в которой мы лежали затаив дыхание, находилась в десяти шагах от линии. Лежа здесь, мы слышали беспрерывные глухие выстрелы из орудий. С неба падал не то снег, не то дождь, так что мы и без того мокрые, промокли окончательно. Ноги коченели. Начало светать. Заслышав грохот приближавшегося поезда, мы притаились. Мимо нас медленно, пыхтя, прошел броневик, выбрасывая клубы огня, освещавшего далеко вперед рельсы. Дула орудий и пулеметов мрачно глядели, готовые ежеминутно послать смерть.
– Хан Ага, это он нас ищет? – спрашивали шепотом джигиты, глядя вслед уходившему броневику.
Пропустив поезд, мы быстро перешли железную дорогу и, очертя голову, бросились через реку, не разбирая, крепок лед или нет. Пройдя ее по пояс в снегу, мы подошли к одной деревне. Деревня спала мертвым сном. Усталые, голодные, с окоченевшими ногами мы еле шли, боясь спросить дорогу к той деревне, куда мы должны были идти для сбора.
– Кто вы такие? – раздался голос со стороны одной хаты уже при нашем выходе из деревни.
Ничего не отвечая, мы прибавили ходу и через несколько минут опять очутились в лесу. Здесь туркмены обратились ко мне с просьбой передать Нейдгарту и Рененкампфу, чтобы те не обращались к мужикам ни с какими вопросами и просьбами.
– Вся эта сволочь на сто верст в окружности знает, что мы принадлежим к «шайке Корнилова». Лучше умрем с голода или замерзнем, чем попадем им в руки! – говорили джигиты.
Найдя по пути стог сена, мы все зарылись в него. Сначала было тепло, но потом мы почти окоченели от холода. Все же отдохнув в сене около двух часов, мы отправились дальше. Пройдя безостановочно до 12 часов дня, мы наткнулись на дом у берега реки, оказавшийся брошенным. Вошли туда с тем, чтобы сделать перевязку прапорщику Рененкампфу и раненому джигиту. Задержавшись в этой хате до пяти часов вечера, мы отправились дальше. Всю ночь опять провели в лесу без еды и крова. Случайно в кармане одного из джигитов оказалось шесть кусков сахара, которые он разделил между нами. Сося каждый свой кусок, мы старались этим обмануть голод. Утром, на общем совещании было решено, что, пройдя еще верст десять, мы спросим у мужиков дорогу в село Павличи. Если село находится близко, то пойдем туда, если же нет, то днем будем скрываться в лесу, а по ночам, придерживаясь железнодорожного пути, идти в Киев.
– Уж больно ваши лица обращают на себя внимание жителей. Нам ничего, мы – белобрысые и можем сойти за русских, а вот вам трудно! – начали говорить два наших спутника, Нейдгарт и Рененкампф, которых начинало тяготить наше присутствие и которые не раз поговаривали между собой о том, что будет лучше, если они пойдут одной дорогой, а туркмены другой.
Мне было очень тяжело слышать эти разговоры, но я молчал, ибо, не имея карты, не знал местности, где мы находились, да и думал, что на людях и смерть красна…
– Ага, они нам совершенно не нужны, и мы не нуждаемся в них. Пусть идут куда хотят. С нами да будет сам Аллах! – говорил Черкес, услышав разговоры двух бояров.
– Что же, Хан, долго еще мы будем возиться с раненым и больным? Ведь они идти не могут, да и стоны больного действуют на нервы. При первой возможности надо их оставить! – сказали однажды наши спутники.
По дороге, зайдя в хату лесника, мы принуждены были оставить здесь больного туркмена, дав хозяйке ее сто рублей на его лечение. Тяжело и грустно было прощаться с ним. Он через нас посылал привет всем родным и знакомым в Ахал, говоря:
– Передайте, джигиты, матери, чтобы она больше не расходовала денег на невесту, так как Аллаху было угодно, чтобы я ее больше не видел. Передайте ей и всем вообще мой последний силам (привет) и скажите, что я погиб при переходе бояра из Быхова на Дон.
– Ну, что ты дурака валяешь! Выздоровеешь, Аллах даст, и приедешь в Ахал! – старались успокоить все его.
– Нет! Нет! Видите, вон там стоит топор? Меня обезглавит им хозяин дома, как только вы выйдете отсюда. Я это чувствую! Кому я нужен больной? Даже вы, туркмены, и то бросаете меня, вашего брата! – плакал джигит, когда мы собирались уходить.
– Кто вы такие будете? – злобно спросил, войдя в хату, хозяин, детина огромного роста с рыжей бородой, исподлобья глядевший на происходившее.
– Мы – китайцы. Наш товарищ заболел и ты, пожалуйста, присмотри за ним! – говорили мы, всовывая ему в руки сто рублей.
Наши остроконечные шапки, грязные обросшие лица, ввалившиеся глаза, придавали нам вид не только китайцев, а каких-то выходцев с того света.
– Знаем, какие вы китайцы! Вас много валяется там, по ту сторону реки! Не из шайки ли Корнилова вы будете? – говорил лесник нам вслед.
Выйдя из хаты, мы слышали стоны больного, звавшего Аллаха, чтобы Он поскорее взял душу его, всеми брошенного, всеми забытого.
Несмотря на наше решение не заходить в деревни, трехдневный голод заставил нас все же зайти в одну из деревень. При входе в деревню мы встретили ту же вражду и ненависть мужиков. При виде нас они шарахались в сторону, крестясь и галдя. Нам было это теперь безразлично, так как единственная мысль, занимавшая нас теперь, где бы достать поесть. Войдя в первую хату, мы попросили есть. Хозяин, испуганный нашим внезапным появлением, не знал, что делать, а мы, завидев на столе горшок горячего картофеля, бросились на него и без соли, хлеба, с шелухой принялись не есть, а прямо глотать. Хозяин с перепуга убежал из хаты. Через некоторое время после его ухода стали появляться мужики, засыпавшие нас вопросами: кто мы, откуда, куда и зачем идем и есть ли у нас документы? Когда мы уничтожили весь картофель, то Нейдгарт наконец ответил им, что он и Рененкампф инженеры, а мы их служащие – китайцы, поправляем железную дорогу. На наш вопрос, что за стрельба была дня два-три тому назад, мужики ответили, что это их товарищи разгромили шайку Корнилова, который с остатком своих разбойников проехал в направлении села Павличи.
– Казаки Корнилова и их лошади были ранены и здорово потрепаны нашими молодцами! – говорили они с довольным видом.
– Вы не из шайки ли его случайно? – неожиданно задал нам вопрос один из мужиков.
– Нет, мы китайцы! – снова ответил Нейдгарт.
Недоверчиво покачивая головами и гладя бороды, мужики шептали между собою, и до нас доносились лишь отдельные фразы и слова: «Может быть и изменники!.. Вястимо… Староста… Документы…» Утолив голод и услышав долетавшее до нас, мы поспешили скорее выбраться из хаты. У дверей галдели мужики.
– Надобно их отправить к начальству. Может, они и есть из шайки Корнилова… Надобно выяснить!..
– Мы сами идем к вашему начальству! – отвечали мы и быстро зашагали по направлению леса.
Войдя в лес, мы начали совещаться, как нам быть теперь. Если Верховный проехал в Павличи вчера, то сегодня его уже там нет и нам нечего идти туда. Поэтому мы твердо решили, придерживаясь железной дороги, идти в Киев. Узнав, что их Уллу бояр жив, джигиты очень обрадовались.
– Эй, Хан Ага, бояр не из тех генералов, которых мы видели в Быхове. Скорее все большевики пропадут, чем он сдастся им в руки. Если он, как ты рассказывал нам, австрийцев надул и убежал от них, то с этими свиньями, он может сделать все, что захочет! – говорил Черкес.
После целой ночи скитания по лесу мы на рассвете увидели станционные огни, но не знали, какая это станция: Унеча или Клинцы. Решили идти на авось. Обойдя станцию и не зная, в какой стороне находится Киев, мы взобрались на железнодорожную насыпь и пошли вперед. Ночь была холодная. Луна, своим ярким светом заливавшая весь мир, собиралась уходить на покой. Близился рассвет, и мороз давал себя чувствовать еще сильнее.
– Здравствуйте! – отвечали нехотя на наше приветствие какие-то встречные типы.
Узнав от них, что взятое нами направление правильно, мы продолжили свой путь. Пройдя еще немного, мы решили свернуть от железнодорожного пути вправо с тем, чтобы, зайдя в деревню, достать хлеба.
Плен
29 ноября 1917 года.
Войдя в деревню, которая называлась Рабочево, мы отправили в хату за покупкой хлеба прапорщика Рененкампфа, который согласился пойти, ибо был похож на русского больше, чем мы, а сами остались на дороге, ожидая его возвращения. Кругом была зловещая тишина. Деревня еще, видимо, спала. Сильно морозило.
Мое место на дороге было самое удобное для наблюдения за хатой, куда пошел Рененкампф. Через освещенное окно я видел, как он, войдя в хату, бросился к столу, на котором, как потом выяснилось, лежал хлеб. Через минуту дверь хаты распахнулась и из нее выскочил Рененкампф, а вдогонку ему прозвучал винтовочный выстрел. С маленьким браунингом в руках я бросился на помощь Рененкампфу и лицом к лицу столкнулся с солдатом, державшим винтовку наперевес, который только случайно не заколол меня, так как в темноте промахнулся. Схватив обеими руками винтовку, я легко опрокинул на землю солдата, оказавшегося пьяным. Упав на землю, он начал громко орать: «Помогите! Караул! Нападение!» На крик со всех сторон начали сбегаться люди: кто с винтовками, кто с топорами, а кто и с шашкой наголо.
– Стой! Стой! Кто ты такой? – спрашивала меня окружавшая толпа.
– Вы что, с ума сошли, что ли, что вздумали убивать мирных людей? – кричал я толпе, не растерявшись, отвлекая их внимание от уходивших моих спутников.
– Ты что, товарищ, наш? Кто ты? – спрашивало несколько мужиков, подойдя ко мне.
– Я хотел купить хлеба и послал сюда своего товарища, а этот пьяный давай стрелять по нем! – кричал я еще сильнее.
– Да ты что, Ягор, с ума спятил, что ли? – произнес один из мужиков, отнимая у Егора винтовку.
– А ты кто, молодец, и откуда? Не из шайки ли Корнилова? – начала спрашивать меня опять немного успокоившаяся толпа.
– Я солдат с фронта и пробираюсь домой на побывку.
Ко мне подошел какой-то мужик, по-видимому солдат, и, пристально поглядев на меня, крикнул:
– Что ты брешешь?! Робята, он из шайки Корнилова! Арестовать его!
– Пошел к черту, что ты брешешь! Он ведь очень хорошо говорит по-русски, а корниловские казаки ни бельмеса не знали! – говорили в ответ из толпы.
– Да взгляните на его морду-то – какая она черная! Да он скрывался в сене! Вот оно, сено-то! – показывал солдат толпе сено, прилипшее к моим волосам и шинели.
Не успел еще я ему возразить, как толпа принялась меня колотить. Кто-то ударил меня по лицу кулаком так сильно, что из носа и изо рта брызнула кровь. Находившиеся здесь бабы начали звать других, крича: «Еще одного поймали из шайки!»
– Товарищ Ягор, подержи его, а то он может утечь к своим… У них, брат, месть азиатская, перережут нас всех до единого. Ты его сторожи, а я пойду за старостой! – говорил солдат, доказывавший мою принадлежность к шайке.
Егору тотчас же возвратили винтовку. Избивая меня кто палкой, кто кулаком, толпа привела меня в хату одного сапожника и часовым в ней поставила Егора. Помню я, что больше всего мне досталось от баб.
– Разденься сейчас же, – крикнул мне сапожник, как только я очутился в хате.
Он снял с меня шинель, полушубок и сапоги. Сапоги были кавалерийского образца из шагреневой кожи, узенькие, маленькие.
– Ничего, мне не годятся, так пригодятся Андрюше (сыну), – говорил он на замечание жены, что они для него малы, стаскивая с моих ног мокрые сапоги, которые я не снимал с самого Быхова.
Взамен моей шинели, сапожник набросил на меня какое-то штатское пальто в семидесяти семи дырках, на ноги дал старые опорки с какими-то грязными тряпками.
– Аллах, Ты Всевелик и Всемогущ. Один Ты знаешь мое сердце. Ты – мой единственный спаситель! – читал я про себя молитву.
Сотни глаз смотрели на меня в окно, грозя кулаками.
– Все же надобно хорошенько расспросить, где находится их шайка? А хорошо сделали, что арестовали эту птицу! – говорил какой-то мужик, входя в хату, важно поглаживая свою бороду и исподлобья глядя на меня.
«В этот ранний час, когда еще человек не успел совершить ни одного греха и когда его душа чиста, как этот предрассветный воздух, все молитвы будут услышаны Всевеликим Аллахом скорее, чем в остальное время дня», – говорил мне когда-то отец, будя совершать утренний намаз. Вот в такой ранний час я стоял, прижавшись к углу хаты, мысленно молясь и посылая Аллаху тысячи священных слов из Кялям Шерифа. Чем больше я молился, тем легче становилось мне и я чувствовал себя бодрее. Была только горечь обиды, так как кругом стояла беспросветная темь. Вся Россия представлялась мне в виде этого мужика, радовавшегося тому, что поймали важную птицу… «Ну, что же, убьют? Я ведь верующий. Идя за пророком, я не думал тем избегнуть смерти и вот она сейчас приближается ко мне! Я верю!..» – твердил я, стоя в углу. Вдруг дверь хаты распахнулась и вошел какой-то солдат. Курчавые волосы, набекрень одетая фуражка придавали его рябому и некрасивому лицу молодцеватый вид. Окинув хату и мужика своим взором, он, выставляя мужика из хаты, произнес:
– Ты, что здесь околачиваешься, а? Пожалуйста, выйди! – а затем, обратившись к Егору, сказал: – А тебя, такой-сякой, разве не учили в полку, что к арестованным не дозволяется никого пускать?! Значит, мало били тебя в полку по морде?
Егор встал и мялся перед вошедшим великаном-солдатом.
– Кто это вас так, товарищ? Вытрите, пожалуйста, ваше лицо! – обратился солдат ко мне, садясь за стол. – Я им покажу, как надо обращаться с пленным до суда. Этакая сволочь! – говорил пришедший, не давая возможности ответить мне на его вопрос.
Сапожник из-за печки начал мне делать знаки руками, прося, чтобы я его не выдавал. Пока я вытирал свое лицо тряпкой, принесенной женой сапожника, в хату вошли четыре мужика в армяках, подпоясанные красными кушаками. При входе в хату они сняли свои шапки, в то время как раньше пришедший солдат продолжал сидеть в фуражке. Один из пришедших, поглаживая свою бороду и показывая на меня, указал, обращаясь к сидевшему солдату:
– Это что, пленный или арестованный?
Когда услышал я это, то не выдержал и, вскочив, ответил:
– Я не пленный и не арестованный. Я гражданин свободной России и сын ее, как и все вы! Я офицер и страж Родины! Ради ее и вашего благополучия я шел впереди ваших сыновей на врага, который хотел отнять вашу землю и имущество и, наконец, вас самих сделать рабами. Мы с вашими сыновьями шли в бой, лили кровь и, отдавая самое дорогое для нас, умирали, чтобы вам, старикам, жилось хорошо! Пленные – это те немцы и австрийцы, которых ваши сыновья, погоняя, как баранов, доставляли сюда, а арестованные те, которые совершили грабежи и убийства. В этом вы должны разобраться! – закончил я.
По-видимому, на стариков мои слова произвели должное впечатление. Они сидели вокруг стола, то и дело кивая головой и поглаживая бороды. Наступила тишина, изредка лишь нарушаемая стуком в окно толпы, показывавшей мне кулаки.
– Эй, выйди да разгони эту сволочь! – сказал солдат сапожнику.
– Больно хорошо сказал он! – произнес один из сидевших мужиков, пристально глядя на меня.
– Хо-ро-шо! – поддержал другой.
– Вот видите сами, с таким человеком и так поступили! Вчера несколько человек расстреляли, не спросив, что и как. Это называется «свобода»! Да в нашу программу-то не входит расстреливать людей без суда. Он правду сказал, что шел на врага впереди солдат. Я сам солдат и знаю, как дрались наши офицеры! – не говорил уже, а кричал солдат, выходя из себя.
– Ну, не кяпятись, не кяпятись, Ваня, давай разбирать и дело делать! – произнес мужик с рыжей бородой.
– Что тут разбирать-то? Он – офицер, сопровождавший Корнилова. Давайте напишем бумагу и пошлем с ним к коменданту Унечи, а там отправят его к товарищу Крыленко! – сказал солдат, которого называли Ваня. – Не бойтесь, пожалуйста, скажите, какого вы чина? Мы получили приказ от товарища Крыленко, чтобы всех из вашего полка не расстреливать, а препровождать к нему. Уже сто человек из ваших с тремя офицерами сидят в Брянске! – говорил мне Ваня.
Я назвал свой чин и фамилию.
– Ну, пишите препроводительную записку на имя коменданта Унечи! – обратился к мужикам Ваня.
Сапожник, подавая чернила, бумагу и перо, подошел к Ване и заметил:
– Ты, Ваня, того… шапку бы снял – икона здесь!
– А, что! Не до шапки! – ответил Ваня, закуривая папиросу.
– Пиши уже ты, Ваня, мы не больно-то сильны в писании! – говорили мужики, подвигая бумагу и перо к Ване.
На клочке бумаги была написана препроводительная записка на имя коменданта Унечи.
– Хорошо, что я подоспел, а то с ним так же поступили бы, как с вчерашними! – произнес Ваня, заканчивая писать.
– Ведь парни-то вчерашние, Ваня, не могли говорить, как энтот их офицер! – сказал староста в оправдание.
– Нельзя же убивать людей за то, что они не умеют говорить! Ладно! Ты и Егор доставите его до Унечи! – сказал Ваня, вручая бумагу сапожнику. – Только, ребята, смотрите, принесите мне расписку в том, что вы сдали его коменданту! – крикнул он, выходя из хаты.
Мы вышли из хаты. Мороз крепчал, было холодно, но толпа любопытных все же стояла на улице и глазела.
– Конечно, Ваня тыщенку на чай получил от этого разбойника, что его здесь не убили! – говорили бабы, узнав от Егора, что меня надо представить в распоряжение коменданта Унечи. – Стоит вам, рябята, с ним возиться в такой мороз! – кричали они нам вслед.
– Эй, эти ваши, что ли, будут?! – обратил мое внимание сапожник, когда мы вышли из деревни, на лежавших в канаве двух туркмен.
Туркмены лежали совершенно голые. У одного из них не было полчерепа и сломанные руки, другой был исколот штыками. Животы обоих были разорваны и внутренность съедена зверями. Я наклонился над канавой, чтобы прочесть над ними молитву. «Да будет вам земля пухом, герои-мученики», произнес я, после краткой молитвы, со слезами на глазах. В это время сзади послышалось щелканье затвора. Обернувшись, я увидел Егора, целившегося в меня.
– Хочешь, я его сейчас того – без промаха! – говорил он, целясь в меня, и дуло винтовки то опускалось, то поднималось.
– А ну-ка! В самом-то деле, зачем его вести до Унечи? В такой мороз. Пусть лучше он останется здесь со своими! – поддержал предложение Егора пьяный сапожник.
– А что скажем комиссару? – спросил Егор, беря винтовку «к ноге», потирая руки.
– Да чего там комиссар. Валяй яво, Егор! Право!
Подул сильный ветер, который, неся снег, хлестал меня по лицу. Я стоял у края канавы, где лежали туркмены. Услышав разговор конвойных, я решил живым не сдаваться и хотел обезоружить Егора и заколоть обоих тут же. Я двинулся к ним и крикнул, что хочу поговорить с ними. Обшарив все карманы, я не нашел в них своего браунинга, который, оказывается, был в шинели и, значит, перешел с нею к сапожнику.
– Да я знаю, что ты хочешь сказать, такой-сякой! Становись к канаве, тебе говорю, а то заколю! – гнал меня Егор штыком к канаве.
Я подчинился и, став у края канавы, начал читать предсмертную молитву. Состояние не из приятных, когда человек сам себе читает предсмертную молитву. Было больно и обидно сознавать, что ты бессилен в руках хама, который, не имея никакого права лишать тебя жизни, так как не он ее дал, отнимет сейчас ее у тебя.
– Куда ему, в лоб или в сердцу? – спрашивал Егор сапожника, целясь в меня.
Черная точка дулового отверстия начала прыгать вверх и вниз, когда Егор заговорил со своим приятелем.
– Вали в грудь, куда хочешь, только скорее, а то больно холодно! – ответил сапожник и стал боком к ветру.
Вдруг черная точка приостановилась предо мной и… «ба-бах!.. пью!»… раздался выстрел и полет пули. Я чуть не упал навзничь в канаву, но удержался, и в ушах поднялся неимоверный шум.
Быстро отняв винтовку от плеча, Егор буркнул:
– А, черт, значит, промахнулся!
– Подойди поближе! Видно, что ты стрелок! – смеялся сапожник.
– Как не стрелок! Глянь, сейчас я его уложу! – говорил Егор, вновь заряжая винтовку.
В момент второго прицеливания послышался голос Аллаха, посланный Им через подошедшего мужика.
– Эй, рябята, что вы тут делаете? Ведь вам же не дозволено убивать его! Смотри, брат Егор, ежели за последствие сможешь ответ держать перед судьей, то убей! – произнес он.
Это был один из членов комитета, находившийся в хате во время моего допроса, который шел тоже в Унечу.
Услышав голос вовремя подошедшего мужика, я невольно вспомнил Ишана, говорившего моему отцу: «Твой сын будет близок к Великому человеку. Жизнь твоего сына будет висеть на волоске, но он останется жив и вернется в Хиву».
– Ах, ты такой-сякой! Иди сюда! Значит, не судьба тебе умереть! – крикнул мне Егор.
Я хотел тронуться с места, но не мог, так как ноги не повиновались мне, и было вообще такое отсутствие сил, что я сразу же упал.
– Стало быть, ранен! – сказали, подойдя ко мне, мужики. Они осмотрели мне грудь, ноги, но я почти не чувствовал прикосновения их рук.
– Ничего не видать. Куды тебя? Ты что, ранен, что ли? – спрашивал меня один из мужиков.
Я жаловался лишь на холод. Меня подняли и повели под руки. Ноги мои скоро отошли, и я пошел дальше сам. В течение всей дороги Егор, идя позади меня, щелкал затвором, и мне казалось, что каждую минуту он может выстрелить.
Мы подошли к тому месту, где три дня тому назад происходил бой. На пути стояли два поезда – с эшелоном красноармейцев и поезд какого-то высокопоставленного комиссара, говорили, что самого главковерха Крыленко. Подойдя ближе, я увидел следующую картину: почти все товарищи были наряжены в папахи и шинели туркмен, с желтыми кантами. На многих красовались ятаганы с серебряными портупеями. Некоторые, сидя у вагона, рубили ими дрова. Текинские седла собранные в одну кучу, лежали горой. Лошади джигитов, без попон, бродили по полю, ища под снегом для себя корм. Я заметил также, что невдалеке от вагонов лежали трупы лошадей и мулов. Как оказалось, их пристрелили потому, что они, как и их хозяева, были азиаты и не «подпущали» товарищей к себе, – лягались и кусались.
– Вы офицер? – спросил меня какой-то тип с офицерской кокардой на фуражке и анненским темляком, получив предварительно записку от Егора.
– Да, я офицер! – ответил я.
– Ведите его в этот вагон! – приказал он, указывая на красный товарный вагон, который стоял в конце поезда.
Двери вагона были открыты настежь с двух сторон. Егор и сапожник удалились. Воспользовавшись, что мы остались вдвоем, я обратился к коменданту.
– Вы офицер?
– Да! – сухо ответил тот.
– Не сможете ли вы мне помочь, как товарищу по оружию, выбраться отсюда?
– Нет, этого я не могу сделать! – резко и сухо произнес комендант и, круто повернувшись, пошел к голове поезда, где в это время происходил митинг.
Я в вагоне остался один. Холодный морозный день. Ветер пронизывал меня насквозь. Особенно холодно было ногам, обмотанным тряпками, которые растрепались и промокли в пути от деревни Рабочево.
Узнав от Егора и сапожника о том, что они привели офицера, красноармейцы бросились к моему вагону, очевидно для расправы со мной. Увидев их приближение и поняв, в чем дело, я, выскочив из вагона и пробежав некоторое расстояние под вагонами, вскочил в один из вагонов комиссарского поезда, стоявшего на запасном пути. Я попал в кухню. Удивленный повар спросил меня, что мне нужно. Нисколько не смущаясь, я ответил, что мне нужно поговорить с товарищем комиссаром.
– Он сейчас занят. На митинге. Придет через полчаса, – ответил повар, переворачивая на сковородке аппетитные котлеты.
Разговаривая с ним, я видел из окна кухни, как красноармейцы с налитыми кровью глазами, с винтовками наперевес, искали тот вагон, куда посадил меня комендант, не предполагая, что я нахожусь в этот момент в поезде самого комиссара. Не найдя меня, они опять бросились к голове поезда. В это время подошел пассажирский поезд, идущий в Клинцы. Я, воспользовавшись этим случаем, вышел из вагона-кухни и прыгнул в него. Не успел я войти в вагон, как услышал сзади голос коменданта:
– Эй, послушайте! Слезайте! Он здесь, товарищи, возьмите его! – сказал он двум подошедшим красноармейцам, приказав им сдать меня коменданту станции Клинцы.
– Наверно, какой-нибудь преступник! – шептались удивленные пассажиры, когда красноармейцы стаскивали меня с площадки вагона.
Конвоиры привели меня в вагон, битком набитый солдатами, бежавшими с фронта. Ни у одного из них не было оружия. Узнав от конвоиров, что я офицер, да еще из отряда Корнилова, они начали надо мной издеваться.
– А, такой-сякой, ты, наверно, кресты хотел заработать у Корнилова! – произнес, подойдя ко мне, один из фронтовиков, глядя в упор.
– Его убить надо, эту сволочь! – крикнул кто-то из глубины вагона.
– Давайте сбросим его к черту! – предложил говоривший со мной, беря меня за плечи.
– Оставьте, товарищи, нам влетит за это! Приказано сдать товарищу комиссару! – сказал один из конвоиров, отталкивая от меня пристававшего зверя.
– Слава богу, война кончилась, и каждый из нас хочет отдохнуть дома, а в тылу затевают эти генералы новую войну, натравляя брата на брата! – ругались озлобленные солдаты, размахивая над моей головой кулаками.
Я стоял молча, прижавшись к стене вагона и крепко держась за ручку его. Кто-то из солдат налил мне сзади за воротник горячей воды, а другой швырнул в лицо объедком черного хлеба. Через полчаса приблизительно мы приехали в Клинцы, где на вокзале ко мне был присоединен другой арестованный туркмен, Тилла, конюх Верховного.
– Сдайте их комиссару товарищу Филиппову! – приказал комендант станции Клинцов, когда нас привели к нему.
Когда он произнес фамилию Филиппов, я обрадовался, что комиссар – русский, а не иностранец.
Конвоиров заменили, и мы вышли из канцелярии коменданта.
– Бэ, Хан Ага, как ты попал к ним в руки! – сказал и заплакал Тилла, увидев меня в таком жалком виде.
– А, такой-сякой, ты изволишь плакать, увидев своего офицера! – сказал один из новоприставленных конвоиров, ударив прикладом Тилла так сильно, что тот упал.
Почти одновременно кто-то ударил и меня в затылок, и я упал на лежавшего Тилла. Я лежал почти без сознания на полу довольно долго. Из носа текла кровь. Платка не было, и теплая липкая кровь залила всю грудь.
– Почему и за что их так бьют? – спрашивали проходившие мимо нас пассажиры, глядя с сожалением.
– Вы спрашиваете за что? Удивительно! Конечно, за дело! Нечего их жалеть. Вы не смотрите на них с жалкими глазами и сердцем! Они здесь сейчас так несчастно выглядят, а попадите-ка в их руки где-нибудь за вокзалом, так они будут смотреть на вас иначе! Корнилов нарочно собрал около себя таких головорезов! – говорил какой-то длинноносый тип в штатском, с очень заметным акцентом, сильно жестикулируя.
После долгого ожидания на перроне вокзала и утомительно долгой ходьбы по городу, мы пришли наконец часам к шести вечера, в комиссариат. Комиссара не было – он был на митинге в городской управе. Нас посадили в холодную камеру с решетчатым окном, выходившим во двор. Голодные, холодные, в изнеможении, мы с Тиллой бросились прямо на пол, так как нар не было, и, прижавшись друг к другу, забылись.
– Эй, выходи там! – крикнул красноармеец, открыв дверь камеры часов в девять утра.
– Идем! – приказал он, когда мы вышли из камеры, и привел нас в канцелярию.
В канцелярии, за большим столом, сидел комиссар Филиппов, фамилию которого я слышал впервые на вокзале.
– Фу, какая гадость! Уведите их, пусть вымоются! Смотреть противно! – приказал комиссар красноармейцу.
Красноармеец подвел нас к грязному рукомойнику, в тазу которого находилась вода со льдом. Из крана вода не текла. Я принялся мыть в этой грязной воде свое лицо. После меня мылся Тилла.
– Стану тебе носить еще чистую воду! Прошли, брат, те времена, когда вы гоняли нас в денщиках и били по физиономии! – ответил красноармеец, когда мы его просили дать немного чистой воды.
«Жаль, что эти слова твои не слышит мой денщик Фока. Он бы на них сумел тебе ответить!» – подумал я про себя, вытирая лицо.
– Вы, конечно, офицер? – начал свой допрос комиссар Филиппов, когда я подошел к его столу.
– Зачем бежали туркмены из Быхова, не получив разрешения советского правительства? С вами был, конечно, Корнилов? – задал он вопрос.
– Мы не бежали, а ехали с разрешения начальства домой.
– Какого начальства?
– В ведении коего мы находились!
– Зачем же вы ехали на Дон, когда из Могилева вы могли ехать прямо в Среднюю Азию?
– На Дону мы хотели купить хлеб и сопровождать его под собственной охраной. С этой целью мы и ехали туда.
– Генерал Корнилов, конечно, был с вами.
– Если вы сами бывший офицер, то должны знать положение младших офицеров в полку! – сказал я, заметив на френче комиссара следы от снятых погон. – Мы были в строю и не знали, кто был с нашим начальством и что оно делало, так как являлись к начальству только по приглашению.
– А вы знаете, что генерал Корнилов был с вами, туркменами, и что он убит во время боя под Песчаным? – сказал он, глядя мне пристально в глаза.
Услышав это, у меня пробежала по телу дрожь, но я, взяв себя в руки, спокойно ответил:
– Не знаю. Если он был с нами, то весьма возможно.
Присутствовавшая здесь барышня-машинистка с сожалением смотрела на нас и время от времени повторяла:
– Бедные, бедные!..
– Отведите их обратно! – приказал Филиппов и вдруг спросил конвоира:
– Да они что-нибудь ели?
– Да откуда? Ведь товарища Рубинштейна нету, да и они также не имеют денег на харчи арестованным! – ответил красноармеец.
– На рубль, купи им пока хлеба и вообще чего-нибудь поесть, а когда придет Арон Лазаревич, я поговорю с ним! – сказал Филиппов, давая красноармейцу деньги.
Арон Лазаревич Рубинштейн, как я узнал потом, был начальником милиции города Клинцы, в ведении которого находились и мы. Читатель может себе представить, что мы почувствовали, услышав одно имя – Рубинштейн. Немного спустя после допроса в нашу камеру пришел сам Рубинштейн. Поздоровавшись и взглянув на наши опухшие лица, он произнес:
– Ничего, товарищи, я тоже когда-то сидел под замком царского правительства!
Поговорив с нами и расспросив, где и как мы попали в плен, он велел перевести нас в другую камеру и поставить кровати с соломенными матрасами. Через два дня к нам перевели из Суража Реджэба Гельдиева, Халлу Халедова и других пять туркмен, взятых также в «плен».
– Бэ, Хан Ага, и ты здесь? – говорили они, широко открывая глаза от удивления, увидя меня, и со слезами на глазах они начали рассказывать мне о тех издевательствах и побоях, которые им пришлось перенести.
– Они не арестанты, а рыцари, попавшие в плен в честном бою. Люди эти честные и гуманные, а потому и мы должны отнестись также гуманно. Они верят в одно, а мы с тобой, Майцапура (солдат-фронтовик, наш сторож), верим в другое, и верующих надо уважать. Не правда ли, товарищ Майцапура? – обратился Рубинштейн к солдату, который являлся как бы нашим сторожем и надзирателем.
– Конечно, конечно, товарищ Рубинштейн! Я с удовольствием поделюсь с ними всем, что имею. Я знаю их по Туркестану, когда я служил в Мерве. Я знаю немного и очень люблю их обычаи. Вы не беспокойтесь, все будет сделано, – они нам кунаки, пока будут здесь! – отвечал Майцапура.
– Майцапура, ты не знаешь, что с нами хотят делать дальше? – спросил я спустя три дня, отдохнувши и пришедши в себя.
– Не знаю точно! Офицеров, кажется, приказано отправить в Могилев, а туркмен в Брянск, где сейчас содержится сто человек с тремя офицерами! – ответил Майцапура, принесши нам обед, который состоял из картофеля и селедки.
На мой вопрос, каким образом могли попасть в плен сто человек туркмен и как фамилия офицеров, он, справившись в канцелярии, сообщил мне, что офицеры: поручики Канков и Захаров и корнет Салазкин (все первого эскадрона, командиром которого был полковник Эргарт) сдались! Майцапура нам даже рассказал, как это произошло.
– Поручик Канков, отделившись с джигитами от полка во время перехода железной дороги, 26 ноября наткнулся на большевиков и, не желая вести с ними бой, послал парламентера-джигита к комиссару – с предложением сдаться. Комиссар приказал поручику Канкову и всем туркменам разоружиться. Когда это было исполнено, то туркменам пришлось перенести ужасы и позор плена. Первым долгом всех джигитов обчистили, вплоть до нижнего белья, а потом некоторых начали избивать. В отрепьях и в опорках, в холодных вагонах их сначала доставили в Клинцы, но, за неимением пригодного помещения в городе, их, голодных и холодных, отправили в Брянск. Я сам видел, как тряслись они, бедняги, от холода в тряпье! – закончил свой рассказ Майцапура.
Рубинштейн, приходивший к нам в камеру каждый день, однажды велел всех нас отвести в баню.
– Ну, с Богом, только вымойтесь хорошенько, не жалейте мыла! – говорил он, отправляя нас в баню.
Бегство
13 декабря 1917 года.
Во время нашего обеда по коридору, мимо нашей камеры, проходила Лиза Танненбаум, машинистка, жалевшая нас во время допроса.
– Вас, корнет, хотят отправить в Могилев! – сказала она.
Услышав об этом, я попросил ее рассказать мне все подробнее.
– Хорошо, только на обратном пути. Я хочу достать журнал из шкафа! – сказала она, направляясь в конец коридора.
Взяв журнал, Лиза подошла к камере.
– Я хочу с вами поговорить, барышня, очень серьезно, – сказал я ей.
– Хорошо, с удовольствием, только сейчас я не имею времени. Через полчаса у нас кончатся занятия, и я приду выслушать вас! – сказала Лиза, торопливо уходя.
– Хан Ага даже в тюрьме любовь крутит! – сказал Реджэб Гельдиев, услыша мой разговор с Лизой и воображая, что я хочу затеять роман. Он хорошо понимал по-русски, так как окончил трехклассное городское училище в Теджене.
В томительном ожидании и в гаданиях о том, поймет ли она то, о чем я хочу с ней говорить, прошли эти полчаса. Если она не поймет, то меня сегодня или завтра отправят в Могилев, и тогда все кончено.
– Mademoiselle, надеясь на ваше доброе сердце, я хочу сообщить вам о том, что хочу сделать, и если вы можете, то помогите мне, если же нет, то постарайтесь забыть о том, что я вам скажу. Я обращаюсь к вам с этой просьбой как к женщине с добрым сердцем! – говорил я ей, когда она подошла к нам.
– Пожалуйста, я буду очень рада, если смогу вам в чем-либо помочь! – ответила Лиза, не подозревая о моем намерении.
– Я с моими людьми хочу бежать! – выпалил я.
– Что? Бежать? – отшатнулась она, широко открыв глаза. – Да разве это возможно? Это безумие!
Испуганный ее страхом, я пожалел, что сообщил ей о своем намерении.
– Если меня отправят в Могилев, то там без всяких разговоров расстреляют. К вам я обращаюсь за советом потому, что не имею здесь ни одной близкой души. Вы же – женщина, существо чуткое, должны понять меня, – говорил я ей.
– Право, я ничего не знаю и не могу посоветовать в этом деле, но поговорю об этом с Ароном Лазаревичем. Он очень честный и порядочный человек. Он жалеет, что Россия идет к гибели и что революция закончена. В большевизм как таковой, в чистом и идейном виде, он не верит. Все, что происходит сейчас в России, он презирает от души и хочет скорее уехать в Палестину. Он бы это давно сделал, но у него есть больная старуха мать и сестра, которые сидят на его шее. Думаю, что если я расскажу ему о вашем намерении, то он даст совет, как быть, и, может быть, поможет вам в этом! – ответила мне Лиза.
– Нет, нет! Я не хочу, чтобы вы кому-либо говорили об этом. Сообщил я только вам и умоляю вас не говорить никому ни слова! – просил я ее, раскаиваясь, что обратился с этим к ней.
– Нет, я нахожу нужным посоветоваться с Ароном Лазаревичем, так как не хочу, чтобы вы все во второй раз попали в руки красноармейцев, которые расстреляют вас, – сказала она, прощаясь со мной.
В тот же вечер пришел к нам Рубинштейн и, обращаясь ко мне, сказал:
– Корнет, от Лизы я узнал о вашем намерении и нахожу, что лучше всего это проделать завтра утром, так как вечером приезжает карательный отряд латышей и тогда отсюда вам не выбраться. Если бы я верил в хороший исход революции, то повесил бы вас без всяких разговоров, как своего политического противника, но в революцию я не верю и, как честный человек, советую вам бежать и больше не вмешиваться в эту кашу, так как никакого толка из нее не выйдет.
На мой вопрос, зачем сюда едет карательный отряд, он ответил, что красноармейцы не хотят идти против украинцев, которые наступают на Бахмач. Советское правительство поэтому решило прислать сюда отряд латышей и матросов для усмирения непокорных.
– А как же осуществить наше бегство? – спросил я его, обрадовавшись и поражаясь честности и порядочности этого человека.
– А вот поговорите с ним так же откровенно, как со мной. Я знаю и верю ему – он вам поможет! – произнес Рубинштейн, указывая на Майцапуру и прощаясь с нами.
– Давайте напоим завтра утром сторожа! Время подходящее. Как раз, на ваше счастье, в городской управе митинг, и все будут там, кроме этого сторожа, стоящего у входа в милицию. Вечером мы сообщим о том, что пьяный часовой выпустил вас. Пока вас будут искать в городе, да рассылать телеграммы о вашем бегстве, вы успеете проехать Гомель. Когда за собой оставите Гомель, тогда уж будет не страшно, так как там украинцы. Из Киева можете ехать на Кавказ, а оттуда до Асхабада рукой подать! – говорил Майцапура, когда я сообщил ему о своем намерении.
На другое утро так и сделали. Прибежав на вокзал, мы только-только успели вскочить в битком набитый поезд, который уже трогался. Отсутствие стекол в окнах и в дверях, холод и голод не чувствовались нами – мы радовались, как дети, свободе и тому, что едем в поезде «по железке», от которой недели две тому назад бежали, как от дьявола. В вагонах – давка и насыщенный табаком и испарениями человеческого тела воздух. С неимоверной силой втиснувшись среди солдат, мы разместились, где попало. Никаких разговоров. Тишина, которую нарушают стук колес и гудки паровоза. Кругом поля, леса, покрытые снегом. В поезде мы стояли, так как присесть негде было. Хал Мухамедов, старший унтер-офицер пулеметной команды, стоявший впереди меня, умоляет не говорить с ним по-туркменски – он боится, чтобы солдаты не услышали нашу туркменскую речь, тогда может все погибнуть. Мы разговариваем друг с другом только глазами.
– Вы кавказцы? – спросил меня, нагибаясь, какой-то тип в солдатской шинели и в солдатской фуражке, но по манерам непохожий на солдата, когда мы подъезжали к Гомелю.
– Да! – лаконически ответил я.
– Хан Ага, ради Аллаха, не говори с ним, а то опять нас могут арестовать! Бог знает кто он, – просил меня Хал Мухамедов.
По приходе поезда в Гомель, где должна была быть пересадка на Киев, вся публика хлынула из поезда. Как только места в вагоне были освобождены, человек с хорошими манерами, быстро подойдя к нам, сказал:
– Кавказцы, идите скорее и займите места, а то товарищи опять налезут и займут их. Поезд пойдет до Калиновичей и там будет пересадка, а не здесь. Я знаю, что вы не кавказцы, а туркмены Корнилова. Вот вам папиросы, колбаса, хлеб и по два рубля денег на каждого. Вы меня не бойтесь, я не большевик и не шпион. Я вас не выдам, потому что вы нам, русским, так же дороги, как и генералу Корнилову.
Мы поблагодарили за папиросы, деньги и хлеб, но колбасу, хотя она и была для нас соблазном после долгой голодовки, возвратили.
– В этом костюме я потому, что, имея вид товарища, по теперешним временам легче передвигаться с одного места на другое и находить места в вагоне. Я знаю о разгроме вашего полка, но за генерала Корнилова не бойтесь. Он выбраться сумеет! – говорил нам неожиданный друг.
Узнав, что пересадки не будет, публика действительно хлынула в поезд, и начались давка, ругань, и вагон вмиг наполнился едким махорочным дымом. А мы уже тепло и уютно устроились в неосвещенном вагоне и начали даже дремать. Людей я устроил на верхней полке, и они, чувствуя себя до некоторой степени вне опасности, были счастливы своим положением и местом.
Около восьми часов вечера мы приехали в Калиновичи. Вокзал был битком набит серой солдатской массой. Кто только с котомкой на плечах, а кто и с винтовкой бежали к пришедшему поезду, стараясь запастись местами и, узнав, что поезд дальше не пойдет, ругаясь, возвращались назад. Ночь была морозная, и шел мелкий снег, который, падая на платформу вокзала, искрился тысячами алмазов при свете газовых фонарей. Кругом была исключительно серая солдатская масса, штатских лиц не было видно. На вокзале уже не было ни буфета, ни ресторана.
– Коль хочешь жрать, то сбегай в город. Он недалече, только в семи верстах! – резонно и мудро отвечали товарищи на мой вопрос, где можно достать что-нибудь поесть.
Пол вокзала, мокрый и грязный от снега, вносимого тысячами ног товарищей и сейчас же превращавшегося в липкую грязь, был очень скользок. Случайно заметив в комендантской комнате свет и горящую печь, я, заглянув туда, увидел молодого коменданта, сидящего за столом и писавшего. Недолго думая, я вошел в комнату.
– Господин корнет, разрешите войти, – обратился я к писавшему что-то коменданту, стоя на пороге.
– Да-с! – ответил он, не поворачиваясь ко мне и продолжая писать.
Войдя, я прямо направился к печке, желая отогреться и просушить тряпье на своих полуголых ногах, достаточно промокшее за день.
– Ну, что скажете, товарищ? – спросил комендант, окончив писать, но все еще не поднимая головы от своей написанной бумаги.
– Ничего, разрешите отогреться, господин корнет! – попросил я.
– Откуда вы знаете, что я корнет, а не прапорщик? – задал мне вопрос комендант, слегка улыбаясь.
– Ваши канты на петлицах говорят, что вы кавалерист, а ваше лицо – что вы имеете чин не больше корнета.
– За…ббав…но, брат! Небось, вы тоже кавалерист? – спросил, уже смеясь, комендант.
– Так точно, я вахмистр Татарского конного полка. Еду домой в отпуск, и вот по дороге меня товарищи обобрали. Приходится ехать домой в таком виде, – сказал я, обращая его внимание на себя.
– Ах, вот как! Как наша славная конница? Держится еще на фронте? Небось, она не так разложилась, как товарищи-пешехонцы? – спросил комендант.
– Никак нет, ваше благородие, – отчеканил я, и, увидя недалеко от себя мешок с сушеными фруктами, запустил туда руку, желая полакомиться.
Фрукты эти, по словам коменданта, были конфискованы. Взяв с разрешения коменданта немного фруктов, я собирался было постепенно набить ими себе полные карманы, но все мои планы были разрушены небритой и грязной рыжей физиономией Реджэба Гельдиева, показавшейся в приоткрытой двери.
– Разрешите, ваше благородие, моему брату также отогреть ноги, – попросил я коменданта.
– А, пожалуйста, пожалуйста, своей кавалерии разрешается! – слегка улыбаясь, произнес комендант, опять начав что-то писать.
Мы с Реджэбом, хорошо устроившись, были заняты усиленным вытаскиванием сушеных абрикосов и яблок, как вдруг в комнату вошел в форме какой-то железнодорожник и, поднося коменданту какую-то бумажку, сказал:
– Слушайте, вот что я получил по телеграфу. Прочтите и примите соответствующие меры. Это по военной части, следовательно, по вашей. Мое дело маленькое: я должен встречать и провожать поезда. А что это за господа, так удобно здесь разместившиеся? – спросил вошедший, по-видимому, помощник начальника станции, отдав коменданту принесенную им бумагу.
– Я разрешил – пусть греются! – лениво ответил комендант, взяв принесенную бумагу, и, пробежав ее, вдруг воскликнул:
– Что за черт?! Тут едет Корнилов? Обыскать тщательно все вагоны и проверить документы пассажиров! Нет, да они с ума сошли! Я не в силах осуществить это. Как я могу проверить документы, когда в битком набитые вагоны нельзя и войти! Хороша проверка! Эти бы господа сами приехали сюда, да и проверили бы документы у товарищей. Какой дурак сейчас может допустить мысль, что Корнилов находится здесь, а не на Дону? Я думаю, что ему снится сейчас тридцать третий сон! – возмущался комендант абсурдностью телеграммы.
– Хорошо, я вызову исполком и войска. Пусть оцепят поезд и сами ищут Корнилова, а я это сделать не могу, так как не имею ни людей, ни сил для исполнения этого приказа! – говорил он, беря телефонную трубку.
– Конечно, сделайте для вида что-нибудь, а там видно будет! – советовал железнодорожник, уходя.
– Исполком!.. Исполком? Товарищ комиссар? Я товарищ комендант! Будьте добры приехать сюда и арестовать Корнилова. А! Да… да, Корнилов едет с этим поездом! Нет, я его в лицо не знаю! Да, по фотографической карточке! Да, захватите наряд для охраны его! Что? У меня всего три солдата. Я не могу, нет сил! Да, да – он же… Корнилов! Да ей-богу же!.. Получил сейчас телеграмму! – говорил комендант и повесил трубку.
Услышав, что Корнилов едет в поезде, Реджэб побледнел и зашептал мне:
– Хан Ага, не Корнилова, а нас ищут. Телеграф, наверно, перепутал и вместо «корниловцы» передали «Корнилов». Как же поедем, Ага, дальше?
– Ничего, Реджэб, Аллах с нами. Раз мы от расстрела ушли и сюда добрались, так отсюда до Киева Всевышний Аллах уже доставит нас! – успокаивал я его, а сам мысленно разрабатывал дальнейшие планы.
– Ну что, передали? – спросил, опять входя, железнодорожник.
– Еще как! Как будто сам Корнилов сообщил мне о своем приезде. С этими господами иначе нельзя. Их довольно трудно вытащить из теплой комнаты и оторвать от бутылок! – говорил, смеясь, комендант.
В дороге
Прибывший поезд был тотчас же окружен войсками и были произведены обыск и проверка документов у всех пассажиров. Началась страшная кутерьма: из окон вагонов с разбитыми стеклами летели на грязную платформу чемоданы, подушки, зонтики, ящики и вообще всякие вещи. Публика ругалась и, теряя свои вещи, вылезала на платформу. Девяносто девять процентов товарищей не имело документов. Когда в пустой поезд стали впускать по одному человеку, я решил использовать свое «знакомство» с комендантом и нашу беседу с ним, а потому я, смело подойдя к нему, когда он остановился у дверей одного вагона, обратился за разрешением войти в вагон.
– Ваше благородие! Надеюсь, вы меня за Корнилова не примите, он ведь русский – блондин, а я кавказец – брюнет, к тому же свой – кавалерист! – отчеканил я.
Комендант, рассмеявшись, назвал меня находчивым молодцом и разрешил мне с моими людьми войти в вагон.
– Бэ, Хан Ага, с тобой не пропадешь нигде! – говорили джигиты, довольные моей смелостью и находчивостью, радуясь, что так благополучно избежали грозившей опасности.
Войдя в вагон, мы очень недурно устроились. Джигиты, по обыкновению, поместились на верхних полках, а я – внизу. Держал себя я непринужденно, ругался хуже товарищей, орал. Угощал своих людей сухими фруктами, которые очень пригодились, заменяя нам хлеб. Разместились кое-как и стали ждать, когда пойдет поезд. Начались разговоры, сперва робкие, ленивые, а потом все оживленнее и оживленнее.
– Иван, кого, собственно говоря, ищут и зачем весь этот кавардак? – задал вопрос один из товарищей стоявшему у дверей вагона соседу.
– Да ну их! Откуда они взяли, что с нами в поезде едет Корнилов?!
– Да яво, значит, ищут?
– Кого?
– Да Корнилова?
– Куда ты его поймаешь! Раз из-под ареста ускользнул, то прощай, брат! – вмешался кто-то в разговор.
– Да, прозевали, значит! – говорил третий.
На минуту все затихли, а потом начались разговоры о земле, о свободе, но главным образом товарищей беспокоила весть о том, что украинцы наступают на Бахмач и Гомель и отнимают у солдат все лишние вещи. Эта весть, повторяю, главным образом всех и волновала, ибо каждый из товарищей вез с фронта массу награбленных вещей. Они начали придумывать планы, как бы сохранить свои вещи до дома от зорких глаз украинцев. Начались советы, разработка планов и способов избежать конфискации вещей. Услышав это, я решил воспользоваться случаем и, обратившись к своему соседу, сказал:
– Товарищ, вот, например, у тебя две пары сапог и две шинели. Дай одни сапоги мне, а шинель моему товарищу, – указал я на Тиллу, хуже всех одетого, – и, таким образом, мы провезем твои вещи.
– Хорошо, хорошо, товарищ, бяри, только слышь, сохрани их! – говорил сосед, отдавая мне пару совершенно новых ботинок с обмотками.
От другого солдата я получил теплые ватные штаны и папаху. От многих других вещей, как-то: сбруи, подметок, инструментов, мы отказались.
– Этот, наверное, жид, что придумал такой хитрый план! – произнес один из товарищей, лежавший на верхней полке, указывая на меня пальцем.
– Недаром сказал коменданту: «Ваше благородие!», зато и сидит теперь на скамейке! – сказал, завистливо глядя на меня, товарищ, стоявший у двери.
– Довольно с меня, что простоял целые сутки на ногах в коридоре вагона, теперь хочу сидеть! – бойко «кроя» на каждом слове руганью всех, смело парировал я на русском языке без акцента.
– Нет, товарищи, он не жид, а армяшка духанщик! По морде не видишь разве – черная, как у лошади! – ответил кто-то.
Я и его «крыл», а с ним вместе «крыл» всех на свете товарищей и армяшек, горячо защищая себя. Видя, что я сержусь, товарищи «ржали» от удовольствия.
– Да чего там, жид, армяшка! Он молодец, что придумал, как спасти наши вещи! – заступались хозяева папахи, ботинок и шинели.
– Если ты яго понял, то он не жид, так как жид, если хочет надуть тебя, то он сделает это так ловко, что голова русского человека не в состоянии додуматься, что он хочет ему сделать зло. Жид продаст, купит и выдаст русского человека, а он, дурак, все будет думать, что жид его благодетель! – говорил старый, запасный солдат, сидевший рядом с хозяином вещей, обращаясь к товарищу, лежавшему на полке.
Между тем я не зевал, а натягивал на себя брюки и надевал ботинки.
– Чтобы отгадать замысел жида, надо быть самому жидом! – поддержал кто-то пожилого солдата.
Хал Мухамедов и Гельдиев все время просили меня не вмешиваться в разговоры товарищей, все еще боясь их и совсем не подозревая, что я готовлю товарищам.
За разговорами и спорами незаметно прошло время, и наш поезд, в верстах десяти от Киева, в поле, был остановлен украинцами, которые первым долгом начали отнимать оружие, если у кого его находили. Отнимали бомбы, револьверы, винтовки, а также лишние вещи. Когда очередь осмотра дошла до нашего вагона, то я заявил украинцам, что я офицер, а со мною четыре моих джигита-туркмена и что мы едем к ним в Киев, а потом на Дон. Один из начальствующих лиц украинцев упорно не хотел говорить со мной по-русски, но когда я заявил ему, что в такой короткий срок я не успел научиться их родному языку и высказал надежду, что он, простив мне это, объяснится со мной на языке нашей матери – России, то, повернувшись, чтобы уйти, он вдруг произнес на чисто русском языке:
– Слезайте!
– Ну что, товарищи, по вашему он не жид? Нам голову морочил, что он полковой писарь, а таперича, забрав наши вещи, морочит украинцев, что он ахвицер! – торжествовал товарищ с верхней полки.
– Эй, товарищ, слышь! А сапоги мои, шинель, штаны, папаха! – кричали нам вслед товарищи, грозя и посылая, куда только могли.
– Чего ругаешься? Вещи нашли хозяина! Ты за них платил? Они такие же его, как и твои! – слышал я голос старого солдата, уходя из вагона.
Все эти вещи нам весьма пригодились. Было тепло ехать в автомобиле до Киева.
В Киеве, после краткого допроса в комиссариате, нас отправили в гостиницу «Прага», где в комнате № 6 жил есаул Аполлон Аполлонович Чермшанский, представитель Донского казачьего войска на Украине. Он снабжал средствами и отправлял на Дон всех желавших ехать в Алексеевскую организацию, как тогда называлась организация будущей Добровольческой армии. С Чермшанским меня сроднила общая работа на благо родины в черные дни ее жизни, когда он и я находились в Могилеве, в дни заключения Верховного в Быхове. «Ах, дорогой Хан, если бы наши казаки поняли все это так, как вы, и любили Верховного, то мы в два счета сбросили бы эту сволочь – губителей Родины!» – часто говорил Чермшанский в минуты нашей беседы, когда я задавал ему вопрос, как дела на Дону? С ним мы пережили немало дней, когда жизнь всех в Быхове ставилась на карту. Ему и другому сыну Тихого Дона, Василию Николаевичу Шапкину, так честно и преданно работавшим, мой низкий поклон. Я надеюсь, что когда-нибудь еще встретимся и вспомним о нашей тяжелой жизни в Могилеве, когда Верховный был заключен в Быхове.
– Добрый день, есаул! – сказал я, входя в комнату к Чермшанскому.
– Кто вы такой? – спросил он, смотря мне в лицо и не узнавая.
– Я – ваш друг!
– Не имею удовольствия вас знать, милостивый государь! – ответил Чермшанский и отвернулся.
– И вы, Василий Николаевич, меня не узнаете? – обратился я к есаулу Шапкину, представителю Донского казачьего войска при Духонине после Чермшанского.
– Нет! – тихо ответил он тоже.
Я начал злиться, думая, что они нарочно не хотят узнавать меня.
– Посмотрите же хорошенько на меня. Неужели я так сильно изменился, что вы не можете узнать или просто не хотите и вздумали шутить? – сказал я, рассерженный, подходя к Чермшанскому, который, наконец узнав меня по глазам, бросился обнимать со словами:
– Хан, дорогой! Вы живы и здоровы?! Ну, славу Богу!
– Извините, дорогой Хан, меня! Я вас не узнал! – с этими словами подошел ко мне также и Шапкин.
Мне сейчас же хотели приготовить номер, а джигитов отправить в госпиталь, но я отказался, говоря, что буду жить там, где и джигиты. Нас привели в какой-то госпиталь, где мы приняли ванну и нас переодели, обули и все прошлое мигом было забыто, и мы бодро, с неугасающей верой смотрели на будущее. Весть о нашем прибытии в Киев быстро разнеслась по городу, и отзывчивые киевляне принялись носить джигитам белье, сласти и деньги.
Узнав от Чермшанского, что Верховный жив и здоров и находится на Дону, я стал хлопотать о нашей отправке на Дон, отдохнув четыре дня в Киеве. От того же Чермшанского я узнал, что Верховный на розыски меня послал трех человек, снабдив каждого средствами и приказав им привезти меня, если я жив, а если же убит, то точно определить место, где это произошло. Эти три человека: прапорщик Гогосов, вольноопределяющийся Фомин и еще один офицер, фамилии которого я, к сожалению, не помню, – отправились на розыски в разные стороны.
– Все посланные за вами проехали через Киев, и мы помогли им, снабдив их фальшивыми документами. Разве они вас не встретили? – спрашивали Шапкин и Чермшанский.
На мой вопрос, что делает Верховный на Дону, они ответили, что – пока ничего. Он еще не объявил о себе казакам и живет конспиративно в квартире войскового старшины Дударова на Ермаковской улице № 33.
– Разве на Дону тоже большевики, что такому патриоту-казаку приходится скрываться у себя дома? Разве время нам позволяет его скрывать? Как же генерал Каледин принял Верховного? – задавал я им вопросы.
Они, видимо, чувствовали себя неловко и определенного ответа не дали, предоставляя мне самому приглядеться к обстановке на Дону. После разговора с представителями Донского казачества у меня осталось неприятное впечатление о настроении на Дону, и я начал жалеть, что Верховный поехал на Дон. Но все же я твердо решил ехать к нему, глубоко веря, что это единственный человек, который доведет Россию до желанной цели!
Сознательные граждане
Однажды в коридоре «Праги» я встретил группу офицеров с растерянным и безнадежным выражением на лицах. Группа эта, окружив, расспрашивала офицера-казака:
– Скажите, есаул, можно ли надеяться на что-нибудь на Дону? Говорят, туда пробрался генерал Корнилов? Я, полковник-артиллерист, хочу проехать туда, если, конечно, генерал Корнилов там и если он будет организовывать армию против большевиков.
– Да, генерал Корнилов у нас, на Дону, но пока он ничего не делает. Существует Алексеевская организация, и если вы хотите ехать туда, то наши представители вам помогут! – ответил есаул.
– Что же из себя представляет Алексеевская организация? Какой у нее лозунг? Она работает совместно с вами, казаками, против большевиков или она отдельная самостоятельная организация? – интересовался полковник.
– М-м!.. Не думаю! Впрочем, лучше обратитесь к нашим представителям, а я, ей-богу, ничего не знаю, – откровенно ответил есаул.
Полковник отправился к представителям. Заинтересовавшись, я решил обождать его возвращения и услышать, каков будет ответ. С этой целью я подошел ближе к группе офицеров, ожидавших возвращения полковника. Минут через десять из комнаты представителей вышел полковник, но в дверях еще несколько задержался и до нас донеслись слова есаула Чермшанского, который куда-то спешил, а потому, стоя одетым, торопливо говорил:
– Поезжайте на Дон, и там на месте сами все узнаете! Мое дело – снабдить всем необходимым и отправить желающих ехать на Дон. А что творится у нас в данную минуту на Дону, я и сам не знаю, – так различны каждый день сведения оттуда…
Увидя полковника, вся ожидавшая его молодежь бросилась к нему, желая узнать о результате разговоров с представителями. Полковник, качая безнадежно головой и разводя руками, ответил, что никакого толка не добился.
– В течение всего времени говорилось об одном и том же, все вокруг да около, а самого главного не могут объяснить. Да мне кажется, сами руководители организации не могут себе представить ясно, какие у них ближайшие цели, – это видно из сбивчивых ответов представителей! – говорил старый полковник в солдатской шинели группе молодых офицеров.
– Ну, что же, господин полковник, ехать теперь же на Дон или выжидать здесь в Киеве благоприятного времени, т. е. того времени, когда будет ясно видно, кто и что организует и какая цель организации? – спросил кто-то.
– Если бы эта организация была Корниловская, то мы бы знали, чего она хочет, а ехать к Алексееву, который служил Царю и Керенскому, я лично не желаю – слуга покорный! – сказал мой сосед.
– Я, господа, право, не беру на себя ответственности уговаривать вас ехать на Дон при таком положении дела. Хотите – поезжайте, а я лично не поеду – не желаю ехать на авось, заранее зная, что из этого дела ничего не выйдет. Если бы казаки поднялись совместно с тамошней организацией против большевиков, то тогда явилась бы вера, что из этого выйдет что-нибудь. А если начать организацию там, где хозяева не сочувствуют ей, то заранее можно предсказать ее неудачу! – закончил полковник.
– Чего там долго думать и мрачно смотреть на дело! Поедемте, ребята! Авось, к нашему приезду генерал Корнилов поднимет оружие против большевиков, став сам во главе организации! – вмешался в разговор молодой подпоручик, до сих пор молча слушавший говоривших.
– А если нет? – послышался вопрос.
– Тогда жди до того времени, пока не объявит о себе генерал Корнилов! – ответил за молодого подпоручика кто-то из офицеров.
К желавшему ехать на Дон молодому офицеру присоединились еще три человека, а остальные решили остаться в Киеве и подождать, пока выяснится обстановка на Дону.
В этот момент в коридор вошла новая группа офицеров, взволнованно разговаривавших между собой.
– Что, капитан, как дела и чего вы так волнуетесь? – обратился полковник с вопросом к одному из вошедших офицеров, одетому в солдатскую шинель без погон.
– Здравия желаю, господин полковник! Как же тут не волноваться! Это черт знает что такое! – говорил капитан, подходя и здороваясь с полковником.
– В чем же дело? – поинтересовался полковник.
– Да разве это, извините за выражение, представители? Волосы прилизаны, ручки чистенькие, костюмчики и сапожки новенькие… В общем, хоть сейчас отплясывай мазурку на паркете, а спроси у них, что делается на Дону, ничего не знают. Вам может рассказать об одном случае вот этот поручик, которого я с фронта послал на Дон. Поручик, расскажите господину полковнику, какую штуку разыграли с вами эти господа! – сказал волновавшийся капитан.
– По приказанию господина капитана, моего ротного командира, я привез с фронта пару пулеметов с двадцатью тысячами патронов, желая провезти все это на Дон. С фронта со мной приехали десять солдат. Вы, господин полковник, понимаете чего стоило нам везти эти пулеметы и какому риску подвергались мы в дороге, если бы попались с ними в лапы товарищей.
– Понимаю! – сказал полковник.
– Измученные физически и морально, мы прибыли сюда. По приезде я пошел к представителям Дона и заявил им о том, что у меня имеются пулеметы и люди и если они необходимы на Дону, то просил облегчить нам дорогу в смысле безопасного провоза нашего оружия через территорию украинцев. Задержав меня на две недели, вчера наконец мне ответили, что оружие не нужно, так как украинцы решили снабдить Дон оружием в избытке. Я сейчас же пошел и сдал украинцам под расписку пулеметы и патроны, боясь за последствия в случае обнаружения их!
– А сегодня, я встречаю одного офицера, прибывшего с Дона, – прервал поручика волновавшийся капитан, – который приехал со специальным поручением доставить оружие на Дон. «Капитан, генерал Алексеев будет очень рад, если вы сумеете провезти на Дон с моими людьми пулеметы, так как в них чувствуется сильный недостаток», – заявил мне этот офицер. Что же теперь прикажете нам делать? Все наши труды пошли к черту. Вы понимаете, с такими господами кашу не сваришь! После такого отношения этих господ к своей обязанности, ей-богу, пропадет вера и желание что-нибудь делать! – закончил капитан.
– Да, знаете, очень легкомысленные и неопытные господа, эти представители. В теперешние времена на такие должности нужны работники сознательные, знающие и верующие в свое дело. А они, – махнул полковник рукой и покачал головой, – губят начатое дело. А у большевиков постановка дела иная. Они не смотрят на прошлое и плюют на рекомендации. Им нужно настоящее. Ваша протекция – это ваша способность и уменье выполнить возложенную на вас задачу. Если вы не сумели выполнить ее, то вы – круглый нуль! Им нужны работники и фанатики, верящие в поставленные им цели, а не такие господа, как здесь. Революция нас ничему не научила. Как была сильна протекция, так осталась и сейчас. Единственная надежда на Корнилова. Если он поднимется против большевиков, то, даст Бог, в его армии не будет места протекции. Я знаю Корнилова еще с Русско-японской войны и Карпат, где я имел удовольствие быть под его командой! – закончил полковник.
С тяжелым чувством я расстался с этой молодежью.
Перед отъездом на Дон я зашел попрощаться с Чермшанским и застал у него с иголочки одетого томного гвардейца, который при виде меня в солдатской шинели и в огромных ботинках сделал гримасу и, смерив меня с ног до головы, молча закурил папиросу.
– Ротмистр, позвольте вам представить любимца генерала Корнилова корнета Хан Хаджиева! – представил меня Чермшанский бравому гвардейцу.
Тот, широко открыв глаза, нехотя отрываясь от своей папиросы, со слегка брезгливой гримасой протянул мне руку. Я думал, что он сию же минуту побежит к рукомойнику, вымоет руки. Оживленная беседа была прервана, очевидно, моим появлением.
– Итак, ротмистр, будем продолжать наш разговор! – сказал Чермшанский и, уловив недоверчивый взгляд ротмистра, брошенный на меня, поспешил успокоить его:
– Не беспокойтесь, Хан наш.
– Итак, есаул, я говорю вам, что эта вся сволочь, жидовские наемники-большевики, все вместе не стоят и двух копеек. При этом если за это дело взялся сам генерал Алексеев, то успех обеспечен. А скажите, есаул, наших гвардейцев там много? Вы говорите, что полковник Хованский с Михаилом Васильевичем? Ну, тогда другое дело! Ясно, все наши там, и успех обеспечен. Насколько я знаю Хованского, он, знаете, не имеет этаких демократических тенденций и, работая с ним, будешь уверен, что находишься в кругу своих. Я боюсь вмешательства в это дело Корнилова. Он слишком красный. Вы меня, корнет, ради Бога, извините, что говорю так о нем в вашем присутствии, но я говорю вам, как кавалеристу, что не могу простить ему арест Государя Императора. А если Корнилов вмешается в это дело, то к нему будет стекаться вся эта сволочь: прапорщики, пешедралы, студиозы, благодаря которой мы проиграли войну, и драться в такой армии я не желаю! – говорил ротмистр.
Я поспешил попрощаться с ними, так как боялся опоздать на поезд.
Впоследствии Аллаху было угодно устроить мне встречу с полковником-артиллеристом под Кереновской и ротмистром – под Лежанкой в ординарческом эскадроне. Они оба молча шли туда, куда был направлен указательный палец Верховного. Они не рассуждали, а шли молча в кровавый бой. Почему? Потому что во главе армии стоял сам Верховный, который шел наравне с ними!
Придя на вокзал, мы бросились в атаку на поезд, чтобы запастись местами. Я уже не стеснялся с товарищами. Ругался, орал, порол ерунду, они все слушали, а иногда удивлялись моему нахальству. Ничуть не стесняясь, я «обкладывал» всех отборными словами, а сам все лез вперед и вперед. Занял я не только место для себя, но даже устроил удобно и своих джигитов. Поезд был битком набит товарищами, но уже хорошо профильтрованными украинцами (в смысле оружия). Давка, ругань из-за места, грязь и вонь. В вагоне темно… Едем… На минуту вагон освещается светом станционных ламп, мимо которых пролетают вагоны. Жарко, душно и тесно…
– Вот здесь скоро освободится место, товарищ слезает в Ростове, и ты, бабушка, можешь сесть сюда, – говорит солдат больной старухе, сидевшей на полу, покрытом ковром семечной шелухи и всякой дрянью.
– Значит, к Каледину в солдаты едешь? – слышится голос, обращенный к солдату, собиравшемуся слезть в Ростове.
– Какой я теперь солдат, – нехотя ответил тот, поправляя вещевой мешок.
– А кто ты, генерал? – послышался другой, насмешливый голос.
– Я теперь вольный гражданин! – усмехнувшись, ответил солдат.
– Значит, гражданин Керенского? – вмешался кто-то в разговор, и послышался смех.
– Поезжай, гражданин, там уж Каледин приготовил для тебя новенькую винтовочку! – слышался чей-то насмешливый голос.
– А я его к чертям пошлю с его винтовочкой! – отвечал гражданин.
– Правильно, товарищ-гражданин! Повоевали, побаловались, да и баста! Эти генералы, такие-сякие, проиграли войну, убежали с фронта в тыл, а здесь, в тылу, сидят да в солдатики играют. Собрать бы их всех в один мешок да в топку! – поддержал гражданина один из товарищей.
– Говорят, что Каледин скрывает самого главного бунтаря – Корнилова!
– Какого Корнилова? Того, который сидел в тюрьме-то? – спрашивал гражданин-ростовец.
– Этот самый. Говорят, он убежал из тюрьмы, обманув товарища Керенского!
– Кого-кого он не обманул, начиная с хитрого немца и кончая адвокатом Керенским, – послышался бас, очевидно что-то жующий.
– Ничего, брат, пусть обманывает немца, австрияка и самого адвоката Керенского, а нашего брата, солдата, он не обманет! Мы таперича обстрелянные птицы! – вмешался новый голос.
– Ты не будешь воевать, так офицеры будут воевать.
– Куда им без нас воевать-то и много ли их?
– Их до черта! – возразил бас.
– Их много, говоришь ты?
– Жаль, что мы этак церемонились с ними и выпустили их с фронта, – поддержал бас.
– Если ты не хочешь воевать и офицеры не захотят, то немцы возьмут Россию и ты будешь их рабом! – произнес кто-то рассудительно.
– А разве мы не были рабами при Николае и мало били тебя по харе-то? Пусть возьмет Рассею кто хочет. Мне все равно! Ежели немец позволит себе вольности, то и немца попрем, как поперли Николая. Мы таперича, брат, вольные и сознательные граждане!
Наслушавшись разговоров товарищей, ехавшие со мной джигиты пали духом, и когда мы подъезжали к Ростову, то ко мне обратился с просьбой Хан Мухамедов, передавая ее от всех ехавших джигитов.
– Хан Ага, ты разреши нам продолжать путь прямо в Ахал. Нас ты всегда учил говорить правду, и мы тебе должны сказать, что устали физически и душевно. После всего пережитого и виденного мы не верим, что бояр сможет что-нибудь сделать. Сам он – да, но он один, и у него нет людей. Ты слышишь сам, что говорят вот эти граждане? Бояру придется идти против этих зверей, и много ли пойдет с ним сейчас, когда его не поддержали вовремя сознательные элементы России. Если ты еще веришь в его дело, то поезжай с Аллахом. Желаем тебе и бояру от души успеха и сохрани вас Аллах среди этих животных!
Я поблагодарил их за откровенность. Поезд пришел в Ростов…
– Хан Ага, хош (до свидания)! Дай Аллах встретиться с тобой в Ахале! Привет бояру! – кричали они, когда поезд тронулся дальше.
– Привет Ахалу и Хиве! – крикнул я, провожая моих соратников, живых свидетелей черных и светлых дней в жизни России и великого патриота ее – Уллу бояра.
Чем дальше их уносил поезд, тем больше росла в душе моей тоска одиночества и тем сильнее чувствовал я, насколько привязался к своим простым, откровенным и наивным кочевникам… Но при одной мысли, что только сорок верст отделяют меня от моего пророка, я обрадовался как ребенок и, охваченный той же неугасимой верой, как в дни Могилева, бросился на вокзал и попал в среду той серой толпы, которая еще несколько дней тому назад была для меня страшнее тигра. А сейчас я хожу среди них, разговариваю, угощаю папиросами и они меня, ругаюсь с ними, смеюсь и их смешу. Глядя на них, я думал: «А ведь вас рисуют зверьми, людоедами и называют всеми страшными именами, какие только может рисовать воображение тех, которые боятся вас. На самом же деле вы не так страшны и не звери, а люди! Вас боятся те, которые вас не знали никогда или же виноваты перед вами. Вы такие же люди, как и я, как и все, которые называют вас такими страшными именами… Надо только уметь подойти к вам и узнать вашу душу, и она окажется лучше и мягче, чем у всех тех, которые вас называют зверями. Нет, нет, вы не звери, вы люди! Из вас хотели сделать зверей и сделали на время их, а теперь смеются над вами… Нет, да не будет этого! Аллах, Ты помоги им! Не допусти врагам издеваться над ними!»
Так ходил я всю ночь среди этой толпы разуверенных, измученных и усталых людей. На рассвете я занял место в поезде, отходившем из Ростова в Новочеркасск. Первое впечатление от казаков было очень приятное. От них сразу обдало меня степью и той традицией, которая присуща только степнякам. Их манера держать себя с офицерами, простое и сердечное отношение одного к другому, безразличие ко всему, что творится вне предела Дона, – все это вместе напоминало туркмен и их жизнь. Жадно ловя каждое движение казака, его манеры и стараясь понять их общий язык со своими офицерами в частности, а со старшими вообще, я не заметил, как мы подъехали к Новочеркасску.
– Ново-чер-касск! – крикнул кто-то, как бы разбудив меня от глубокого сна.
Поезд остановился, и я вышел из него на перрон вокзала. Ясный солнечный день. Слегка морозит. Вся столица и прилегающая местность были покрыты глубоким снегом. При первом взгляде на эту картину у меня невольно мелькнула мысль, что я действительно в данную минуту нахожусь на Дону, который показался весь седым. Чем выше я поднимался с вокзала в гору, тем суровее казалась мне столица Дона своим, все пронизывающим, холодным ветром. Вот показался величественный, краса и гордость Дона – храм, который как легендарный великан стоял в центре столицы. Златоглавые купола собора искрились и горели, как бы желая перебороть своим блеском лучи утреннего солнца…
Меня обогнала тучная фигура человека в военной форме. Он шел с дамой. Взглянув на него и узнав в нем одного из моих близких знакомых, я, подойдя к нему, заговорил:
– Здравствуйте, господин полковник!
Это был полковник Новосильцев.
– Я вас, сударь, не знаю! – коротко ответил он, продолжая идти дальше.
– Ведь я же ваш Хан! Разве вы меня не узнаете? – сказал я.
Взглянув на меня внимательно и узнав, он быстро подошел ко мне со словами:
– Хан, дорогой, голубчик, дайте я вас обниму! Как я рад, что Господу Богу было угодно опять мне встретиться с вами. Я сразу вас, голубчик, не узнал в этом виде. Я думал, что какой-нибудь товарищ хочет пристать ко мне. Познакомься! Это тот Хан, любимец Лавра Георгиевича, о котором ты знаешь, – сказал он, представляя меня даме. – Ну что, Хан, опять нам суждено работать вместе. А по вам Лавр Георгиевич отслужил панихиду, – торопился рассказать все добрый Леонид Николаевич.
– Ну как дела здесь? Как вас всех здесь приняли и почему от вас ни слуху ни духу? – спросил я, идя с ним.
– Если бы вы знали, какая темнота здесь. Все относятся недоброжелательно к нашим идеям. Казаки только и знают, что митингуют. Помощь от них очень слабая. А вообще поживете здесь немного и сами все увидите! – радовался и волновался Леонид Николаевичу, то стараясь расспросить меня, то вспоминая пережитые дни в Могилеве и в Быхове.
Ошеломленный рассказами Леонида Николаевича, я шел и больше не слышал, что говорит он, а думал про себя, не понимая одного, почему от Киева до Новочеркасска и даже в самом Новочеркасске все говорят об одном, а именно: чтобы я сам пригляделся и узнал обо всем. В чем же дело? Что за великая такая тайна? Где же их Сердар-Атаман? Почему он медлит, если он популярен в своей стране и среди казаков и если они любят его? Почему он не собирает своих сыновей в аламан и не поведет их на Москву, которая сейчас еще не сильна. Когда же он использует свою популярность и любовь казаков, если не сейчас? Разве он не понимает важности этого момента в жизни его родины – России?
Узнав и от него, что Верховный жив и здоров и находится на Ермаковской улице в доме № 33, у войскового старшины Дудорева, а Голицын с Долинским в гостинице «Европейской», я решил зайти в первую попавшуюся гостиницу, чтобы по телефону сообщить Голицыну о своем приезде и подождать его там, так как, не зная города и будучи сильно утомленным после дороги, я не в состоянии был искать его. С этой целью я зашел в гостиницу «Золотой Рог» и, увидев на доске среди имен жильцов фамилию подъесаула Герасимова, бывшего представителя сибирского казачьего войска в Ставке, я решил зайти к нему и у него подождать Голицына. Герасимов являлся одним из активных участников в Ставке в дни сидения Верховного в Быхове. Впоследствии он был командирован Верховным в Сибирь с особым поручением, как один из храбрых и понимавших свое дело офицеров.
Поднявшись на второй этаж, я постучался в дверь его номера. Открыв мне дверь и с секунду глядя на меня, он шарахнулся назад, упал на диван и, закрыв глаза, начал креститься.
– Господи, Господи! – говорил он, открыв глаза, глядя на меня и снова крестясь.
Удивленный и не понимая, в чем дело, я молча стоял на пороге, ожидая, чем это кончится. Его испуганный вид заставил меня думать, что он или сошел с ума, или пьян.
– Послушай, скоро ты кончишь эту комедию?! Разреши войти! – обратился я к нему.
– Хан, это ты или твой дух? – спросил он, все еще недоверчиво глядя на меня.
– Да ну тебя! Что ты, пьян или болен? – спросил я.
– Если говорит и спрашивает, то, значит, это не дух, а живой! – сказал он сам себе и бросился со слезами на глазах обнимать меня.
– Садись, Хан, дорогой, садись! Господи, как я рад, что ты жив и вернулся! Ты не думай, что с ума сошел, хотя сейчас я был близок к этому. Ведь Лавр Георгиевич отслужил по тебе панихиду. «Хан хотя и мусульманин, но Бог у всех один!» – говорил Верховный и вот после всего этого ты появляешься, точно с того света, да еще в таком ужасном виде!
Не прошло и получаса, как прилетели на извозчике Голицын с Долинским. Голицын, радуясь мне, словно он встретил родного сына, с влажными глазами передал просьбу Верховного явиться к нему как можно скорее и в таком виде, в каком я сейчас нахожусь.
Я тотчас отправился к Верховному.
– Как я рада, Хан, голубчик, вас видеть! – такими словами встретила меня плачущая Таисия Владимировна и поцеловала, когда я вошел к ним в столовую.
– Мама, Хан не умер, он опять будет с нами жить! – кричал Юрик, вися у меня на шее.
Не прошло и минуты, как дверь боковой комнаты приоткрылась и на пороге показался Верховный в штатском платье серого цвета, которое сидело на нем очень плохо.
– Что у вас здесь за радостный шум, а? – сказал он, подходя ко мне.
– Я искренно рад вас видеть, Хан! Ну, слава Богу, что вы живы и здоровы! – проговорил он, крепко обняв и поцеловав меня в лоб. – Бедняга, здорово досталось вам небось! Исхудал!.. Вы меня извините, через несколько минут я освобожусь и тогда поговорю с вами подробно! – проговорил он, возвращаясь в кабинет-спальню.
Не прошло и часа, как столовая наполнилась знакомыми, пришедшими поздравить меня с благополучным возвращением.
Попрощавшись с каким-то господином (кажется, это был г. Федоров), бывшим у него в кабинете, Верховный позвал меня к себе.
– Вы, господа, извините, что отнимаю у вас Хана, но мне нужно поговорить с ним, а после он в вашем распоряжении, – говорил Верховный собравшимся в столовой, уводя меня с собой в кабинет-спальню, где спала и его семья.
– Вы знаете, что туркмены под влиянием момента хотели сдаться большевикам? – начал он, усадив меня.
Это внезапное сообщение подействовало на меня, как кипяток, вылитый на голову.
– Не может быть, Ваше Высокопревосходительство! – только и смог я ответить, пораженный.
– Как же! Представьте себе, 26 ноября, после того как мы расстались с вами, у меня была убита лошадь и меня вытащил один из джигитов. После этого около меня сгруппировались остатки полка. Под влиянием некоторых джигитов и благодаря растерянности господ офицеров среди джигитов начался форменный митинг. Прислушиваясь, я понял, что митинговавший джигит из 4-го эскадрона предлагал ехать каждому самостоятельно, кто куда хочет. Другие находили, что надо сдаться большевикам. Конечно, не все джигиты соглашались с ораторами, только некоторые. Тогда я, вскочив на пень, крикнул: «Туркмены, я от вас этого не ожидал! Прежде чем сдаться большевикам, вы сами расстреляйте меня, так как живым я им не сдамся!»
– Неужели, Ваше Высокопревосходительство, никого из офицеров не было с вами? – перебил я.
– Офицеры играли самую некрасивую роль. Я джигитов ничуть не виню. Рыба портится с головы. Никто из них не мог воздействовать на джигитов, кроме Натензона и офицеров туркмен. Русские офицеры не понимали, что говорили джигиты, и не могли говорить с ними, и видно было, что они не сроднились с джигитами. Офицеры молчали, как бы соглашаясь с ораторами, а наглость штаб-ротмистра Фаворского дошла до того, что он, не стесняясь моим присутствием, начал одобрять оратора. Один-единственный Натензон, спасибо ему, доказал на деле свою преданность: «Туркмены, не позорьте имя полка! По коням!» – скомандовал он, учитывая вовремя настроение джигитов, и те опомнившись, послушно исполнили его команду.
– Да, один Натензон только знал туркмен и они его! – продолжал Верховный. Мы поехали дальше. За Ново-Северском я, расставшись с джигитами, поехал один с большевицким эшелоном. Я ничего не имею против джигитов, но об офицерском составе полка я самого отвратительного мнения. Во время похода я пригляделся, кто из них действовал искренно и кто думал только о своей собственной шкуре. Я не забуду господ Кюгельгена, Эргарта и компанию, и, если они явятся ко мне сюда, я никого из них не приму. Это позор, а не офицеры! В этот день, 26 ноября, я вспомнил о вас и пожалел, что вы не со мной! – закончил Верховный свой рассказ.
Потом начал расспрашивать меня. Я рассказал ему все подробно до сегодняшнего дня.
– Ну, ничего, Хан, слава Богу, что вы вернулись! Я очень рад. Мне не хотелось бы отпускать вас, если бы вы возбудили даже вопрос об отъезде домой, на что имеете право, так как до сего дня вы честно и добросовестно служили общему делу. Но я хочу, чтобы вы были при мне в дальнейшей моей работе по восстановлению нашей родины, от благополучия которой зависит благополучие вашей маленькой страны – Хивы. А там что Господь пошлет нам с вами! Мне просто приятно будет знать, что вы находитесь при мне, так как вы близки мне, как Юрик. Конечно, Хан, оставайтесь со мной только в том случае, если вы верите в наше дело, как вы верили со дня нашей встречи.
– Если бы я не верил вам и вашему делу, то я не разыскивал бы вас и не приехал бы к вам как к своему пророку. Ведите меня туда, куда вы сами идете. Если в доме мать больна, то о здоровом отце я не думаю. Вы единственный человек, имеющий средство от ее болезни. Я глубоко верю вам, Ваше Высокопревосходительство! – закончил я.
– Признателен, Хан. Ведь правда, Хан, – Иншалла, все будет хорошо! – улыбнулся Верховный, проводя рукой по моим волосам.
Мы вышли в столовую, где сидело много знакомых. Некоторые дамы прослезились, видя меня в таком жалком виде после нарядной текинской формы. Все те, кто сидел в Быхове, были рады видеть меня и я их также.
– Владимир Васильевич, дайте, пожалуйста, Хану «Вольный Дон», пусть прочтет статью о себе! – приказал Верховный Голицыну.
В этой газете, со слов приезжавших джигитов и со слов вахмистра второго эскадрона Черкеса, бывшего очевидцем, как я бросился в избу в Рабочеве на помощь Рененкампфу, было напечатано приблизительно следующее: «После выстрела большевика корнет Хан Хаджиев вскрикнул и с этим криком его не стало. Со смертью Хана мы потеряли одного из лучших офицеров» и т. д.
– Вот видите, какой мой Хан! Пришел ко мне с того света! – говорил присутствующим Верховный, смеясь.
Верховный приказал мне остаться жить при его семье, отказав в моей просьбе жить в общежитии, куда я ходил иногда обедать и пить чай к офицерам Корниловского полка во главе с полковником Неженцевым. Также было мне отказано в просьбе разрешить поступить в ряды Корниловского полка, на зачисление в который я заручился было согласием Митрофана Осиповича Неженцева.
– Вы, Хан, останетесь при мне! – сказал Верховный, когда я просился идти в строй.
23 декабря, на другой день после моего приезда в Новочеркасск, часов в 12 дня, в дом к Верховному приехали Голицын и Долинский. Первый привез мне штатское пальто, второй же пару собственных сапог, так как у него их оказалось две. Поговорив с Голицыным в кабинете, Верховный, выходя оттуда, произнес:
– А Хана не возьмем?!
– Как же, как же, Ваше Превосходительство, он тоже приглашен! – поторопился сказать Голицын.
Пока Верховный одевал поданное Долинским пальто, я спросил Владимира Васильевича о том, куда мы едем и кто меня пригласил.
– Едем на обед к Добринскому, – ответил Голицын.
Поехали… Сани остановились перед деревянным домом, парадная дверь которого открылась раньше, чем Верховный успел подойти к ней. Раздевшись в передней, мы прошли в небольшую столовую, где стоял красиво накрытый стол. Встретивший нас хозяин, живой, нервный и ловкий (как мне показалось) человек, жестом руки пригласил Верховного в гостиную, приоткрыв ее дверь. В эту минуту я увидел поднявшегося с дивана и шедшего навстречу к Верховному человека, одетого в серый штатский костюм, который приветствовал Верховного словами:
– Здравствуйте, Лавр Георгиевич!
В этот момент Добринский, прикрыв неплотно дверь гостиной, остановился возле нее, прислушиваясь одним ухом к происходившему там и стараясь заглянуть в гостиную. Мы остались стоять в столовой, разглядывая от нечего делать висевшие на стенах картины. Меня занимали вопросы, что за таинственное свидание происходит в гостиной и где я уже раз видел лицо господина, находящегося сейчас с Верховным.
– А – хорошо! Слава Богу, все устроено! – прервал молчание хозяин, отходя от двери гостиной и направляясь к нам.
Потирая руки, он добавил:
– При входе Лавра Георгиевича в гостиную, Савинков, подойдя к нему стал на колени, и произнес: «Лавр Георгиевич, простите меня!» – «Я вас прощаю, Борис Викторович, но не знаю, простят ли вас те, кто знает меня!» – ответил ему Лавр Георгиевич и, взяв за руку Савинкова, добавил: «Встаньте!»
Через пять минут дверь гостиной открылась и в столовую вошел, слегка пожелтевший, но наружно совершенно спокойный Верховный.
– Все-таки пришел с извинением! – усмехнувшись, сказал он, подойдя к Голицыну. – Удивительные люди! – добавил он, поглаживая подбородок.
Вошел хозяин и, приглашая нас к столу, сообщил об уходе Савинкова и вместе с тем его извинение за невозможность отобедать с нами.
– И отлично! – заметил Верховный, берясь за лежащую на столе салфетку.
Вкусный и сытный обед, добавленный цымлянским вином и зубровкой, прошел оживленно и быстро. После этого мы вернулись домой.
На вопрос Таисии Владимировны: «Ну как, папа, хороший был обед?» Верховный ответил:
– Обед не столько был интересен, как моя встреча с Савинковым.
– Как? – удивилась Таисия Владимировна.
– Да, встретился с ним, и он просил меня простить его за все!
– Боже мой, Боже мой, какие люди, Хан! Устраивают гадости, а потом просят прощения! – вздохнула тяжело Таисия Владимировна.
– Он оказался порядочнее своих коллег, так как, сознавая свою вину, явился ко мне с извинением. Бог ему судья! Жаль только, когда подумаешь, какой ценой придется исправлять все то, что «они» сделали с Россией.
Опять глубокий вздох.
Вошел Юрик и повис на шее отца. Обнимая сына и возясь с ним, казалось, Верховный позабыл все на свете.
– Ты, брат, теперь отпусти меня! Ишь какой тяжелый, – говорил Верховный, освобождаясь от сына и стараясь поймать неуловимый курносый нос Юрика.
Юрик кричал, пыхтел, опрокидывал стулья, борясь с отцом. Таисия Владимировна и я, глядя на двух борющихся и шалящих любимых существ, хохотали от души.
Около трех часов пополудни Верховный предупредил меня, что пойдет на заседание. Быстро одевшись, мы вышли из дома и вскоре подошли к большому двухэтажному дому, находившемуся на углу Комитетской и Московской улиц. Поднявшись на второй этаж, позвонили… Войдя в переднюю, я был поражен встречей со старыми знакомыми из Быхова. Они почти все были здесь. Часть из них в передней, другая в зале. Находившиеся в зале спешили навстречу Верховному. Здесь я встретил генералов: Деникина, Лукомского, Романовского и Маркова. Все они были одеты в штатские костюмы. Раздеваясь, Верховный произнес:
– Вот и Хан приехал!
Мне было так приятно и радостно пожать каждому из них руку, а в особенности доброму старику Лукомскому:
– Бедный Хан! Ну, слава Богу, что вы живы и здоровы, – говорил генерал Лукомский, пожимая мне руку.
– Действительно бедняга Хан! Он говорит, что его больше всего лупили бабы! – смеялся Верховный.
– Ничего, Хан жив и здоров. Опять будем работать вместе, – произнес генерал Романовский, здороваясь со мной и проводя рукой по моим волосам.
– Значит, вам больше всего досталось от баб? Вот окаянные! Это вам, Хан, не могилевские гимназистки! – шутил генерал Марков.
По приезде в Новочеркасск, как я уже говорил, Верховный просил меня остаться при семье. Маленький домик войскового старшины Дударова, в котором жила вся семья, состоял из двух половин с отдельными парадными входами. Три маленьких комнаты занимал Верховный с семьей, в другой же половине дома, состоявшей из таких же маленьких комнат, жила семья хозяина дома. Из передней, квартиры Верховного, дверь вела в столовую. За столовой шла спальня Верховного, где кроме него спала Таисия Владимировна и Юрик. Эта же спальня служила в то же время и рабочим кабинетом Верховного. Столовая же была одновременно гостиной, приемной, а ночью – спальней для дочери Верховного, Наталии Лавровны, с ее мужем, капитаном второго ранга Марковым. Как только посетители уходили, мебель столовой с помощью моей и мужа Наталии Лавровны раздвигалась, освобождался один из углов, ставились походные кровати, а в виде ширмы развешивались простыни и куски материи, и спальня была готова. Эти развешенные простыни напоминали мне ярмарочные цирковые балаганы и я, видя сонные глаза Наталии Лавровны, подшучивал над ней и говорил: «Пора строить балаган!» Если посетители поздно засиживались в кабинете Верховного или столовой, то Наталия Лавровна терпеливо ждала их ухода, чтобы строить этот «балаган».
Моя комната была одной из самых маленьких комнат в доме. Никакой мебели, кроме двух больших сундуков, в ней не было. Эти сундуки были один выше другого и служили мне постелью. Спать на них было очень неудобно; тело утомлялось, свисавшие ноги отекали и утром я поднимался с сундуков совершенно разбитым, но скоро я придумал способ сделать мою постель более удобной. Я вынимал содержимое сундуков: какое-то старое белье, старомодные платья и вообще всякий хлам, заполняя им впадину сундуков, и тогда я отдыхал уже в довольно комфортабельной кровати. Прошло несколько дней, и Верховный, случайно проходя через мою комнату и заметив отсутствие кровати, удивленно спросил:
– Где же ваша кровать, Хан? На чем же вы спите?
– На этих сундуках, Ваше Высокопревосходительство! – ответил я, вытаскивая хлам из сундуков.
– Как же вы, дорогой Хан, спите на них? Ведь они один выше другого, – еще больше удивился он.
– А вот заполняю неровность бельем, этими платьями и дамскими шляпами бабушек Дударовых! – указал я на хлам.
Верховный расхохотался.
– Ну нет, лучше, Хан, приобретем настоящую кровать. Я попрошу у хозяев! – сказал Верховный, и на другой день я получил походную кровать.
День в семье Верховного начинался с семи часов утра. К этому часу «балаган» убирался, мебель ставилась на место и столовая принимала свой вид. На большом столе, покрытом белой с черными квадратами клеенкой, стоял самовар, издавая легкий свист и уютно пыхтя. Завтрак состоял из горячих бубликов, сливочного масла и молока. Как только все это было приготовлено и подано на стол служанкой Дударовых, дверь спальни открывалась, оттуда вылетал Юрик и стремительно мчался к столу в надежде найти что-нибудь новое и вкусное. После быстрого исследования стола, убедившись, что все по-старому, он летел ко мне, и начиналась игра. Он бросался ко мне на шею, вызывая меня на бокс, и вообще резвился и шалил. Через минут десять после Юрика из спальни выходил Верховный и, поздоровавшись с нами, направлялся к потным окнам столовой и, глядя через них на покрытые толстым инеем деревья на улице, глубоко уходил в себя. Приблизительно около 8 часов семья собиралась вокруг стола и, помолившись, принималась за чай. Во время чая велись разговоры обыкновенно семейного характера, а иногда и на политические темы. Если во время чая газетчик приносил газету, то Верховный, получив ее, углублялся в чтение, осторожно откусывая кусочек бублика и медленно пережевывая его. Стоявший перед ним чай остывал, и Таисии Владимировне приходилось менять его по нескольку раз. Никто не хотел ему мешать, но в конце концов Таисия Владимировна, устав наливать все новый и новый чай, окликала Верховного:
– Папа, а чай!
– А? Хорошо! – говорил Верховный, как бы просыпаясь и быстро водя указательным пальцем по строчкам газеты, дочитывал и принимался за чай.
Ел и пил Верховный очень медленно. На вопрос жены или дочери: «Что нового, папа?» – он, проводя руками по лицу, неохотно отвечал: «Ничего!» и, найдя какую-нибудь точку на столе или на стене и глядя сосредоточенно в нее, глубоко задумывался. Может быть, в эту минуту он видел, как добивают его горячо любимую мать, Россию, и он, как ее истинный сын, искал способа подать первую помощь, чтобы вырвать ее, пока еще не поздно, из рук истязателей. Или, может быть, он видел в этой точке пробивавшихся к нему через все препятствия и опасности таких же, как и он, сынов России, желавших поступить в ряды возглавляемой им армии! В таком состоянии он мог просиживать долгое время, если бы его не возвращали к действительности голоса семьи. Придя в себя, Верховный кивком головы отвечал на голос обращавшегося к нему, улыбался, шутил и смеялся, смотря по тому, о чем шла речь.
На вопрос жены или дочери: «Как дела? Чем окончилось вчерашнее заседание?», он отвечал: «Разговорами. У нас все так: говорят, говорят, говорят без конца, а дело все на месте. Все мое старание и усилие повлиять на “них” ни к чему не приводит. Все говорят и болтают пустозвоны!» – махал рукой Верховный, проглатывая чай.
Иногда мы с Верховным вспоминали недавнее прошлое: Быхов, Могилев и поход на Дон. Он вспоминал всегда три факта, о которых он рассказывал: остановку у еврея, приход детей и 26 ноября.
– Да, Хан, в каких тяжелых условиях приходилось бывать мне и вам! – говорил Верховный.
Заметив, что часовая стрелка приближается к девяти, он поднимался из-за стола и направлялся в свой кабинет, принимая пришедших, или отправлялся куда-нибудь на заседание или в штаб в моем сопровождении. Одевался Верховный очень скромно, в серый, плохо сидевший на нем костюм, носил всегда мягкие белые воротнички, черное пальто и черную шляпу. Это одеяние делало его похожим на бурята.
С теплым чувством я вспоминаю время, проведенное в семье Верховного, да и трудно забыть эти дни, проходившие в теплой столовой за шумной беседой семьи или друзей, посещавших Верховного, забыть радушный прием и сердечное отношение этой милой простой семьи ко мне. Верховный называл меня своим сыном, и это не было фразой, – я действительно был любимым сыном этой семьи. Я тоже люблю их всех как свою семью.
На Дону
Вскоре после приезда Верховного на Дон к нему начали являться «текинцы». Первыми из них прибыли ротмистр Арон и корнет Толстов, которого генерал Лукомский в своей книге «Воспоминания» назвал адъютантом генерала Корнилова. Их приютили в офицерском общежитии на Барочной улице. В конце декабря приехали прапорщик Рененкампф и поручик Нейдгарт. Верховный принял этих двух «текинцев» очень сухо, пристыдил за их халатное отношение к обязанностям во время похода из Быхова на Дон и отослал их тоже в общежитие. Через два дня эти два «текинца» отбыли в Советскую Россию, говоря мне: «Нам здесь делать нечего! Из того, что “он” начинает, ничего не выйдет! Это второй поход с Быхова на Дон! Авантюра!» После их отъезда к нам, слава богу, не приехал больше ни один «текинец». Вероятно, вернувшиеся разведчики успели сообщить о встрече, оказанной им Верховным.
В начале января в Новочеркасск прибыла партия джигитов в сорок человек во главе с Баллар Ярановым, старшим унтер-офицером четвертого эскадрона, того самого, который 26 ноября первый поднял голос против Верховного, возбуждая к нему недоверие джигитов. Изнуренные, голодные, одетые в рваные одежды, они вызывали чувство жалости. Я доложил Верховному о приезде текинцев.
– Сию же минуту, Хан, приведите их сюда! Я их хочу видеть! – приказал мне Верховный.
Я привел их в кабинет Верховного, находившийся на углу Ермаковской и Комитетской улиц. Этот кабинет он уже занимал официально после объявления себя командующим Добровольческой армии. Пришлось ждать, так как Верховный в это время был занят с Гучковым. После ухода Гучкова он опять был занят с новоприбывшим Корвин-Круковским. В маленькой приемной, душной и тесной, я выстроил джигитов в три ряда. Через некоторое время вышел из кабинета Верховный.
– Здравия желаем, Ваше Высокопревосходительство! – дружно ответили джигиты на приветствие Верховного.
– Вот один из главных ораторов, не доверявший мне и предлагавший джигитам ехать своей дорогой! – сказал Верховный, сурово пронизывая глазами Баллара и указывая на него пальцем.
– Бояр, я сказал это и не отказываюсь от своих слов. У нас вера ушла в тот день, когда ты, как наш Сердар, так необдуманно и неосмотрительно поступил с полком, до этого с сильной верой шедшим за тобой, как за своим Сердаром. Мы, вольные туркмены, по вековой традиции привыкли говорить правду и откровенно выражать неудовольствие нашему Сердару, если он поступает неправильно. Прими во внимание, бояр, что мы шли за своим Сердаром добровольно, а не по принуждению, и мы поэтому вправе одобрять или порицать его действия. Мы изъявили недоверие к тебе в дальнейшем пути на Дон, но тебя большевикам не выдали и послушные твоему голосу опять-таки поехали за тобой до тех пор, пока ты нас сам не оставил. Если бы мы думали предать тебя большевикам, то не вытащили бы тебя из огня, когда под тобой была убита лошадь и ты упал с седла, да и сами мы не сдались большевикам в то время, как русские офицеры эскадрона Эргарта сдались большевикам, увлекая за собой джигитов, оставив трупы убитых неубранными, а раненых джигитов, дорогих наших товарищей, на растерзание большевикам. Наконец, вот твой адъютант (я в это время еще не был адъютантом), он знает, сколько труда стоило, Сердар Ага, ему удержать джигитов в Могилеве от агитации большевиков и их заманчивых обещаний. Я знаю это потому, что Хан Ага действовал через меня же, передавая джигитам о важности момента и о вреде, который большевики хотят причинить тебе. Я и сейчас скажу тебе правду, что не верю, чтобы ты, бояр, один мог что-нибудь сделать. Привел же джигитов к тебе для того, чтобы от души пожелать тебе всего хорошего и получить твое благословение на наш путь до Ахала. Лихом не поминай нас! Мы сделали для тебя все, что могли! – закончил Баллар.
Во время речи Баллара Верховный становился все желтее и желтее, что служило у него всегда признаком волнения или сильного душевного переживания.
– Спасибо за твою откровенность. Я ничего не имею против вас, джигиты! Желаю вам всего хорошего. Очень благодарен за вашу службу мне, верные мои туркмены! – ответил Верховный, пожав руку Баллар Яранову и тут же написал записку генералу Алексееву, приказывая выдать по 25 рублей каждому джигиту, а Баллар Яранову, как старшему, 50 рублей.
Зайдя на Барочную улицу в общежитие, расположившись на полу, покрытом одеялами и попивая чай, вспоминая погибших и живых, я обратился к джигитам:
– Зову не на службу, а вызываю желающих умереть там, где суждено умереть бояру. Здесь у него нет службы, а есть любовь к нему, вера в него и его дело и долг перед родиной!
Из сорока человек прибывших текинцев нашлось только шесть, пожелавших умереть с бояром, и один киргиз из киргизского взвода (один взвод 4-го эскадрона в Текинском полку состоял из киргизов). Узнав об этом, Верховный очень обрадовался и горячо благодарил меня, пожимая руку. В это время каждый человек, поступивший в Добровольческую армию, представлял для нее большую ценность. Верховный приказал одеть, обуть и устроить в общежитие этих джигитов. В строй их зачислять он не хотел, а отдал под мою команду для своей личной охраны.
В Новочеркасске Верховный имел в своем распоряжении следующих лиц: верного и преданного ему до фанатизма и любившего его полковника В.В. Голицына, как штаб-офицера для поручений, адъютанта поручика В.И. Долинского и прикомандированного к Верховному гвардии капитана Измайловского полка И.И. Павского, бывшего адъютантом генерала Духонина, которого он оставил, поехав в Новочеркасск, где по чьей-то протекции и попал к Верховному в качестве неофициального адъютанта.
Верховный категорически отказался принять к себе своего бывшего адъютанта штаб-ротмистра Черниговского гусарского полка Корнилова, который покинул его в дни выступления в Могилеве. Он жил в Новочеркасске и явился теперь к Верховному.
Несмотря на присутствие вышеуказанных лиц, Верховный почему-то большею частью звал меня с собой, если куда-нибудь он хотел пойти, а остальных приглашал изредка. С Долинским мы сроднились еще в Могилеве. Совместная тяжелая служба в тогдашней невеселой обстановке и любовь к Верховному нас душевно сблизили, и я чувствовал себя очень неудобно от внимания Верховного, думая, что это может обидеть Долинского, его действительного адъютанта. Как-то раз я об этом сказал Голицыну, передав ему все мои опасения.
– Дорогой сын, твоя жизнь и жизнь Верховного со дня его вступления на этот пост сплелись вместе. Вы любите друг друга как отец и сын. Кто же может быть его близким адъютантом, как не ты, столько переживший тяжелых минут вместе с ним. Никто из нас не имеет права и мечтать о таком отношении к себе. Я близок к Верховному и свидетель твоей любви к нему и к Родине, ради которой ты сохранил жизнь этого русского патриота. От него теперь зависит будущность России. Не думай об этом, Долинский понимает все, так же любит тебя и ничего против не имеет! – успокаивал меня Голицын.
Еще перед официальным объявлением Верховного командующим Добровольческой армией, как-то беседуя с Верховным, я, вдруг вспомнив о слышанном разговоре господ офицеров в Киеве у представителей Дона, предложил следующее:
– Ваше Высокопревосходительство, было бы желательно, пока не поздно, организовать специальную группу из людей, более надежных, понимающих цели общей задачи, преданных вам и любящих свою родину, и их разослать в разные концы России с устным приказом, если невозможно по какому-либо соображению послать с ними ваш письменный приказ, господам офицерам явиться в ряды армии, возглавляемой вами. Ведь сколько их, таких офицеров, Ваше Высокопревосходительство, которые оторваны от всего, часто не зная, куда идти и что делать дальше, живут в больших городах во мраке неизвестности. Достаточной была бы для них одна фраза: «Генерал Корнилов, командующий Добровольческой армией на Дону, приказывает вам, господа офицеры, явиться под знамя, которое он поднял!» Это нужно сделать сейчас же, пока большевики не организовались и не соблазнили их идти в свои ряды, – закончил я.
– Дорогой Хан, я с вами вполне согласен. Знаю и понимаю это отлично. Я бьюсь и борюсь с «ними», не желая тратить ни единой минуты. Но поймите сами, разве я могу работать в такой обстановке? Не о такой я думал и мечтал, томясь в Быхове. Вы поймите, Хан, мне, генералу Корнилову, атаман Каледин приказал жить у него на Дону нелегально! – ответил Верховный, глубоко вздохнув.
Наступила тишина, которую нарушил Верховный.
– Ах, эта мямля! Действительно, Хан, он у нас самое дорогое время отнимает своими разговорами!.. Он своей нерешительной и двойственной политикой доведет дело до того, что с ним поступят так же, как с покойным Духониным!
Слушая Верховного, я вспомнил Курбан Ага, говорившего: «Вечно теперь в России будет борьба из-за власти. Один русский человек не захочет уступить свою власть другому, хотя и будет сознавать, что сам он не годится для этой роли. Прольется море крови» и т. д. и т. п.
Время шло. Каледин, не теряя надежды уладить все мирным путем с левыми элементами, не объявил официально о присутствии на Дону Верховного, якобы не желая раздражать его именем представителей демократических организаций. Своей политикой он довел до того, что в один прекрасный день (было это 3 января) съезд иногородних представителей потребовал от него роспуска частей будущей Добровольческой армии, которые теперь-де борются против интересов трудового казачества и иногородних, составляющих население Дона.
Большевики действительно не дремали и, быстро сорганизовавшись, начали наступать на Дон. Каледин, увидя, что разговорами нельзя ничего сделать с демократическими организациями, принужден был объявить официально о существовании на Дону Добровольческой армии и ее командующего генерала Корнилова. Это было 24 декабря 1917 года. К призывам Добровольческой армии прийти ей на помощь казачество в своей массе оставалось глухим, за исключением некоторых станиц, выставивших немного бойцов, бывших каплей в море. В это время от Дона ждали больше. Доблестные отряды есаула Чернецова и полковника Семилетова, состоявшие большей частью из учащейся молодежи, боролись с большевиками не на живот, а на смерть. Казаки-офицеры в своей массе, за небольшим исключением, не желали идти на защиту своего родного очага, предоставляя защищать его истекавшей кровью молодежи и горсточке Добровольческой армии, сами же предпочитали наполнять рестораны и улицы Новочеркасска и Ростова праздными толпами. Вскоре все пути на Дон благодаря наступлению большевиков начали один за другим закрываться, а рисковавших пробиться и попавших в руки большевикам тут же на месте расстреливали. Несмотря на такие трудности и опасность, нашлись все же офицеры, которые, узнав, что во главе армии стоит генерал Корнилов, пробирались благополучно на Дон. Но все-таки бойцов было мало, так как самое дорогое время было утеряно на дипломатические разговоры с иногородними организациями, которые, стараясь втягивать атамана Каледина в пустословие, дали возможность большевикам, «своим освободителям от казачьего ига», как они выражались, быстро организоваться и явиться на Дон для разговора с казаками настоящим «языком». Таким образом, одной из главных причин в запоздании организации Добровольческой армии является нерешительная и неумелая политическая игра неподготовленного к этой роли генерала Каледина.
Кроме военных, в Добровольческую армию начали стекаться всякие политические деятели – «политический хлам», как называл их сам Верховный. Одни из них, раскаявшись в своей ошибке по отношению к генералу Корнилову и этим самым по отношению Родины, шли теперь к нам, дабы помочь, другие, забыв, что они ругали Корнилова за его идеи, бежали к нему, прижатые большевиками, в надежде потеплее устроиться. Эти предатели быстро меняли свою физиономию, потому что у них не было ни капли совести, которую они давно потеряли. По своему составу Добровольческая армия в политическом отношении была самая разнообразная. Но вера, надежда и любовь к Корнилову всех объединялипод знаменем молодой армии.
9 января около 11 часов Верховный зашел в канцелярию генерала Алексеева. Голицын и я ожидали Верховного в передней. Не прошло и десяти минут, как вдруг дверь канцелярии с шумом распахнулась и в ней показался весь бледный Верховный, называя кого-то «негодяем». Подойдя к нам, он, взволнованно жестикулируя, заговорил:
– Ведь надо же додуматься! Это возмутительно! «Они» говорят, что я хочу или меня хотят объявить диктатором, а потом я всех их разгоню! Есть у них головы? Взрослые они или дети? Как можно было додуматься до этого?! Нет, при таких условиях мне с этими господами нет возможности работать. Пойдемте лучше отсюда домой. Хан, где моя палка и папаха?
Всю дорогу Верховный возмущался политическим отделом генерала Алексеева, занимавшимся распространением и ложных слухов, и всяких сплетен.
– Этот политический отдел вот как мне надоел!.. При первой же возможности немедленно прикажу его расформировать. Придется мне взять армию и уйти от этих говорунов и шкурников! – возмущаясь, говорил Верховный.
Оказалось, что кто-то донес генералу Алексееву о том, что Верховный по приезде в Ростов собирается объявить себя диктатором и отколоться от генерала Алексеева и тому подобный вздор. Так как у генерала Алексеева были всегда натянутые отношения с Верховным, то он, предубежденный к Верховному, вызвал его к себе и потребовал от него объяснений по этому поводу. Верховный, взбешенный нелепостью слухов, вместо ответа назвав сидевших там теми словами, которые мы слышали, хлопнул дверью и вышел.
На другой день около четырех часов пополудни генерал Алексеев приехал к Верховному. Побыв с ним около часа, он ушел. После ухода генерала Алексеева к Верховному приехал атаман Каледин, который долго беседовал с Верховным в кабинете.
– Нет, Алексей Максимович! Я твердо решил армию увести в Ростов, а там время покажет. Оставаться здесь – значит одеть петлю себе на шею. И так я слишком много потерял золотого времени, надеясь на вас. Ведь вы сами понимаете, что сейчас в армию пришли истинные сыны России, которые любят ее и жаждут спасти ее. Я дорожу ими. В то время, когда горсточка этих людей борется не на живот, а на смерть, ваши казаки остаются совершенно равнодушными и предпочитают сидеть в ресторанах или разгуливать по улицам города. С какой стати Добровольческая армия, каждый боец которой для меня дорог, будет защищать этих господ, без зазрения совести прячущихся за ее спиной?! Сейчас не время для разговоров. Вы сами понимаете, что разговоры погубили нашу дорогую Родину, и все-таки у вас здесь только и делают, что разговаривают! – так сказал Верховный на прощание атаману Каледину, который вышел от него мрачный, с опущенной головой.
После Каледина приходили еще какие-то лица во главе с М.М. Федоровым, но Верховный их принял очень сухо, стоя в столовой.
Генерал Корнилов как сказал атаману Каледину, так и сделал – увел армию в Ростов.
В день отъезда из Новочеркасска в Ростов Верховный был приглашен на обед купцом Иваном Андреевичем Абрамовым. На обеде, кроме семьи Верховного, Голицына, Долинского и меня, больше никого не было. Хорошо сервированный обед прошел оживленно и близился к концу. Уже подано было шампанское, когда по телефону передали со станции, что поезд на Ростов подан и весь штаб во главе с генералом Алексеевым ждет Верховного.
Верховный начал было готовиться к отъезду на вокзал, но в этот момент ему что-то сказал подошедший вплотную Голицын и просил затем его ехать в Ростов на извозчике.
– Почему? – удивился Верховный.
– Разрешите доложить вам потом, а сейчас просим исполнить нашу просьбу, Ваше Превосходительство! – ответил Голицын.
– Да, да, ты безусловно поедешь, папа, не железной дорогой. И не думай ехать сегодня! – решительно запротестовала и Таисия Владимировна, глядя то на Голицына, то на Верховного.
После такой решительной атаки Верховный согласился ехать в Ростов на извозчике, а меня послать с пакетами к генералу Алексееву и к генералу Романовскому, который в это время был уже в Ростове.
Получив два пакета, я отправился на вокзал и, войдя в купе генерала Алексеева и вручая ему пакет Верховного, доложил:
– Ваше Высокопревосходительство, Верховный отложил свою поездку в Ростов и просил Вас не ждать его.
Генерал Алексеев был очень удивлен этим и, ничего не говоря, вскрыл пакет и начал читать.
Поезд тронулся… Не доезжая до станции Кизитеринки с поездом произошла небольшая авария. По неизвестной причине на платформе, где находились патроны и ручные гранаты, произошел пожар. Винтовочные патроны начали рваться. Мгновенно поезд был остановлен, и, благодаря энергично принятым мерам, пожар был ликвидирован, не успев дойти до вагона со снарядами, которые везли тоже в Ростов, не желая их отправлять раньше с эшелоном, чтобы их не взорвали большевики. Войдя в купе генерала Алексеева, чтобы сообщить ему о случившемся, я увидел там какого-то пожилого господина в пенсне, с седыми усами, в кепке.
– Павел Николаевич – Хан Хаджиев, телохранитель Лавра Георгиевича! – представил меня генерал Алексеев.
Пожав мне руку, этот господин, оказавшийся профессором Милюковым, поинтересовался узнать о причине пожара и вышел с генералом Алексеевым из купе, чтобы посмотреть, что произошло. Через полчаса все было ликвидировано, и мы поехали дальше. Остальную дорогу до Ростова мы проехали благополучно.
По приезде в Ростов, вручив пакет Верховного генералу Романовскому и не найдя ночлега в штабе, так как там еще не все было готово к нашему приезду, я отправился к полковнику Ратманову, имея к нему письмо от полковника Голицына, в котором последний просил приютить меня, если в штабе я не найду места для ночлега. Полковник Ратманов очень радушно встретил меня и представил какому-то сидевшему у него пожилому человеку, рекомендуя:
– Хан Хаджиев, любимый и преданный человек генерала Корнилова.
– Очень рад с вами познакомиться, – проговорил тот и назвал свою фамилию, но так тихо, что я не расслышал. – Я много слышал о вас, – говорил мне он, глядя на меня живыми серыми глазами.
– Боже мой, почему в нашей Великой России так мало оказалось людей, понимающих долг чести так, как эти рыцари из далекой Азии? – сказал он, обращаясь к Ратманову.
После ужина, когда полковник Ратманов предложил мне место для ночлега в гостиной, этот новый мой знакомый обратился к нему с просьбой:
– Разрешите, полковник, Хану быть сегодня моим кунаком. Пусть он ночует у меня. У меня в комнате две кровати и одна из них свободная.
Делать было нечего, я согласился, не желая обидеть человека, который был мне так симпатичен. Придя к нему, я узнал, что нахожусь в гостях у Алексея Алексеевича Суворина, того «честного Суворина», как о нем отзывался Верховный за то, что он не боялся никогда и никого, когда нужно было сказать правду.
Алексей Алексеевич возмущался нерешительностью атамана Каледина и отношением казаков к Добровольческой армии. Далеко за полночь затянулась наша беседа. Я отдыхал душой в этой беседе. Вообще, она оставила во мне сильное впечатление, и я был бесконечно рад познакомиться с этим честным патриотом, который, как истинный сын России, честно и добросовестно работал с самого начала в пользу Добровольческой армии и впоследствии вместе с ней перенес все тяжести и лишения легендарного Ледяного похода.
Я живо представляю себе сейчас Алексея Алексеевича, как я его видел собирающим в каждой деревне, где только возможно, перевязочный материал, теплые вещи для раненых и лазаретов. Вспоминаю такой случай: Ново-Дмитриевская станица. Солнечное морозное утро. По пояс в грязи, наступая на голенища мокрых истоптанных сапог, надвинув черную шапку до бровей, весь грязный, обросший ходил он по деревне, собирая все необходимое для раненых, остававшихся иногда всю ночь под открытым небом в повозках. Увидя эту странную фигуру, нагруженную ворохом вещей, Верховный послал меня узнать, кто это и куда тащит все эти вещи. Нагоняю… Останавливаю… Гляжу в лицо и не узнаю, так как усы и борода покрыты инеем. Большие серые глаза, мои друзья, ласково смотрят на меня. Они ярки и горят по-прежнему, как в Ростове и в Новочеркасске, неутомимой энергией.
– Что, дорогой Хан, не узнаете меня? – спрашивает он. Узнал… Поздоровался… Спрашиваю, где остановился.
– Дорогой Хан, я еще нигде не остановился. На рассвете подошли к деревне и не могли попасть в нее, так как шел еще бой. Сейчас иду переводить раненых в новые помещения. «Сперва все раненым, а потом здоровым» – приказал Верховный, – говорит Алексей Алексеевич и тут же задает вопрос: – Как Верховный себя чувствует? По-старому бодр? – Это самое главное! Дорогой Хан, смотрите, берегите его! Устроюсь, зайду к Лавру Георгиевичу! – уже кричит Алексей Алексеевич, плывя дальше, по пояс в грязи.
Глядя ему вслед, я думал: «Жаль, что таких людей, как ты, Россия дала очень мало. “Сперва все раненым, а потом здоровым”, и ты этот приказ свято хранишь в сердце и поступаешь так, как указал Верховный».
В тот же день Верховный и я пошли посещать раненых, и случайно в одной хате, где были помещены раненые, мы встретили Алексея Алексеевича, и Верховный, крепко пожав ему руку, сказал:
– Признателен вам, Алексей Алексеевич, соберите все, что можете, для раненых. Если потребуются деньги для этого, то зайдите ко мне. Вы понимаете сами, что время такое, что… в первую очередь все раненым, а потом – остальным.
19 января 1918 года в 12 часов дня в Ростов приехал Верховный. Роскошный Парамоновский дом был отведен под штаб. Никакой мебели в этом доме не было. Верховный занимал три комнаты. Первая – приемная, вторая – кабинет и вместе спальня и третья – наша, где помещались Долинский и я. По приезде в Ростов Иван Иванович Павский был отчислен Верховным в строй, а на его должности оставлен я в качестве адъютанта и в то же время телохранителя.
В кабинете, кроме большого письменного стола, трех стульев и кровати, ничего не было. В приемной – большой стол и две простых скамейки. В нашей комнате, сообщавшейся с комнатой Верховного, – две походные кровати и деревянный ящик, служивший как Верховному, так и нам столом.
В семь часов утра Верховный приходил в нашу комнату пить чай с хлебом и маслом, вскипяченный к этому времени Фокой в жестяном чайнике. Это и был завтрак Верховного и наш. Через десять минут Верховный принимался за работу. Ровно в час он шел вместе со мной и Долинским в общую столовую, находившуюся в подвале, где за большим столом штабных обедал. На обед у него уходило не больше получаса, и он снова принимался за работу.
Никакой прислуги, кроме моего денщика Фоки, не было. Фока сдержал свое слово и пробрался на Дон частью пешком, а частью по железной дороге и служил теперь Верховному и мне. Узнав о прибытии Фоки, Верховный наградил его 25 рублями, как единственного русского солдата из нашего полка, оставшегося верным своему офицеру, и приказал оставить его при нас. Он совершил с нами весь поход и уехал к себе домой перед самым моим отъездом из Новочеркасска в Хиву, в мае 1919 года. Если дойдут когда-либо эти строки до него, то пусть он примет мой братский привет и сердечную благодарность за его преданность Верховному и мне.
Через день, а иногда и через два Верховный шел на квартиру своей семьи, жившей отдельно, недалеко от штаба, «подразнить Юрика», как он говорил. Семья, редко видавшая своего главу, радостно встречала его.
– Ах ты калмык! Давай бороться! – говорил Верховный Юрику, вешавшемуся ему на шею.
Юрик – рад стараться и радостно кричал отцу:
– Давай, давай, папа! А ну, кто кого?!
В ответ на это Верховный ловко ловил его маленький, крохотный нос. Юра отбивался и пыхтел в отчаянии, стараясь освободиться.
– Юрик, что это ты завладел папой? Ты не даешь папе произнести и двух слов с нами! Ты знаешь, что папа у нас бывает очень редко. А ты не даешь ему даже поговорить с нами. Разве ты маленький? – говорила Таисия Владимировна сыну.
И Юрик, как послушный мальчик, сложив губы бантиком, слегка морща нос, устраивался на коленях отца и внимательно слушал, что тот рассказывал за чашкой чая.
Однажды во время такого посещения Таисия Владимировна задала вопрос Верховному: «Как дела?»
– Плохо! – ответил он. – Я, конечно, большего ждал от русского человека, но увы, – ошибся!
– Как ты думаешь, могут сюда прийти большевики? – спросила Таисия Владимировна.
– Да! – ответил Верховный. – Помощи ждать неоткуда, только от Бога! Придется вывести армию отсюда вон.
– А куда? – испуганно спросила Таисия Владимировна.
– Куда? М-м… Слышите, Хан? Спрашивают куда? – обратился ко мне, слегка улыбаясь, Верховный.
– Да, правда, скажи, папа, куда? – настаивали Таисия Владимировна и Наталия Лавровна.
– Я еще и сам не решил куда! – ответил Верховный.
Наступила тишина, прерванная Юриком.
– Папа, когда ты подаришь мне гранату? Я хочу разобрать ее и узнать, отчего происходит взрыв.
– Тебе, брат, гранату?! Вишь чего захотел! Достань-ка сам у большевиков! У меня самого их нет, а если бы и была, то я бы тебе не дал. Самому, брат, нужна. А ты лучше сядь на стул, а то больно уж тяжел. Вы, Хан, посмотрите, какие у этого господина мускулы! – и Верховный снова принимался шалить с Юриком.
– Господи, Господи! – вздыхала Таисия Владимировна, предчувствуя новую разлуку, и, быть может, вечную.
Свидание быстро закончилось, и Верховный начал собираться в штаб.
– Когда же ты, папа, снова придешь? – кричали вслед уходившему отцу дочь и сын.
– Завтра не могу – больно занят! Приходите вы ко мне чай пить! – оборачиваясь, отвечал он им, опять погружаясь в думы.
Быть может, он думал действительно о вопросе, заданном Таисией Владимировной: «Куда?»
– Давайте пойдем на главную улицу! – сказал однажды Верховный, возвращаясь со свидания с семьей в штаб.
Мы повернули и пошли на главную улицу Ростова – Садовую. Спустились по ней до самого Университета, останавливаясь перед каждым кафе. На обратном пути Верховный, глубоко вздохнув, сказал:
– А посмотрите, Хан, на этих бездельников, топчущих здесь улицы. Какие у них беспечные лица и как много их! А вот на призыв Добровольческой армии пришло так мало! Они, как бараны, беспечно пасутся, не зная, когда придет мясник, чтобы зарезать их. Так, что ли, говорят туркмены? Придут большевики и не будут церемониться с этими господами, как церемонимся мы! – говорил Верховный, указывая на молодежь, которой были переполнены рестораны, кафе и улицы.
Несмотря на желание Верховного и все наше старание не быть замеченными, нас узнавал каждый встречный. Штабные и другие офицеры, завидя нас, от удивления сперва шарахались в сторону, а потом начинали раскланиваться, передавая из уст в уста: «Сам здесь!»
– Идемте, Хан, отсюда! Довольно! Нас узнали! – говорил с улыбкой Верховный, слыша шепот сзади идущих людей.
– Мы с вами очень мало знаем людей в Ростове и все-таки встретили многих знакомых, – говорил Верховный по дороге в штаб.
– Наша сегодняшняя прогулка по городу напоминает мне один восточный рассказ. Если разрешите, то я его Вам расскажу, – сказал я Верховному.
– Пожалуйста, Хан.
– Однажды лиса, случайно попав в город, еле-еле успела ускользнуть от преследовавших ее людей. Возвратившись в лес, она с удивлением рассказывала своей родственице: «Представь себе, дорогая, я в городе не имею совершенно знакомых, а стоило мне только появиться на улице, как люди начали кричать: “Лиса, лиса!” и указывать на меня. Я насилу успела унести ноги, смущенная общим вниманием!» – закончила она. Так и мы с Вами, Ваше Высокопревосходительство! Мы никого здесь не знаем, а нас сразу узнали и начинают указывать, говоря: «Сам идет!»
– Это правда, Хан, – говорил, смеясь, Верховный.
Придя в штаб, в приемной комнате я застал двух пожилых супругов.
– Молодой человек, можно нам видеть генерала Корнилова? У нас к нему есть дело и очень важное, – говорила пожилая дама.
– Мы – Беловы, Беловы! – торопливым тенорком спешил представиться супруг.
– Пусть войдут! – приказал Верховный, когда я доложил о них ему.
– Здравствуйте, господин генерал! Как мы рады вас видеть! Мы слышали, что вы нуждаетесь в деньгах, а посему…
– Не я, а армия! – поправил его Верховный.
– Не знаем… армия… – говорил Белов торопливо, вытаскивая из бокового кармана богатой шубы конверт.
– Вот вам, господин генерал! Примите от нас, не отказывайте. Мы люди небогатые, но узнав, что вы… армия нуждается, мы пришли помочь, чем можем.
– Спасибо за то, что отозвались, узнав, в каком положении находится армия. Вы кто такие? – спросил Верховный.
– Мы – Беловы, имеем маленький домик и живем в Ростове, – торопился ответить посетитель.
Верховный начал вкратце объяснять цель и задачи Добровольческой армии. Глядя на лица супругов, я читал, что они ничего не понимают и не хотят понять, думая: «Какое нам дело до твоей армии и ее задач. Люди, среди которых мы живем, нажали на нас и говорят нам об обязанности долга и чести перед родиной и мы принесли тебе этот конверт. Отпусти нас поскорее, ради Бога, мы народ коммерческий, занятой! Обо всем мы читали в воззвании. Ты получил деньги, что же тебе еще нужно!»
– Хан, пожалуйста, сдайте этот пакет генералу Алексееву! – приказал мне Верховный, когда супруги удалились.
– Разрешите, Ваше Высокопревосходительство, пакет вскрыть при Вас, чтобы точно узнать содержимое. Я затрудняюсь сдавать деньги, не зная сколько их. Боюсь чтобы после не произошло недоразумения, – попросил я Верховного.
– Хорошо, Хан! – согласился Верховный.
Когда я вскрыл пакет, то в нем нашел тысячу рублей – билет-керенку.
– Вот вам и щедрость русского купца! В то время как армия льет кровь, защищая благополучие этих господ, они, зная, что эта армия буквально раздета, вот как помогают ей! – говорил мне Верховный, глубоко вздыхая, когда я собирался идти сдавать деньги.
Выйдя из кабинета Верховного, я в приемной еще застал супругов, оказывается, ожидавших меня.
– Ради бога, молодой человек, не вносите нашу фамилию в список жертвователей, так как он может попасть в руки большевиков и они нас тогда прикончат, – просил меня Белов.
После смерти Верховного я, приехав в Ростов, узнал, что этот Белов имеет гостиницу и большой роскошный двухэтажный дом на Таганрогском проспекте. Когда после нас пришли в Ростов большевики, то он, по первому их требованию, заплатил контрибуцию в один миллион рублей.
Приемные часы
Вспоминаются мне теперь приемные часы в Парамоновском доме, когда я каждый день мог наблюдать десятки нервных, бледных лиц людей, приходивших к Верховному и в очереди ожидавших приема. Люди, не видевшие раньше Верховного, до приема нервничали, волновались, но после приема выходили очень спокойные и с довольным видом, согретые его простым сердечным обхождением. Попасть к Верховному и поговорить лично с ним о своем деле никакого труда не представляло. Я поставил себе целью идти навстречу всем тем, кто хотел лично переговорить с Верховным, и без всякой задержки докладывал о них и Верховный их принимал тотчас же, если, конечно, он в это время не был занят. Я понимал так: если армия – добровольческая, то каждый из участников ее имеет право видеть Верховного и доложить ему лично о том, в чем он нуждается. Верховный тоже об этом как-то меня просил, чтобы мы с Долинским, как близкие к нему лица, облегчали всем доступ, докладывая ему во всякое время дня и ночи, – он рад видеть и помочь всем, чем может.
Людей, пришедших к Верховному с недобрыми намерениями, я узнавал, казалось мне, при одном взгляде на них, так же узнавал и людей искренних. Мой рабочий день начинался молитвой и просьбой к Всевышнему сохранить Верховного от злых людей и их намерений. Уходя спать в двенадцать часов ночи, я опять молился, благодаря Аллаха за прошедший спокойно день, а дни эти были очень трудные. Каждую минуту можно было ожидать какую-нибудь тяжелую или неприятную случайность. Все это волновало меня, и нервы были напряжены до крайности.
Частым посетителем Верховного в Ростове был Алексей Алексеевич Суворин, остававшийся с Верховным подолгу наедине и о чем-то беседовавший с ним. В один из дней, в конце января, Верховный, приняв Алексея Алексеевича, сказал ему следующее:
– Алексей Алексеевич, я решил армию вывести из Ростова. Вы сами понимаете, Алексей Алексеевич не могу же я вести бой на фронте и в то же время охранять город! Вы говорили мне, что домовые комитеты города Ростова дадут мне надежную охрану города и избавят меня от несения полицейской службы. На деле же я ничего не получил и при таких обстоятельствах оставаться здесь немыслимо, и я вынужден буду отсюда уйти. Пожалуйста, растолкуйте этим людям это все. Ведь нельзя же нагромождать на армию все новые и новые заботы! Она и без того изнемогает, неся непосильную работу.
Алексей Алексеевич обещал еще раз попытаться подвигнуть город исполнить свой долг перед Добровольческой армией и организовать домовые комитеты для задач дня. Ему это, однако, совсем не удалось.
После ухода А.А. Суворина Верховный вышел в приемную комнату, где в этот день было особенно много людей, ожидавших аудиенции. Пока Верховный разговаривал с одним офицером, в приемную неожиданно вошел какой-то матрос. Все присутствовавшие были «приятно» удивлены видом «красы и гордости революции».
– Хан, голубчик, зачем туркмены часовые впустили сюда птицу, от которой можно ожидать всякой пакости! – сказал мне на ухо один из присутствовавших полковников.
– Господин полковник, ведь наша армия народная, добровольческая, и сюда могут прийти все те, кому дорога Родина. Люди, приходящие с чистыми намерениями всегда дороги ей и ее вождю, людей же, которые бы пришли с дурными намерениями, здесь постигнет должная кара. Как тех, так и других я чувствую сразу. Верховный, веря, что я не ошибусь, приказал впускать к нему всех желающих его видеть, и пока Всевышний Аллах, в которого я так верю, помогает нам, да и мы находимся при Верховном, ни один человек не сможет сделать ему дурное, – ответил я полковнику, со спокойным сердцем следя за каждым движением нервничавшего матроса.
Верховный здоровался с каждым представлявшимся, узнавал причины посещения и давал каждому короткий, но ясный и определенный ответ. Подошел Верховный и к матросу и, пожимая руку, произнес:
– Здравствуйте, Баткин!
– Здравия желаю, Ваше Высокопревосходительство! – был громкий и отчетливый ответ Баткина. – Ваше Высокопревосходительство, услышав ваш призыв, я счел своим долгом явиться в ряды армии, которая под вашим высоким командованием идет против предателей родины. Я верю в вождя этой армии и его идею. Примите меня в ряды ее! – закончил Баткин.
– Спасибо! Все те, кто желает сражаться в рядах командуемой мною армии – дорогой гость ее и командующего. Если вы хотите взять оружие и стать в строй, то милости прошу! – ответил Верховный.
– Ваше Высокопревосходительство, прикажите выдать мне оружие! – ответил Баткин.
– Хан, отведите его к генералу Романовскому! – приказал Верховный, пожимая руку Баткину.
Не успел я вернуться к Верховному, как он приказал мне тотчас просить к нему генерала Романовского, и когда последний явился, то Верховный, не приглашая его сесть, встретил его такими словами:
– Иван Павлович, я уже вас просил раз ставить меня в известность обо всем, что происходит в командуемой мною армии. Вы же не изволили исполнить этого.
– Разрешите узнать, в чем дело, Ваше Превосходительство? – спросил генерал Романовский.
– Выслушайте капитана, который находится сейчас в приемной. Оказывается, он ходил к вам за ответом на свой рапорт уже целую неделю. Вы же не изволили ни сообщить о нем мне, ни сами не даете ему никакого ответа. В то же время его проект имеет исключительно деловой характер, могущий принести безусловно пользу армии. Нельзя же, господа, так относиться к делу! Ведь я один и не могу за всем уследить! Вместо того чтобы помочь мне и облегчить мою работу, вы вот что делаете!
– Ваше Превосходительство, я слышал нелестные отзывы о прошлом этого капитана и поэтому, прежде чем представить его проект с рапортом Вам, я хотел выяснить его личность.
– Не стоит, Иван Павлович, тратить время на это. Наконец, какое мне дело до его прошлого? Будь он сам дьявол в прошлом, мне это безразлично. Раз он явился сейчас в ряды армии – ко мне, то я буду требовать от него теперь дела и ценить его способности, а не судить по его прошлому, равно как ни о какой протекции и поблажке речи быть не может в этой армии даже для родного отца. Неужели, Иван Павлович, вы до сих пор не хотите согласиться, что моя армия слагается совершенно на новых началах, где каждого бойца, насколько мне позволят силы, я должен и хочу воспитывать по-моему. Если мы с вами будем сидеть и ждать людей с хорошим прошлым, то я боюсь упустить время и потерять тех лиц, которых мы имеем сейчас. Пожалуйста, Иван Павлович, поменьше уделяйте внимания шептунам, а в особенности нашей жалкой контрразведке, которая в моих глазах потеряла доверие, и я думаю ее и политический отдел генерала Алексеева расформировать при первом удобном случае, так как убедился, что все сплетни и нелепые слухи фабрикуются и выходят из этих двух учреждений. Я надеюсь, что моя армия обойдется и без их услуг! Дайте ход тому, кто к чему-нибудь способен, и следить за ними и заставить их работать – это ваше дело, а если человек не окажется тем, за кого он себя выдавал, то таких господ направляйте сюда ко мне и говорить с ними в таких случаях буду я! – закончил Верховный, пронизывая своими глазами генерала Романовского и отчеканивая каждое слово.
После ухода генерала Романовского из кабинета Верховного в приемную вошел какой-то полковник без левой руки и с полной грудью орденов. Подойдя к столу, поздоровавшись, с нами и кладя на стол какой-то пакет, он обратился к нам с просьбой доложить о нем Верховному, которого он хочет видеть срочно. В приемной был со мной полковник Голицын. Что-то сразу оттолкнуло меня от этого безрукого человека, когда он разговаривал со мной, беспокойно пробегая взглядом с одного предмета на другой. Прежде чем доложить Верховному о нем, я посоветовался с Голицыным, как быть, передавая ему мое впечатление.
– Хан, к Верховному ты должен допускать всех, как он тебя просил, но если ты не доверяешь этому полковнику, то войди к Верховному вместе с ним и следи за каждым его движением. Если он сделает хотя одно подозрительное движение, грозящее жизни Верховного, то ты имеешь полное нравственное право уложить его на месте.
Я последовал совету Голицына и доложил Верховному о полковнике. Верховный, приняв его и подавая руку, предложил ему сесть. Видя перед собою инвалида с полной грудью орденов, Верховный, мягко задав несколько вопросов о боях, в каких он участвовал, быстро перешел к делу и спросил полковника о причине посещения.
– Ваше Превосходительство, я прибыл из Царицына и привез вам план той местности, где сейчас находятся противобольшевицкие силы – офицерская организация.
– Пожалуйста, покажите, – поторопил его Верховный.
Полковник, развернув карту одной рукой, начал докладывать, указывая пальцем.
– Вот здесь, Ваше Превосходительство, французский завод для приготовления снарядов, а вот здесь депо, здесь же белогвардейская конспиративная квартира и штаб, – докладывал полковник, указывая на крестики, отмеченные им на карте города Царицына. – Если, Ваше Превосходительство, вы дадите в мое распоряжение двести человек офицеров с четырьмя пулеметами, то я уверяю вас, что одним ударом можно захватить сейчас Царицын, тем более что там уже все приготовлено и только ждут сигнала извне. Большевики еще не сорганизовались, как следует, и не имеют достаточной силы для сопротивления нам. Было бы желательно действовать как можно скорее, пока большевики еще не прислали из центра свои силы в Царицын, – закончил безрукий полковник.
– Спасибо, спасибо, – сказал Верховный, погружаясь в карту.
Прошло минуты две, и Верховный, оторвавши свой взор от карты, приказал полковнику оставить ее ему и, сказав, что он, подумав, даст ответ, отпустил его в общежитие, находившееся тут же, рядом со штабом.
Спустя два дня безрукий полковник пришел за ответом и, ожидая приема, сидел в приемной вместе с другими пришедшими. Один из присутствовавших здесь поручиков, увидя этого полковника, подошел ко мне и сказал, что безрукий полковник вовсе не полковник, а большевицкий комиссар.
– Он расстрелял в Царицыне собственноручно сорок человек офицеров, в числе которых был и я еще с двумя офицерами. Мы остались в живых только благодаря тому, что вследствие быстро наступившей темноты палачи поторопились уйти, сбросив нас, убитых и недобитых, в одну яму! – сказал поручик и моментально куда-то исчез.
Пришел начальник контрразведки капитан Раснянский и пригласил полковника с орденами следовать за ним.
Во время допроса полковник сначала называл себя капитаном, прапорщиком и, наконец, оказался фельдфебелем одного из артиллерийских дивизионов. Приехал он сюда затем, чтобы обмануть Верховного и взять от него на расстрел на сей раз двести человек. Узнав об этом, Верховный, вызвав к себе «полковника», спросил:
– Вы кто такой?
– Я фельдфебель, – ответил тот.
– Зачем же этот маскарад? Вы действительно расстреливали офицеров в Царицыне?
Комиссар молчал.
– Уведите! Расстрелять!.. Ах, какая гадость! Ведь это же наши русские люди! Подумайте, Хан, – сказал Верховный, глубоко вздохнув, оборачиваясь, как всегда, к картам.
Спустя два-три дня после описанного случая с «полковником» без руки Верховный и я вошли в офицерское общежитие, находившееся рядом со штабом.
– Что у вас здесь за митинг? – спросил Верховный у одной волонтерки, глядя на группу офицеров, собравшихся на средине спальни.
– Шпиона поймали, – ответила она.
– Шпиона? – переспросил Верховный, подходя к группе.
Офицеры быстро расступились, когда подошел Верховный, и мы увидели солдата в новенькой шинели, стоявшего среди офицеров.
На вопрос Верховного, кто он такой, солдат ответил, что он солдат, прибывший с фронта. Ни своего полка, ни фамилии командира полка он правильно назвать не мог, когда его спрашивал об этом офицер того самого полка, на который указывал солдат, да и вообще в это время на фронте не было такого полка. Верховный приказал обыскать его, разобрать все его дело тщательно и, разобравшись, обо всем доложить ему лично.
При обыске в кармане солдата было найден список всех учреждений Добровольческой армии и, кроме того, десять тысяч рублей денег.
Узнав об этом, Верховный приказал и его расстрелять. Его, между прочим, расстреляла волонтерка де Боде.
– Ну, и живучий был, каналья, как кошка! Всадила в него три пули, а он все живет! – говорила она, когда я, вспомнив об этом случае, спросил ее о расстреле.
Госпожа де Боде потеряла несколько человек своих родственников и родных, мучительно убитых большевиками, и безжалостно мстила им. Она сама была потом убита в сражении с ними под Екатеринодаром в отряде генерала Эрдели.
Часть третья
Опять мусульмане
Итак, на фронте шли беспрерывно бои за боями. Добровольческая армия боролась не на живот, а на смерть. Бои шли кругом. Еще в 20-х числах января большевики повели упорные наступления на Зверево и на Лихую со стороны Царицына, желая отрезать путь отряду есаула Чернецова, который под напором противника, будучи не в силах удержаться со своей горсточкой храбрецов, должен был уйти в Горную. Рабочие в Сулине и в Александро-Грушевской всячески помогали большевикам, выступая с оружием в руках против Добровольческой армии и взрывая железнодорожный путь, тормозили передвижение ее. Большевики, пришедшие со стороны Тихорецкой в Батайск, соединившись с местными рабочими, повели наступление на Ростов. Отряд полковника Ширяева, состоявший исключительно из кадровых морских офицеров и защищавший этот подступ к Ростову, отчаянно сопротивлялся, будучи окружен в неравном бою большевиками. Большевики предложили отряду сдаться на милость, но командир отряда полковник Ширяев приказал офицерам:
– Лучше умереть, чем видеть позор нашей поруганной Родины!
Моряки сомкнутыми рядами пошли на большевиков, и из их отряда осталось не больше пяти-шести человек, очень тяжело раненных. Генерал Марков, очевидец боя, доложил Верховному о гибели славных моряков.
– Честь и слава им! – произнес, перекрестившись, Верховный и в отмщение за их смерть приказал генералу Маркову разнести Батайск артиллерийским огнем.
– Посылайте туда зажигательные снаряды! – приказал Верховный, но когда генерал Марков напомнил ему о глубоком снеге, которым покрыт Батайск, он отменил данное приказание.
Вследствие внезапного выступления таганрогских большевиков юнкерская рота понесла большие потери. Железнодорожные рабочие предательски разобрали путь в тылу Добровольческой армии, дравшейся у Матвеева Кургана. Таким образом, кругом Ростова большевицкое кольцо стягивалось все теснее и теснее. Армия таяла с каждым днем. Записывалось же в нее очень мало – два-три человека в день. С Северного фронта, да и отовсюду летели донесения в штаб с просьбой о подкреплении. Верховный то и дело посылал меня к полковнику гененерального штаба Патронову (начальнику отдела комплектования) за списком прибывающих и убывающих за день чинов армии. Получая этот лист и видя, что в армию поступает лишь ничтожное количество бойцов, он качал головой и опять погружался в думы. В один из таких тяжелых дней Верховный обратился ко мне с просьбой:
– Дорогой Хан, я слышал, что в Ростове много мусульман с Кавказа и Казани. Не пожелают ли они пойти в армию. Пойдите вы к мулле и поговорите с ним. Не поможет ли он мне. Для переговоров с ним я посылаю именно вас, зная ваше умение говорить со своими братьями, – закончил Верховный, видимо, окончательно потерявши надежду на помощь со стороны ростовских жителей.
Я отправился к мулле.
– Что скажете, Хан эфендим? – обратился ко мне любезный мулла местной мечети Вофа Надиев, удивленный моим поздним посещением, так как было около десяти часов вечера. Кстати сказать, я был с ним раньше знаком, ибо каждую пятницу посещал мечеть для совершения Намаз-Джумы.
– Положение армии очень тяжелое. На помощь ростовцев надеяться нельзя. Помощь же извне прийти не может, так как мы окружены большевицким кольцом, которое с каждым днем стягивается все теснее и теснее. Поэтому Верховный просит вас, как представителя местных мусульман и гражданина России, помочь ему, призвав мусульман в ряды Добровольческой армии, – сказал я.
Выслушав меня, мулла ответил:
– Хан эфендим, я постараюсь сделать в этом направлении все, что могу. Мы мусульмане, как вам, наверно, известно, были несколько стеснены при самодержавии, но, принимая во внимание, что к старому нет возврата и что генерал Корнилов истинный патриот и честный человек, стоящий за Учредительное собрание, я думаю, что найдутся среди местных мусульман охотники идти в ряды его армии. Прошу вас пожаловать ко мне в пятницу после Намаз-Джумы, и мы за чашкой чая обсудим этот вопрос совместно с некоторыми мусульманами и узнаем их мнение по нему, – закончил мулла.
– Я пошел за генералом Корниловым потому, что верю ему. Прежде чем вы приметесь за дело, советую вам поехать к нему лично и познакомиться с ним и поговорить. Если у вас откроется душа к нему, то помогите, если же нет – то откровенно скажите, что вы не можете ему помочь. Он очень ценит откровенных людей, – посоветовал я мулле, прощаясь.
На другое утро в 9 часов мулла приехал к Верховному.
– Ну что? – спросил я муллу, когда он выходил из кабинета Верховного.
– Этому человеку я верю и с удовольствием помогу, – ответил мулла и добавил: – Я вас, Хан эфенди, жду в пятницу.
В пятницу, после намаза, я застал в квартире муллы несколько человек казанских татар. Познакомив меня с ними, мулла обратился к ним со следующей речью:
– Я обращаюсь к вам, как к представителям местных мусульман, с напоминанием о долге перед Родиной, находящейся сейчас в опасности. Генерал Корнилов, командующий Добровольческой армией, потеряв надежду на помощь со стороны русских, прислал ко мне своего близкого человека, нашего брата-мусульманина, Разак-бека эфенди, прося у нас помощи. Что представляет из себя генерал Корнилов, я объяснять не буду, так как думаю, что каждый из вас знает по газетам, что он невинно пострадал, обвиненный в измене господином Керенским, который, доведя Россию до такого состояния, сам первый изменил ей, убежав заграницу. Генерал Корнилов, будучи окружен нашими мусульманами в тюрьме, под их охраной ушел из нее в то время, как сами русские старались сделать ему зло. Теперь он собрал армию против большевиков и зовет в ряды армии всех сынов Родины, любящих ее. Большевизм – враг русскому человеку, да и нам, мусульманам, также, так как он отвергает существование Единого Аллаха. Это все, что я могу сказать. Хан эфенди, скажите вы что-нибудь! – обратился ко мне мулла.
– Я не буду много говорить, а скажу только одно, что тот дом (Россия), где мы жили до сих пор, сейчас разрушен до основания. Хорош он или дурен был раньше, но мы в нем жили. Сейчас этот дом разрушили, не дав нам возможности приобрести новый, так как разрушители не спрашивали нас, хотим ли мы этого, как и где будем жить, потому что мнение темных мусульман им не было нужно и даже неинтересно. Таким образом, разрушив наш дом, они оставили нас без крова. Нашелся человек, который взялся построить дом по новому методу, в котором могли бы жить все в довольстве и мире – и те, кого раньше притесняли, и те, которые даже не имели права входить в него. Для того чтобы построить быстро этот дом, главный мастер приглашает нас – всех граждан для закладки фундамента. Каждый из нас, принимавший участие в этой работе, впоследствии будет иметь право жить в новом доме и будет жить легко и свободно. Если же мы откажемся, то найдутся люди, конечно, не мы, граждане России, а иностранцы, которые выстроят дом по-своему, и мы с вами в этот дом не попадем, а будем жить там, где укажут нам место хозяева его. Да не будет этого! Нам гораздо лучше, легче, да и хорошо жить со старыми хозяевами дома, чем с ненавистными чуждыми для нас новыми хозяевами. Дорогие мои братья, поспешим же к мастеру, чтобы помочь ему заложить фундамент нашего будущего дома нашими руками – руками сильных и мощных старых хозяев на их земле. Если нам сейчас и помешают довести постройку до конца, то потом достроят его наши потомки, в это я глубоко верю – лишь бы фундамент его был заложен их славными предками! – закончил я.
Наступило молчание, которого никто не нарушил, – все сосредоточенно думали. Я удалился, оставив их в таком состоянии.
Через два дня мулла прислал ко мне вольноопределяющегося Дагестанского полка Ата Мутукова и в тот же день сам приехал ко мне и сказал, что Ата Мутуков будет собирать добровольцев в армию.
– Ва, гаспадын Хан, товэриш Керенски разрадил (разоружил) наш полк под Пэтроградом и посылал нас на Дагыстан и сказал, что там нам будет савсэм харашо. Приехал на Кавказ без оружие. Болшевик нас давэй рэзат. Пажжалуйста, даввай нам оружи ми будим рэзат болшовиков! – говорил Ата Мутуков, приведя добровольцев-мусульман.
Среди пришедших были: лезгины, черкесы, татары, азербейджанцы, но ни одного перса-амбала. Их поступлением Верховный был очень доволен. Даже сам начальник комплектования полковник Патронов, будучи обрадован их поступлением в армию, как-то мне сказал:
– Да, дорогой Хан, эта ваша заслуга не должна забыться Добровольческой армией!
Поступало бы мусульман еще больше, если бы усердие господ мордобойцев не испортило все дело.
– Ва, Хан, всэ луди просытеэ идты дамой. Зачэм им бъет морда. Вэд эты луди нэ солдаты, каторый служил в царская армые, а доброволцы нэ знающии строй. Адын – лудылщык, адын – торговэц и всэ шли армые, чтобы хадыт на болшевик. Нэ знаит строй? – Надо учить, а патом брасай на болшевик. Нэ харош самый пэрвый дэн быт им морда! В городэ всэ знают и ныкто болшэ нэжэлаит. Всо дэло сламалса! – докладывал мне возмущенный и расстроенный Ата, со слезами на глазах.
– Разак-бек эфендим, разреши нам уйти обратно по домам, – просили меня казанские татары.
– Нас уже начали бить по мордам, а что же будет с нами, когда дом, о котором говорили вы, будет выстроен? Еще не успели его выстроить, а уже поставили полицейского, чтобы он гнал нас, не впуская туда! – жаловались мусульмане мне во время встречи у муллы.
Верховный, узнав о прекращении записи добровольцев-мусульман и о причине, вызвал к себе полковника Неженцева, командира Корниловского полка, где были случаи побоев присланных Верховным добровольцев, и сказал:
– Митрофан Осипович, до меня дошли слухи, что в вашем полку были безобразные случаи избиения поступивших туда добровольцев, которых я послал в ваше распоряжение.
– Так точно, Ваше Превосходительство! Люди эти не понимают ни языка, ни дисциплины, не говоря уже о строе, и этим сильно раздражают офицеров полка! – ответил полковник Неженцев.
– Митрофан Осипович, пожалуйста, я вас покорнейше прошу вывести этот дикий безрассудный метод обучения в полку, поносящий мое имя. Пора забыть и отвыкнуть от этих мерзких приемов. Ведь и в царское время мы с вами добивались, чтобы с корнем уничтожить это зло, а когда достигли дорогой ценой своей армии, мы заводим его у себя сами! Поймите же сами, я призываю ополчиться народ, явиться в ряды армии и он приходит и, вместо того чтобы его радостно встретить, облегчить, помочь и, быстро обучив, создать воинов, мы бьем им физиономии. В то же время наш противник из них же готовит нам грозный боевой элемент без побоев. Я не могу достать нижних чинов из моей стальной дивизии и послать вам в полк, но ведь и те молодцы из стальной дивизии были сделаны из того же материала, что и добровольцы, посланные теперь к вам. Надо только иметь желание и умение подойти к ним, в особенности в такое тяжелое время, как теперь, чтобы создать из них тоже стальных людей! – говорил сурово Верховный, пронизывая насквозь сверкающими глазами стоявшего перед ним полковника Неженцева.
– Ваше Превосходительство, вы сами знаете, что времени нет обучать их, так как полк все время находится в боевой обстановке, – ответил полковник Неженцев.
– Хорошо, это я понимаю, но зачем же допускать, чтобы их били? Нет времени для обучения – назначайте их пока на нестроевые должности, заменив их нижними чинами, находящимися сейчас там, – говорил Верховный.
В то время как наши избивали «по мордам» поступающих добровольцев и они бежали из Добровольческой армии, большевики собирали их и, умело обработав, направляли против нас дисциплинированных людей, и мы, преодолеваемые их стойкостью и упорством в боях, принуждены были скитаться, сперва по Донским и Кубанским степям, а теперь по заграницам, терпя большее унижение, чем когда-то те, которых били по мордам. С кем же мы начали впервые бои, как не с китайцами, амбалами и чернорабочими под Новочеркасском, Ростовом, Таганрогом?..
Наконец, эти же амбалы так же умели умирать в рядах Добровольческой армии, как корниловцы на подступах Екатеринодара, а немного раньше – под Филипповской и Ново-Димитриевской станицами, не говоря о тех амбалах, которых Верховный, собрав в минуту опасности вокруг себя, сумел бросить в атаку на большевиков под Лежанкой и под Кореновской. Вместо того чтобы воздать должное, как всякому честному добровольцу, их то и дело оскорбляют, оскорбляя тем самую память убитых, называя персами, амбалами, подонками. Стыдились бы! Вечная память вам, положившим за благо Родины самое дорогое – ваши жизни! Оставшимся в живых – низкий поклон! В моих глазах нет и не было никогда «корниловцев», «марковцев» и др., а были честные и славные сыны России, шедшие за Верховным туда, куда он их вел. В его армии умирали все одинаково, и все были обречены на смерть, и все были герои!
Атмосфера сгущается
22 января 1918 года.
Наступление большевиков на Ростов с каждым днем становилось все упорнее и упорнее. Несмотря на это, Верховный чувствовал себя бодро и продолжал энергично и неутомимо работать. Работал он почти круглые сутки. Часто ночью, часа в два-три, он вдруг зажигал свечу, лежавшую вместе с револьвером, часами, листом бумаги и карандашом на стуле возле кровати, и принимался, лежа в постели, что-то писать.
– Ничего, Хан, ложитесь, ложитесь! Я вспомнил об одном деле и хочу сделать заметку, чтобы не забыть завтра! – говорил он мне, когда я входил в такие минуты к нему.
Встав в семь часов утра, он принимался за работу в ожидании чая.
– Что, Хан? Вы говорите, чай готов! А! Чай?.. С удовольствием! – с такими словами Верховный поднимался и шел в нашу комнату.
– Ну, Хан, а чем вы меня сегодня угостите? – спрашивал он, пока я ему наливал чай.
– Хлебом с маслом, как всегда, Ваше Высокопревосходительство! – отвечал я ему, видя за его спиной Виктора Ивановича, смотревшего на меня и качающего головой, как бы этим желая сказать: «Видишь, какой у нас Верховный, денег на продукты не дает, а спрашивает, чем мы его угостим?!»
Усевшись, кому где удобно, так как стул в нашей комнате был один и на нем всегда сидел Верховный, а столом по-прежнему продолжал служить ящик, мы, мирно беседуя, принимались за чай. Улучив хорошую минуту, Долинский обращается к Верховному.
– Ваше Высокопревосходительство, нужно купить нам чайник, чай, сахар, масло. У нас кончаются запасы.
– А!.. Гм… Зачем покупать чайник, когда есть общий бак, из которого можно брать чай. По-моему, чайник большая роскошь. Не стоит тратить деньги, – спокойно отвечает Верховный, продолжая пить чай и обходя вопрос о чае и сахаре молчанием, глубоко задумывается о чем-то и вдруг, как бы проснувшись от глубокого сна и продолжая начатый разговор, добавляет: – Да, хорошо бы, если бы этот отряд (Дроздовского) с Румынского фронта прибыл поскорее. Помощь была бы огромная и кстати. Ах, как этот Каледин нас тормозил своей соглашательной политикой. Если бы не его политика, мы бы уже сделали половину дела. Теперь же, насколько я знаю, противник тоже не дремлет и быстро организуется. Моя цель была пойти на них раньше, чем они успеют сорганизоваться. Большевизм сам по себе не был бы опасен, если бы за спиной наших ротозеев не шли немцы. Ясно, они используют нашу революцию, как пожелают. Вот до чего довели Россию вдохновители русской революции! Говорил этим господам, что рано вам радоваться, а они мне возражали, что русская революция бескровная и я не знаю народ. Вот этот народ, который «они» знали, и вот та бескровная революция, о которой говорили! Пусть полюбуются теперь! – говорил Верховный, глядя сосредоточенно в одну точку ящика, забыв о своем чае.
Подобные разговоры у нас бывали почти каждое утро. Если в это время приходил генерал Романовский, то Верховный приглашал его в нашу комнату и предлагал ему чаю, спрашивая о впечатлении прошедшего дня. Допив быстро свой чай, Верховный в сопровождении генерала Романовского входил в свой кабинет для выслушивания доклада, и с этой минуты начинался прием.
Иногда Верховного посещала семья, и если он не был занят в это время, то выходил к ней, а если кто-нибудь сидел в его кабинете, то семья ждала.
– Папа, почему ты уже два дня к нам не приходишь? Мы по тебе очень соскучились! – говорили его дети, вызывая Верховного в нашу комнату.
Юрик при виде отца бросался к нему на шею.
– Ну, брат, ты очень тяжелый! – нагибаясь под тяжестью сына, говорил Верховный. – Извините меня, эти дни я был так занят, что буквально ни одной минуты не имел свободной, чтобы сбегать к вам, – произносил он, здороваясь с женой и дочерью.
– Ну, папа, как дела? – интересовалась Таисия Владимировна.
– Дела? Гм… ничего! Вот жду ответ от жителей Ростова. Если они дадут людей для охраны города, то я останусь, а если нет, то придется мне вывести армию из Ростова, – сказал однажды Верховный.
– А как же мы, папа? – спросил Юрик.
– А вас придется оставить большевикам! – шутил Верховный.
– Ну, папа, я не хочу! – начинал тянуть в нос Юрик. – Папа, а женатый мальчик (так называл Юрик Виктора Ивановича) тоже останется с нами? – спрашивал, не унимаясь, Юрик.
Верховный, не выдержав, громко расхохотался.
– Если он хочет, то пусть остается с тобой вместе, но я не думаю, чтобы это желание у него было велико, и, по-моему, он с большим удовольствием поехал бы в Сибирь, где ждет его жена!
– Нет, кроме шуток, папа, что мы будем делать, если, не дай Бог, тебе придется оставить Ростов под напором большевиков? – задала вопрос Таисия Владимировна.
– Я вас думаю послать на Кавказ, к генералу Мистулову, в Черноярскую станицу, где под его покровительством будете жить, пока выяснятся мои дела. На днях я должен от него получить ответ. Вы готовьтесь к отъезду! – спешил Верховный успокоить свою семью. – Что же касается остальных новостей, их вам женатый мальчик расскажет, а я, извините, уйду, так как, говорит Хан, в кабинете меня ждет генерал Деникин! – сказал Верховный, направляясь в свой кабинет.
– Папа, приходи пить чай с пирожками. Ждем тебя! – говорила Наталия Лавровна ему вслед.
Верховного ничего не отвечал, как бы уже не слыша, и входил в кабинет.
– Хан, тащите папу сегодня вечером к нам, он вас слушает. Уже два дня, как он у нас не был. Нам скучно все время быть одним, – говорила Наталия Лавровна.
– Приходите с Лавром Георгиевичем в четверть шестого, будем пить чай с пирожками! – в свою очередь просила, уходя, Таисия Владимировна.
Спустя три дня после приведенного разговора с семьей. Верховный приказал мне передать Таисии Владимировне, чтобы она была готова к отъезду.
– Ко мне прибыл от Мистулова человек с письмом, в котором Мистулов сообщает, что он ждет их, – сказал мне Верховный в заключение.
– Хан, дорогой, не бросайте Верховного. Ухаживайте за ним в походе сами, как во время похода из Быхова на Дон, где вы заменяли ему родного сына! – просила меня Таисия Владимировна со слезами на глазах, когда я с Верховным пришел проститься с его семьей.
– Таисия Владимировна, я еще не забыл слово, данное вам в Могилеве! – успокаивал я.
– Нет, это слово было только до Дона, а теперь дайте снова, – требовала она.
– Отсюда и докуда? – задал я вопрос.
– До счастливой встречи! – говорила она.
Я дал обещание.
– Как они вас, Хан, взяли за жабры! – смеялся Верховный.
– Ну, с Богом! Получила слово, теперь уезжай! – торопил он, прощаясь и целуя каждого.
К конце января семья Верховного в сопровождении корнета Толстова и преданного Мистулову кондуктора поезда, в котором уезжала она, покинула Ростов.
Не прошло и трех дней, как было получено известие о закрытии и кавказской железной дороги.
– Ну, слава Богу, Хан, что они благополучно проскочили! Этот поезд был последний! – говорил мне Верховный.
29 января 1918 года Верховный получил известие о смерти атамана Каледина. Это известие несильно подействовало на Верховного, и он оставался во время чтения телеграммы так же спокоен, как и был до нее.
– Царствие ему небесное! Этот конец я ему предсказывал еще в Новочеркасске, – сказал Верховный и сейчас же задал генералу Романовскому вопрос: – Что еще у вас есть? – и продолжал слушать прерванный этим известием доклад.
Внезапное известие о смерти атамана Каледина произвело сильное впечатление в штабе и в городе. Явилась слабая надежда, что казаки опомнятся и пойдут вместе с Добровольческой армией защищать свой очаг, но и эта надежда быстро улетучилась, как не раз она являлась и исчезала и при жизни Каледина.
Кроме небольшого количества интеллигенции и «зеленой» молодежи, горячо откликнувшихся на призыв Добровольческой армии, остальная публика оставалась глухой. Из молодежи был организован отряд, храбро дравшийся на фронте. Много помог Добровольческой армии союз инженеров и техников, который, во-первых, сорвал забастовку, восстановив электричество и водопроводы, а во-вторых, работал на поездах для передвижения войск. Рабочих уже на поездах не было, и их место занимали инженеры, техники, небольшое число студентов. Этот же союз нес также техническую работу на фронте. Но все-таки вся эта помощь была каплей в море. Между тем на фронте бои шли ожесточенные, и ряды добровольцев таяли с каждым часом, а запись их в армию подвигалась очень слабо. Несмотря на то что в Ростове была масса офицеров, очень немногие из них шли в армию. Большинство же старалось устроиться потеплее в штабе, а если это не удавалось, предпочитали выжидать события, приходя за новостями в тот же штаб к приятелям, сумевшим устроиться там. Однажды я наблюдал следующую сценку:
– Здравствуйте, Василий Иванович!.. Я к вам с маленькой просьбой!
– А, здравия желаю, Иван Иванович! С удовольствием, если это в моих силах… Говорите!..
– Видите ли в чем дело, Василий Иванович, не сможете ли вы меня устроить здесь, в штабе. Я, видите ли, хочу записаться в армию, но мне было бы желательно устроиться около вас.
– Ну, батенька, Иван Иванович, извините, но исполнить эту просьбу я не в силах. Командующий армией принимает в свою армию и увольняет из нее всех сам лично. К тому же он приказал начальнику штаба сократить штаб до минимума. Приходится работать, как волу. Например, мою должность, если бы это было в нормальное время, исполняли бы три человека, а сейчас я работаю один. Очень тяжело, но что же поделаешь?! Помощников не дают. Беда в том, что и заикнуться нельзя, что устаешь, так как генерал Корнилов очень крутой и разговаривать особенно не любит; заикнись ему об этом, он возьмет тебя да и вышибет вон! Он имеет очень дурную привычку являться сюда два-три раза в день, чтобы поискать лишних людей, которых можно было бы отправить на фронт. Так что, голубчик, видите сами, ничего не смогу сделать, – говорил Василий Иванович, разводя руками.
– Здравствуйте, господа! – произнес, подойдя к разговаривавшим, полковник средних лет.
– Ну, как, Петр Петрович, до сих пор ничего не удалось вам сделать? – поинтересовался Василий Иванович.
– Разумеется, нет! У вас здесь очень туго и никак невозможно куда-нибудь сунуться. На фронт с удовольствием, мест сколько угодно, а здесь, извините, все занято, говорят, – ответил Петр Петрович.
– Изволите слышать, Иван Иванович, что говорит Петр Петрович? – спросил Василий Иванович.
– А вы что, батенька, тоже относительно местечка? – поинтересовался Петр Петрович.
– Да видите ли я, на германском фронте был сильно контужен и в строй не гожусь, хотелось бы устроиться поспокойнее, – мялся Иван Иванович.
– Хо… хо… хо… – расхохотался Петр Петрович. – Да вы, батенька, чудак! Через пять дней после приезда да спокойное местечко! Я хожу сюда две недели и надавил все пружины и, как видите, в результате шиш с маслом. А вы, как орел с размаха, хотите получить сразу! – смеялся громко Петр Петрович.
В это время в приемную вошел грязный, с усталым лицом офицер и, узнав, что Верховного в штабе нет, он подошел к группе с восклицанием:
– Как, господа, вы тоже пробрались к нам? Вот хорошо! Вы в какую часть записались? Слава Богу, что наш брат мало-помалу прибывает. У нас на фронте дорог каждый человек, – торопливо говорил прибывший.
Не отвечая ничего на заданный вопрос офицера, эти люди в три голоса в свою очередь задали вопрос:
– Что у вас нового на фронте?
– Ничего, пока все по-старому! Большевики жмут, а мы их колотим. Вот только дела под Таганрогом плохи. Ну, это невелика беда… Исправят быстро. Был маленький прорывчик…
– Про-рыв-чик? Что вы говорите! – воскликнули три голоса. – Значит, дела швах? Скоро бежать будем?
– Ничего не швах! Сегодня они прорвали наш фронт, а завтра мы их. Завтра Марков поедет и вышибет товарищей. Он не любит с ними много разговаривать! – возразил прибывший офицер.
– Говорят, Марков – ваш Суворов? – сказал Петр Петрович.
– Какой Суворов! Суворов сейчас не годился бы! Ведь деремся-то с большевиками! Война-то гражданская и русский солдат идет против своих, во как! – сделав руками штык и подняв его вверх, произнес капитан. – Как ни говорите, а наш Марков молодец! – говорил капитан.
– Ваш Марков – сам Гинденбург!
– Ну, какой Гинденбург?! Гинденбург потерял бы свою немецкую голову в этой каше.
– А кто же он, в конце концов, по-вашему – Наполеон, что ли? – спросил Петр Петрович, слегка подмигивая Ивану Ивановичу.
– Генерал Марков есть генерал Марков в гражданской войне, идущий вперед, не зная страха, и бьющий большевиков, как ему хочется! – ответил капитан.
– Весь фронт держится на этом генерале. Без него генерал Корнилов был бы как птица без крыльев, – поддержал капитана Василий Иванович и вдруг шарахнулся в сторону, вежливо кланяясь вошедшему господину в черном штатском пальто, в серой барашковой шапке на голове и в высоких сапогах, который, опустив голову вниз и нахмурив брови, прошел в кабинет Верховного, не отвечая на приветствия и как бы не замечая присутствовавших.
– Кто это? Какой-нибудь ростовский буржуйчик? – поинтересовался Иван Иванович.
– Нет, это генерал Деникин, – ответил Василий Иванович.
– Почему же он здесь? – спросил Иван Иванович.
– А где же ему прикажете быть? – спросил капитан.
– Да как где? На фронте!
– Что он будет делать на фронте с таким животиком? – спросил капитан.
– Ведь он считался боевым генералом!
– Правда, Иван Иванович, он хорош в кабинете, а на фронте гражданской войны, где надо ползти да прыгать через заборчики, он не годится, – возразил капитан.
В это время откуда-то возвратился Верховный в сопровождении Долинского и, заметив группу разговаривавших, подошел к ним и спросил:
– Вы что, господа, состоите в армии? По делу?
– Никак нет, Ваше Превосходительство! Они только два дня, как приехали и, желая записаться в армию, пришли получить кое-какие справки, – подтянувшись, поспешил ответить Василий Иванович.
– Ну, ну, записывайтесь поскорее, господа! Вы сами понимаете – время тяжелое и нужны люди, – сказал Верховный, проходя к себе в сопровождении прибывшего с фронта с донесением капитана.
– Вы что думаете сделать со своей семьей в случае нажима большевиков, Иван Иванович? – спросил Василий Иванович.
– Да я их хочу оставить в Ростове вместе с вашей семьей.
– А вы сами, надеюсь, пойдете с нами, Иван Иванович?
– Я, право, Василий Иванович, не знаю, но думаю, что да. Если бы во главе стоял кто-нибудь другой, не пошел бы, а с генералом Корниловым, пожалуй, пойду.
– Что, действительно ликвидировали прорыв на фронте? – переспросили, встрепенувшись, беседовавшие, услышав эту весть от капитана, возвращавшегося от Верховного после доклада.
– Сам Верховный сообщил мне об этом! – сказал им капитан.
– Ну, слава Богу, значит, наши бьют этих негодяев! – произнес Петр Петрович, сразу развеселившись и забыв, что он не состоит в армии.
– А, господа, я заговорился и совсем забыл, что меня люди ждут! Извините, спешу! – заторопился вдруг Василий Иванович. – Прощайте, Иван Иванович, и вы, Петр Петрович!
– До свидания, Василий Иванович!
– Да, Василий Иванович, вы, пожалуйста, в случае чего этакого известите меня записочкой. Вы ведь в штабе! – кричал Иван Иванович вслед уходящему Василию Ивановичу.
– Да, да, не беспокойтесь! Я – своевременно… – на ходу проговорил Василий Иванович, спеша к себе.
Ледяной поход
Еще утром 9 февраля никто не думал о выступлении из Ростова, но, получив известие о том, что казаки Гниловской станицы, бросив позицию, поставили Корниловский полк под удар большевиков и что казаки этой станицы не только не помогли Добровольческой армии, но даже при отступлении стреляли по ней и что с остальных фронтов казаки также ушли, Верховный в 12 часов дня сурово приказал мне:
– Хан, нужно приготовиться к походу, так как мы сегодня выступаем из Ростова.
Лицо Верховного опять было желто, но глаза искрились, когда он примерял бекешу с генеральскими погонами, принесенную чехом, портным Корниловского полка. Опять мне пришлось, как в Быхове, собирать вещи Верховного, состоявшие из мыла, гребенки, двух полотенец и трех пар белья, на одну из которых рассчитывал я, так как совсем обносился, не имея нижнего белья. Я бы остался и без рубашки, если бы не добрая Анна Андреевна Роженко, супруга капитана Роженко, которая, узнав, что у меня нет белья, отдала мне две пары белья своего мужа.
В четыре часа в штабе засуетились, узнав о выступлении.
– Что же, Хан, выступаем? А куда? – спрашивали меня штабные офицеры.
– Куда поведет Верховный! – отвечал я им.
Вмиг Парамоновский дом превратился в муравейник. Крик. Шум. Голоса мужчин, женщин и детей сливались в громкий гул.
– Хан, передайте полковнику Трухачеву, чтобы он приказал всем запастись индивидуальными (перевязочными) пакетами. Не забудьте также захватить их для меня и для себя, – приказывал Верховный тихим голосом, сидя за столом и уничтожая какие-то бумаги.
Я отправился, чтобы передать приказание Верховного. В зале, среди суетящихся людей, я опять встретил знакомые лица.
– Иван Иванович, значит, выступаем? – спрашивал Василий Иванович.
– Да, приходится! Но куда именно?
– Сейчас уже не время спрашивать куда, когда взяли в руку винтовку, – говорил Петр Петрович, поправляя вещевой мешок на спине Ивана Ивановича.
– Ничего! Пойдем, куда поведет нас Лавр Георгиевич! – произнес Иван Иванович.
– А вы тоже с нами, Петр Петрович? – спросил Иван Иванович.
– Я? Нет! Куда нам, старикам! Бог знает, что ожидает вас, господа, впереди! Я, хэ, хэ, придерживаюсь старой русской пословицы: «Не зная броду, не суйся в воду!»
Услышав сказанное, лицо Василия Ивановича передернулось брезгливой гримасой, но он, ничего не ответив, отошел от группы и направился к лежавшей рядом куче индивидуальных пакетов. В зале стоял шум.
– Я тоже пойду с вами, я тоже! Подождите, Нина! – кричала гимназистка Языкова, убежав за колонну и меняя свои туфли на сапоги, в изобилии здесь валявшиеся.
– Боже, Боже, ты куда, Михаил? Иди домой, родненький! На кого оставляешь родную мать?! Сжалься надо мной, Михаил, милый! – рыдала какая-то дама, мать пятнадцатилетнего гимназиста, который, успев уже переменить свою форменную фуражку на серую солдатскую папаху, примерял брезентовый патронташ.
– Мамочка, не плачь! Я пойду туда, куда идут вот эти девочки-гимназистки, которые, видишь, меняют свои туфли на сапоги!
– Боже мой, Боже мой, в такую погоду, да еще и неизвестно куда! – плакала мать Нины, обняв свою дочь.
Войдя в кабинет Верховного, я увидел, что он все еще сидел за столом и уничтожал какие-то бумаги. Вот наконец он встал, открыл свой ящик и вытащил оттуда ту же самую фотографическую карточку семьи, из которой он вырезал себя в Быхове перед самым выступлением. Взглянув на карточку и аккуратно положив ее в бумажник, Верховный сел. Я последовал его примеру. Не прошло и секунды, как он встал, перекрестился и, одев папаху, покинул свой кабинет.
Выйдя в зал и увидя его оживленную картину, он глубоко вздохнул. Полковник Трухачев, быстро выстроив людей в две шеренги, крикнул своим тенором:
– Рота, смир-но!
Верховный в генеральской форме, одетой первый раз сегодня, направился к строю. В строю стояли старые, молодые, девочки, мальчики. Взоры всех были прикованы к Верховному. Очень быстро обойдя выстроившихся, начав с левого фланга, Верховный, дошедши до правого – к полковнику Трухачеву, командиру штабной роты, произнес:
– Ведите!
Через несколько минут Верховный, как пророк, занял место впереди, и все, как ученики его, пошли за ним. Было ровно 4 часа и 15 минут дня. Стояла отвратительная погода. Шел легкий снег, которым было покрыто все. Когда мы вышли в степь, направляясь в Аксайск, Верховный стал замедлять шаг. Луна своим мертвым светом сквозь снежные тучи освещала степь. Длинная и черная лента людей, колыхаясь, двигалась вперед, молча, вслед за своим пророком. Шедшие только изредка перекликались с боковыми дозорами, боясь наткнуться на большевиков. Кое-где маленькими звездочками, то появляясь, то исчезая, искрились огоньки – это были огни костров.
До Аксая было 18 верст. В течение всей дороги Верховный дал только две остановки, не считая той, которая была вызвана прибытием делегатов из Аксая.
– Ничего! С первого раза кажется тяжело, а завтра уже привыкните! – говорил Верховный, увидя мальчиков и девочек, бросавшихся прямо на снег во время остановки и боявшихся пропустить каждую минутку отдыха.
Через пять минут отдыха двинулись дальше.
Глядя на Верховного, как он шел впереди опираясь на палку, у меня невольно опять мелькнула мысль, как и во время выхода из Быхова: «Куда ведет нас этот человек? Тогда он говорил, что отдых будет на Дону. Где же мы отдохнем теперь?»
– Стой! Кто вы такие? – спросил Верховный, заметив приближавшихся навстречу нам нескольких всадников.
Позади Верховного некоторые даже взяли винтовки наизготовку.
– Мы! Свои! Ведем делегатов! – был ответ.
– Каких делегатов? – спросил Верховный, когда всадники подошли ближе.
– Нам нужен генерал Корнилов!
– Я, Корнилов, говорите! – сказал Верховный.
– Вот делегаты из Аксая! Они собрали там сход, на котором постановили, чтобы мы прошли через Аксай, не останавливаясь, так как аксайцы боятся, что произойдет бой с большевиками и их станица может пострадать, – доложил офицер приехавший вместе с делегатами, которые, слушая все это, молчали.
– Вы, что – станичники? – спросил Верховный и, получив утвердительный ответ, сказал:
– В Аксае боя с большевиками не будет. Я хочу дать отдых на ночь моей армии, а утром рано уйду дальше. Если со стороны жителей Аксая будет выражено какое-нибудь недовольство или будет произведен хоть один выстрел по моим людям, то я в Аксае не оставлю камня на камне. Вот это передайте вашим станичникам! – закончил Верховный и пошел вперед. Делегаты, молча выслушав Верховного, уехали обратно.
– Вот дрянь казачки! И это называется – «наши братья христиане!» Как много когда-то писалось о них и их гостеприимстве. Они не только не помогли нам в борьбе с большевиками, а даже не хотят дать приют на несколько часов. Наши враги турки встречали нас, русских, их врагов, делясь последним, а эта дрянь шарахается от нас, как от чертей. Ведь у них мы ничего не просим и за все будем платить, – возмущались в строю офицеры.
– Как, как? Аксайцы отказывают нам в ночлеге? Надо разнести их! Жаль, что генерал Корнилов этих делегатов отпустил, а не приказал повесить! – говорили другие возмущенные.
– Артиллерия вперед! Перебросьте ее по ту сторону Дона и на всякий случай прикажите занять позицию против Аксая! – приказал Верховный генералу Романовскому, когда мы подходили к станице.
Придя в Аксай и расположившись в одной хате, Верховный, генерал Деникин, генерал Романовский, Долинский, Малинин (адъютант Деникина) и я немного отдохнули, а на рассвете выступили дальше. Было яркое, солнечное, но морозное утро. Утренний мороз давал о себе знать. Разношерстно одетые добровольцы длинной лентой переходили Дон. За переходом войск, до последнего человека, наблюдал на другом берегу Дона сам Верховный. На последние части переходивших войск налетел большевицкий аэроплан и, сбросив две бомбы, повернул обратно. Одна из бомб, попав на лед, где проходили войска, образовала в нем большую прорубь, не причинив, однако, никому вреда. После «визита» аэроплана из Аксая послышались одиночные выстрелы, то стреляли нам в спину.
– Господи, вразуми их! Это так своих братьев провожают! – произнес Верховный, качая головой и глядя в сторону Аксая. Глубоко вздохнув, он пошел крупным шагом к голове колонны.
Ольгинская
10 февраля 1918 года.
Прибыв в Ольгинскую станицу, мы остановились в ней, ожидая, пока все части, оставленные на фронтах под Батайском, Ростовом и в других местах, подтянутся сюда же. Верховный решил здесь переформировать армию. Для этого понадобилось четыре дня. Когда все части пришли и были переформированы, то оказалось, что в Добровольческой армии приблизительно 4000 бойцов. Пехота ее состояла из следующих полков: Офицерский полк под командой генерала Маркова, Корниловский – под командой полковника Неженцева, партизанский, в состав которого вошли партизаны Чернецова, Краснянского, Курочкина, Лазарева и др. под командой А.П. Богаевского, и Чехословацкий батальон под командой полковника Краля. Отдельными единицами вышли из Ростова юнкерский батальон под командой генерала А. Боровского и студенческий. Во время похода уже студенческий батальон был влит в Корниловский полк, а юнкерский – в Офицерский полк.
Конница состояла: из офицерского дивизиона под командой гвардии полковника Гершельмана, дивизиона полковника Глазенапа и конного отряда полковника Корнилова (бывшего адъютанта генерала Корнилова), два последних состояли из донцов. Конвой Верховного под командой ротмистра Арона состоял из шести офицеров (полковника Григорьева, корнета Силяба Сердарова, прапорщика Мистулова и прикомандированных к конвою двух офицеров: Адцоева и Кцоева) и шести джигитов-туркмен (5 кавказцев и одного киргиза).
Снабдил конвой оружием, патронами, лошадьми и седлами в Ольгинской станице, по приказанию Верховного, я.
Не могу не рассказать, как попал опять к генералу Корнилову полковник Григорьев. Прибыв в начале января в Ростов, полковник Григорьев оставался вне Добровольческой армии, не желая записываться в ее ряды, но аккуратно посещал столовую штаба в качестве текинца. Однажды, сидя в конвойной комнате в присутствии ротмистра Арона и корнета Толстова, Григорьев обратился ко мне со следующими словами:
– Послушайте, корнет! Скажите своему генералу, чтобы он уплатил мне по счетам. Я потерял лошадь и вещи во время его бегства из Быхова. В армию записываться я не желаю, так как не верю в эту авантюру!
Надо заметить, что он в Ахале потерпел полную неудачу. Явившись туда набирать джигитов, он услышал от туркмен стариков такие слова: «Где полк, где наши сыновья? Говорят, что генерал Корнилов сделал тяжелый поход из Быхова на Дон, в котором погиб весь полк. Мы не верим, что тебя прислал генерал Корнилов, так как вместо того, чтобы в такое тяжелое время быть с генералом Корниловым и нашими сыновьями, ты здесь проводишь время в шатании и ухаживаниями за девочками». Ничего не оставалось после этого полковнику Григорьеву, как отказаться от мысли «создать» полк и вернуться к гененералу Корнилову, уже не для того чтобы служить в армии, а чтобы получить за потерянные вещи их стоимость, – «по счетам», как он выразился.
По уходе полковника Григорьева ротмистр стал просить меня не передавать Верховному сказанное Григорьевым.
– Хан, ты знаешь, что этого господина Верховный терпеть не может, а если он узнает о сегодняшнем разговоре, то раздраженный вышибет нас всех из конвоя. Ты прекрасно знаешь также о настроении Верховного по отношению к офицерам нашего полка! – закончил ротмистр Арон.
– Пусть Григорьеву простит Всевышний Аллах! Никогда я не имел и не имею привычки на кого-нибудь наговаривать Верховному! – ответил я Арону, глубоко возмущенный словами старого офицера нашего полка.
В этот же день, после всего сказанного, у полковника Григорьева хватило наглости броситься с сияющим лицом навстречу Верховному, когда тот шел на обед.
Не спрашивая его ни о чем и ответив небрежным кивком головы на его приветствие, Верховный прошел в столовую.
– Я этого болтуна терпеть не могу. Кажется, ему я ясно дал понять, еще в Быхове, что он мне не нужен, а он опять явился сюда!.. Я хорошо узнал этих господ во время похода – что они за люди! – сказал мне Верховный по пути из столовой.
Глядя на Григорьева, я возмущался его способностью менять физиономию.
Прибыв в составе конвоя в Ольгинскую, Григорьев прислал мне записку, в которой просил и умолял меня устроить его в конвое, хотя бы в качестве рядового, указывая на то, что он ведь старший офицер нашего полка. В конце записки он говорил, что решил идти за генералом Корниловым и следовать за ним всюду. В общем, записка была полна раскаяний и любезности. На записку я ничего не ответил, так как был очень занят, при встрече же сним был вежлив настолько, насколько это требовалось со стороны младшего к старшему. Зная, как Верховный относится к Григорьеву, я, конечно, не рискнул рекомендовать его в конвой, так как не хотел брать на себя ответственность за этого господина, и предоставил все случаю. Григорьев старался часто попадать на глаза Верховному.
– Что этот господин здесь болтается и в какой он части состоит? – спросил меня Верховный за обедом о Григорьеве.
– Мне кажется, что он нигде не состоит, а живет пока с офицерами конвоя, – ответил я.
– Вот что, Хан, пусть он остается при конвое. Здесь он будет у меня на глазах! – приказал Верховный.
С этого дня Григорьев и был зачислен в конвой в качестве рядового офицера.
Пока армия переформировывалась, явился вопрос, куда идти дальше. С этой целью в Ольгинской состоялось совещание, на котором присутствовали генералы: Алексеев, Корнилов, Романовский, Марков и Попов и полковник ген. – штаба Сидорин. На совещании было высказано три мнения.
Первое генералом Корниловым – идти в Астрахань, где ему предлагали помощь как денежную, так и людьми. Но этот вопрос отпал сам собой, так как по дороге армия не могла бы найти в калмыцких степях не только достаточного продовольствия, но даже мест для отдыха.
Второе, поданное большинством, было – отправиться к границе Ставропольской губернии и, остановившись там в зимовниках, выжидать событий. Если, опомнившись, казаки выступят против большевиков, то поспешить им на помощь. Это предложение было также отклонено, так как большевики, в руках которых находились железные дороги, могли подвезти крупное количество войск и уничтожить нашу армию по частям, ибо в одном месте армия не смогла бы расположиться за неимением достаточно крупных сел.
Наконец, третье, поданное генералом Алексеевым – идти на Кубань – было принято, так как можно было надеяться на присоединение кубанских казаков и на продовольствие по пути.
Остановившись на третьем предложении, о котором знал только командный состав, а армия продолжала идти за генералом Корниловым без всяких сомнений, было решено привести его в исполнение.
Перед самым совещанием Верховный представил меня каким-то двум штатским лицам со словами:
– Хан, расскажите, пожалуйста, им все, о чем они вас спросят. Вот, господа, вам Хан, мой близкий человек; он был со мной в Быхове и бежал вместе, перенося все тяжести похода. Он знает мою жизнь в этот период и может рассказать о ней так же, как я сам. Меня вы извините, я занят – у нас сейчас будет совещание, – закончил Верховный уходя в столовую, где должно было происходить совещание.
Как я узнал после, представленные мне были газетными репортерами из Ростова – г. Литвин (если не ошибаюсь) и г. Краснушкин, писавший под псевдонимом Виктора Севского. Я рассказал им несколько эпизодов из жизни Быхова. После совещания Верховный, войдя в нашу комнату и увидя при свете мерцавшей свечи все еще пишущих журналистов, сказал:
– Вы, господа, все еще пишете?
– Господин генерал, мы просили бы, чтобы и в будущем, когда мы обратимся к Хану, он рассказывал бы нам так же, как сегодня. Ведь это такой интересный и богатый материал для потомства… Жаль будет, если он останется зарытым в земле.
– Да, да! Как же! Конечно! Хан, пожалуйста, исполняйте и впредь их просьбу, если они обратятся к вам, – сказал мне Верховный.
13 февраля, после обеда, привели красивого булана, на котором Верховный впоследствии совершил весь поход. В этот же день Верховный вручил мне большой трехцветный флаг, который был мною передан конвою.
– Ваше Высокопревосходительство! Вам от полка! – отчеканил младший унтер-офицер Дронов, подводя лошадь к крыльцу, куда вышел Верховный, чтобы принять дар от Корниловского полка.
Сюда же, спеша, подошел полковник Неженцев, успевший доложить о желании полка преподнести эту лошадь своему-шефу в подарок.
– Спасибо, спасибо! Это, Хан, не араб полковника Эргарта! – произнес Верховный, гладя по шее лошадь.
Красивый, статный, могучий булан, как бы чуя, чья рука ласкает его, гордо подняв голову вверх, ласково глядя на будущего хозяина большими, красивыми, черными глазами, навострив уши, нервно грыз уздечку. Чем больше Верховный гладил булана, тем больше тот нервничал и ржал, перебирая передними ногами.
– Ваше Превосходительство! Это не араб… – начал было полковник Неженцев, но Верховный перебил его:
– Я говорю не об этой лошади, а об одном арабе, которого для меня купил Хан по рекомендации полковника Эргарта, офицера Текинского полка. Вот Хан знает его историю, – и, не окончив, Верховный обратился с вопросом к генералу Маркову, который в это время подходил к нему.
– Вы ко мне? – спросил Верховный, здороваясь.
– Ваше Превосходительство, по полученным сведениям большевики выделили из Ростова силу в погоню за нами.
– Не думаю, чтобы они могли преследовать нас. Впрочем, могут послать сюда две-три сотни всадников, но это не беда! Мы их сумеем встретить. Еще нужно дней пять-шесть товарищам для грабежа города и расстрела буржуев. Им сейчас не до нас! – спокойно ответил Верховный.
14 февраля, в пасмурное, слегка морозное утро, мы выступили из Ольгинской. Жители ее рассыпались по улицам и с любопытством глядели на уходившую армию. По узким и весьма грязным улицам с трудом полз обоз с ранеными и транспортом. Спустя час после ухода армии Верховный, убедившись, что все вывезено, приказал подать булана. К этому времени конвой под большим красиво развевающимся национальным знаменем, которое крепко держал в руке туркмен, подъехал к крыльцу.
«Верховный сегодня поднял знамя – эмблему упавшей России. Как оно красиво развевается! Только дай Аллах, чтобы мы могли донести его туда, где бояр укажет нам его водрузить!» – говорил я про себя.
Верховный вышел и, сев на могучего булана, помчался вперед за армией. Сзади, не успевая за ним, мчался карьером тучный генерал Романовский. За ними на своих клячах тряслись Долинский и я, а за нами уж следовал конвой. Лошади Долинского и моя были настолько худы, что вызывали шутки среди офицеров.
– Хан, что, ваша лошадь на довольствие деньгами на руки получает? – спрашивали меня, смеясь, офицеры армии.
– Командующий, командующий едет! – раздались голоса среди идущих войск при приближении Верховного.
Все взоры были устремлены в сторону Верховного, и люди, забыв предстоящий тяжелый поход, на его приветствие бодро и весело кричали: «Здравия желаем, Ваше Высокопревосходительство!» Верховный, подъезжая к каждой части, громко здоровался, называл юнкеров молодцами, а офицеров – братьями. Доехав до головной части войск, Верховный спешился и, пропустив мимо себя все войсковые части, начал пропускать каждую повозку с ранеными, сам следя и спрашивая их, удобно и тепло ли им, и т. д. Все, что было лишнее в этих повозках, Верховный приказывал Долинскому и мне останавливать и сбрасывать с них. Пропустив все повозки, а их было около шестисот, он сел на коня и поехал крупной рысью.
По приезде в Хомутовскую Верховный пошел в управление. Меня генерал Романовский послал с офицером-квартирьером на квартиру, которая была отведена для Верховного и для нас.
– Хан, дорогой, приготовьте нам что-нибудь! – крикнул мне вслед генерал Романовский.
– Верховный будет жить здесь! – указал квартирьер на двухэтажный деревянный дом в центре станицы и сам поспешно куда-то уехал.
Слезши с коня, я вошел в дом, где встретился с пьяным хозяином-казаком. Поздоровавшись с ним и хозяйкой дома, я попросил их приготовить обед на четыре человека. Хозяйка сейчас же принялась за работу. Фока поставил самовар.
– Ну, брат, таперича давай поговорим с тобой! – обратился ко мне хозяин, когда я, сделав распоряжения относительно лошадей, вошел в дом. – Кто и что ты есть? Зачем ты пришел сюда непрошенно! Я, хозяин дома, не желаю Корнилова! Слышь? К черту!.. Не жа-ла-ю! Баба, слышь, не жа-ла-ю! Что ты там возишься? Иди сюды! – кричал он жене, размахивая шашкой и отрывая ее от работы.
– Пошел, дурень!.. Зараза!.. Напился, как свинья, и не знаешь, что болтаешь. Пожалуйста, не обижайтесь на него и не обращайте ваше внимание! Он сегодня подгулял, – говорила хозяйка.
– Я подгулял сегодня по случаю приезда в нашу станицу Корнилова! – кричал хозяин, продолжая размахивать шашкой.
Втроем, т. е. хозяйка я и Фока, обезоружили хозяина, завязали полотенцами ему руки назад и уложили на кровать.
– Ляжи, дьявол, а то и рот завяжу! Фу, дурень! Пущай поляжит! Через час он опять будет хороший казак. Не раз уж он так-то ляжал у меня! Как только напьется, я немедля его таким манером в кровать, он и ляжит, как дитя, – говорила хозяйка, утирая нос концом своего передника.
– Как же вы с ним одни-то справляетесь? – спросил я, поражаясь.
– Что же мудренаго! – смеялась молодая и здоровая казачка, возвращаясь в кухню к прерванной работе.
Глядя на пьяного казака, у меня мелькнула мысль, что быть может, большевики нарочно напоили его, чтобы он в пьяном виде причинил какой-нибудь вред Верховному. И зачем квартирьер, отведя квартиру в доме этого казака, сообщил ему, что здесь остановится Верховный, беспокоился я. Под предлогом дать корма для лошадей, с разрешения хозяйки, я послал Фоку обшарить сеновал и чердак – не найдет ли он там что-нибудь. Не прошло и десяти минут, как возвратился Фока и доложил:
– Нема ничего, Ваше благородие!
После сказанного «нема» я совершенно успокоился, так как зная хорошо своего Фоку, я знал, что «нема» значит действительно – «нема».
Было около пяти часов вечера, когда Верховный, генерал Романовский, Долинский и я сидели за столом и пили чай. Было тепло и уютно. Самовар мирно шипел на столе. Верховный был очень доволен гостеприимством хозяйки.Вдруг меня вызвал дежурный офицер конвоя. Выйдя в соседнюю комнату, я увидел в ней Федора Исаевича Баткина, попросившего меня доложить о нем Верховному. Он имел очень взволнованный вид и трясся, как лист, как от волнения, так и от холода, ибо был в одной старой и тоненькой рваной тужурке. Я доложил о нем Верховному, и он приказал Баткину войти.
– Ваше Высокопревосходительство, вчера ночью меня хотели убить офицеры из винтовки. Гвардейцы ненавидят демократический элемент в армии, а меня тем более. Они все время издеваются над моей личностью и над евреями вообще. Они довели меня до такого состояния, что я принужден обратиться к вам, зная заранее, что вы не позволите проделывать подобное безобразие в командуемой вами армии! – говорил взволнованный Баткин.
– Вы слышите, Иван Павлович? – спросил Верховный, обращаясь к генералу Романовскому, сурово глядя на него. – Пожалуйста, Иван Павлович, примите это ко вниманию и сегодня же доведите до сведения господ гвардейцев, чтобы они немедленно прекратили свои мальчишеские выходки. Пока они служат в моей армии, они должны думать только о Родине, а не вносить в армию устаревшие дикие привычки. Пока я командую армией, я не допущу, чтобы в ней издевались над чьей-нибудь личностью, будь то еврей, армянин или мусульманин, не говоря уже об издевательстве над нацией. Эти все господа гвардейцы, ставленники генерала Алексеева! Черт знает что за безобразие! Пожалуйста, Иван Павлович, примите строжайшие меры для прекращения всего этого. Я же, если еще раз услышу от кого-нибудь о подобном безобразии, прикажу немедленно виновника расстрелять, будь то мой родной сын! В моей армии имеет право быть каждый, кто бы он ни был по национальности. Каждый честный человек, дерущийся в рядах армии против врагов России, – ее сын, и он мне дорог. Хан, поручаю вам Баткина. Он – ваш гость! – приказал мне Верховный.
С этого дня и до 3 апреля Баткин находился при мне и был на положении гостя.
Хомутовская
15 февраля 1918 года.
«Та-та-та!» – началась внезапно ружейная и пулеметная трескотня рано утром, когда я в комнате, соседней с нашей общей, совершал свой намаз. Верховный, Долинский и я спали в одной комнате.
– Хан, Хан! – послышался голос Верховного.
Не получив от меня ответа, он вошел в соседнюю комнату и, увидя, что я молюсь, возвратился к себе и начал одеваться. Несколько минут спустя прибывший офицер передал мне о наступлении большевиков. Я доложил об этом Верховному, успевшему уже одеться.
– Хорошо, я сейчас иду! Вы и Долинский будете при мне! – сказал он, быстро выходя из дома, со своей неизменной палкой.
– Фока, передай конвою, чтобы он последовал за нами! – крикнул я, взяв бинокль, и побежал за Верховным,
– Стой! Кто вы такие и куда скачете?! – спросил Верховный, остановив несшихся по деревне каких-то всадников.
– Ваше Высокопревосходительство, большевики наступают! – взволнованно ответили всадники.
– Ну и что же из того, что наступают?! Поэтому надо разводить панику?! Убирайтесь сейчас же по своим местам! – сурово погнал их Верховный.
Мы направились в ту сторону, откуда слышалась пальба, и скоро были на окраине деревни.
«Пью»!.. – протяжно пропел и затем разорвался снаряд в сажени расстояния от Верховного, сделав аршина в полтора воронку и подбросив высоко снег с мерзлой землей.
– Ах, у этих негодяев есть пушки! Ну, да это не беда! Мы их сейчас!.. – сказал Верховный, не отрываясь от поданного мною бинокля.
Верховный стоял на дороге у избы. К нему подошел генерал Казанович с вопросом: «Серьезно ли это?»
– Нет! – улыбнулся Верховный – Там болтается какая-то конница. Я пошлю туда сейчас Неженцева… Вы видите, эта жиденькая цепь, имея две горных пушонки, вздумала нас попугать и послала гранаты на сонных людей, чтобы развести панику! Хан, пошлите ко мне генерала Романовского. Если увидите кого-нибудь с донесением, также посылайте сюда! – приказал мне Верховный.
Я побежал в деревню разыскивать ген. Романовского. По дороге, в обозе, я встретил двух полувоенных типов, громко разговаривавших:
– Иван Феодорович! Как это так прозевали? – спрашивал первый.
– Как прозевали? Проспали, да и баста! – ответил Иван Федорович.
– Как же теперь быть?! Ведь товарищи нас могут забрать голыми руками! Успеют ли наши дать отпор? – волновался первый.
– Право, не знаю! А вот, кстати, идет адъютант командующего. Молодой человек, молодой человек! Пожалуйте на минуточку сюда! – звал меня Иван Федорович, беспечно опираясь на карабин со взведённым курком, не думая вовсе о том, что при одном неосторожном движении голова его может быть прострелена.
Я подошел к ним.
– Молодой человек! Подпоручик! Пожалуйста, скажите нам, что случилось? Говорят, нас окружают! Где Корнилов? – с тревогой спрашивали меня оба собеседника.
Узнав, что Верховный на позиции, они успокоились, и Иван Феодорович даже начал шутить с подошедшим к ним новым лицом.
– Как вам нравится утренняя музыка товарищей? Я думаю, что вы не особенно довольны, что прервали ваш сладкий сон?
На вопрос новоприбывшего, где генерал Корнилов и не опасно ли положение, Иван Федорович, приняв важный вид, отвечал:
– Генерал Корнилов сам повел войска в атаку на товарищей. Это нам сейчас передал его адъютант, – не стесняясь моим присутствием, сфантазировал Иван Федорович. – Что там с ними церемониться. Мы этих мерзавцев в два счета – того! – ораторствовал он дальше.
– Слишком много чести было бы для этой дряни, если бы генерал Корнилов повел в атаку против них войска. Достаточно с них и полковника Неженцева! – слышал я, уходя, спокойный голос раненого офицера, до сих пор молча слушавшего разговаривавших.
Встретив шедшего по улице генерала Романовского и передав ему, что Верховный просит его, я с ним вернулся обратно.
– Иван Павлович, вы видите этот бугор? Вот там кончается их фланг. Их здесь не больше двух эскадронов при двух горных пушках. Направьте-ка Неженцева во фланг, а чехов в лоб, и через полчаса все будет ликвидировано! Эти негодяи просто захотели попугать сонных! Здесь серьезного ничего нет! – говорил Верховный генералу Романовскому, не отрываясь от бинокля.
– Слушаюсь, Ваше Превосходительство, слушаюсь! – ответил генерал Романовский, стоя рядом с Верховным и глядя в ту сторону, куда указывал рукой Верховный.
– Хан, передайте генералу Эльснеру, чтобы обоз без паники и в строжайшем порядке сию же минуту вышел из деревни! – приказал Верховный, как только генерал Романовский пошел в деревню, чтобы исполнить данное ему приказание.
Я нагнал генерала Романовского.
– Дорогой Хан, в таких случаях вы извещайте меня, куда уходит командующий из дома. Я сегодня утром искал его и не мог найти, – говорил мне генерал Романовский по дороге.
Придя в деревню, я увидел обоз в страшном хаосе: мужики-возчики при первом выстреле почти все разбежались. Люди метались, ища их. Несколько сот повозок, некоторые в запряжке, были скучены в одно место. Из хат выносили поспешно раненых. Крики, ругань, беготня создавали неприятную обстановку. Беспорядок и паника, разводимые здоровыми людьми, нервировали раненых. Я никак не мог отыскать генерала Эльснера, в ведении которого находился обоз.
– Да вот он стоит, – сердито указал мне какой-то полувоенный в серой шинели на маленькую фигуру, облаченную в пальто не то обезьяньего, не то собачьего меха и такую же шапку.
Мне показалось, что указавший господин шутит, называя эту маленькую фигуру, которую я принял за двенадцатилетнего мальчика, генералом Эльснером, и на высказанное сомнение я услышал настойчивое утверждение полуштатского, укладывавшего раненого в повозку:
– Да нет же, это генерал Эльснер!
Подойдя к маленькой фигуре, я убедился, что это была правда. Закутавшись в свой мех, надвинув шапку на глаза и спрятав руки в карманы, генерал Эльснер стоял на площади и трясся от холода, давая распоряжения. Я подошел ближе, поздоровался и передал приказание Верховного.
– Как в порядке? Без паники вывести обоз отсюда?! Пусть Корнилов придет и сам выведет! Я ничего сделать не могу. Видите, Хан, сами, что делается кругом?! – говорил он мне и, не докончив разговора, набросился на приведенного возчика-мужика со словами:
– Что такое? Расстреляю!.. Чтобы сию же минуту были лошади найдены!
– Де же я возьму их, когда я видел, что на моих лошадях ускакали какие-то охфицера!
– Рас-стре-ляю! Чтобы сию же минуту были лошади! Вот сейчас пришло приказание от командующего, чтобы сейчас же вывести обоз из деревни! – кричал генерал Эльснер, пряча поглубже в карманы свои руки.
В это время со свистом пролетел снаряд. Генерал Эльснер, согнув свою маленькую фигуру и глядя на небо, прокричал мне:
– Хан, видите сами, какая здесь обстановка? Разве с этой дрянью что-нибудь можно сделать? Командующему хорошо приказывать! – с этими словами он куда-то бросился.
Я ушел к Верховному, который все еще находился на старом месте. Около него были полковники Барцевич, Патронов, Трухачев, Говоров и др.
Через час приблизительно из деревни мимо нас начал проходить обоз. Верховный, увидя впереди фигуру генерала Эльснера, ехавшую рысью, и не узнав его, крикнул:
– Куда вы?! Куда вы?! Стойте! Кто вы такой?
Генерал Эльснер подъехал к Верховному. Здороваясь и извиняясь за то, что не узнал, Верховный спросил, почему он спешит.
– Ваше Превосходительство, ужасная паника стоит среди возчиков, раненых, и я решил…
– Никакой паники я здесь не вижу! Вы сами, господа, создаете ее! Вот вы, например, Евгений Феликсович, куда скачете, разводя панику? Господа, ведь так же нельзя! Если вы держите себя так, то что же можно требовать от ваших подчиненных? Сию же минуту остановите обоз и приведите его в порядок. Двигайтесь в порядке и, пожалуйста, не рысите! Не забывайте же, что у вас в обозе раненые! – говорил Верховный.
Пропуская обоз мимо себя, Верховный спрашивал раненых об их здоровье, сделали ли им за ночь перевязки, удобно ли им в повозке и положено ли сено под них.
«Ба-бах – бах!» – разорвались два снаряда недалеко от Верховного. Один из них, попав в проходившую повозку, убил раненого офицера и слегка контузил его жену, ехавшую в качестве сестры милосердия.
Находившиеся в хвосте обоза раненые, узнав о том, что Верховный здесь и осматривает сам повозки, – несмотря на холод и опасность, – спокойно продолжали лежать в своих повозках, как если бы они находились в госпитале.
«Та-та-та! Пью-пью!» – трещал где-то пулемет и визжали пули.
– Это наши пулеметы? – спросил Верховный.
– Никак нет, Ваше Превосходительство! – ответил тут же стоявший Долинский.
– Вот видите, как беспорядочно летят пули, направленные в обоз. Значит, скоро товарищи прекратят свои шалости! – говорил Верховный, обращаясь к присутствующим.
Послышался близко треск из пулеметов.
– Ваше Превосходительство, чехи подошли, и наш пулемет начал работать, – доложил генерал Романовский.
– Да, да, я вижу. Так их… так! Вот, у них кто-то упал с лошади, – говорил Верховный, не отрываясь от бинокля.
Через пятнадцать минут после этого бой был закончен, и большевики удрали.
От Хомутовской до Кагальницкой мы прошли благополучно. В Кагальницкой станице между Верховным и мною произошел следующий инцидент.
Принимая донесение от приехавшего казака, Верховный, стоя на крыльце дома, заметил, что у туркмен-часовых карабины, и резко сказал мне:
– Хан, почему туркмены до сих пор не обменяли свои карабины на винтовки? Посмотрите на эту барышню, – указал он на доброволицу-гимназистку Языкову из команды связи, – она с трудом несет винтовку в два раза больше ее самой, в то время как огромные детины до сих пор носятся с карабинами. Я вам приказал обменять карабины конвоя на винтовки еще при выходе из Ростова. Почему это не исполнено? Если еще раз повторится такое отношение к делу, то я вас отправлю в строй!
– Ваше Высокопревосходительство, во-первых, Вы не изволили отдавать мне такого приказания, а во-вторых, Ваша угроза меня ничуть не пугает, так как мы с вами и так находимся в строю, – ответил я.
– Довольно, Хан! – резко прервал он меня.
После этого незаслуженного выговора, ибо я никогда не получал приказания о перемене джигитами карабинов на винтовки, я решил оставить службу у Верховного и уйти в конвой, а затем в один из полков.
Услышав об этом, ротмистр Арон вспомнил, что приказание о замене карабинов Верховный отдал ему, но он забыл его исполнить, и начал просить меня, чтобы я возвратился к Верховному. Ротмистр Арон извинился передо мной, но сознаться Верховному в своем проступке побоялся.
В шесть часов вечера, перед обедом, прибежал в конвойную команду Долинский и передал мне приказание Верховного явиться к нему. Я отправился. В столовой в ожидании обеда сидели генералы Деникин и Романовский. Верховный встретил меня следующими словами:
– Хан, я знаю, что вас незаслуженно обидел. Пожалуйста, простите меня. Вы знаете мое отношение к вам как к сыну!
– Ваше Высокопревосходительство, Вы тоже меня извините за мою резкость. Не виноват я, что отец учил меня говорить правду в глаза даже царям, не боясь их гнева.
– Знаю, знаю вас, Хан! Итак, мир! Давайте есть, – сказал Верховный ласково.
В это время кто-то прибыл к Верховному, и он вышел в соседнюю комнату.
– Как вам не стыдно, Хан. Находясь в такой обстановке, вместо того чтобы поддержать его, вы причиняете ему неприятности! – сказал генерал Деникин.
Услышав это замечание генерала Деникина, я ничуть на него не обиделся, так как ему, вероятно, не было известно отношение Верховного ко мне как сыну. А между отцом и сыном всегда происходят подобные вещи, несмотря ни на какие обстановки.
От Егорлыцкой до Лежанки
19 февраля 1918 года.
От Хомутовской до Егорлыцкой станицы мы нигде больше не ввязывались в бой с большевиками. Приходя в каждую станицу, генерал Корнилов приказывал собирать жителей в станичное управление, где он, генерал Алексеев и Баткин говорили речи, знакомя жителей с целями Добровольческой армии. Узнав об этом, большевики, не теряя времени, начали распускать среди населения станиц, через которые мы должны были пройти, слухи о том, что Корнилов со своей шайкой разрушает церкви, убивает женщин и ест детей, т. е., говоря короче, большевики применили тот же прием, что и во время перехода нашего из Быхова на Дон.
Чтобы узнать, правду ли говорят большевики, из Лежанки в Егорлыцкую приехали два человека. Позвав их к себе, Верховный объяснил цели Добровольческой армии и сказал:
– Передайте вашим станичникам, что все слухи, распускаемые большевиками обо мне, как и о моей армии, неверны, в чем вы убедитесь сами. Я хочу пройти через Лежанку мирно и прошу жителей, чтобы они сидели и не рыпались, чтобы все отпускали для моей армии, в чем она будет нуждаться, за что жителям все будет уплачено с благодарностью. Если же по моей армии будет произведен хоть один выстрел, то я поступлю с виновниками, как с разбойниками. Вот это передайте жителям Лежанки! – закончил Верховный, отпуская прибывших домой, и послал с ними двух казаков Егорлыцкой станицы.
Вернувшиеся к вечеру казаки Егорлыцкой станицы доложили Верховному следующее:
– Господин генерал, жители Лежанки против вас выступать не желают, но находящиеся там войсковые части 39-й пехотной дивизии не желают даже слышать о мирном проходе вашей армии через станицу. Они говорили: «Нет, товарищи, будем воевать с этой сволочью. Что нам бояться кадетни – молокососов! Если бы Корнилов нас не боялся, то не посылал бы к нам делегатов с просьбой пропустить его армию!» – закончили свой доклад возвратившиеся.
– Ну что же, попробуем! – проговорил Верховный, отпустив казаков.
Было ясное солнечное утро 21 февраля, когда мы выступили из Егорлыцкой! Грязь в степи начала высыхать от теплого ветра. Птички чирикали, то и дело перелетая через нашу дорогу. Войска шли бодро и дружно распевали песни. Пропустив обоз и узнав о состоянии раненых, Верховный обогнал войска и, здороваясь с ними на ходу, подъехал к генералу Маркову, шедшему со своим полком в авангарде. Здесь он слез с лошади и, как всегда, сдав ее вестовому Дронову, отправил в конвой, который тут же шел пешком. Разговаривая с офицерами батальона и их командиром генералом Марковым, Верховный смешил их своими рассказами. Все шли, смеясь, и были веселы. Продолжительное «пи-ю-у», а потом – «бах» – нарушили интересную беседу Верховного с офицерами. Снаряд-шрапнель разорвался высоко-высоко. По-видимому, товарищи заметили наш авангард.
– Хан, бинокль! – приказал Верховный.
Пока я вытаскивал из футляра бинокль, Верховный приказал генералу Маркову остановить войска. Получив бинокль, он стал в него смотреть, а генерал Марков обходил офицеров и шутил – у него всегда было в запасе острое или смешное словечко:
– Видно, товарищи захотели потешиться с нами? Ну, давайте, товарищи, давайте поиграем, коли на то пошло, – говорил генерал Марков, запуская свой маленький стек за воротник рубашки и, почесывая спину, продолжал: – Внутренний и внешний большевик одинаково сосет нашу кровушку. Ну что же?! Почешем, товарищи, что ли?! – обратился он к офицерам, делая гримасу.
Офицеры хохотали, не обращая никакого внимания на разрывы шрапнелей.
– Ведь этак вот негодяи, вызовут нас на игру, такими-то манерами, а как только мы подойдем, так они сейчас давай деру, не доведя игры до конца! Вот как, – у них даже хлопушки есть! Язви им! – говорил генерал Марков, вызывая еще больший смех. – Тише, тише, господа, товарищи могут принять ваш смех как непочтение к их салютам! – успокаивал он офицеров.
А Верховный тем временем, сев на лошадь, в сопровождении своего конвоя двинулся вперед. Подъехав к лежавшему перед самой Лежанкой бугру, он оставил конвой и лошадей, а сам, по совершенно открытому полю, пошел вперед, не обращая внимания на пулеметный и ружейный огонь. Генерал Романовский, Долинский и я пошли за ним.
«Пью, пью! Пью!» – пролетали пули товарищей над нашими головами. Они стреляли по разворачивавшимся в боевой порядок войскам. Верховный, остановившись на совершенно открытом месте, в поле, начал смотреть в бинокль.
– Иван Павлович, вы видите церковь и кирпичный завод. Начиная от церкви и до кирпичного завода у них одна тоненькая цепь. В кирпичном же заводе – главное скопление сил. Прикажите Маркову идти сюда, – указал Верховный направление от церкви на мост. – Корниловскому полку вправо, в обход, а Глазенапа бросьте в обход на левый фланг, чтобы он отрезал им отступление. Авось, удастся ему захватить эти горные орудия, из которых они стреляют по нам. Пушки очень пригодились бы нам! – приказал Верховный генералу Романовскому, с математической точностью вымерив фронт.
– Господа, держите дула повыше! Не открывайте, ради Бога, огонь раньше, чем подойдете на самое близкое расстояние. Берегите патроны, у нас их мало. Товарищи стреляют беспорядочно. Я уверен, что банда убежит раньше, чем вы успеете подойти! – кричал Верховный офицерам, шедшим мимо него в бой.
Войска шли в бой с веселыми лицами и гордо поднятыми головами, как будто им навстречу летели не пули, несущие смерть, а рой безобидных жуков. Верховный любовался, глядя на них.
– Ваше Превосходительство, почему вы думаете, что скопление сил большевиков находится на кирпичном заводе, а не здесь? По моему, их скопление перед нами, так как отсюда летит масса пуль, – спрашивал Верховного генерал Романовский, указывая направление перед нами, куда шли марковцы.
– Нет, ваше предположение неправильно. Они всегда выбирают такие пункты, из которых можно было бы легко отступить при сильном нажиме с нашей стороны. Вы видите, сзади завода находится большая дорога, ведущая на Белую Глину. Товарищи собрались сейчас там и при первой же опасности быстро отступят по этой дороге, – объяснил Верховный.
– Так точно, Ваше Превосходительство. Я теперь замечаю, там действительно большое оживление, – произнес генерал Романовский, глядя в бинокль, предложенный ему Верховным.
Недалеко от Верховного быстро заняла позицию батарея поручика Миончинского.
– Поручик, вы видите, где находится их батарея? Вот там, у церкви. Пошлите туда не больше трех-четырех снарядов. Пожалуйста, господа, снаряды берегите для этого места! – говорил Верховный артиллеристам-юнкерам, указывая на кирпичный завод.
Грянул первый выстрел нашей батареи.
– Перелет! – произнес Верховный, глядя в бинокль.
– Так, хорошо! Достаточно! – приказал Верховный после третьего выстрела, направленного по большевицкой батарее, которая сейчас же замолчала.
– Ну, теперь направьте орудие на завод! Дайте два-три выстрела! – приказал Верховный. – Шрапнель!.. Граната на удар!.. Так, так! Еще шрапнель! – командовал он, глядя в бинокль.
– А ведь действительно, Ваше Превосходительство, товарищи скопились там! Совершенно ясно видно, как они снялись оттуда, – говорил генерал Романовский, видя в бинокль, как товарищи мечутся под нашим огнем.
«Та-та-та!» – заработал наш пулемет. «Ура!» – раздался крик офицеров, бросившихся вперед. Кто через мост, а кто прямо в реку, переходя ее по горло в ледяной воде.
Не прошло и четверти часа после криков «ура!», как Верховный, сказав: «Идемте вперед!», двинулся по направлению станицы.
– Пока мы дойдем до станицы, она будет взята, – говорил он по дороге.
Офицеры, ворвавшись в станицу под огнем большевиков, почти в упор расстреливали бегущих товарищей.
– Ваше Высокопревосходительство! Генерал Марков приказал доложить, что Лежанка за нами! – доложил прискакавший офицер.
– Да мы идем туда! Где генерал Марков? – спросил Верховный офицера, приехавшего с донесением.
Верховный в сопровождении генерала Романовского, полковников Трухачева, Барцевича, Говорова, Патронова и Сальникова, Долинского и меня дошел до моста, где стоял весь в грязи генерал Марков.
– Ваше Превосходительство, я, оказывается, немного поспешил со своим донесением, так как товарищи еще задержались и в Лежанке идет бой! – доложил генерал Марков, желая удержать Верховного, но тот продолжал совершенно спокойно идти вперед, сказав:
– Офицеры сейчас их выгонят!
Видя, что Верховного ничем не удержишь, генерал Марков пошел, разговаривая рядом с ним.
– Нам достались два пулемета и патроны! – указал генерал Марков на брошенную товарищами позицию.
Мы вошли в станицу. Бабы метались из стороны в сторону, крича, плача и перелетая, как куры, неожиданно выгнанные из гнезда.
– Товарищи, спасайтесь кто может, кадетня окружает! – прокричал какой-то солдат, которого тут же прикончили вошедшие за офицерским батальоном чехи.
На улице лежали два немца с распоротыми животами, корчась в агонии. Перепуганные животные с мычанием метались по станице. Уличный бой продолжался не больше получаса. Войдя в станицу, Верховный направился к мельнице, чтобы оттуда наблюдать за боем. Конвой расположился тут же. Видя, что товарищи мечутся под огнем нашей батареи, Верховный, охваченный азартом охотника, крикнул:
– Конвой, в атаку! Хан, примите флаг!
Конвой ринулся в гущу большевиков, и началась рубка. Мы со сжатым сердцем наблюдали за боем.
– Хан, пожалуйста, поищите штаб и скажите, что я здесь! – приказал мне Верховный разыскать штаб, который Бог ведает где находился в это время.
Бой начал затихать. В поиске штаба я наткнулся на группу офицеров во главе с генералом Алексеевым, окружившую каких-то трех лиц в солдатских полушубках, которые от страха еле держались на ногах, увидя распаленные ожесточением лица чехов во главе с полковником Кралем, требовавших их расстрела.
– Вы офицеры? – спросил их генерал Алексеев.
Не успел один из них ответить утвердительно, как штаб-ротмистр Алексеев с размаху ударил его по щеке.
– Оставь! – резко приказал генерал Алексеев своему сыну и продолжал расспрашивать пленных и делать им отеческое внушение.
– Стыдно, вам, офицерам, поступать в ряды большевиков и идти против своих же братьев-офицеров, – говорил генерал Алексеев.
– Ваше Высокопревосходительство, мы служили у большевиков не по собственному желанию, нас мобилизовали. Против вас мы не шли. Вы заметили, что снаряды, посылаемые нами, были или перелет, или недолет! – ответил один из них, артиллерист.
– Расстрелять их, расстрелять! Они сказки нам рассказывают! – кричали возбужденные чехи с налитыми кровью глазами.
– Нет! Ведите их в штаб и доложите о них генералу Корнилову! – приказал гененерал Алексеев.
«Трах!» – услышал я залп из одного двора, возвращаясь обратно на мельницу. Войдя во двор, я увидел следующую картину: чехи, захватив около сорока человек разношерстно одетых людей и поставив их к забору по десять человек, расстреливали их. Первая партия, упавшая на землю после залпа, корчилась в предсмертных судорогах. Чехи, не обращая внимания на умирающих, на их место гнали следующую партию. Эта картина расстрела без суда и следствия меня возмутила. Мелькнувшая мысль, что, может быть, среди этих жертв находятся невинные, заставила меня бежать к мельнице. Сообщив о месте нахождения штаба, я доложил Верховному, что чехи пачками расстреливают людей.
– Им, как иностранцам, безразлично, чью кровь они прольют, но если среди них есть невинные люди, то кровь их ляжет пятном на армию и Великий Аллах нам не простит этого! – сорвалось у меня с языка.
– Хан, сию же минуту прикажите прекратить всякие расстрелы! – приказал Верховный, выслушав меня.
Вбежав во двор, я увидел, что чехи ставят к забору последнюю партию.
– Приостановить расстрелы! – крикнул я чехам и объяснил им, недовольным, о приказании Верховного.
– Зачем генерал Корнилов жалеет эту сволочь? Ведь они с немцами после пойдут на нашу землю – Чехию! – произнес один из чехов.
– А вы что же думаете? Перестреляв всех русских, забрать всю Россию в свои руки? – спокойно произнес один из приставленных к забору.
Взбешенный чех схватился опять за винтовку, но я остановил его словами, что он будет сам расстрелян за неисполнение приказания командующего.
– Оставь, не болтай ты, дурак! – дернул говорившего за рукав другой из приговоренных.
– Как у большевиков, так и у Корнилова расстреливают русских иностранцы! – качая головой, вздохнув, произнес один пожилой мужик из числа обреченных, выходя из двора.
В этот же день по приказанию Верховного был учрежден военно-полевой суд, который после тщательного и осторожного расследования выносил приговор виновным. Перед судом трех офицеров ко мне прибежала жена одного из них, капитана-артиллериста, и со слезами на глазах просила моей помощи.
– Меня прислали к вам, как к самому близкому человеку генерала Корнилова. Именем Бога заклинаю вас передать ему, что мой муж никогда не был большевиком, он бежал в вашу армию, но большевики, поймав его, силой заставили работать у них. Батюшка может подтвердить мои слова! – рыдая, говорила она.
Я успокоил ее и обещал довести до сведения Верховного о ее просьбе. Мы жили в доме священника.
За ужином, улучшив минуту, я передал Верховному о просьбе жены капитана. Он, выслушав меня, позвал на суд батюшку, который подтвердил слова жены капитана, после чего три арестованных офицера были освобождены.
– Да, много крови пролилось сегодня! – вздохнул Верховный, сидя за чаем у батюшки. – Хорошо, Хан, и спасибо вам, что вы предупредили меня вовремя об этих расстрелах, а то чехи перестреляли бы всю станицу. Знаете, ведь они очень злы на большевиков, как на ставленников немцев! – говорил он, повернувшись к батюшке, расстроенный дневным кошмаром.
– Жители станицы против вас ничего не имели и хотели пропустить вашу армию, но негодяи комитетчики сбили с толку народ своей болтовней! – говорил батюшка.
– Да, жаль мне этих обманутых дураков. Ведь иначе с ними поступить нельзя было, так как они не понимают простых слов. Несмотря на то, что я противник всяких переговоров да разговоров в такое время, да еще с солдатами, я послал к ним людей с предупреждением, что не трону их, если они не тронут меня. И вместо того чтобы остаться мирными, они вот что выкинули! – заметил Верховный.
В Лежанке армии дана была дневка. Здесь же должны были похоронить первые жертвы, погибшие при вступлении в кубанские земли. Пользуясь тем, что в этот день при Верховном дежурным был Виктор Иванович, я вышел на часок, чтобы пройтись по станице.
Было пасмурное утро. Сначала моросил небольшой дождь, но потом небо совершенно прояснилось. Я отправился на площадь, к месту, где вчера стояла батарея большевиков, которую они успели увезти с собой. Недалеко от церкви ниц, как бы обнимая землю, лежал здоровый детина с раздробленной головой. Карманы его брюк кем-то были выворочены. Сапоги и шинель также отсутствовали. Он, очевидно, был артиллеристом и убит нашим метким снарядом. Вокруг него лежало много гильз от снарядов, и рыхлая земля была точно вспахана глубокими колеями колес, очевидно орудийных.
– Больно метко стреляют ваши. После первого выстрела товарищи не выдержали и давай драть, – произнес подъехавший к трупу мужик, а затем, подняв за волосы голову и взглянув в лицо, продолжал: – Это не наш, чужой. Так им и надо! Они с жиру у нас бесились! Хорошо, таперича отдых от них нам будет! – закончил мужик, укладывая труп в телегу.
Я пошел дальше. Мое внимание привлек рыдающий и причитывающий женский голос:
– Родное дитя мое! За что это тебя так?! За что?! На кого ты оставил свою старуху-мать?! – рыдая, причитывала пожилая женщина, обнимая распростертый на земле труп.
Этот труп был молодого человека с красивым лицом. Слегка покрасневшие стеклянные глаза смотрели прямо перед собой. На приоткрытых губах запеклась кровь. Рубашка на груди с засохшей кровью шевелилась от ветра. От него же также шевелились русые волосы на голове. Мужик, подобрав труп большевика у церкви, подъехал со своей телегой к старухе.
– Агрипина, за что это Андрюшу-то? Ведь он у тебя большевиком не был? – произнес мужик, снимая шапку и крестясь.
– Не знаю за что, Архипыч, не знаю! Он бежал к деду спрятаться от солдат, чтобы его не послали против Корнилова. А тут вот какие-то лица ему навстречу. «Стой! Куда бежишь, такой-сякой! Нá тебе!» – крикнул один, кольнув прямо в грудишку. Он повернулся, чтобы бежать ко мне, и закричал: «Мама, мама!», а другой этак ему пулю прямо в спину. Он и упал. Я кричу им: «Что вы делаете, ведь он у меня не большевик!», а они мне в ответ: «Все вы, такие-эдакие, теперь не большевики!» – ответила старуха, продолжая рыдать.
– Где же тут разбирать, Агрипина, кем был твой сынишка. На войне всего бывает. Бог им судья! – произнес мужик.
– Кто же войну-то хотел, да еще со своими? – зарыдала еще пуще старуха.
– Времена настали! Спаси, Господи, душу грешную! Брат на брата идет! – глубоко вздохнув и качая головой, произнес мужик.
– Мой Андрюша, вернувшись с войны, на винтовку не мог смотреть. «Тошно, мама, смотреть на нее после того, что я видел на войне, а против своих я ее в руки не возьму», – говорил он мне, – всхлипывая, продолжала старушка.
– Ну, что же делать? Подвели нас эти окаянные чужаки. За их разговоры сколько невинной крови-то пролилось! Нашего брата, неграмотного мужика, всякий обманывает и обижает! Бог им судья! Он все видит. Не плачь, Агрипина, все равно уж теперь не вернешь яво слезами. Давай-ка лучше я положу яво на телегу, да отвезу. Начальством приказано убрать все трупы с улицы и дворов.
– Нет, нет, сама его уберу и сама схороню. Не хочу, чтобы тело его лежало вместе с этими проклятыми! – указала она на труп лежавшего в телеге большевика.
С тяжелым чувством я ушел домой, а Андрюша продолжал лежать в ожидании, когда мать заберет его, и ветер шевелил его волосы. Вечером я делился впечатлением дня с Виктором Ивановичем.
– Нет, Хан, все это ужасно, но неважно. А кто меня бесит, так это наш генерал! Ведь сколько раз мы его просили, чтобы он разрешил нам купить лошадей вместо этих боровов, которых мы имеем. Ему, видишь ли, жалко денег, а вот в такие минуты, как вчера, он посылал тебя и меня на клячах в атаку! – прервал меня Долинский, злившийся на Верховного еще со вчерашнего дня и довольный наконец, что может излить свою злость.
Действительно, как мы узнали потом, Верховный хотел и нас послать с конвоем в атаку, но генерал Романовский удержал его, сказав, что лучше нас оставить при себе.
Березанская и Выселки
1 марта 1918 года.
От Лежанки до Березанской мы шли без боев. Под Березанской мы впервые столкнулись с кубанскими казаками-большевиками. К счастью, бой с ними был короток. Не успела наша армия развернуться, как большевики начали отступать в станицу. Верховный приказал командиру батареи послать несколько снарядов по отступающим, а сам, как всегда, пошел за атакующими войсками по направлению к станице. Не доходя до нее, мы увидели идущих к нам навстречу с белыми флагами представителей станицы. Верховный приказал прекратить огонь, и мы вошли в станицу. Верховный с генералом Романовским и со мною остановился на площади, и мы стали ожидать обоз. И только тогда, когда подошедший обоз был размещен по хатам, Верховный пошел к дому одного армянина-купца, у которого была отведена ему квартира.
Не успел Верховный раздеться, как явился комендант штаба Корвин-Круковской за приказанием, как поступить с казаками-большевиками, которых арестовали по указанию жителей станицы.
– Дайте старикам выпороть их! – ответил Верховный.
Еще начиная с Лежанки, Верховный обратил внимание на увеличивавшийся с каждым днем обоз. Перед выступлением из Лежанки Верховный, вызвав к себе генерала Эльснера, приказал ему следующее:
– Чтобы в обозе, кроме раненых, женщин и детей, не было никого, да и лишнего груза тоже. Обоз только для раненых, а не для «ртов». Обоз должен двигаться в таком порядке, в каком я указал, т. е. подвода за подводой должны идти на известном расстоянии, не приближаясь и не отставая. Не рысите! Помните, что у вас в обозе раненые и каждый толчок увеличивает их страдания!
И несмотря на данное приказание, он все же решил делать ежедневный осмотр обозу еще и лично. С этой целью он выезжал аккуратно в пять с половиной часов утра с места стоянки и, нагнав голову обоза, останавливал каждую из подвод, осматривал ее и пропускал вперед, указав известную дистанцию. Лишних людей, конечно военных, он бесцеремонно со строгим выговором высаживал и отправлял в распоряжение полковника Корвина-Круковского, коменданта штаба. Лишние же вещи, как бы ценны они ни были, Верховный безжалостно приказывал выбрасывать.
– Хан, вы осматривайте первую телегу, а Долинский вторую! – приказывал он нам, останавливая телеги парами и присутствуя лично при осмотре.
Раненых спрашивал, перевязали ли их перед выступлением, сыты ли они и удобно ли в повозке. Пропустив таким образом весь обоз, он садился на лошадь и, нагнав армию, делал и ей смотр. На такие осмотры ежедневно уходило от четырех до пяти часов. Будь снег, дождь или стужа, все равно Верховный производил осмотр обоза от пяти до девяти-десяти часов утра. В те же дни, когда в эти часы был бой, он осматривал обоз после боя, будь это день или ночь.
– Обоз – это самое больное место армии. Если он будет в порядке, то армии легко и она спокойно будет делать свое дело. Если я сам лично не буду смотреть за ним, он не будет идти в порядке и нарушит все движение! – говорил Верховный.
Таким образом, следя за боевыми действиями и за обозом сам, Верховный шаг за шагом вел нас вперед, и мы дошли до Журавского хутора, находившегося невдалеке от станции Выселки, которую, после короткого удара, взял Корниловский полк. После занятия Выселок Корниловский полк, оставив заслон из дивизиона гвардии полковника Гершельмана, сам продвинулся к хутору Малеваному. По уходе Корниловского полка полковник Гершельман сдал без боя Выселки большевикам, которые, быстро сосредоточив крупные силы, начали военные действия. Это известие как громом поразило Верховного. Он в это время сидел над картой, придумывая способы, как можно без крупных потерь взять завтра Кореновскую.
– Что? Гершельман самовольно оставил Выселки без боя?! Да как он смел? Позвать сейчас же его сюда ко мне! – приказал возмущенный до глубины души Верховный.
Надо заметить, что Гершельман этим поступком расстроил все планы Верховного и стал главной причиной гибели лучших сынов армии во время вторичного взятия Выселок.
В ту же ночь Верховный приказал генералу Богаевскому со своими партизанами ударить на Выселки и до утра ее захватить. Но это не удалось. И только на другой день, т. е. 3 марта, после кровопролитного боя, удалось захватить эту станцию вторично.
Когда полковник Гершельман явился по требованию Верховного, то последний набросился на него:
– Как вы смели отдать большевикам кровью завоеванную местность? Разве вы не думали о том, что вам грозит за это? Не расстреливаю вас за это преступление лишь потому, что принимаю во внимание прежние ваши заслуги в армии! Извольте сдать дивизион указанному мною лицу, а сами отправляйтесь куда хотите, но чтобы я вас больше не видел! – сурово приказал Верховный полковнику Гершельману, стоявшему перед ним со смертельно бледным лицом.
В эту ночь Верховный почти не спал, а на рассвете 3 марта генерал Романовский доложил ему, уже сидевшему над картой при свете огарков, о наступлении большевиков с Выселок.
– А, повели наступление? – переспросил спокойно Верховный и, отпустив генерала Романовского, поспешно начал одевать свою бекешу.
Зная привычки Верховного и думая все же напоить его чаем, я в это утро встал раньше и приготовил ему завтрак из двух яиц и стакана чаю.
– Нет, Хан, сейчас не до чая! Берите бинокль! Где моя палка? Идемте! – ответил Верховный, когда я ему предложил завтрак.
Быстро вскочив на ожидавшего булана и слегка тронув его бока шенкелями, Верховный крупной рысью поскакал к месту боя. Булан мчался вперед, неся на себе неподвижно сидевшего и сосредоточенно смотревшего перед собой Верховного. Чем ближе мы подъезжали к месту боя, тем яснее и яснее слышалась орудийная, пулеметная и ружейная стрельба. Заслышав вокруг себя знакомые звуки пуль, Верховный приказал конвою остановиться, а сам, спешившись, с Долинским и со мною пошел вперед. Генерала Романовского с нами почему-то не было, очевидно, он был занят отдаванием распоряжений и приказаний Верховного. Подойдя до передовой линии, находившейся перед самыми Выселками, он, не оборачиваясь, протянул руку назад и я, зная этот жест, быстро подал ему бинокль.
«Пью, пью, пью!» – пролетали кругом нас остроконечные пули. «Ж-ж-ж-ж!» – протяжно жужжа, пролетали мимо нас и шлепались сзади, взрывая землю, «гра». Несмотря на это, Верховный стоял и следил за полем боя в бинокль.
– Хан, потащи за полу шинели назад этого господина. Армия и так, слава Богу, знает, что он храбрый! Куда он лезет! – выходя из себя, говорил Виктор Иванович, указывая на Верховного, то открывая, то закрывая нервно глаза от беспрерывного жужжания пуль.
– Я сам, брат, об этом давно думаю, но он ни за что назад не пойдет, хоть отрежь ему голову! – вполголоса ответил я.
– Хан, знаешь, я боюсь, что он идет-идет вперед и вдруг обернется и крикнет: «Хан и Долинский, в атаку!» Хотел же он раз послать нас в атаку! Помнишь? – продолжал злиться и ворчать Виктор Иванович, идя бочком за Верховным навстречу летящим пулям.
Я шел рядом и читал про себя молитву. Наконец, выбрав позицию, Верховный остановился.
– Ложитесь, господа! Не увеличивайте цель! – приказал он нам, продолжая стоять.
Мы не заставили его повторять приказание и с удовольствием шлепнулись на землю. Рядом с нами лежали партизаны. Один из них стрелял очень редко, выпуская две-три пули каждые 15–20 минут. Я спросил о причине столь редкой стрельбы.
– Нет достаточно патронов. Осталось только пятнадцать штук! Берегу их до станицы! – ответил тот.
– Хорошо было бы, если бы Неженцев, не удаляясь далеко, пошел на большевиков в полоборота, так как у этих негодяев заканчивается фланг за тем бугром! – говорил Верховный нам, не выпуская бинокль и следя за боем и за движением корниловцев.
– Ваше Высокопревосходительство, конница большевиков показалась слева! – доложил прибывший с донесением офицер.
– Это неважно, она все равно сюда не доскачет! Доложите-ка лучше полковнику Краснянскому, чтобы он особенно не растягивал своих людей и взял бы направление на этот цементный завод! – сказал Верховный, отпуская офицера, и, обращаясь к нам, добавил: – Вот откуда идет сильный огонь! Как только покончим с этим заводом, сейчас же будет покончено и с Выселками!
Глаза лежащих в цепи бойцов были прикованы к своему пророку, и мне казалось, что присутствие здесь Верховного – залог победы и им ничего в мире не страшно. И Верховный тоже чувствовал это всегда и любил бывать под огнем со своими верующими учениками, не боясь смерти. В самом деле, надо только подумать, что из себя представляет один пророк без верующих учеников или верующие ученики без пророка.
– Ну, слава Богу, наконец-то Неженцев догадался! Теперь будет немного легче нашему левому флангу! – говорил Верховный, видя, что полковник Неженцев пошел в обход быстрым маршем.
Сказав это, Верховный под градом пуль пошел влево вдоль фронта, подбадривая лежащих в цепи своих учеников. Каждый из них хотел подняться, когда к нему приближался Верховный, но последний сурово приказывал этого не делать.
– Лежите, лежите, господа! – говорил он, проходя мимо, а сам внимательно следил за каждым из них. – А почему не поставлен прицел? И вы жарите без прицеливания? Вот тебе и стрелок! То-то большевики все убегают от нас. Поставьте, господа, на 800! – сказал Верховный, заметив у одного партизана не поставленный прицел.
Цементный завод был перед нами, точно на ладони. Оттуда летели тысячи пуль. Около часу дня войска пошли в атаку на завод. Увидя это, Верховный по насыпи железной дороги бросился к заводу. Вокруг нас падали убитые и раненые добровольцы. Тут же лежало много убитых и раненых большевиков, большею частью рабочих. Наконец войска ворвались на завод. Большевики бежали с молниеносной быстротой, бросая винтовки и раненых. Когда мы с Верховным подошли к заводу, то навстречу нам вывели рослого немца, бывшего пулеметчиком у большевиков.
– Вы кто такой? – спросил его Верховный по-немецки.
– Я – баварец! – ответил он.
– Зачем же вы вмешиваетесь в наши дела? – спросил его Верховный.
– Меня заставили большевики! – спокойно ответил немец, вертя трубку в руках.
– Заставить вас они никак не могли, если бы этого не хотели вы! Расстрелять! – крикнул Верховный, идя на завод.
– Ваше Высокопревосходительство, разрешите мне расстрелять его! Он отнял у меня сегодня двух братьев во время взятия завода! – просил Верховного четырнадцатилетний кадет.
– Хорошо! Но только не тратить много патронов! – приказал Верховный.
– Ой, ой! – раздался сзади душераздирающий крик.
Обернувшись, я увидел, что кадет всадил в спину немца штык, и когда тот с криком побежал вперед, кадет выстрелил ему в спину. За первым выстрелом последовал второй.
– Я же приказал не тратить патронов! Остановите его, Хан, довольно! – приказал Верховный.
– Я, господин корнет, один раз только выстрелил ему в спину. Второй выстрел был капитана! – ответил мне озверевший кадет, вонзая штык в грудь немца, который, обливаясь кровью, выпускал пену изо рта. Ударом приклада по черепу, от чего брызнули мозги, кадет покончил с немцем.
– Трубку я возьму себе, пригодится! – сказал малыш, вытирая окровавленный приклад о мундир убитого.
Кто-то стаскивал сапоги с еще не остывшего немца. Мы поднялись на завод.
– Посмотрите, Ваше Высокопревосходительство, что наделал один немец сегодня! – говорил офицер, показывая место, где стоял пулемет немца.
Во втором этаже из бочек цемента немец устроил неприступную крепость. Оттуда он в течение дня успел уничтожить много дорогих для нас жизней. Здесь лежали горы гильз, выпущенных им во время боя.
– Да, да, я заметил это сразу, потому и направил сюда всю силу. Надо быть немцем, чтобы выбрать такую великолепную позицию. Товарищи бы сами не сообразили! – говорил Верховный, спускаясь вниз и направляясь на станцию.
К нам привели еще двух немцев, которых Верховный без разговора приказал расстрелять.
– Ваше Высокопревосходительство, посмотрите, сколько успела армия накрошить сегодня товарищей! – проговорил офицер, указывая Верховному на два вагона трупов.
Трупы были сложены, как дрова и, очевидно, были приготовлены для отправки, но при поспешном бегстве товарищи их бросили.
– Да, основательно! – согласился Верховный, глядя на вагоны с трупами. – А ведь лучший материал с обеих сторон уничтожается! Как это жаль! – произнес Верховный, отойдя от вагонов и покачивая головой.
В этом бою у нас погибли лучшие начальники: начальник отряда полковник Краснянский, есаул Власов, батальонный командир офицерского полка Курочкин и был ранен есаул Лазарев. Около шестидесяти человек убитых с воинскими почестями, после отпевания, были похоронены в братской могиле на кладбище в станице Журавской. По приказанию Верховного на шею каждого убитого была надета дощечка с надписью его имени, фамилии, чина и где был убит. На похоронах присутствовал сам Верховный и генералы Алексеев и Романовский. Возвратясь с кладбища поздно вечером, Верховный застал в доме, где мы остановились, офицера, прибывшего за приказанием, что делать с ранеными большевиками.
– С ранеными мы не воюем! Послать им пищу. Если у врачей будет время, пусть сделают им перевязку! – приказал Верховный.
В двенадцать часов ночи было получено донесение, что большевики сосредотачивают крупные силы под Кореновской, куда мы должны были идти утром.
Часа в три утра Верховный, уже одетый, сидел над картой, когда я вошел к нему, чтобы предложить завтрак.
– Спасибо! С удовольствием, Хан! Прикажите конвою быть готовым. В четыре часа выступаем. Мне кажется, что сегодня бой будет серьезнее тех, которые мы видели до сих пор. Задержав нас здесь, под Выселками, большевики успели сосредоточить большие силы под Кореновской. Ах, как глупо мы потеряли вчера время! Ну, Хан, с нами Бог! Ничего! – сказал Верховный, крутя подбородок и глядя в окно.
Близился рассвет. Наступал день, от которого зависела наша дальнейшая судьба.
Кореновская
4 марта 1918 года.
– Что? 17 тысяч большевиков?! – переспросил Верховный, встретив по дороге офицера, приехавшего с донесением из Кореновской станицы, куда он был послан на разведку еще с вечера 3 марта.
Рассвет был пасмурный. Дул сильный холодный ветер. Люди ежились от утреннего холода и неохотно отвечали на вопросы соседей. Шли молча. В авангарде был полковник Боровский.
– Обозу остановиться за этим бугром, а войска пусть двигаются вперед! – приказал Верховный генералу Романовскому и, оборачиваясь ко мне, прибавил: – Прикажите конвою следовать за мной!
Когда до станицы оставалось верст 5–6, Верховный, шедший до сих пор пешком во главе колонны, приказал подать лошадей. Сев на лошадь, в сопровождении генерала Романовского, Долинского и меня, Верховный, проехав крупной рысью около получаса, поднялся на возвышенность, откуда Кореновская, лежавшая внизу, была видна как на ладони, и по этой возвышенности мы все ехали вперед. Когда до Кореновской оставалось не больше двух верст, оттуда послышался одиночный выстрел, как бы служивший сигналом для спящих в окопах товарищей.
– Стойте! Лошадей уберите назад, а трехцветный флаг поставьте здесь! – приказал Верховный, указывая место возле себя.
– Иван Павлович, видите тот бугор впереди станицы? Там расположена их позиция. Влево по направлению станицы пошлите полковника Неженцева и генерала Маркова, вправо – юнкеров!
Около десяти часов утра был двинут весь резерв, состоявший из партизанского полка и чехословацкой роты под командой генерала Богаевского для охвата позиции большевиков с западной стороны станицы.
– Господа, держите винтовки выше! Не забудьте поставить прицел! Не стреляйте, пока не увидите их близко! С вами Бог! – говорил Верховный, пропуская юнкеров в бой.
Юнкера шли в ногу, не сгибаясь.
«Какая красивая картина! Какое холодное презрение к смерти! Это возможно только, пока ты жив, пророк!» – думал я, глядя на эту дивную картину атаки.
Вот прошла первая жиденькая цепь, а за ней идет вторая. Когда она прошла от нас шагов сто, видно было, как начали то там, то сям падать убитые и раненые. Сперва мне казалось, что они спотыкаются и падают, а когда Верховный послал меня, чтобы помочь около них сестрам, то я убедился, что падавшие были или убитые, или раненые. Тут же при них шли две-три сестры, которые под градом пуль успевали делать перевязки одним и бежать к другим.
– Низкий поклон вам, дети! – сказал Верховный, когда я доложил, что там есть гимназистки, которые помогают делать перевязки.
Чем ближе юнкера приближались к большевикам, тем сильнее становился огонь пулеметов, орудий и винтовок. «Ба-бах!» – раздался разрыв снаряда шестидюймовки недалеко от Верховного. Не успел рассеяться дым, как упал вправо от нас другой снаряд.
– О, да у них даже шестидюймовка есть! – воскликнул генерал Романовский.
– Да, они, негодяи, бьют сейчас со станции. Когда туда подойдут Неженцев и Марков, то они этот огонь перенесут на них. Они еще на заметили идущих к ним! – сказал Верховный. – Иван Павлович, прикажите артиллерии сейчас же занять позицию, так как центр не может двигаться вперед! – приказал Верховный, обратив внимание на критическое положение юнкеров.
Батарея мгновенно заняла позицию и открыла огонь по месту, указанному Верховным, который, не отрываясь, следил за боем. В это время стоявший рядом генерал Романовский вдруг подпрыгнул, приподняв правую ногу.
– Вы, что, Иван Павлович, ранены? – спросил Верховный.
– Никак нет, Ваше Превосходительство, пуля пробила только каблук, – произнес тот.
– Ваше Высокопревосходительство, посмотрите, левый фланг большевиков поднялся! – обратил я внимание Верховного.
– Да, да поднялись, негодяи! Туда подходят Неженцев и Марков. Долинский, передайте командиру батареи: беглый огонь по ним! – приказал Верховный, не отрываясь от бинокля.
Большевики от нашего удачного огня в панике сначала метнулись назад, а потом на мгновение скучились, так как навстречу бегущим большевикам выехал кто-то, махая шашкой. После этого большевики опять скрылись за окопами.
– Митинг, Ваше Превосходительство! – сказал генерал Романовский.
– Еще огонь, еще! – приказывал Верховный командиру батареи знаком руки.
В это время наши части подошли вплотную к большевикам, и заработали винтовки и пулеметы. Заметив подход наших частей, большевики перенесли огонь из шестидюймовки на них. Туда же ими был послан и блиндированный поезд. Подбодренные этим начавшие уходить товарищи повернули назад, чтобы дать отпор приближавшимся гененералу Маркову и полковнику Неженцеву. Положение наступающих могло стать тяжелым. Верховный, все время следивший в бинокль за полем боя, вдруг сказал:
– Я не враг, разрушающий церкви, но нужно спасти верующих! Передайте, Хан, немедленно, чтобы командир батареи послал не больше как три-четыре снаряда по колокольне кореновской церкви. Там определенно сидит большевицкий наблюдатель!
После третьего снаряда, попавшего в колокольню, действительно была прекращена со станции меткая стрельба по наступающим генералу Маркову и полковнику Неженцеву. В это время пришло донесение о коннице, показавшейся в тылу.
– Передайте генералу Эльснеру, чтобы он защищал обоз всеми имеющимися у него средствами. Конница не такая опасная вещь, когда у генерала Эльснера есть два пулемета! – приказал Верховный.
Через некоторое время после этого из обоза начали «ползти» здоровые люди, ускользнувшие от зоркого глаза Верховного. Они не хотели защищать обоз, не хотели, если понадобилось бы, умереть в бою с генералом Эльснером вместе.
За холмом показалась тучная фигура генерала Деникина. Он сделал попытку увести с позиции Верховного, так собою рисковавшего, но последний и слушать не хотел об этом. Он понимал всю обстановку, но без этого нельзя!
– Вот видите, теперь центр отдохнул и двинулся вперед. Из орудий больше не стрелять, пока я не прикажу, так как у нас осталось мало снарядов! Хорошо было бы, если бы смогли получить их хоть немного у товарищей! – говорил Верховный, что-то записывая: в свою книжечку, очевидно, желая узнать, сколько еще снарядов имеет каждая батарея.
– Что-то у Богаевского не клеится, пойдем туда! – сказал Верховный, направляясь к правому флангу наших войск.
Появление Верховного подбодрило находившиеся здесь войска. Все поле перед нами вдруг ожило от поднявшихся людей. Возбужденные вниманием своего командующего, юнкера и партизаны стройными красивыми рядами пошли на большевиков.
– Ну-ка, Хан, передайте командиру батареи, чтобы он открыл огонь по тому бугру, который находится впереди юнкеров. Там товарищи что-то задержались. Надо их оттуда выбить поскорее, так как эти негодяи могут использовать стык юнкеров с чехами! – приказал Верховный, сидя с биноклем в руке на скирде сена.
Приказание было исполнено, и батарея открыла огонь.
– Вот видите, как товарищи зашевелились! Теперь юнкера могут идти свободно на них! – говорил Верховный, не отрываясь от бинокля.
И действительно, юнкера, подбодренные артиллерией и как бы в благодарность за это Верховному, который следил с таким вниманием за каждым их движением, поднявшись во весь рост, с криком «ура!» бросились в атаку. Большевики кинулись бежать. Видя эту картину, Верховный крикнул:
– Конвой, по коням! В атаку!
Конвой вмиг взобрался на насыпь железной дороги. Засверкали шашки и пошла рубка. Верховный, увидя этот подъем и зараженный общим порывом, соскочив со стога, почти бегом пошел в Кореновскую.
– Долинский, Хан, ищите в сумках товарищей патроны! – говорил Верховный, идя среди большевицких трупов.
Подойдя к Кореновской, он остановился на кургане и оттуда стал наблюдать за боем.
– Хан, бросьте патроны, прикажите батарее, чтобы она открыла сию же минуту огонь по окраине станицы, так как товарищи пытаются там задержаться! – приказал Верховный, заметив, что наши войска стали подаваться назад под сильным огнем засевших в станице большевиков.
Через полчаса большевики заметались под нашим огнем и войска, воспользовавшись этим, бросились в станицу в штыки. На улицах станицы еще шел бой, когда вошел туда Верховный.
– Ваше Высокопревосходительство, еще бой идет в станице! – доложил ему кто-то, желая удержать его.
– Ничего, ничего, это не опасно. Мне хочется наблюдать за отступающими товарищами и за общей обстановкой, но здесь деревья не позволяют. Пойдемте, Хан и Долинский, на колокольню! – сказал Верховный, идя вперед крупным шагом.
Поднявшись на колокольню, мы увидели оборванные телефонные провода, которые, по предположению Верховного, соединяли станцию с наблюдателем. На стенах и потолке были следы крови от убитых нашим снарядом, стакан которого застрял в досках потолка. Как я ни старался выковырнуть этот стакан и взять на память, – никак не мог.
– Здесь сидел матрос с двумя товарищами и корректировал стрельбу своей артиллерии. Их убило вашим снарядом, – рассказывал после Верховному священник Кореновской станицы.
К вечеру Кореновка была очищена от большевиков. Идя на квартиру, отведенную Верховному, я, заметив клочок валявшейся газеты, поднял ее и, прочтя, передал Верховному.
– Этакие негодяи, как обманывают народ! Рано вздумали меня повесить! – сказал, смеясь, Верховный.
На клочке большевицкой газеты было напечатано следующее: «Гидра контрреволюции – Корнилов пойман нашими войсками и повешен. Его банда, окруженная нашими войсками, как затравленные волки мечутся в кубанских степях из стороны в сторону»… – дальше было оторвано.
Вечером к Верховному пришел генерал Марков и был в веселом настроении.
– То-то сразу прекратился огонь товарищей в самое тяжелое для нас время! Я так и думал, что вы сняли наблюдателя и, воспользовавшись этим, повел своих в атаку! – ответил генерал Марков на вопрос Верховного, знает ли он причину столь внезапного прекращения огня товарищей.
После ухода генерала Маркова пришел полковник Неженцев за получением задачи на следующий день.
– Да, Ваше Превосходительство, день был жаркий! Когда внезапно прекратился огонь батареи большевиков, то офицеры и солдаты полка поняли, что их шеф дает им возможность «надеть товарищей на штыки», как они выражались, – говорил полковник Неженцев.
В этом бою голенище левого сапога полковника Неженцева было прострелено в двух местах.
Большевики из-под Кореновской отступили в станицу Платнировку, думая, что Верховный через нее пойдет в Екатеринодар. Поэтому Платнировка приводилась для упорного сопротивления в боеспособное состояние. Узнав об этом, Верховный решил обмануть большевиков, сделав демонстрацию, якобы желая пройти через Платнировку. Этим маневром он оттягивал туда все силы большевиков, а армию повернул в другое направление, а именно на Усть-Лабу. Придя туда, он предполагал одним ударом взять эту станицу – преддверие Екатеринодара и, переправив армию через Кубань, очутиться за рекой на просторе, где в черкесских аулах он надеялся как пополнить армию людьми, так и сделать запасы продовольствия.
После дневки в Кореновской, в восемь часов вечера, армия выступила на Усть-Лабу. Верховный, по обыкновению, стоял за деревней в поле, пропуская обоз и следя сам за правильностью его движения.
– К какому отделению ты принадлежишь? – спрашивал Верховный возчика.
Если спрошенный отвечал правильно и ехал в данную минуту в своем отделении, то Верховный пропускал его дальше. Если же нет, то подвода отъезжала в сторону и, дождавшись своего отделения, присоединялась к нему и шла вперед. Обоз двигался в идеальном порядке, указанном ему Верховным еще в Лежанке. Обратив внимание на проходившую какую-то коляску, Верховный сказал:
– Что за коляска? Узнайте, Хан!
Подъехав к коляске, я увидел в ней скромную фигуру генерала Алексеева, сидевшего со своим адъютантом ротмистром Шапроном. Узнав, кто едет, Верховный приказал мне задержать обоз и передать генералу Алексееву, чтобы он ехал всегда в том отделении, где ему было приказано. Я доложил об этом генералу Алексееву, но он, ответив: «Хорошо, хорошо!», продолжал двигаться вперед.
– Что же, я долго буду здесь задерживать обоз? Долинский, передайте генералу Алексееву, чтобы он ехал в своем отделении! Я думаю, генерал Алексеев Хана не понял! – резко приказал Верховный, начиная раздражаться, видя, что коляска генерала Алексеева продолжает двигаться вперед.
Передав приказание, Долинский вернулся.
– Передали? – спросил Верховный.
– Так точно, Ваше Высокопревосходительство!
– Повторите! – приказал Верховный.
Долинский повторил переданное приказание, а коляска, слегка покачиваясь, продолжала подвигаться вперед.
– Иван Павлович! Мои адъютанты что-то перепутали. Пожалуйста, прикажите генералу Алексееву сию же минуту выйти из «строя» и отыскать свое отделение. Если он не пожелает подчиниться моему приказанию, то я его сейчас же арестую! – сурово приказал Верховный, отправляя генерала Романовского.
После последнего приказания коляска вышла в сторону и обоз в порядке двинулся вперед.
Около двенадцати часов ночи к Верховному подошел генерал Марков, чтобы узнать, как поступить с телами умерших от ран после боя в Кореновской, которых не успели предать земле.
– Ваше Превосходительство, они увеличивают число повозок. Обоз и без того громаден, – докладывал генерал Марков Верховному.
– Везите, Сергей Леонидович! Тела этих героев мне дороги, как они были дороги при жизни. При первой же возможности я их предам земле с воинскими почестями! – ответил Верховный.
Обогнав армию после осмотра обоза, Верховный пошел пешком, беседуя с генералом Марковым, делясь впечатлениями о прошедших боях и интересуясь настроением людей.
– Большевики начинают организовываться, и мне кажется, что нам будет все труднее и труднее бороться с ними. Если бы не казаки с их разговорами да обещаниями, мы бы не проворонили Екатеринодар! – говорил Верховный генералу Маркову, узнав еще в Кореновской о падении Екатеринодара.
Армия этому слуху не верила, считая его большевицкой уткой.
Усть-Лаба
6 марта 1918 года.
Мы шли всю ночь и только перед рассветом подошли к Усть-Лабе. По дороге мы встретили офицера разведчика, шедшего к нам с донесением.
– Что? Усть-лабинские большевики перевооружились два дня тому назад? А много ли их там? – спрашивал Верховный офицера разведчика.
С первыми лучами утреннего солнца к Верховному привели большевика, пойманного в поле, в стоге сена.
– Я тебя не расстреляю, если ты скажешь правду! Зачем ты ночевал сегодня здесь? – спросил Верховный большевика.
– Я был на посту. Лежал здесь в сене. Меня послали для того, чтобы я, увидя белогвардейцев, сообщил своим товарищам в Усть-Лабе, – отвечал большевик.
– Хорошо! Теперь скажи, сколько в Усть-Лабе товарищей? Где расположены они, их пулеметы и орудия, если таковые имеются. Если не скажешь правду, велю тебя расстрелять, а скажешь – велю освободить! – сказал Верховный.
– Ежели освободите меня, то я усё расскажу по секрету, – говорил, теряясь, товарищ. – На вокзале около тысячи человек с двумя пулеметами и от вокзала, по насыпи железной дороги, тоже уроди тысячи, а орудий нема, вот и усё. Сегодня обещали прислать на поддержку еще товарищей из Кавказской с пушками – вот и усё! – закончил он.
– Хорошо, а вот в том лесу, что влево от вокзала, есть товарищи?
– Нету!
– Я тебя отпущу после боя. Вдруг ты наврал?! – сказал Верховный товарищу, просившему отпустить его сейчас.
– Нет, Ваше Превосходительство, зачем я буду врать! Вот вам святой крест! – крестился товарищ, когда его уводили по приказанию Верховного.
– Сергей Леонидович, займите этот лесок! Мне кажется, действительно там нет большевиков. Оттуда мы, зайдя во фланг большевикам, займем без боя станцию. Полковнику Неженцеву приказываю идти на станцию в «лоб», а юнкера пойдут правее, – приказал Верховный.
Пока Верховный отдавал приказание, на взмыленной лошади прискакал офицер с донесением от генерала Богаевского.
– Ваше Высокопревосходительство! Большевики силой в бригаду с орудиями, имеются шестидюймовки, наступают на арьергард. Генерал Богаевский приказал донести вам об этом! – доложил офицер.
– Хорошо! – проговорил Верховный, отпуская офицера.
В это время послышалась канонада сзади и орудийная, пулеметная и винтовочная стрельба впереди. Все это, сливаясь в одно, превращалось в сплошной гул.
Начался бой. Не прошло и двух часов, как вокзал был в наших руках, благодаря красивому обходному движению Корниловского полка. Согласуя свое движение с обходной колонной, полковник Неженцев ударил по станции и вмиг, вместе с юнкерами, он скрылся за насыпью железной дороги. В начале боя, как и всегда, Верховный был с генералом Романовским и двумя полковниками из его штаба. Заметив паническое бегство большевиков, я обратил на это внимание Верховного.
– Вижу, Хан! А, негодяи! – говорил он, не отрываясь от бинокля.
Заметив, что корниловцы и юнкера скрылись за насыпью железной дороги, Верховный был уверен, что большевикам не устоять против них и, как обычно, говоря: «Идемте!», пошел вперед.
В обозе шло ликование по случаю победы и захвата станицы, так как он был брошен без всякого прикрытия. Чуткий к последнему обстоятельству, здоровый элемент в нем начал выползать, предпочитая войти скорее в станицу, чем быть съеденным Сорокиным, энергично напиравшим на Богаевского, который в это время изнемогал под тяжестью противника.
Когда Верховный в сопровождении генерала Романовского, Долинского и меня шел вперед и до станицы оставалось около полуверсты, вдруг посыпался на нас град пуль. Это стреляли засевшие и еще не выбитые из своих позиций товарищи. Верховный хладнокровно обернулся назад и произнес:
– Это ничего! Их сейчас выбьют корниловцы, о приближении которых эти негодяи еще не подозревают.
– Хан еще ребенок, ну, а вы, Лавр Георгиевич, разве тоже, что так рискуете? – раздался впереди нас голос генерала Деникина, который головой показывал на меня.
– Да, да, я немного поторопился, Антон Иванович. Но сейчас их вышибут оттуда! – кричал Верховный вслед поспешно удалявшемуся генералу Деникину.
– Сидел бы в обозе со своим Малинкиным. Зачем пришел сюда, где убивают людей, если боишься смерти. Только на нервы действуют эти господа! Зачем они так заботливо оберегают того, кому еще не суждено умереть! – произнес легкораненый офицер, пришедший сюда, чтобы быть около Верховного.
– Как же, в обозе ликование! «Усть-Лаба взята, а на Богаевского товарищи нажимают!» Вот все и приперли сюда, а увидя, что немного поторопились, галопом понеслись назад, – в середине, брат, конечно, всего безопаснее! – говорил ротмистр Яновский, прибывший с донесением от Богаевского.
– Интересно, где бы он находился во время боя, если бы командовал армией?! – спросил раненый офицер.
– Этот вопрос для меня так же труден, как и для вас! – ответил ротмистр Яновский.
– Хан, бинокль! – приказал Верховный, взобравшись на стог сена.
Пули пронизывали этот стог, ранив несколько человек из стоявших за ним, но Верховный оставался невредим. Вдруг, соскочив со стога, он быстро пошел вперед, и через несколько минут с Долинским и со мною он уже входил в станицу, на площади которой еще шел бой.
– Хан, Долинский, помогите мне! – крикнул Верховный, желая взобраться на крышу дома, чтобы оттуда лучше наблюдать за боем.
В это время из противоположного дома раздался по Верховному выстрел, но, к счастью, пуля пролетела мимо.
Я с Долинским и двумя туркменами из конвоя бросились туда. Взломав дверь, мы вошли в дом, но там никого уже не было.
– Хан, доложите Верховному, что генерал Богаевский изнемогает и просит подкрепления! – сказал мне прискакавший ординарец.
Я сейчас же доложил об этом Верховному.
– Конвой нужен здесь! Кого бы… Кто вы такие? Эй, идите сюда! – крикнул Верховный, увидев группу в пять-шесть человек, стоявших внизу около дома, на крыше которого он наблюдал за приближавшимся из Кавказской поездом.
– Мы – корниловцы, охраняем знамя полка! – ответил один из группы.
– Ведите их к генералу Богаевскому, а знамя дайте сюда! Хан, возьмите его! – приказал Верховный.
– Долинский, сейчас же передайте командиру батареи, чтобы немедленно открыл огонь по приближающемуся с Кавказской поезду. Из него высаживают большевиков, которые направляются сюда! – отдал приказание Верховный. – Вижу! Верните часть корниловцев, которые с марковцами идут встречать товарищей, идущих сюда! – крикнул он в ответ ординарцу Корниловского полка, который доложил о приближении большевицкого поезда.
Полковник Миончинский не заставил себя ждать. Заняв позицию, он немедленно открыл орудийный огонь.
– Так, так!.. Еще, еще!.. А, негодяи, отступаете! Беглый огонь! – кричал Верховный, сидя на крыше и наблюдая за ходом боя.
Не прошло и получаса, как все было ликвидировано.
– Хан, сдайте знамя конвою, а сами доложите генералу Эльснеру, чтобы он вел обоз к мосту! – приказал Верховный.
Я помчался. Не успел я вернуться обратно, передав приказание Верховного, как было получено донесение от генерала Эльснера, что большевики, засев на противоположной стороне моста, держат его под огнем.
– Долинский, сейчас же передайте полковнику Неженцеву, чтобы он выделил взвод для очистки моста и во что бы то ни стало перебросил обоз на ту сторону реки! – приказал Верховный.
Долинский помчался.
– Ваше Высокопревосходительство! Генерал Богаевский просит серьезной помощи! – доложил опять прискакавший ротмистр Яновский.
– Сегодня я не узнаю Африкана Петровича. Передайте ему, – как только пропущу обоз, то сам приеду на помощь! Пусть держится до последней возможности! – приказал Верховный Яновскому.
Через час было получено донесение об очищении моста.
– Что, выбили товарищей и мост очищен? Вот хорошо! Сию же минуту генералу Эльснеру переправляться на ту сторону! Ну, слава Богу! – вздохнул Верховный.
В этот день я впервые увидел, что Верховный волновался. Обоз был переброшен через реку и пошел в Некрасовскую станицу, лежавшую в 12 верстах от Усть-Лабы.
Когда обоз в Некрасовской был размещен по хатам (это было около 12 часов ночи), Верховный вошел в отведенный ему дом. Выпив стакан чаю, он вышел на крыльцо, чтобы посмотреть на прибывающие войска. Через некоторое время он вернулся в комнату и был сосредоточен и угрюм.
– А все-таки, Ваше Высокопревосходительство, мы с Ханом так и не поняли, каким образом армия спаслась сегодня из усть-лабинской ловушки! – спросил Верховного Долинский, желая вызвать его на разговор.
– Разве? – спросил Верховный, моментально беря в руки карандаш и лист бумаги. – В каком положении находилась армия к часу дня, вы знаете? К часу дня на арьергард наступала вся та банда, которая бежала из Кореновской в Платнировку. Богаевский изнемогал, так как количество наступавших на него большевиков по крайней мере было в пять-шесть тысяч человек, я это знал хорошо.
Большевики, узнав о нашем намерении перейти через Кубань, поспешили подвезти из Екатеринодара и Кавказской новые силы товарищей к Усть-Лабе. Мост, как вам известно, был занят большевиками. Обоз оставался брошенным на произвол судьбы без всякого прикрытия. При таком сложном положении, армия не могла парировать все удары. Я не говорю, что она сдалась бы, но могла быть уничтожена до единого человека. Вот в эту минуту у меня в голове встал вопрос, как вывести ее из этого положения? Принимая во внимание психологию большевиков, я решил сыграть на ней. Это был единственный козырь в моих руках. Когда большевики, высаживаясь из поезда, шли густыми цепями на Маркова и Неженцева, я приказал открыть огонь по их поезду. После удачных попаданий поезд должен был уйти из сферы нашего огня, что и было сделано. Наступавшие товарищи, увидя уходивший поезд, вообразили, что комиссары попросту удирают, оставив их на съедение кадетам, и потому, круто повернувшись, побежали назад догонять свой поезд. Воспользовавшись этой отсрочкой, я приказал очистить мост и перебросить обоз на ту сторону реки. Генерал Богаевский, подкрепленный корниловцами, медленно отступая, дал возможность перейти через реку всей армии и, сам перейдя, удержал в своих руках мост, который я приказал взорвать. Нахлынувшие товарищи остались по ту сторону моста ни с чем! Вот и все! – закончил свои объяснения Верховный.
– А может быть еще такой пункт впереди, Ваше Высокопревосходительство? – спросили мы.
– Нет! – смеясь, ответил Верховный, и начал шутить над нами, говоря, что мы сегодня струсили. – Правда, господа, сегодня день был очень тяжелый, и я чувствовал это больше, чем кто-либо! – сказал он, вздохнув.
«Действительно, ты сильно веришь в себя и в свое дело, и эта сила веры заставляет нас верить в тебя, а это творит чудеса и чудеса именно твои – Корнилова! С тобой не страшно, и мы преодолеем все препятствия, как бы они ни были трудны и сложны!» – подумал я про себя, глядя на его желтое усталое лицо. Мне казалось, что эта моя мысль заразила и всю армию – она тоже думала так, как я.
От Некрасовской станицы до аула Шенджи
7—8 марта 1918 года.
Было около пяти часов утра, когда нас разбудить разрыв первого снаряда, пущенного большевиками в Некрасовскую. После первого прилетел с шипением и свистом и разорвался другой, потом с такой же силой и шумом третий, четвертый. Снаряды беспрерывно рвались целый день над домом, где жил Верховный. К часам 9 утра были вдребезги разбиты выходившие на улицу окна и все стекла террасы. Раз, когда Верховный выходил из дома, пуля от разорвавшегося снаряда пролетела и застряла в дверях на вершок выше его головы. Я, выковыряв ее, показал ему.
– Спрячьте ее, Хан, – приказал Верховный.
Эту пулю и еще одну, вынутую из пола в доме священника, я передал в музей имени генерала Корнилова в Екатеринодаре.
У меня создалось такое впечатление, что кто-то специально сидит в Некрасовской и точно, корректируя стрельбу, передает перелет и недолет. На площади, где помещался обоз, были убитые и раненые. Обстановка была такова: левый берег реки Лабы, куда мы должны были переброситься, был занят большевиками, которые, засевши в камышах, еще с вечера начали беспрерывно обстреливать станицу. Со стороны моста через Кубань на оставленного в арьергарде полковника Неженцева, напирала главная сила Сорокина. Полковник Неженцев, стоя под артиллерийским огнем большевиков, то и дело присылал одно донесение за другим, указывая на свое тяжелое положение. Учитывая все это, Верховный решил перебросить армию на ту сторону реки Лабы. С этой целью, взяв полковника Боровского, он приказал одним ударом очистить левый берег реки Лабы и обеспечить переправу, на которую, как только она будет взята, двинется обоз.
В ночь на 8 марта полковник Боровский, стремительно бросившись на большевиков со своими славными юнкерами, рассеял их и захватил переправу. В 4 часа ночи Верховный уже стоял у переправы, пропуская мимо себя обоз. Полковник Неженцев в это время, планомерно отступая, подошел к северной части станицы и ждал, чтобы спуститься к переправе. В три часа дня обоз и авангард уже занимал Киселевские хутора, где мы, разместившись по хатам, провели ночь. На рассвете началась ружейная и пулеметная пальба. Выступив из хуторов, Верховный пошел в цепи офицерского батальона. Дойдя до стогов сена, он приказал подать ему бинокль.
– Здесь не то, что было в Усть-Лабе. Несерьезно! – говорил Верховный, не отрываясь от бинокля.
Пули здесь жужжали, как стаи ос. Стог сена, на котором сидел Верховный, пронизывался насквозь пулями, и одна из них ранила в лицо полковника Патронова, сидевшего за стогом.
– Их сейчас генерал Марков скинет! – говорил Верховный, глядя в бинокль.
И действительно, не прошло и часа, как офицеры, поднявшись, бросились на большевиков в атаку. Черная лента впереди офицеров сперва метнулась вправо, а потом… все хлынуло назад.
– Огонь из батареи! – приказал Верховный.
Открыли огонь по бежавшим товарищам, у которых только пятки сверкали. Воспользовавшись этим моментом, Верховный приказал немедленно обозу и главным силам армии идти влево, направляясь на Филипповскую станицу, куда был направлен еще ночью полковник Неженцев.
Проехав некоторое расстояние, мы принуждены были остановиться, так как генерал Богаевский вел еще бой справа. Бой закончился около шести часов вечера, а в семь часов Верховный сидел в станичном управлении Филипповской станицы, а Долинский и я показывали ему телефонное имущество и патроны «гра», оставленные большевиками. Постепенно управление начало наполняться новоприбывающими лицами. Скоро появился большой самовар и началось чаепитие. Верховный, выпив чашку чаю и съев кусок черного хлеба, отдал распоряжения на утро и пошел к себе. В отведенном ему доме хозяев не было. Они бежали, оставив все на произвол судьбы. Фока сейчас же взялся за самовар, а я за кастрюлю. Не прошло и часу, как был накрыт стол, и Верховный, Долинский и я сидели за ужином, который состоял из вкусной яичницы. Затем пили чай с молоком, которое принес Фока, подоив корову. Пока Верховный просмотрел полученные донесения и ответил на них, подошла полночь и он, измученный, уснул на мягкой постели.
В четыре часа утра 10 марта нас разбудила пулеметная и ружейная пальба. Быстро одевшись, Верховный принял генерала Романовского, который доложил, что мост через реку Белая обстреливается большевиками, которые, заняв великолепную позицию, держат его под своим огнем. В авангарде был полковник Неженцев, который шел на Рязанскую станицу.
– Хан, прикажите подать коня! Я – сейчас! – произнес Верховный, торопливо застегивая последнюю пуговицу своей бекеши, и, захватив палку, он вышел на крыльцо и, сев на булана, помчался к авангарду.
Раннее утро. Кругом горы, леса. Так все красиво, а здесь человек, а не зверь, перегрызает горло один другому! Приехали к речке.
– Отведите лошадей назад! – приказал Верховный в полосе беспрерывно жужжавших пуль.
Увидя, что у речки, через которую был перекинут маленький узенький мост, столпились люди, Верховный подошел к ним и спросил:
– Почему столпились здесь?
– Ваше Высокопревосходительство, как только на мосту кто-нибудь покажется, большевики засыпают его пулями. Есть убитые и раненые! – подойдя, доложил офицер-корниловец. – Послали человека искать брод, – добавил он.
Увидев, что среди них находится шеф, корниловцы бросились кто через мост, а кто прямо через реку по пояс в воде. Верховный в сопровождении генерала Романовского вместе с солдатами Корниловского полка тоже перешел мост. Перейдя на ту сторону, он, не сгибаясь, пошел вперед под градом пуль, не обращая внимания на падающих вокруг него убитых и раненых.
– Если мы сейчас же не снимем этих большевиков, засевших на бугре против моста, то нам придется очень плохо! Долинский, прикажите генералу Эльснеру немедленно отыскать брод и переправить обоз на эту сторону! – приказал Верховный, стоя в открытом поле под градом пуль.
Корниловцы пошли прямо, вправо и влево от них – партизаны и чехословаки. Большевики, увидев, что мост перейден, широким фронтом перешли в наступление. Завязалась сильная перестрелка. Стоял сплошной гул. Начали рваться над станицей снаряды, а потом и над обозом, который успел подойти к речке и стоял, ожидая результата боя и переправы. Снаряды летели со стороны Филипповской, где в арьергарде был полковник Боровский, ведший упорный бой, удерживая наседавших большевиков.
– Хан, уговорите, ради самого Создателя, батьку так не рисковать. Пусть вернется назад. Это просьба всех моих людей! – просил меня полковник, начальник отряда, идя в бой.
Я передал эту просьбу Верховному, на что он ответил:
– Хорошо, хорошо, дальше не пойду!
Как только корниловцы двинулись вперед, начали падать убитые и раненые. Увидя, что одна из сестер, стоя на коленях перед раненым, что-то ищет в сумке, Верховный приказал мне:
– Хан, идите и помогите сестре!
Я поспешил на помощь.
– Пожалуйста, подержите за плечи этого офицера, я сейчас же сделаю ему перевязку, – сказала тихим голосом сестра, продолжая рыться в своей сумке.
Раненый был молодой поручик Корниловского полка. Пуля попала ему в голову. Он метался, стонал и хрипел. Он ничего не мог говорить и то открывал, то закрывал уже ничего не видевшие глаза. По красивому юному лицу ручьем лилась алая кровь. Все тело его тряслось. Рядом с ним лежала его винтовка с открытым затвором с патронами в ней и папаха.
– Надо его отнести назад. Сейчас подойдет обоз, и мы его сдадим туда, – посоветовал я сестре и попробовал его поднять, но должен был оставить – не мог. Увидя, что я пытаюсь второй раз поднять раненого, Верховный, подходя к нам, крикнул:
– Оставьте его, Хан, оставьте! Ведь вы его мучаете! Там упал еще один, Хан, там еще один! – указывал он мне и сестре на падающих корниловцев и партизан.
– Мне кажется, что он безнадежен! – говорила сестра, глядя на дергавшегося судорогами и стонавшего офицера.
Среди стонов и плача без слез у раненого вдруг вырвалось:
– Я хочу видеть… ко-ман-дующего!.. Хочу его!.. Хочу ко-ман-ду-юще-го!..
Я подбежал и передал просьбу раненого Верховному.
– Меня? Сейчас! Остановите обоз, я сейчас приду! – сказал Верховный, направляясь к раненому.
– Ваше Высоко-пре-восхо-дительство! Я у-мираю за родину и за вас! Не о-став-ляйте мо-его те-ла боль-ше-викам! – просил офицер.
– Хорошо! Спасибо! Вашу просьбу исполню. Но мне, кажется, рано думать о смерти. Бог даст, вы выздоровеете! – ответил Верховный дрожащим голосом, чуть не плача, видя страдания раненого и не имея возможности облегчить их. – Сейчас подойдет сюда обоз, и мы вас положим в повозку! – сказал Верховный раненому и направился в обоз.
– Я думаю, умрет бедняга! Хан, как думаете вы? – спросил он меня вполголоса, когда мы отошли от раненого. – Хан, воткните возле раненых винтовки в землю, чтобы их легко было отыскать санитарам.
Когда я вернулся к Верховному, исполнив его приказание, то он, остановив обоз, высаживал из повозок офицеров и солдат, по наружному виду годных держать в руках винтовку.
– Вы кто такой? Слезайте! Вы тоже! Хан, ищите, нет ли в повозках лишних вещей! – говорил он, стоя недалеко от моста.
Когда был закончен осмотр обоза, Верховный подозвал к себе полковника Корвина-Круковского, которому приказал:
– Полковник, всех этих молодцов отправьте в отряд полковника Краснянского. Я хочу из них составить заслон против большевиков, для пропуска обоза.
В это время подошел к Верховному доброволец-азербайджанец Корниловского полка, конвоируя какого-то матроса.
– Геспадин яранал, ми поймал эщо этот болошовик. Пасматри, он марской чалавэк! – докладывал он.
– Ты кто? – спросил Верховный матроса.
– Я – матрос!
– Ты кто? Большевик?
– Да, я коммунист! – ответил матрос, смело и нагло оглядывая Верховного с ног до головы.
Его взгляд был полон ненависти и презрения ко всем окружавшим его. Верховный приказал его расстрелять.
– Иды, ты! – крикнул азербайджанец, ведя матроса в лесок, находящийся недалеко от нас.
Раздался сухой треск выстрела, и матрос-коммунист, упав на землю, остался неподвижен. Не успел матрос испустить последнее дыхание, как азербайджанец стал искать в его карманах и снимать сапоги.
– Зачем ты так обращаешься с ним? Зачем тебе сапоги, когда каждый из нас в любую минуту может лежать так же, как он! – сказал я, увидя такое бесцеремонное обращение с трупом.
– Ва, Хан! Тогда и я свои сапоги тоже адам, как и этот марской чаловэк! А до этой мынуты хачу имэть сапагы! – и азербайджанец продолжал стаскивать их.
К трем часам пополудни бой закончился и армия двинулась на станицу Рязанскую. На другое утро в 5 часов мы выступили дальше.
День был ясный и солнечный. Перед нами показались аулы, расположенные у подножья Кавказских гор. Чем дальше мы шли, тем местность становилась красивее и красивее. Гладкую степь заменили холмы, покрытые лесами. Подходя к первому аулу, мы надеялись встретить там радушный прием и отдых. Каково же было наше разочарование, когда мы не нашли в нем ни одной живой души. Дома были разрушены или сожжены.
– Хан, не найдете ли вы здесь кого-нибудь из черкесов, который мог бы сообщить нам о судьбе Екатеринодарской армии, а также о том, куда девались жители аула?! – приказал мне Верховный во время привала.
Войдя в первый попавшийся дом, я мысленно перенесся в свою родную страну, где точно по такому же плану складывают дома. Глядя на разрушение и хаос кругом, я вспомнил города по берегам Аму-Дарьи, которые тоже были разрушены и разграблены когда-то войсками Чингисхана. На стенах дома, в котором я сейчас находился, были написаны молитвы и изречения из Корана. Весь домашний скарб был разбит и разбросан. Среди мусора валялись листы разорванного Корана и других священных книг. Я с грустью пошел из дома в дом в надежде найти хоть одну живую душу. Всюду повторялась одна и та же картина полного разрушения. Зашел и в мечеть, красовавшуюся среди зелени, и мне показалось, что ее одинокий минарет угрюмо смотрел и словно боялся, что ему вечно придется быть одиноким и заброшенным среди этих гор. В мечети я также нашел разорванные и затоптанные в грязи листы священных книг. Один маленький Коран, без начала и конца, я поднял из грязи и взял себе. Он и до сих пор сопутствует мне всюду. Не найдя нигде никого, я возвратился к Верховному, который, по обыкновению, пропускал мимо себя обоз и «чистил» его. Долинский потный, с недовольным видом, нервно ощупывал мешок с ячменем и что-то бурчал себе под нос. Узнав от меня, что никого в ауле я не нашел, Верховный приказал мне помочь Долинскому.
– Вы кто такие? – спросил Верховный группу молодых солдат, сидевших на повозке.
– Мы, Ваше Превосходительство, охрана политического отдела генерала Алексеева, – ответили они.
– Иван Павлович, обратите внимание! Для охраны политического отдела столько молодых людей? – полувопросительно-полуудивленно спросил Верховный генерала Романовского, который поспешил разъяснить ему, что все они женщины, а не солдаты.
– Хорошо, они женщины, но среди них я вижу офицеров. Вы кто такие? – спросил Верховный офицеров.
– Мы – начальники охраны, Ваше Высокопревосходительство! – ответили те.
– Тьфу! Поезжайте, чтобы глаза мои вас не видели. Бессовестные! Всего пять женщин, и они имеют двух начальников! – расхохотался, не выдержав, Верховный, пропуская повозку.
Двинулись дальше и, дойдя до следующего аула, остановились в нем на ночь. Перед этим аулом – Нашукай, на дороге, показалась идущая к нам навстречу группа людей с белым флагом. Заметив их издали, Верховный приказал мне:
– Хан, поезжайте, поговорите с ними и узнайте, кто они такие?
Подъехав к ним, я сделал салям, но они так были взволнованны, что не узнали во мне мусульманина, и старый мулла с трудом начал лопотать по-русски.
– Ми – мусульмане. Ми большовэк обижай! Алла! Алла!
Я сделал им еще раз салям и заговорил с ними по-турецки. Мулла сперва широко открыл глаза от удивления, но потом, узнав, что я мусульманин, да к тому же и адъютант командующего, обрадовался.
– Субхан Алла, Субхан Алла! – говорил он, глядя на Верховного как на спасителя.
Радость встречавших была неописуема, когда я им сказал, что командующий армией любит мусульман и даст им оружие для защиты аулов, как только они придут к нему на помощь.
– Давай только нам оружие, мы им покажем, что значит поругание над религией и как мы умеем мстить за наши разрушенные мечети! – говорил мулла по-турецки.
Кстати сказать, никто, кроме муллы, больше не понимал по-турецки, а я – ни одного слова по-черкесски.
– Вот бык, которого мы хотим зарезать в честь прихода в наш аул человека с добрым сердцем, желающего помочь нам защищаться против безбожников! – говорил мулла.
В это время в аул входила армия с Верховным во главе.
– Балам, покажи, кто из них генерал Корнилов! – просил мулла, идя навстречу к Верховному.
Подойдя со старшинами к Верховному, мулла поздоровался и просил меня передать ему, что большевики расстреляли почти всю молодежь, а над женщинами и стариками издевались и что они, черкесы, просят у генерала Корнилова защиты.
– Да, да, скажите им, Хан, что я знаю и люблю мусульман за их преданность России, поэтому дам им оружие, как только они придут ко мне в армию, – ответил Верховный плачущему мулле.
Вечером мулла опять пришел, чтобы побеседовать с Верховным, и подробно рассказал ему о том, как большевики разрушили весь жизненный уклад аула.
– Это не только у вас, а во всей России так! Поэтому пусть аулы дают своих сыновей, я вооружу их и верю, что, соединившись, мы можем отстоять свои права. Повторяю, что только с оружием в руках можно добиться этого, так как против зверей другие приемы не годятся! – сказал Верховный, отпуская муллу.
Переночевав в этом ауле, на другой день рано утром мы пошли дальше. Пройдя ряд аулов, мы наконец пришли в аул Шенджи, где на другой день, т. е. 14 марта, состоялась долгожданная встреча с отрядом капитана Покровского, ушедшего из Екатеринодара. Покровский прибыл со своим конвоем из черкес. Верховный вышел на площадь, где собралась большая толпа жителей аула. Поздоровавшись с конвоем Покровского, Верховный обратился с речью к присутствующим.
– Проехав через ваши родные аулы, я был свидетелем, как большевики разрушили их и растоптали священные Кораны. Муллы говорили мне также, что эти безбожники, уничтожив массу молодого поколения, издевались над вашими женщинами и стариками. Я помогу каждому из вас ответить им на все это, как надо…
Все черкесы внимательно слушали маленького человека, но Великого бояра, слова которого шли до глубины их сердец.
После речи Верховного я пошел в мечеть, чтобы совершить намаз, а возвратившись оттуда, я застал у Верховного Покровского и Эрдели, пьющих чай. Оба они были элегантны и в новеньких с иголочки черкесках, не имея вида людей много перенесших. У них с Верховным состоялось полуторачасовое совещание о совместных действиях против общего врага. Получив задачу от Верховного, они опять уехали к своему отряду.
Вечером того же дня генерал Романовский доложил Верховному, что возчик-чех Корниловского полка, в повозке которого находились вещи Верховного, генерала Романовского, Долинского и мои, взятый нами из Ростова, захватив все, бежал к большевикам и мы остались без всего, даже без полотенец.
От Шенджи до Ново-Дмитриевской станицы
15 марта 1918 года.
С утра внезапно погода изменилась, и к моменту выступления с неба начала падать какая-то мокрота – не то дождь, не то снег. Дул холодный и пронизывающий встречный ветер. Глинистая почва стала почти непроходимой. Лошади и люди, скользя и увязая по колена в липкую грязь, с трудом подвигались вперед. Пехота, держа винтовки в самом разнообразном положении, ежилась от холода и, еле вытаскивая из грязи ноги, брела вперед, но при виде Верховного спины всех выпрямлялись, ряды выравнивались, и все дружно отвечали на приветствие своего любимого «батьки». Войска шли в Ново-Дмитриевскую, которую должны были взять с боя, а обоз был направлен в Калужскую, где стоял отряд Покровского. В этот день в авангарде шел генерал Марков. Верховный, по обыкновению, подъехав к генералу Маркову, слез с лошади и пошел пешком, разговаривая с ним. Пройдя около полпути, сделали привал на 15 минут. Начал идти сильный дождь. Грязи стало еще больше. Усталым и измученным людям негде было присесть, и они отдыхали стоя. Верховный, окруженный офицерами полка, весело с ними беседовал. Вся группа смеялась от души, забыв на время обстановку, в которой она находилась. В это время ко мне подошло несколько человек офицеров.
– Вы адъютант командующего? Доложите ему, чтобы он нажал на генерала Эльснера относительно сапог. Вы сами видите, в каком они состоянии! – показывали они мне свои сапоги.
Двое из них, как я помню, были мичман А.И. Трегубов и, кажется, старший лейтенант Ильвов, одни из уцелевших «орлов» полковника Ширяева, участники героического Батайского боя. У других сапоги были в еще более плачевном состоянии. Вместе с этими офицерами я, подойдя к Верховному, доложил об их просьбе. При виде их сапог Верховный, сразу меняя тон с веселого на суровый, обратился к генералу Маркову:
– Сергей Леонидович, разве вы не знали об этом? Почему же вы не потребовали у генерала Эльснера?
– Спрашивал! Говорит, что не имеет сапог! – ответил генерал Марков.
– А если у него нет, то надо было доложить мне! – сказал Верховный генералу Маркову. – По приходе в Ново-Дмитриевскую станицу обратитесь за сапогами к генералу Эльснеру. Если же у него их не окажется, то доложите об этом мне, и я, господа, обещаю вам их отыскать! – произнес Верховный, обращаясь к офицерам.
Тронулись. Дорога испортилась до такой степени, что мы с трудом, буквально по пояс в грязи, еле волочили ноги. На просьбы офицеров сесть на лошадь Верховный отказался и шел пешком во главе колонны. Артиллерийские повозки и патронные двуколки вязли в топкой трясине дороги. Худые, измученные лошади не в состоянии были вытащить их. После 12 часов дня погода резко изменилась еще к худшему. Дождь прекратился, и начал падать крупными хлопьями снег. Снег был настолько силен, что трудно было узнать идущих в двух шагах впереди. Ударил сильный мороз. Мокрые одежды от мороза превращались в коробки из цемента. Вся армия была одета как бы в саван.
– Господа, двигайте руками, – рукава ваших шинелей замерзнут и большевики в момент переловят вас, как куропаток! – говорил генерал Марков своим людям.
Идем… Люди молчат… Холодно, холодно… «Ради Бога, снимите меня с лошади, я замерзаю!» – крикнул кто-то, нарушив тишину. Его снимают с лошади и начинают прикладом бить по рукавам замерзшей шинели. Чем дальше идем, тем погода становится все хуже и хуже. Подошли к речке, которую надо перейти. Она катилась мутным потоком, вся разбухшая от обильно падавшего дождя, неся на своих волнах куски льда. Все войска, постепенно подойдя, скучились на берегу реки, ища брода. Не найдя его, начали наводить мост, разбирая находившиеся здесь дома, брошенные хозяевами.
– Артиллерия вязнет, лошади издыхают! Спасайте орудия! – раздается чей-то крик.
Окоченевшие люди бросаются к орудиям и вытаскивают их из липкой грязи. Несмотря на кошмарную обстановку, кругом говор, шум, даже слышится там и сям хохот. Верховный успевает следить за всем и всюду. Он распоряжается и при наводке моста, и при вытаскивании орудий. Пока наводился мост, Верховный приказал перебросить на тот берег как можно больше людей. Для этой цели всадники сажали на круп лошади людей из Марковского полка и перевозили на тот берег. Около пяти часов вечера работа по наводке моста приближалась к концу. В это время с жужжанием и свистом пролетел через наши головы первый снаряд.
– Ах, мерзавцы, догадались! – произнес генерал Марков.
– Скорее, господа! Торопитесь! – говорил Верховный саперам.
Группа офицеров, разложив костер у одного сарая на берегу реки, собравшись в кружок, грелась. Верховный подошел к ним, чтобы отогреть ноги.
– Ваше Высокопревосходительство, прошу вас, уйдите отсюда, так как боюсь, что сюда может упасть снаряд! – просил я, отыскав его.
– Хорошо, хорошо, Хан! Видите, господа, какая у меня заботливая няня! – сказал Верховный гревшимся офицерам, уходя от костра.
В группе гревшихся офицеров была двоюродная сестра Мистулова, Нина, находившаяся в армии в качестве сестры милосердия и самоотверженно работавшая в ее рядах, очень внимательная к больным и раненым. Не успел Верховный отойти и десяти шагов от костра, как над ним с треском разорвался снаряд, убивший одного и ранивший шестерых, в том числе и сестру Нину, которой отхватил полладони. Впоследствии я встретился в Ростове с некоторыми офицерами из уцелевших от этого снаряда, и они всегда вспоминали этот случай, как Верховный спасся от смерти. Один из молодых офицеров, совсем безусый – прапорщик Александр Данилович Левин, раненный здесь же (раздробление ключицы), при посещении лазарета Верховным, обнимая меня со слезами на глазах, рассказывал своим друзьям офицерам, что, не уговори Хан Верховного уйти, он был бы убит.
– Хан, просим вас беречь Верховного для нас. Не дай Бог, что случится, тогда все погибло! – говорили они мне.
Мост был почти готов, и по нему спешно прошла группа офицеров и солдат. Не успела пройти другая, как со свистом прилетел снаряд и угодил в самый мост, а вслед за этим по собравшимся на берегу в ожидании перехода войскам застрочил пулемет.
– Братцы, за мной! – крикнул генерал Марков, бросаясь в ледяную воду реки со своим полком и, перейдя ее по шею в воде, он бросился на большевиков, никак не ожидавших этого.
Увидя эту картину, Верховный, вскочив на лошадь, переехал реку, промочив обе ноги по колена в ледяной воде и, спешившись на берегу, почти бегом, пошел за войсками в направлении Ново-Дмитриевской станицы. Пришлось в темноте по колена в снегу идти верст восемь. Войска ворвались в станицу. Большевики, не ожидавшие прихода добровольцев в такую погоду, были застигнуты врасплох, но все же, придя в себя, отчаянно сопротивлялись, не желая уступить нам свои теплые места. Верховный, Долинский и я остановились перед станицей в ожидании конца боя, но сильный мороз и метель через полчаса заставили нас войти в нее. Втроем мы пошли по прямой широкой улице к церкви. Дома с длинными заборами, погруженные во мрак, подозрительно молчат. Вот-вот из этих домов и из-за заборов грянет предательский выстрел, но сердце почему-то спокойно. Идем дальше. В центре станицы еще шел бой. Товарищи стреляли из каждой хаты. Увидя скакавших всадников, мы прижались к церковной ограде, чтобы не быть замеченными, так как не знали, кто скачущие. «Ба-бах!» – раздался недалеко от нас выстрел, и один из всадников упал, а остальные рассеялись по станице и исчезли.
– Хан, пойдите узнайте, есть ли у упавшего на папахе белая повязка! – приказал Верховный.
Подойдя к упавшему, я увидел стонущего казака с черной бородой. Белой повязки у него не было. Когда я, вернувшись, доложил об этом Верховному, то он сказал:
– А, у этих негодяев и кавалерия есть! Но это не страшно, станица уже в наших руках.
Стрельба, было ослабевшая, вдруг снова участилась.
– Господи, хотя бы какую-нибудь маленькую часть сюда! Все разбрелись по хатам! Не дай Бог, если большевики вздумают повести контратаку, – они могут забрать всех нас голыми руками! – волновался Верховный. – Там идут какие-то тени у забора. Интересно было бы узнать, кто они такие?! – сказал он, вглядываясь вперед.
Вдоль забора, затаив дыхание, двигались какие-то фигуры.
– Долинский, пойдите и узнайте, кто это такие! – приказал Верховный.
После очень осторожного подхода и опроса Долинским было выяснено, что двигались партизаны. Позвав их, Верховный приказал им идти на помощь тем, кто сейчас выбивает засевших большевиков из станичного управления.
– Не ходите по станице толпами и не увеличивайте цель для большевиков! – кричал Верховный вслед уходившим партизанам.
Партизаны рассыпались в цепь и исчезли во мраке ночи. Вдруг стрельба в управлении прекратилась, да и в станице она начала затихать. Из управления стали доноситься до нас крики «Ура!» и «Да здравствует генерал Корнилов!». Верховный, услышав эти крики и думая, что управление уже в наших руках, подошел к нему и начал подниматься по его высокой лестнице. Не успел он вступить на порог прихожей, как дверь в управление с силой и шумом распахнулась и на пороге показалась какая-то фигура, которая спросила:
– Кто вы такие?
– Я – Корнилов! – спокойно ответил Верховный.
– А, Корнилов, так нá тебе! – сказала фигура, выстрелив в Верховного.
Верховный спрыгнул вниз. В этот момент раздался второй выстрел и что-то грохнулось на пол.
– А, негодяи! Еще управление не очищено от них! – промолвил Верховный, уже стоя перед управлением.
К управлению подбежал бледный, без кровинки в лице полковник Силица, думая, что Верховный убит, но увидев, что он жив, начал уговаривать его отойти от управления.
– Но что за крики «ура» в управлении? Я не понимаю! – говорил Верховный.
Не прошло и минуты, как в управлении появился свет и вошедший в него наш партизан крикнул: «Эй, ребята, входите! Управление в наших руках!» Под крики: «Да здравствует генерал Корнилов!» мы вошли в управление. Верховный приказал принести лампу и сломать замок двери боковой комнаты и освободить кричавших в ней. Оказалось, что в ней сидели наши конные разведчики, пойманные большевиками и ожидавшие дальнейшей своей участи. Найдя в управлении ящики с патронами, Верховный был этим очень обрадован и, поставив часовых, поспешил выйти на улицу, чтобы узнать о результате боя. При выходе из управления Верховный, услыхав из одной из комнат стоны, направился туда. Войдя туда и зажегши спичку, он увидел на полу облитого кровью большевика, который просил, чтобы его добили. Это был тот человек, который выстрелил в Верховного.
– Зачем же ты пошел против своих? – спросил Верховный большевика.
– Заставили! – еле слышно проговорил он.
– Прикажите, чтобы его отсюда убрали в лазарет и сделали перевязку, когда окончится бой! – приказал мне Верховный, выходя на улицу.
– Ну, что, Иван Павлович, все благополучно? Все войсковые части переправились на этот берег? Сейчас же дайте знать генералу Маркову, чтобы он приложил все усилия и захватил эти орудия, которые работают сейчас у большевиков. Снарядов здесь не оказалось. Нашли четыре-пять ящиков патронов! – говорил Верховный явившемуся с переправы генералу Романовскому.
Снег перестал падать, и сквозь быстро бежавшие тучи иногда выглядывала луна. С разных сторон станицы раздавались одиночные выстрелы. Верховный, стоя на крыльце управления, встречал прибывающие войсковые части.
– Хан, вызовите из избы этих мирно гогочущих беспечников и передайте им, что бой еще не окончен. Пусть сейчас же соберутся у станичного управления! – приказал Верховный, увидя в ближайшей избе группу людей с белыми повязками на папахах – знак принадлежности к Добровольческой армии.
Войдя в хату, я увидел следующую картину: на столе стоял горшок с молоком, к которому поочередно прикладывались присутствующие.
– Петя, оставь мне немного, а то все выдуешь, – говорил один, с полным ртом хлеба, другому, в полувоенной одежде без погон, который, держа винтовку в одной руке, пил молоко.
– А, господин корнет, отведайте с нами молока и отогрейтесь! – обратился ко мне Петя, узнав меня.
– Эх, ты, ведь ничего не оставил, а предлагаешь! – произнес другой, заглядывая в пустой горшок.
В углу у печки плакала баба. Недалеко от нее на полу лежал убитый солдат. На мой вопрос, кто это, кто-то, продолжая жевать хлеб, ответил:
– Да большевик, такой-эдакий!
– Что, он уже умер? – спросил я.
– Наверно! – произнес один из присутствующих и, подойдя к трупу, стал ногой на грудь.
Из груди убитого с шипением потекла кровь.
– Коля, вытри свой штык! Посмотри, он весь в крови!
– Кто это его так? – спросил я.
– Я, – отозвался Коля (партизан), вытирая штык и ствол винтовки.
– Как же это?
– Да так! Я кричу ему: «Не стреляй, и я не буду стрелять!», а он выстрелил прямо мне в упор, но промахнулся. Тогда Коля его одним выстрелом ухлопал! – говорил Петя, а остальные слушали молча.
– Что, он твой муж? – спросил я у плачущей бабы.
– Нет! – ответила она и опять начала всхлипывать.
– Это, наверно, ее близкий друг! – гоготала молодежь.
Вокруг трупа на полу ползал ребенок. В комнате было тихо, уютно. В углу перед святыми образами ясно и мирно горит лампадка. Лики их мне кажутся страшными. Я поспешил выйти на улицу, передав приказание Верховного. Некоторые сейчас же последовали за мной.
– Убить-то убили, а тело оставили! Уберите его из моей хаты! – кричала женщина вслед уходившим, но на нее никто не обратил внимания.
– А где же Коля? – спросил я, заметив его отсутствие.
– А в самом деле, где Коля? – спрашивали друг друга вышедшие.
– Эй, Коля, где ты?! Выходи сюда скорее, – крикнул кто-то.
– Сейчас! – послышался голос из хаты.
Я посмотрел в окно. Коля сидел на полу и натягивал сапоги, снятые с убитого большевика.
– Господа, не нужна ли кому-нибудь из вас шинель? – крикнул он, подойдя к окну.
– Ну ее. Вся в крови! Была бы чистая, я взял бы! – проговорил Петя, кутаясь в воротник шинели и идя за мной.
Ново-Дмитриевская станица
16—24 марта 1918 года.
Постепенно войска после боя начали собираться у станичного управления, а Верховный, сидя в нем, следил за вскрытием ящиков с патронами, оставленных большевиками. Он сам помогал распечатывать их, радуясь, что армии досталось такое богатство. Здесь же он получал донесения и посылал приказания. На рассвете генерал Марков донес, что им отняты орудия со снарядами, но вывезти он их не может, так как все завязло в грязи и замерзло. Для снарядов просил прислать повозки. Получив такое известие, Верховный был счастлив.
За работой в управлении прошла вся ночь. Часов в пять утра генерал Романовский, обращаясь ко мне, сказал:
– Хан, голубчик, пойдите в квартиру, отведенную Верховному, и попросите хозяйку приготовить для него что-нибудь поесть и затопить печь. Он, бедняга, изнемогает от холода и голода.
С офицером-квартирьером я отправился в дом дьякона Черных (кажется, так звали его), где была отведена для Верховного квартира. Меня встретила очень интересная молодая дама, оказавшаяся женой дьякона, пригласившая меня войти в комнату. На мой вопрос, нет ли у них в сараях оставшихся большевиков, она ответила незнанием и советовала для полного успокоения обыскать их.
– Как будто бы кто-то стрелял из нашего двора в момент прихода армии! – закончила хозяйка дома.
– Хан Ага, не входи в сеновал до восхода солнца, нам кажется, что там есть спрятавшиеся большевики. Только что убили Ибрагима (азербайджанец из конвоя). Он, подойдя к окну соседнего дома, постучал и спросил, свободна ли хата. В ответ грянул выстрел и убил его наповал! – сказал мне туркмен.
В шесть часов утра Верховный, придя в квартиру, пожелал снять сапоги, чтобы просушить их немного. Фока с трудом стянул их, так как они и носки превратились в месиво. Верховный ничего не мог надеть взамен снятого, ибо возчик-чех, как я уже говорил раньше, еще в Рязанской станице бежал со всеми нашими вещами.
– Да, Хан, в эту ночь была обстановочка! Не окажись большевики такими уступчивыми, вся армия замерзла бы! – говорил Верховный, отогревшись немного за чашкой чая.
Часов в десять утра начался обстрел станицы большевиками. Снаряды сперва начали ложиться во дворе дьякона, а потом стали падать перед домом, перед самыми воротами и дверьми его. В продолжение четырех дней весь двор и вся площадь перед домом покрывалась глубокими ямами. При каждом разрыве снаряда дьякон бросался под стол и, забывая свой священнический сан, в присутствии жены, ругал площадной бранью ученых всего мира за то, что они придумали такое зло, как пушка. «Боже, Боже, вот-вот разрушат мой дом, и я останусь без него! Господи, зачем ты послал этот проклятый большевизм!» – причитал он, то бросаясь под стол, то пряча свою голову, как страус, среди горы подушек.
– Я, Мура (Марьей Ивановной звали его жену), пойду лучше в церковь, Господу Богу помолюсь. Он меня успокоит. Здесь все нервы себе истрепал! – говорил он жене, уходя в церковь.
Не прошло и полчаса, как он стремглав прибежал домой, так как снаряды рвались в ограде церкви и еще больше нервировали его, чем дома.
– Господи, Господи, ведь эта сволочь может убить человека ни за что, ни про что, да еще невинного! – говорил дьякон, ныряя в подушки при каждом новом разрыве.
Баткин, видевший все это, шутя посоветовал ему спрятаться под кровать, так как снаряд не пробьет никогда кровать с толстой периной – застрянет в его пуху. Обезумевший дьякон принял это за чистую монету и стал прятаться туда, следуя советам своего доброжелателя.
Перед обедом я рассказал о дьяконе Верховному, чтобы успокоить его. Верховный, еле удерживая себя от смеха, сказал:
– Ведь на вашем доме крыша железная, и я думаю, что снаряд ее не пробьет.
– Ой, нет, господин генерал! Она у меня старая и давно не крашенная! – ответил диакон, настороживший уши, как заяц, при словах Верховного.
Верховный, не выдержав серьезного тона, громко расхохотавшись и махнув рукой, ушел в свою комнату, куда скоро Фока подал обед, и Верховный, Долинский и я начали с удовольствием его уничтожать.
После обеда пришел какой-то мужик от священника, который сказал дьякону, что его просят прийти на погребение.
– Что, хоронить в такое время?! Какой черт, прости душу мою, заставил их умирать в этакое время! Не пойду я! Пусть батюшка сам хоронит! – кричал он жене, когда она начала уговаривать его идти хоронить убитых.
– Но ведь это же убитые добровольцы, и ты должен идти, раз батюшка тебя зовет! – убеждала мужа Мария Ивановна.
– А меня не могут убить сейчас? Пусть батюшка сам хоронит – работа невелика, а я на смерть не пойду! – отвечал дьякон жене, не двигаясь с места, и только после приказания Верховного он, проклиная всех мертвецов на свете, все армии и командующих, отправился в церковь.
17 марта, часов в одиннадцать утра, к Верховному прибыли с визитом представители Кубанской области. В три часа дня Верховный ответил им также визитом. Вечером того же дня состоялось совещание с Кубанской радой, присоединившейся к Добровольческой армии вместе с отрядом капитана Покровского. На этом совещании было решено о совместном действии кубанцев с Добровольческой армией против общего врага – большевиков, под командой Верховного. Во время этого совещания, около 8 часов вечера, вдруг неожиданно в станице поднялась беспорядочная стрельба из винтовок и пулеметов. Члены совещания, один за другим, начали поспешно выбегать из комнаты Верховного. Первым, со словами: «Где моя лошадь?», выскочил капитан Покровский и куда-то исчез. За Покровским бросился кубанский атаман полковник Филимонов, сказав, что надо спешить защищать одинокую, оставшуюся в обозе женщину. Кто была эта одинокая женщина, никто не знал! «К-хэ, к-хэ» – слегка покашливая, спокойно вышел генерал Алексеев, а вслед за ним вышел хмурый и недовольный генерал Деникин. Как только Верховный остался один, он, обращаясь к генералу Романовскому и к нам, сказал:
– Иван Павлович, будьте в штабе. Хан и Долинский со мной, – и, застегнув бекешу, вышел на улицу.
– Стойте! Кто вы такие? – спросил Верховный, заметив нескольких человек, стоявших посреди улицы и стрелявших неизвестно куда. Все, в том числе и Верховный, стояли по колена в липкой грязи.
– Мы – корниловцы, корниловцы! – отвечали те, продолжая стрелять, не узнав Верховного.
– Стойте, наконец! Я командующий! Куда вы стреляете? Эта сторона станицы принадлежит нам, значит, вы стреляете по своим! Идите сейчас же в штаб! Я приказал собраться там всем! – кричал Верховный, отсылая их в штаб.
Около штаба был кто-то ранен, его подняли и унесли в лазарет, а в штабе была страшнейшая паника. Люди метались и твердили, что мы окружены и нас уничтожат большевики. Штабные так разволновались, что некоторые из них просили священника, в доме которого стоял штаб, достать им на всякий случай штатское платье. Один только генерал Романовский был спокоен. Вообще, я должен сказать, что я никогда в жизни не видел такого спокойного человека, как генерал Романовский. В тяжелые критические минуты он бывал желтый, как лимон, но всегда спокоен, как Верховный. Паника в штабе продолжалась до прихода туда Верховного. Как только пришел туда он, все успокоились и каждый ловил каждое слово, сказанное им.
– Ничего страшного нет! Это простая демонстрация со стороны товарищей с целью попугать нас. Через полчаса все это окончится, так как мною заранее были приняты меры на такой случай! – успокаивал людей Верховный.
Действительно, не прошло и часа, как все успокоилось, и Верховный возвратился в дом дьякона.
Около десяти часов я попросил у Марии Ивановны для Верховного ужин.
– Какой ужин? – удивилась она. – Ведь я отослала его вам в штаб по вашей же просьбе с человеком, который держал лошадь Покровского.
Оказалось, что после нашего ухода пришел черкес и унес весь ужин, сказав, что Верховный приказал ужин доставить в штаб. Когда я об этом доложил Верховному, то он хохотал от души над находчивостью черкеса.
– Пусть ест! Наверно, был очень голоден! – говорил он, смеясь.
18 марта Верховный принял явившегося к нему бывшего председателя Государственной думы Родзянко. Когда я доложил Верховному о приходе Родзянки, он сказал:
– Пусть войдет, я очень раз встретить его в такой обстановке!
– Ваше Превосходительство! Прикажете приготовить для него намыленную веревку?! – спросил генерал Романовский полушутя-полусерьезно.
– Пожалуй, Иван Павлович, не найти вам такую крепкую веревку, которая могла бы выдержать его! – смеясь, ответил Верховный.
– Лавр Георгиевич, простите меня, старика! Вот где суждено было встретиться с вами, – говорил Родзянко, протягивая Верховному обе руки.
Верховный встал и подойдя с улыбкой к Родзянко, взял его за руку и хотел усадить, но, заметив отсутствие стула, обратился ко мне и сказал:
– Хан, пожалуйста, дайте нам стул!
Когда я принес стул, то услышал заданный Верховным вопрос:
– Надеюсь, вы теперь знаете, что представляет из себя русский народ?
– Как же, как же, знаю! Чтобы черт его взял! Ходил на них в атаку! Они нас так прижали, что на старости лет пришлось драть от них, как зайцу. Ну, слава Богу, Лавр Георгиевич, добрался до вас. Ради Бога, еще раз прошу простить старика, да забыть о прошлых промахах и ошибках, тем более что теперь мы с вами идем по пути исправления их.
Во время этого разговора участились разрывы снарядов около дома дьякона. Их громкие разрывы очень нервировали Родзянко, который советовал Верховному перейти в другое место, менее обстреливаемое.
– Я привык к этому. Вот уже третий день они рвутся над этим домом. Вот Хан знаток дела, а и он говорит, что ничего не случится! – говорил Верховный, указывая на меня и глядя ласковыми глазами, когда я поставил на стол три стакана чаю.
Генерал Романовский задал мне вопрос:
– Ну, что, Хан, все будет хорошо?
– Я спокоен, Ваше Превосходительство! – ответил я, собираясь выйти, когда Родзянко, поглаживая свою щеку, успевшую покрыться густой белой растительностью, еще раз сказал:
– Все же, Лавр Георгиевич, советую вам перейти в более спокойное место.
Не успел я выйти, как раздался выстрел в кухне, вход в которую охранялся конвойцами.
– В чем дело? – спокойно спросил Верховный у начальника конвоя, ротмистра Арона, выйдя на кухню.
– Нечаянно выстрелил часовой! – ответил бледный ротмистр Арон.
– Значит, он до сих пор не умеет обращаться с оружием! – резко заметил Верховный Арону и, круто повернувшись, возвращаясь к себе в комнату, хлопнул дверью.
Вся кухня от выстрела наполнилась газом, а с потолка от сотрясения воздуха упало много извести, смешанной с пылью.
Скоро Родзянко ушел. Верховный попросил еще чаю, но я доложил, что сахару у нас нет, ибо господин Родзянко уничтожил весь наш запас.
– Последний кусок, который я дал ему, был взят у конвойца и очищен мною от грязи ножом! – закончил я.
– Неужели, Хан, он шесть стаканов чаю выдул за такой короткий срок? – смеялся Верховный. – Да, жаль старика! Не повезло ему. Он освободил русский народ и сам же первый поднял против него оружие! – говорил Верховный, глубоко вздыхая.
Глядя в окно, Верховный глубоко задумался… Увидев во дворе конвойных лошадей, он, как бы вспомнив что-то, резко изменив тон, проговорил:
– Хан, почему лошади в таком плачевном состоянии? Я нахожу отношение начальника конвоя и конвойцев к своим лошадям отвратительным. Вы посмотрите, какие они грязные и худые.
Я начал было возражать ему, говоря, что они были и куплены в Ольгинской станице худыми, да их еще больше изнурил тяжелый поход. Верховный, выйдя из себя, начал на меня кричать:
– Вы, пожалуйста, Хан, их не защищайте! Они отвратительно относятся к своей обязанности! Вот вам пример. Вчера ночью, в 3 часа, ко мне ворвался казак с донесением. Зажегши свечу и приняв донесение, я проводил его сам и сам же закрыл за ним дверь. Ни офицеров конвоя, ни часовых в передней не было. На кой мне черт конвой, если люди так относятся к своим обязанностям?! Такую простую службу, как конвой, они и то не хотят добросовестно исполнять. Представьте себе, что вчера ко мне ворвался бы не казак с донесением, а большевик, который мог бы запросто ухлопать меня и об этом никто бы и не знал! Нет, это черт знает что за люди! Если ротмистр Арон не желает служить и в конвое ему трудно, то пусть заявит об этом мне, и я на его место назначу другого, который будет относиться к своему делу лучше, чем он. Еще раз прошу вас, Хан, не защищать этих господ, когда я говорю об их недостатках! – закончил Верховный.
Находившийся здесь Долинский тянул меня сзади за полушубок, чтобы я молчал.
– Хан, дорогой, я прошу тебя никогда больше не защищать своих офицеров, так как Верховный не раз говорил мне об их недобросовестном отношении к делу. Я не хотел передавать тебе об этом, не желая портить наши дружеские отношения. Ты сам теперь видишь, стоит ли их защищать после этого? Слава Богу, что случай с казаком прошел благополучно. А если бы Верховного убили? – говорил мне Долинский, жалея, что мне достается от Верховного за людей конвоя.
Оказалось, что во время дежурства ротмистр Арон крепко заснул после выпитой «грешной» рюмки, к которой он питал слабость. Часовые, видя, что их во время не сменяют, подождав немного, решили идти сами в конвойную команду, находившуюся рядом с домом, где жил Верховный. Придя туда, они также крепко уснули, оставив Верховного без охраны. После этого ротмистр Арон был смещен и на его место назначен полковник Григорьев, – которое из двух зол было хуже, трудно сказать.
22 марта
В этот день Верховный решил сделать обход по лазаретам и хатам, где были размещены больные и раненые. Первый свой визит он сделал в школу, где лежало большинство раненых. Медленно обходя комнаты, Верховный очень внимательно осматривал раненых, обращал внимание на каждого из них. Если попадались раненые, чем-либо недовольные, то таковых Верховный сразу узнавал по выражению лица, инстинктом, и, подойдя к таковым, начинал расспрашивать, как и что. Если раненый или больной жаловался на отсутствие чего-либо и это можно было достать за деньги, то Верховный тут же приказывал мне или Долинскому довести об этом до сведения генерала Эльснера или сам говорил с ним по телефону. В этот день, к счастью, все было на своем месте, и Верховный, не услышав ни одной жалобы, вышел к докторам, чтобы выразить им свою благодарность за только что виденное в лазарете.
Не успели мы спуститься по лестнице лазарета вниз, как к Верховному подошел офицер с какой-то бумагой. Быстро пробежав ее глазами, Верховный произнес:
– Идемте!
Придя домой, Верховный, с суровым, жестоким, почти побледневшим лицом, взяв карандаш, сделал какую-то надпись на полученной бумаге и дал мне для передачи ее ожидавшему в передней офицеру. Бегло взглянув на бумагу, я успел прочесть только два слова: «Повесить. Корнилов». Только тогда мне стала понятна перемена лица Верховного.
Эти два слова произвели на меня потрясающее впечатление. Дрожащей рукой я передал эту тягостную бумагу офицеру и тот, бегло взглянув и удостоверившись о наличии подписи Верховного на резолюции, произнеся: «М-м!..», моментально вышел. Мне было крайне тяжело передать смертный приговор. «Почему именно мне пришлось передать эту бумагу? Почему именно я, а не Долинский или дежурный офицер конвоя? Зачем, Аллах, Ты сделал меня невольным передатчиком людям смерти? Зачем, зачем?!» – говорил я, ропща на Аллаха и мучаясь. С таким чувством я вошел к Верховному, надеясь застать его в таком же состоянии, но, взглянув на суровое спокойное лицо его, я убедился, что в данный момент наши самочувствия различны.
Верховный сидел невозмутимый, как всегда, над картой и, казалось, всецело был поглощен ею. Взглянув на меня, он опять опустил голову над картой. Заметив, что Верховный не испытывает того, что испытываю я, я, выскочив на улицу, остановил офицера, уже входившего в штаб. Взяв у него бумагу со страшным словом «Повесить!», я принес ее обратно в комнату Верховного и, положив на стол, за которым сидел он, вышел. Верховный, увидя это, приказал Фоке взять принесенную мною бумагу и передать офицеру. Получив ее и снова пробежав глазами написанное страшное слово, офицер взглянул на меня и, не понимая, в чем дело, спросил:
– А что, Хан, Верховный хотел заменить это слово чем-нибудь другим, попроще, что вы меня вернули?
– А чем? – невольно задал я вопрос офицеру.
– Таким! – показал он, взяв на изготовку винтовку.
– Нет, нет! – сказал я и вышел в соседнюю комнату, немного успокоенный тем, что все же не я передал этот приговор, а другой.
Солнце медленно склонялось к западу. Чем ближе оно приближалось к месту заката, тем ярче и ярче разгоралось. Тени домов, деревьев и церкви удлинялись все больше и больше. Площадь с пятью или шестью фигурами копошившихся на ней людей была вся залита пурпурным светом. Подойдя к этим людям, я увидел, что они нервно-торопливо рыли ямы для столбов виселицы, которые лежали тут же. Через несколько минут виселица была готова. Не успел один из строивших ее произнести «Готово!», как из ворот ближайшего дома показалась группа людей со связанными назад руками и опущенными головами. Этих людей сопровождали вооруженные солдаты Корниловского полка. Площадь моментально наполнилась народом, сошедшимся со всех сторон поглазеть на зрелище. Одну плачущую старушку вели под руки. В это мгновение заиграл оркестр Корниловского полка, расположенного недалеко от площади, какой-то красивый вальс. Чарующие звуки вальса, вылетавшие из серебряных труб оркестра, казались чем-то диким в сочетании с бабьим плачем, с унылыми лицами осужденных, галдежом толпы и черным силуэтом виселицы на пурпурном фоне неба.
Одиннадцать смертников выстроились в ряд.
– Веди четырех! – скомандовал палач-солдат.
Осужденных толкнули сзади, и они подошли к виселице. Бледные, хмурые лица сосредоточены. Угрюмые глаза их оглядывались вокруг, как бы желая запечатлеть перед смертью все окружавшее. Справившись с веревками, палач обратился к четырем осужденным и спросил:
– Хотите сказать что-нибудь или передать?
– Чего тут говорить? Все сказано! Поскорее вздерни, да и конец! – произнес средних лет мужчина, глядя исподлобья на палача (по рассказу разведчика, взятого в плен большевиками и освобожденного нами, – этот самый мужик советовал товарищам поскорее зарубить разведчика-кадета).
– Не теряй времени! Валяй! – крикнул кто-то из толпы.
Смертники влезли на табуретки и палач набросил на их шеи петли. Во мгновение веревки были вздернуты, табуретки выпали из-под ног и четыре тела повисли в воздухе. Глаза вылезли из орбит, моментально вспухшие языки высунулись, как бы дразня кого-то. Тела вздрогнули два-три раза и, вытянувшись, повисли неподвижно. Остальные осужденные, глядя на своих повешенных товарищей, стараются что-то сказать, но за галдежом толпы их не слышно, да и никто не обращает внимания на их слова. Все это поразило меня своей простотой и примитивностью, но что меня действительно возмутило, это лица смеющихся людей, скаливших зубы при виде повешенных и глядевших на эту картину как на большой веселый праздник.
– Кажется, довольно! Прошла одна минута? – спросил палач.
– Есть! – раздались голоса.
Палач воткнул в тела повешенных длинную шпильку от дамской шляпы.
– Не шелохнутся, значит, готово! Опускай! Снимай петлю! Клади на повозку! Следующие! – раздается команда.
Подошли к виселице следующие четыре смертника. В это время какая-то баба и мужик упали в обморок. Среди осужденных были их родные.
– Валяй, пока не очухались! – крикнул кто-то из толпы.
– Хотите что-нибудь передать? – опять спрашивает палач.
Взглянув в сторону упавших в обморок женщины и мужчины, молодой белобрысый парень произнес:
– Жаль, что я не увижу, как наши будут вешать Корнилова!
– Скорей! – крикнул кто-то.
Вмиг петли наброшены, и эти четверо так же повисли, как и их товарищи, а звуки вальса безостановочно неслись, и к ним со странным вниманием прислушивались три последних смертника. Их лица ярко озарял свет заходившего солнца. Среди оставшихся трех был молодой матрос-коммунист. Их уже не спрашивали о последнем желании. Разозленный палач дернул так сильно, что веревка матроса оборвалась, и он с налившимися кровью глазами, ворочая стянутой шеей, еле произнося слова, сказал:
– Сволочь! Даже вешать не умеют!
Второй раз на шею матроса накинули петлю и медленно втянули его до перекладины. Через две минуты и он был положен с остальными в телегу, которая, скрипя и медленно покачиваясь, скрылась в темноте, увозя их к месту последнего упокоения.
На душе было тяжело и горько. Ну – пусть, если повешенные были виновны, а если нет, что было так возможно в обстановке похода?! А если тут был донос контрразведки, фатальная ошибка или просто жертва обмана? Бедный ты народ! Во всех случаях молчишь ты, как повешенный! Тебя и любят, и вешают. Кто виновник тому? Темнота! А разве можно темноту рассеять веревкой или оружием? Есть средство только одно – свет! Но при нем не бывает темноты! А этого-то света нет кругом!
Домой я возвращался, еле передвигая ноги. Было уже совсем темно. Сладкий напев вальса не может заставить меня забыть только что виденное и перенесенное.
– Света дайте, света! – бормотал я, идя.
Войдя в комнату, я застал Верховного спокойно шагавшим из угла в угол, с опущенной на грудь головой. Остановившись и глядя при свете лампы на меня горящими, как уголь, глазами, он спросил:
– Где вы были, Хан?
Я сказал.
– А, повесили? Всех?
Он тряхнул головой, как бы жалея и стряхивая что-то тяжелое, и, приподняв указательный палец, твердо произнес:
– Без этого, Хан, с ними не обойдешься!
Григорьевская и Смоленская
22—23 марта 1918 года.
После того как было достигнуто соглашение с кубанцами, 17 марта, их отряд прибыл в Ново-Дмитриевскую станицу, был расформирован и влит в состав Добровольческой армии. Тут же был выработан и общий план действий под командованием Верховного, который должен был вести армию на Екатеринодар и занять его. Зная, что в Георгие-Афинской станице, через которую должна была идти армия к Екатеринодару, скопилось много большевицких сил, Верховный решил обмануть их, устроив демонстрацию. Для того чтобы отвлечь их внимание и разбить силы, им были посланы в Григорьевскую – Корниловский полк, а в Смоленскую – генерал Богаевский с партизанами. Обоим было приказано захватить эти станицы и по мере возможности без лишних потерь. Была дана задача, взяв эти станицы, постепенно двигаться в тыл Георгие-Афинской станицы. А тогда, когда большевики разделят свои силы для защиты Григорьевской и Смоленской, – с оставшимися войсками в Ново-Дмитриевской станице Верховный должен был ударить на Георгие-Афинскую.
– Митрофан Осипович, ударьте на Григорьевскую ночью, часов в 12, когда товарищи будут спать. Поставьте свои часы по моим! – сказал Верховный, вызвав к себе 22 марта, после обеда, полковника Неженцева.
Как только полковник Неженцев получил боевую задачу и ушел, Верховный опять погрузился в карты и весь ушел в них.
– Ваше Высокопревосходительство, почему Вы, да и генерал Романовский во время чтения донесений всегда смотрите в карту и почему вообще вы очень много сидите над ней? – спросил я Верховного в этот вечер.
– Вот почему, Хан, я всегда у карты. Когда мне докладывают о противнике в том или ином месте, то я, глядя на карту, вижу в этом месте живых людей. Расспросив докладывающего о местности, я приблизительно могу сказать, какова сила противника и серьезна ли занимаемая им позиция, – объяснил мне Верховный.
Не желая больше ему мешать, я вышел в соседнюю комнату, т. е кухню, где Баткин горячо доказывал Долинскому несходство французской революции с русской – бескровной. Спор был интересный. Я подсел к ним и увлекся разбором и доказательством прекрасного оратора Баткина. Орудийный обстрел был обычным для нас явлением, и разрывы снарядов ничуть не мешали нашей интересной беседе. Даже сам дьякон в этот день был бодрее, чем когда-либо. Очевидно, он тоже привык к этой «музыке», думая, что не так страшны пушки, снаряды и их изобретатели, как ему казалось в первый день.
– Что же, вот уже скоро неделя, как «они» долбят в одно и то же место, а с нами хоть бы что! Дом стоит на месте, как всегда, и мы живем в безопасности. Сам Спаситель охраняет нас! – говорил дьякон.
– Это отчасти верно, но можно еще приписать и тому, что большевики не умеют стрелять из орудий! – заметил опытный артиллерист Великой войны Фока. – И еще…
Тут дьякон не выдержал и, не дав Фоке закончить фразы, набросился на него, говоря:
– Ты что, хочешь, чтобы «они» угодили в наш дом? Слава Богу, что эти прохвосты не умеют стрелять… – и, заметив присутствие в спальне Марии Ивановны, дьякон, понизив голос, шепотом «крыл» большевиков и читал нотации Фоке.
В это мгновение раздался оглушительный разрыв. Дом затрясся, точно его кто-то толкнул, зазвенели разбитые стекла и посуда. Все взглянули в недоумении друг на друга. Распахнулась дверь, и на пороге комнаты показался Верховный, позвавший меня и Долинского. Мы бросились к нему.
– Вы посмотрите, что творится в комнате! – сказал Верховный, покрытый грязью в буквальном смысле слова, с ног до головы.
Войдя в комнату, мы увидели, что вся она была залита липкой грязью. Стекла были разбиты вдребезги. Стол Верховного с бумагами и картами тоже был залит грязью. Долинский и я принялись очищать Верховного, а Фока и Мария Ивановна начали убирать комнату и постель его. Оказалось, снаряд ударил в лужу под самый фундамент дома. И после этого Верховный все-таки оставался жить в этом же доме, несмотря на то, что я и Долинский просили его переселиться в другой дом.
– Иван Павлович, рада не сердится на меня, что я держу ее так близко возле себя? Недолеты оставляю себе, а перелеты отдаю им?! – шутливо спрашивал Верховный генерала Романовского, явившегося в это время.
– Немного нервничает, Ваше Превосходительство, – ответил тот.
– Ничего, ничего, Иван Павлович, я пойду их сейчас успокаивать! – говорил Верховный, уходя.
Пробыв у Кубанской рады не больше двадцати минут, Верховный отправился в лазарет. Обходя каждого раненого, он спрашивал, в каком бою ранен и получает ли он все необходимое.
– Господа, о всех ваших нуждах сообщайте моим адъютантам, которые будут приходить к вам, если я буду занят. Они – мои близкие люди, и вы им говорите все, как если бы говорили мне! – говорил Верховный, обходя их.
Кстати сказать, я был официально зачислен по приказу адъютантом и оставлен при Верховном после прибытия армии в Ново-Дмитриевскую станицу.
По дороге из госпиталя домой нас встретила группа офицеров, обратившихся ко мне с просьбой доложить Верховному об их желании поговорить с ним. Я доложил.
– Ваше Высокопревосходительство, мы без сапог. Только что были у начальника штаба, он послал нас к генералу Эльснеру, говоря, что это не его дело, а генерал Эльснер заявил нам, что у него сапог нет. Поэтому мы принуждены были обратиться к вам! – говорили офицеры.
– Хан, позовите ко мне начальника штаба. А вы, господа, пойдемте ко мне! – обратился Верховный к офицерам.
– Иван Павлович, эти офицеры без сапог. Они обращались к вам и вы им заявили, что это не ваше дело, а генерал Эльснер – что у него нет сапог. Скажите же, ради Бога, чье же в конце концов дело заботиться о нуждах армии? Неужели же теперь я сам должен проверять каждого бойца, есть ли у него обувь или нет? Прошу вас сию же минуту пойти вместе с этими офицерами к генералу Эльснеру и передать ему, чтобы он из земли вырастил, но снабдил их обувью! И вообще, Иван Павлович, я не хочу больше слышать подобных жалоб. Это передайте, пожалуйста, и генералу Эльснеру! – закончил Верховный, отпуская генерала Романовского, а, выйдя к офицерам, ожидавшим в передней, сказал: – Господа, я сейчас приказал генералу Романовскому идти с вами к Эльснеру за обувью. Вы ее должны получить. По получении явитесь ко мне. Идите с Богом!
Войдя в комнату, Верховный, обращаясь ко мне, произнес:
– Тяжело мне работать, Хан, когда нет людей. Я отлично понимаю, что не все эти господа на своем месте, но скажите же, Хан, кем я могу их заменить сейчас? Боже, Боже! – закончил он, качая головой, сосредоточенно глядя в окно.
Вечером, перед ужином, когда я пошел в штаб, генерал Романовский встретил меня с такими словами:
– Хан, голубчик, вы напрасно пускаете к Верховному всех, кто желает с ним говорить. Вот, например, сегодняшние офицеры! Вы их пустили к Верховному, и они отняли у него время, вместо того чтобы их послать ко мне. Не может же Верховный выслушивать просьбу каждого офицера, да еще о сапогах, в то время когда он занят решением более важных вопросов. Приходя к нему со своими нуждами, они заставляют его волноваться, что дурно отражается на нас. Прошу вас, голубчик, впредь в подобных случаях всех посылать ко мне, и я, узнав о важности их просьб, сам буду действовать так или иначе.
– Ваше Превосходительство, еще в Ростове Верховный приказал мне, что все лица, состоящие в Добровольческой армии и явившиеся с желанием видеть его и изложить ему свои нужды лично, должны быть допускаемы мною к нему в любой час дня и ночи. Как офицер и честный человек, я не могу идти против его приказания. Если вы желаете, то я доложу об этом Верховному, и если он переменит свое приказание, то я всех прибывающих к нему буду посылать к вам! – ответил я ему.
– Хорошо, хорошо, Хан! Пойдемте лучше ужинать. Я сам поговорю с Верховным! – сказал генерал Романовский, идя со мной на ужин, ибо всегда Верховный, он, Долинский и я ужинали, обедали и завтракали вместе.
23 марта, после приезда Верховного с фронта (ездил он под Григорьевскую и Смоленскую), генерал Романовский сообщил ему о намечающемся в армии расколе на две партии: монархистов и демократов. Это известие сильно взволновало и огорчило Верховного, и после этого мне казалось, он с каждым днем все больше и больше охладевал к своей работе.
– При таких обстоятельствах я не в состоянии работать! Придется мне или просто уйти от командования армией, или заявить: «Господа монархисты в одну сторону, а демократы в другую» – и уйти с последними, оставив господ монархистов их вождю, генералу Алексееву. Ведь это мальчишество, думать в такое время о какой бы то ни было партии! И это взрослые люди?! Не понимают, что Родина сейчас горит от партийности. Прежде чем мечтать о какой бы то ни было власти, необходимо сперва восстановить порядок в России. Если русский народ после восстановления порядка придет к заключению, что ему необходим монарх и этот монарх будет выбран всей Россией, то я первый буду служить ему. Если же монарх будет «штампованный» немцами – я эмигрирую из России. Ах, этот Алексеев со своими монархистами! Дойдут до того, что развалят армию, вырвав веру в начатое нами дело у лучших сынов ее. Я думаю, после взятия Екатеринодара армию придется основательно почистить! – говорил Верховный генералу Романовскому, ходя по комнате из угла в угол.
От Георгие-Афинской до Елизаветинской
24 марта 1918 года.
23 марта вечером Верховный вызвал к себе генерала Маркова. После часового совещания вдвоем генерал Марков, получив боевую задачу на завтрашний день, ушел. Задача эта заключалась в том, что генерал Марков со своим полком, выйдя из Ново-Дмитриевской ночью, подойдет к Георгие-Афинской станице на рассвете, как раз в то время, когда товарищи будут еще спать, и стремительно ударит на большевиков.
– Хан, разбудите меня в три часа, чтобы мы уже к началу операции были там! – приказал мне Верховный, ложась спать в 10 часов вечера.
Ровно в три часа он был разбужен и после легкого завтрака и стакана чаю, отнявшего полчаса, мы тронулись в путь. По станице ехали очень медленно, с трудом выбираясь из моря грязи. Выехав в открытое поле, где дорога была немного лучше, Верховный поехал крупной рысью, и генерал Романовский, Долинский и я на наших «англо-арабах» еле поспевали за ним. За нами следовал конвой под высоко развевавшимся национальным флагом. Было еще темно. Навстречу нам дул резкий холодный ветер, разгонявший туман. Заметив справа каких-то всадников и видя, что мы отстали, Верховный остановился, чтобы подождать нас. Из конвоя было выделено несколько человек и послано вправо, чтобы выяснить, к какой из сторон принадлежат всадники. Возвратившиеся конвойцы доложили, что это боковые дозоры генерала Маркова. Проехав еще немного и не слыша стрельбы, Верховный начал волноваться. Было почти светло, когда он увидел впереди себя двигавшуюся пехотную колонну. Узнав, что генерал Марков со своим полком находится только здесь, в то время как он должен был уже атаковать Георгие-Афинскую станицу, Верховный разозлился.
– Упустил самое дорогое время! – произнес он и пришпорив булана, поскакал к генералу Маркову.
Подъехав к генералу Маркову, Верховный раздраженно сказал:
– Момент упущен! Сергей Леонидович, ведь вчера я ясно и определенно показал вам по карте, какова местность возле Георгие-Афинской. Чтобы не понести излишних потерь, я приказал вам атаковать ее во время темноты. Вы же не изволили исполнить свою задачу и ведете сейчас людей на расстрел. Меня удивляет, что на сей раз вы, Сергей Леонидович, изменили себе!
– Ваше Превосходительство, усталых людей очень трудно было поднять! – начал было говорить генерал Марков, но Верховный резко его перебил:
– Ведите скорее, а то совсем будет поздно! – и сам поскакал вперед.
Колонна пехоты с артиллерией двигалась по совершенно чистому полю и находилась в полуверсте от железнодорожного полотна, идущего впереди станицы. Не успел Верховный отъехать от головы колонны и ста шагов, как показавшийся на полотне железной дороги бронепоезд товарищей открыл такой убийственный огонь, что даже Верховный, быстро соскочив с лошади, нагнулся под неприятельским огнем и направился к насыпи.
– Убрать лошадей! – крикнул, уходя, Верховный.
– Разомкнись! Ложись! – слышалась сзади команда нервничавшего генерала Маркова.
– Вот видите, что вы наделали, Сергей Леонидович! Теперь нас всех перебьют, как куропаток! – сурово заметил Верховный генералу Маркову, когда тот подошел к нему.
– Ваше Превосходительство! Ошибка будет исправлена! – быстро ответил он и крикнул: – Перебежками вперед!
Не отвечая ничего генералу Маркову, Верховный продолжал быстро идти вперед и, подойдя к старой железнодорожной насыпи без рельс, приказал мне и Долинскому лечь, сам же с генералом Романовским, стоя под градом пуль, начал осматривать в бинокль позицию большевиков. Ни Верховный, ни генерал Романовский, ни Долинский, ни я в этот день, по милости Аллаха, не были ранены. Правда, одежда наша была прострелена в нескольких местах. Да и у кого она не была прострелена в этот день? Генерал Романовский не был ранен в ногу навылет, как об этом пишет в своей книге генерал Деникин.
Поле, по которому войска делали перебежку, от растаявшего снега превратилось в болото. Перебегавшие, не обращая внимания на тысячи беспрерывно жужжавших пуль, при каждой очереди из пулемета бултыхались со своей винтовкой прямо в воду, которая вокруг них кипела от пуль, как в котле. Улучив момент, они поднимались и бежали вперед, бросаясь опять в воду при новой очереди. Товарищи не жалели ни патронов, ни снарядов и по одиночным фигурам выпускались в одно мгновение тысячи пуль. Чтобы притащить пулемет на позицию, находившуюся от Верховного в трехстах шагах, понадобилось больше получаса времени. Я не берусь описывать обстановку этого дня, а скажу лишь, что от пуль было очень жарко и это помнит каждый участник этого боя. Наконец, все войска, добежав до железнодорожной насыпи, где находился Верховный, залегли и не могли двигаться дальше, так как бронепоезд, стоявший впереди нас, работал беспрерывно, посылая бесчисленное количество снарядов и пуль.
– Хан, прикажите полковнику Миончинскому, чтобы он отогнал этот бронепоезд! Он нам сейчас мешает! – приказал мне Верховный.
Поминутно ныряя и бросаясь при каждой очереди пулеметов в липкую холодную грязь, я побежал назад и передал приказание Верховного командиру батареи.
– Понимаю! Вижу! Сейчас! – говорил полковник Миончинский, быстро занимая позицию.
В этот момент около самого орудия было ранено два человека прислуги и лошадь.
– Мы товарищей в два счета! – говорил Миончинский, направляя сам орудие.
Я поспешил к Верховному. «Ба-бах!» – раздался выстрел нашей батареи, когда я лежал в воде, недалеко от нее, так что от выстрела меня обдало сильно воздухом. После трех выстрелов бронепоезд снялся с места.
– Молодец, полковник Миончинский! Хорошо угадал по бронепоезду! – говорил Верховный, увидя, как бронепоезд начал удирать. – Сергей Леонидович, быстро займите впереди стоящую железнодорожную будку! – приказал Верховный генералу Маркову.
Генерал Марков поспешил исполнить приказание. В это же время прибыл казак с донесением от генерала Богаевского. Прочитав его, Верховный произнес:
– Слава Богу! Африкан Петрович покончил со Смоленской и идет в обход Георгие-Афинской. Надо спешить к нему! Пока не подойдет сюда Неженцев и Богаевский, товарищи будут сидеть здесь! – произнес Верховный, направляясь к конвою, который находился в это время в «глубокому тылу».
Войска, лежа на ребре насыпи в разнообразных позах, весело разговаривали между собой, когда мы с Верховным проходили мимо них.
– Лежите, лежите, господа! – говорил Верховный поднимавшимся при его приближении.
– Хан, поезжайте в Ново-Дмитриевскую и передайте полковнику Трухачеву, чтобы штаб пока оставался там, так как выступать еще рано. Обстановка сегодня изменилась! – приказал Верховный около одиннадцати часов дня, когда мы вчетвером подошли к конвою. – Посмотрите, Иван Павлович, что делается вокруг! Огонь очень сильный! – говорил он, глядя в поле, которое кипело от падавших пуль.
Сев на лошадь, я в сопровождении неизменного Фоки поспешил в Ново-Дмитриевскую. При въезде в станицу я встретил генерала Деникина, в сопровождении своего адъютанта штабс-капитана Малинина ехавшего на фронт.
– Ну, как дела, Хан? Все обстоит благополучно? Станица еще не занята? – спрашивал он меня.
– Никак нет, Ваше Превосходительство! Ждем подхода полковника Неженцева и генерала Богаевского в обход засевшим большевикам! – доложил я и направился в штаб.
Не успел я выйти из штаба, как увидел въехавшего в станицу Верховного.
Быстро пообедав, Верховный в сопровождении генерала Романовского, Долинского и меня поехал по направлению к Смоленской. Было 4 часа дня. По дороге мы встретили казака с донесением от полковника Неженцева, доносившего о взятии Георгие-Афинской. Подъезжая к этой станице, мы увидели дым горящих вагонов. Верховного встретили выстроившиеся войска.
– Низкий поклон вам, бессмертные! – крикнул Верховный, подъехав к правому флангу их, где стоял загорелый и весь в грязи генерал Казанович.
После приветствия Верховный задал сейчас же вопрос, сколько досталось патронов, есть ли снаряды и какие потери. Получив ответ, он направился к горящим вагонам.
– Ваше Превосходительство! Вы забыли поздороваться с корниловцами, они ждут вас в строю! – заметил полковник Неженцев, подойдя к Верховному.
– Ах да, где они? Простите меня, Бога ради, Митрофан Осипович! Совсем забыл! – говорил Верховный, подходя к корниловцам.
Поздоровавшись, он поблагодарил корниловцев за их усилия и жертвы и также назвал бессмертными.
Осмотрев взятые у большевиков вагоны со снарядами и патронами, разместив раненых в станичном управлении, Верховный отправился в отведенную ему квартиру в доме священника, которого большевики за кадетские убеждения повесили до прихода нашей армии. Было уже темно, когда по небольшой лестнице, ведшей к парадной двери, подымался Верховный. Оставалась еще одна ступенька. В это время откуда-то раздался выстрел и пуля, прожужжав, впилась в дверь, на вершок вправо от головы Верховного:
– Хан, сохраните и эту пулю! – приказал мне Верховный, когда я, выковыряв ее, показал ему.
Пуля эта была круглая, очевидно, выпущенная из охотничьего ружья.
На другой день, часов в 5 утра, Верховный стоял уже за станицей и пропускал мимо себя обоз, направлявшийся вместе с армией в аул Панахес. Шел мелкий дождь, превративший и без того плохую дорогу в сплошное море грязи. Войска по пояс тонули в ней, но все они были бодры и глаза их сияли при виде своего любимого командующего, который всегда так заботился о них, не давая никому в обиду. Все с восторгом приветствовали его и махали руками нам вслед, когда Верховный с нами проезжал мимо них.
– Хан, Хан! Как поживает «батька»? – громким шепотом спрашивали меня шедшие по пояс в грязи офицеры, когда мы быстро проносились мимо них.
В ответ на это я махал им рукой, что служило знаком: «Хорошо!»
В пять часов вечера, 26 марта, Верховный подъехал к переправе через реку Кубань. Переправа происходила при помощи одного очень старого и маленького парома, на котором помещалось не больше 2–3 повозок. Поэтому-то, как мы увидим дальше, эта переправа явилась одной из самых главных причин в судьбе армии под Екатеринодаром, которого не могли взять вследствие долгой и затяжной переправы войск и обоза, занявшей около четырех дней.
В тихий ясный вечер Верховный переправился через Кубань, за которой была расположена большая богатая станица Елизаветинская, находившаяся в 18 верстах от столицы Кубани. Не успел Верховный переправиться, как ему доложили, что жители Елизаветинской во главе с духовенством ожидают его для встречи у въезда в станицу. Быстро сев на булана, Верховный то рысью, то шагом поспешил в станицу. Его маленькая фигура в скромном сером полушубке то появлялась, то исчезала в ночной темноте, уносимая вперед могучим буланом, который, почуяв близость деревни, неудержимо рвался вперед.
Еще издали мы увидели море мерцающих свечей, которые держал в руках встречавший народ. Духовенство в праздничном облачении и с иконами ожидало Верховного. Головы у всех были обнажены и глаза устремлены в сторону приближавшегося Верховного. Быстро и легко соскочив с коня и приняв благословение священника, Верховный среди народа, заполнявшего все улицы, двинулся по направлению к церкви. Генерал Романовский, Долинский и я шли недалеко от него.
– А где сам Корнилов-то, Митрич? – услышал я чей-то вполголоса заданный вопрос.
– Видишь? Вон идет он рядом с батюшкой! Маленький человек с китайским лицом-то! – ответил такой же негромкий голос.
– Где, где он, сам-то? – слышались кругом вопросы.
– Вон тот, который сейчас смотрит сюда. Видишь, рядом с батюшкой. Взгляни на глаза-то, Митрич, какие суровые!
– Хо! Да! Суров на вид! Гляди какой маленький, а целую армию с ранеными да больными с Дона сумел провести сюда!
– Разве, Митрич, людей судят по росту? Ты что, забыл нашу поговорку-то? «Мал золотник, да дорог». Что толку, когда человек велик ростом?
Обернувшись, я увидел говорившего. Это был старый казак-кубанец.
«Слава Аллаху, что наконец его поняли. Дай Аллах побольше верующих!» – читал я молитву про себя, глядя на Верховного. Он шел довольно далеко от меня, шел, осматривая толпу, и тяжело вздыхал. Я видел его глаза, освещенные светом свечей.
После краткого молебна в церкви, переполненной народом, Верховный направился в дом батюшки по приглашению последнего. Ему была отведена лучшая комната в доме – зубоврачебный кабинет дочери батюшки. Долинский и я поместились рядом, в комнате сына батюшки. За неимением кроватей нам положили на пол матрасы, на которых мы и спали, укрывшись шинелями. Гостеприимный священник со своей симпатичной семьей очень радушно встретил нас, и Верховный с удовольствием отдохнул в этот вечер в этой милой семье. Никто из нас, видевших такой теплый прием этой семьи, не смог даже пожать им руки и поблагодарить, – время и обстоятельства не позволили это сделать ни одному из нас, евших хлеб-соль со стола этой семьи. Если эти строки когда-нибудь дойдут до нее, то пусть она примет мою сердечную благодарность!
Быстро поужинав, в 12 часов ночи Верховный лег отдыхать.
В пять часов утра, 27 марта, Верховный отправился осматривать позицию, занимаемую корниловским сторожевым охранением, находившуюся за Елизаветинской, в сторону Екатеринодара. Эта позиция на несколько тысяч шагов тянулась от крутого берега Кубани до плавня.
– Митрофан Осипович, сколько у вас здесь человек? – спросил Верховный у полковника Неженцева.
– Шестьдесят штыков! За ночь из строя выбыло пять человек! – доложил полковник Неженцев.
– Хорошо! Это немного, но вы держитесь до последней возможности. Как только переправят артиллерию, я пришлю к вам два орудия. Одно из них поставьте на левом фланге на берегу Кубани, на случай, если товарищи вздумают сделать вам визит на пароходе из Екатеринодара! – говорил Верховный, уезжая.
По возвращении Верховного в Елизаветинскую ему представились казаки, которые желали бороться в армии против красных.
– Я очень рад, Хан, что прибыло к нам целых шестьдесят человек здоровых молодых казаков. Слава Богу, ум русского человека, кажется, начинает проясняться. Дай Бог, чтобы дальше шло так! Здесь, Хан, совсем другое настроение, чем на Дону! – в веселом настроении говорил Верховный.
Опять явилась надежда, что русский народ понял, где его друзья и где враги и, объединившись вокруг Добровольческой армии, сметет с лица России всю насевшую нечисть.
От Елизаветинской до фермы
27, 28, 29, 30 и 31 марта 1918 года.
После того как Верховный отпустил казаков, пожелавших драться в рядах армии, он в сопровождении Долинского и меня выехал на переправу.
– Надо повидаться с генералом Марковым! – сказал он мне, отдав приказание подать булана.
На правом берегу Кубани, в то время когда мы приехали туда, была конница генерала Эрдели и вторая бригада генерала Богаевского. А бригада генерала Маркова была прикована к обозу.
Вид переправлявшегося обоза, растянувшегося на несколько верст, привел Верховного в ужас.
– Господи, сколько времени отнимает этот несчастный обоз, когда мне необходимы бойцы и главным образом генерал Марков! – говорил он мне, глубоко вздыхая.
– Ваше Высокопревосходительство, почему Вы изволили назначить генерала Маркова для прикрытия обоза? Я думаю, что на его место можно было бы назначить кого-нибудь другого, а присутствие его на фронте было бы кстати, в особенности во время операций под таким крупным пунктом, как Екатеринодар. – спросил я Верховного.
– Вы, Хан, не уясняете себе обстановку. Я с вами согласен, что генерал Марков необходим сейчас на фронте. Об этом и я думаю. Но поставь я на место него другого, то в обозе поднимется кавардак и переправа его затянется еще на большее время. Сейчас же раненые, зная, что они находятся под прикрытием генерала Маркова, спокойно лежат в своих повозках, и появление его среди них очень бодрит их. Нет, я нахожу, Хан, что генерал Марков сейчас на месте! – объяснил мне Верховный.
Часов в 10 к Верховному подскакал казак с донесением от полковника Неженцева, который доносил, что большевики при поддержке сильного артиллерийского огня перешли в наступление и теснят его. Тотчас Верховный, отдав некоторые приказания генералу Маркову, поскакал к полковнику Неженцеву. Проезжая через Елизаветинскую, мы видели, как товарищи засыпают ее снарядами. При нашем выезде из станицы один из снарядов попал в купол церкви, которая находилась на окраине станицы (было две церкви).
– Митрофан Осипович, товарищи вас беспокоят своим огнем? Я обещал вам подкрепление и оно придет, но переправа его займет немного времени. Я знаю, Митрофан Осипович, что вас очень мало, но принимая во внимание, что вы корниловцы, я спокоен. Ничего, потерпите немного! – говорил Верховный полковнику Неженцеву, успевшему под давлением большевиков отойти назад.
В полдень, когда все войсковые части, успевшие переправиться на правый берег, постепенно подошли к станице, Верховный немедля дал следующую боевую задачу.
Генерал Богаевский со своим партизанским полком должен был идти прямо в направлении города Екатеринодара, генерал Казанович со своим партизанским батальоном должен был двигаться вдоль большой дороги, ведущей из Елизаветинской в Екатеринодар.
Войска развернулись, как на параде, и приятно было смотреть на «бессмертного» старика генерала Казановича, бросавшегося в атаку со своими орлами, не сгибая спины.
– Да, красиво! Молодец! Он незаменим! – говорил Верховный, следя за генералом Казановичем, как он гнал перед собой громадную толпу большевиков, которые, не ожидая такого стремительного удара со стороны нашей армии, бежали в панике назад.
Большевики, отхлынувши назад, закрепили за собою третью линию окопов перед самым городом. Их левый фланг входил на ферму, которая стояла на берегу Кубани. Генерал Казанович, увлеченный военным успехом, двинулся дальше и занял кирпичный завод недалеко от Екатеринодара. Верховный, зная хорошо неустойчивость товарищей и избалованный своим боевым счастьем до Екатеринодара, решил атаковать город раньше, чем опомнятся большевики и перебросят сюда большие силы. Особенно это решение окрепло, когда донесли ему, что в городе стоит паника и товарищи эвакуируются. С этой целью 28 марта на рассвете Верховный приказал генералу Богаевскому двинуться прямо на Екатеринодар. Партизанский полк получил задачу атаковать западную окраину Екатеринодара. Корниловскому полку было приказано идти на Черноморский вокзал, согласуя свое движение с генералом Казановичем. На левом фланге Корниловского полка должна была идти конница генерала Эрдели, на которую была возложена задача: обойдя правый фланг большевиков, отрезать железнодорожные линии, соединяющие Екатеринодар с Владикавказом и Черным морем. По мере успеха она должна была выйти в тыл большевикам и поднять казаков Пашковской станицы.
Операция началась в назначенное Верховным время. Генерал Казанович после горячей схватки занял ферму. Большевики ввели свежие части и под прикрытием тяжелой и легкой артиллерии, перейдя в контрнаступление, отняли ферму. С подходом Корниловского полка слева и помощи пластунов под командой полковника Улагая, линия фронта была исправлена, ферма вновь занята и закреплена окончательно за нами. В этот день выбыли из строя убитыми и ранеными много храбрецов. В числе раненых был и сам гененерал Казанович, полковник Улагай, партизанский герой есаул Лазарев и др. Вся дорога до фермы была устлана трупами большевиков.
– Хан и Долинский, собирайте патроны, втыкайте винтовки штыками вниз, – приказал нам Верховный, когда мы тронулись в направлении фермы, как только она была очищена от большевиков.
Здесь с Верховным были генерал Богаевский, генерал Романовский, Долинский и я. Наш штаб из Елизаветинской перешел тоже сюда.
Вмиг роща, окружавшая ферму, превратилась в боевой лагерь. Сюда приводили раненых с позиции, которые сидели и лежали в ожидании отправки их в Елизаветинскую. Заходили сюда и группы людей, идущих из Елизаветинской на позицию. Можно было здесь видеть и бегунов с фронта, которые, лежа и сидя под каждым кустом, весело разговаривали, радуясь, что ускользнули от зорких глаз Верховного и Маркова. Некоторые из находившихся здесь, разложив костры, кипятили чай и варили пищу. Повозки, прибывшие за ранеными или с провиантом, костры, группы людей, снующих взад и вперед, – все это придавало роще вид Запорожской Сечи.
В здании фермы Верховный занял угловую комнату, находившуюся в конце коридора справа, одно окно которой выходило на Кубань, а другое по направлению позиции. Это окно я завесил старым мешком, найденным мною в сарае. Напротив комнаты Верховного поместилась команда связи, рядом с командой связи – штаб, а рядом со штабом – перевязочная комната. Операционная комната с большим столом поместилась рядом с комнатой Верховного, а за ней – комната для тяжелораненых. Между комнатой Верховного и командой связи, в маленькой комнатке в три аршина в длину и три в ширину, с одним окном, выходившим по направлению позиции, поместились Долинский и я. Собственно говоря, в этой комнате нам ни разу не пришлось отдохнуть, так как отдыха не было вообще. Наша комната предоставлялась в распоряжение офицеров конвоя и всех тех, кто хотел отдохнуть. В этой маленькой комнатке стояла кровать, прижатая к стене, выходившей в сторону позиции, и на ней три доски. Больше в ней ничего не было. В комнате Верховного у печки стоял стол (привезенный из Елизаветинской станицы), на котором лежали: карта, браунинг, часы, свечка, спички и еще некоторые бумаги, один старый стул и точно такая же кровать с голыми досками, как и у нас. Как только вошел Верховный в эту комнату, так сейчас же, сбросив с себя полушубок (было тепло), он начал принимать донесения, отсылать распоряжения и выходить в комнаты штаба и связи. Он то и дело вздыхал и, нервничая, говорил:
– Когда развяжется генерал Марков с несчастным обозом?!
С каждым часом число орудий у большевиков увеличивалось, и они били из них очередями. Горсточка людей нашей армии под Екатеринодаром начала таять под ожесточенным огнем неприятеля. Наша батарея почти молчала, отвечая на сотни снарядов товарищей одиночными выстрелами, а иногда и совсем отмалчивалась. Стоны все вновь и вновь прибывающих раненых тоже немало терзали всех. Верховный еще больше нервничал и злился.
1-й штурм и совещание
29 марта 1918 года.
Начиная с 29 марта большевики развили по всему фронту страшный огонь. Против нас было: 3 бронепоезда, 4 гаубицы и 12 легких орудий. Их снаряды в этот день иногда долетали до рощи, где помещался штаб.
После обеда наконец на ферме появился генерал Марков, успевший развязаться с обозом. Его появление несколько подбодрило людей. В этот же день, в пять часов вечера, Верховным был назначен штурм Екатеринодара. После условленных семи артиллерийских выстрелов нашего орудия должен был начаться штурм. После поданного сигнала генерал Марков со своими двумя ротами бросился в атаку. Большевики упорно сопротивлялись. Дело дошло, как говорили, до штыковой схватки, результатом которой было то, что товарищи были выбиты из занимаемых ими артиллерийских казарм, а генерал Марков, взяв казармы с боя, закрепил их за собой. К ночи было получено донесение, определившее войсковые перегруппировки под городом. Генерал Марков со своей бригадой успел закрепить весь взятый им район. С генералом Казановичем он потерял всякую связь. Корниловский полк по-прежнему занимал занятую позицию. При взятии генералом Марковым артиллерийских казарм Корниловский полк не поддержал его вовремя, так как в составе его было теперь очень много новичков кубанцев, которые, попав с места в карьер в такой переплет, терялись и даже «пачками» бежали с фронта. Много труда стоило Верховному выделить особый отряд для задержки их и отправки снова на фронт. С этой целью дороги из Екатеринодара на Елизаветинскую охранялись вооруженными людьми.
30 марта Верховным было созвано совещание. Он хотел выслушать мнение старших чинов армии и высказать им свой взгляд на создавшуюся обстановку. Когда все старшие чины армии были налицо в комнате Верховного, то он начал им излагать обстоятельно положение дел на фронте. Указав на численное превосходство большевиков и их неисчислимые запасы бойцов, патронов и снарядов, Верховный остановился на нашей армии. Он говорил, что части добровольцев, благодаря четырехдневным беспрерывным боям, сильно потрепаны и перемешаны, численный состав частей сильно уменьшился. В некоторых полках, например партизанском, нет и 300 штыков, а в Корниловском и того меньше.
– К сожалению, я замечаю утечку в глубь тыла совершенно здоровых бойцов из рядов армии, не говоря о казаках, которые не хотят воевать и расходятся по станицам. Наша конница, посланная в тыл большевикам, ничего серьезного не сделала и, пожалуй, не сделает. Число раненых с каждой минутой увеличивается, а медицинского персонала и медикаментов у нас нет! – закончил Верховный.
Кстати сказать, 30 марта, перед самим совещанием, я передал Верховному записку от генерала Эльснера, где тот сообщал, что у него всего-навсего осталось 12 000 патронов.
Во время этого совещания было решено повторить штурм Екатеринодара первого апреля.
После совещания, в пять часов вечера, Верховный глухим басом сказал мне:
– Хан, пойдемте осмотрим позицию. Возьмите бинокль.
Выйдя из фермы, Верховный и я пошли по направлению Черноморского вокзала. Не успели мы показаться в поле, как товарищи, заметив нас, открыли пулеметную и винтовочную стрельбу. Верховный, не обращая внимания, как всегда, все шел вперед. Я, идя сзади его, читал молитву. Влево от нас находилась наша батарея.
– Господин корнет, попросите Верховного от имени офицеров батареи вернуться, так как впереди обстрел еще сильнее! – просил один из офицеров батареи, подбежав ко мне.
– А? Что? Сильный обстрел?.. Где Миончинский? Спасибо вам, господа! Я сейчас! – сказал Верховный, продолжая идти дальше.
«Д-ж, ж-ж ж!» – пролетали мимо ушей и над головой пули от выпущенных очередей из пулеметов. Верховный, нагнувшись, перепрыгнул лужу. Во время прыжка его папаха упала по эту сторону лужи. В лужу же падали пули, брызгая во все стороны грязью. Не желая спускаться вниз и не выпуская бинокль из рук, он, внимательно осматривая позицию, произнес:
– Хан, подайте мне, пожалуйста, папаху!
В это время я лежал как раз возле папахи, ожидая, когда прекратится стрельба, чтобы, перепрыгнув через лужу на сторону Верховного, подать ее.
– Ну что, Хан, жарковато? Не бойтесь, пули нас не тронут! – сказал Верховный, обернувшись ко мне.
Улучив минуту, т. е. пропустив очередь из пулемета, я, схватив папаху, перепрыгнул к Верховному. Одев ее, он двинулся опять вперед.
– Ваше Высокопревосходительство, я прошу вас дальше не идти! – сорвалось невольно с моего языка.
– Хан, вы сами говорили когда-то, что если человеку суждено умереть, то его убьет собственная тень. Кисмэт (судьба)! – произнес Верховный, продолжая идти опять вперед.
– Береженого и Бог бережет! – ответил я ему.
– Хан, прилягте здесь, а я пройду до наблюдательного пункта. Предлагаю вам я это не потому, что вы боитесь, а просто чтобы уменьшить цель. А то действительно эти негодяи нас заметили! – сказал Верховный, пройдя некоторое расстояние.
– Ваше Высокопревосходительство! Я дал слово Таисии Владимировне, что буду всюду с Вами. Хотя я и увеличиваю цель, но все же разрешите идти с Вами! – ответил я ему.
– Хорошо, идемте! – произнес басом Верховный.
На лице Верховного я уловил в это время мелькнувшую тень недовольства. Она явилась, очевидно, потому, что он в это время, может быть, старался не думать о семье.
– Ваше Высокопревосходительство, обстрел сильный, вы изволите рисковать! – говорил полковник Миончинский, спускаясь с бугра, где был его наблюдательный пункт, навстречу Верховному.
– Ложитесь все, господа! – приказал Верховный, сам стоя во весь рост и глядя в бинокль.
– О-о! – послышалось сзади меня, и один из офицеров покатился вниз с холма, на котором мы находились.
– Уже?! – сказал Миончинский, крестясь.
Верховный, не заметив упавшего офицера, ответил:
– Нет, это не отступление, а просто демонстрация. Они хотят сесть на наш левый фланг! – и, окончив осматривать позицию большевиков, повернулся назад. – Как?! Уже этот поручик убит? – спросил он удивленный, подойдя к трупу. – Полковник, при первой же возможности тело его доставьте в рощу! – приказал Верховный полковнику Миончинскому очень тихим голосом, возвращаясь обратно.
Назад мы шли молча. Верховный о чем-то сильно задумался. Наступила темнота. Я нарушил молчание, задав Верховному вопрос: есть ли хоть капля надежды на взятие этого несчастного города?
– А что – сомнение? Хан! Мы должны его взять! Отступление поведет к агонии и немедленной гибели армии. Если уж суждено погибнуть, то погибнем с честью в открытом бою! – ответил Верховный.
Лицо Верховного в это время было бледно-желтого цвета, зрачки расширены. Говоря: «Мы должны взять его!» и о «немедленной гибели армии», он жестикулировал биноклем в руке. После этого опять наступило молчание.
– Ваше Высокопревосходительство, хорошо было бы, если бы Вы приказали штаб перевести в другое место. Ведь противник бьет по роще уже второй день. Не дай Бог несчастья.
– Да, да, Хан, об этом и я думал. Это правда. Завтра утром прикажу, чтобы штаб перевели вон в те хаты, что стоят от нас вправо. Они вне обстрела! – говорил Верховный, соглашаясь со мной.
Проходя мимо батареи, он подошел к офицерам, разговаривал с ними и пробовал принесенную пищу. Офицеры опять начали просить Верховного беречь себя.
– Спасибо, спасибо! Хорошо, хорошо, господа! – говорил он, смеясь.
Было уже совсем темно, когда мы возвратились на ферму. По прибытии туда Верховный сейчас же подошел к телефону, сообщил начальникам участков о демонстрации большевиков и приказал быть бдительными. Было приказано также не разводить никаких огней и ничего не варить.
Уже снаряды начали рваться перед домом Верховного и в центре рощи. Но чаще всего рвались они перед домом Верховного. Их оглушительные разрывы действовали на нервы людей и животных.
Еще с вечера я сам закрывал окна в комнате Верховного старыми мешками и сеном, чтобы извне не было видно света свечей, горящих на столе. Ежеминутно прибывавшие раненые своими стонами еще больше нервировали людей, нервы которых и без того были натянуты до крайности. Верховный то и дело подходил к телефону, спрашивая о состоянии то одной, то другой части. Меня он несколько раз посылал прислушиваться к стрельбе большевиков. Взобравшись ночью на крышу дома фермы, я увидел со стороны Екатеринодара три длинных линии беспрестанно мигавших огней. Я доложил об этом Верховному, который также влез на крышу дома.
– Да, много их скопилось там. Вот где кончаются их фланги! – говорил Верховный, спустившись с крыши, войдя в комнату и делая отметки на своей карте.
– Что, Хан, товарищи крепко держатся еще? Не собираются бежать? – спросил меня сидевший на голой земле недалеко от крыльца и мявший в руках сено генерал Деникин, когда я вышел из комнаты Верховного.
Между прочим, он был назначен на пост генерал-губернатора Екатеринодара, в случае его взятия.
– Нет еще, Ваше Превосходительство! – ответил я.
Генерал Деникин был мрачен, а тут же сидевший возле него его адъютант, штабс-капитан Малинин, шутил, говоря:
– А я, Хан, совсем было собрался поужинать в Екатеринодаре!
В штабе всю ночь кипела лихорадочная работа. Вести с фронта приходили одна хуже другой. Лучшие начальники выбывают из строя. Верховный неразговорчив, мрачен и мечется, как раненый лев в клетке. Он то подходит к телефону, то выходит на двор и прислушивается к стрельбе, то, качая головой, снова возвращается в свою комнату и, опершись левым коленом на стул, схватившись руками за голову, застывает на некоторое время над картой. Потом бросается на кровать и укрывается полой бурки. Через пять минут вскакивает и быстро опять идет к телефону.
– Как дела? Что? Без перемен? Что? Говорите – огонь все усиливается?!
– Пока сижу! Двигаться нет сил! – отвечает генерал Марков.
– Иван Павлович, от генерала Эрдели есть какое-нибудь известие? – спрашивает Верховный, заглянув в штабную комнату.
– Никак нет, Ваше Превосходительство! – отвечает желтый, как лимон, генерал Романовский.
– Этакий неудачник Эрдели! Куда его ни пошли, всюду неудача! – говорил Верховный, возвращаясь к себе.
Генерал Эрдели, посланный в тыл большевикам, не давал Верховному о себе никаких сведений до 31 марта, когда присутствие конницы было необходимо теперь же Верховному. Вообще, в этот раз я видел перед собой другого человека, а тот Верховный, которого я знал много времени, куда-то исчез.
Верховному доложили о смерти полковника Неженцева. Известие это, казалось, не произвело на него никакого впечатления. Спокойно выслушав по телефону доклад о смерти полковникаНеженцева и придя в свою комнату, он застыл над картой, но через несколько минут он резко поднял голову и сказал Долинскому и мне:
– Вы знаете, господа, что полковник Неженцев убит? Только недавно я говорил с ним по телефону.
В голосе его в эту минуту было столько тоски и отчаяния, что мы сразу поняли, как тяжела была для него эта потеря. Глаза его были неестественно открыты и блестели на желтом от усталости лице. Мне показалось, что я вижу на лице Верховного ту предсмертную пыль, о которой когда-то говорил мне Курбан Кулы. Я постарался отогнать эту мысль, так как сила веры в Верховного у меня была все так же сильна, как и в первые дни встречи с ним в Каменец-Подольске.
Всю эту ночь Верховный провел без сна.
Последние минуты великого бояра
31 марта 1918 года.
В шесть часов утра Верховный вышел, чтобы попрощаться с телом полковника Неженцева, привезенным ночью. Верховный и я прошли в рощу, где под молодой елкой на зеленой траве, покрытый полковым знаменем, лежал полковник Неженцев. Его длинное тело не все было покрыто знаменем, а только часть – с головы до колен. Ноги в мягких высоких сапогах, правый простреленный еще в боях под Кореновской, оставались снаружи. У тела стоял часовой корниловец. Верховный, крупными шагами подойдя к Неженцеву и небрежно откинув угол знамени, закрывавший лицо, взглянул на него и произнес:
– Царствие небесное тебе, без страха и упрека честный патриот, Митрофан Осипович!
Глаза Верховного в это время заблестели, впившись в лицо Неженцева. Лицо его было сперва бледное, а потом сразу приняло бронзовый цвет. После этой фразы Верховный,круто повернувшись, приказал часовому:
– Прикройте лицо! – и опять крупными шагами, опустив голову вниз и заложив обе руки назад, с суровым выражением лица, отправился в штаб.
В это время обстрел рощи участился. Снаряды беспрерывно рвались над ней. Линия их разрывов стала подходить к дому Верховного все ближе и ближе. Вот один из них, разорвавшись, убил трех казаков, чистивших пулемет у самого дома.
– Ваше Высокопревосходительство! Надо поторопиться с переводом штаба, так как большевики хорошо пристрелялись к роще. Вы видите их работу? – указал я Верховному на умиравших в конвульсиях казаков.
– А?! – произнес Верховный и вошел в дом.
Мне показалось, что он хотел отдать приказание о переводе штаба, но мгновенно забыл о нем. Войдя в свою комнату, опершись левым коленом на стул и схватившись руками за голову, Верховный застыл над картой. Потом глубоко вздохнул. Вздох его был такой сильный и продолжительный, что мне казалось, воздух всей вселенной для него недостаточен.
Зайдя в свою комнату, я застал в ней корнета Силяба Сердарова и генерала Деникина. Сердаров сидел и ел откуда-то добытый белый хлеб, половину которого он уступил мне. Разговаривали мы с ним полушепотом и старались не мешать генералу Деникину, который в это время лежал на кровати, положив под голову свою серую барашковую шапку. Он хмуро и сосредоточенно глядел в потолок и о чем-то думал.
– Ну что, Хан, обстрел ослабевает? – спросил он меня, не отрываясь от той точки потолка, куда он глядел.
– Куда там, Ваше Превосходительство! У меня предчувствие, что сейчас снаряд ударит в наш дом! – ответил я спокойно.
– Фу, типун вам на язык! – проговорил он, быстро вскочил с кровати и направился к выходу.
– Вот спасибо тебе, Хан, за услугу! Теперь я отдохну, а то вот четвертую ночь не сплю! – сказал Селяб Сердаров, удобно расположившись на оставленной генералом Деникиным кровати.
При виде торопливо уходившего генерала Деникина я вспомнил о его заботах о Верховном под Кореневской и Усть-Лабинской. Друг Верховного, помощник его, он не подумал войти в комнату и вытащить Верховного на двор, а лишь счел нужным уйти, оставив его одного в этой несчастной комнате, с его печальной думой! Это меня сильно тогда удивило.
Я вошел к Верховному. Он, приподняв голову, взглянул на меня и сказал:
– Хан, дорогой, дайте мне, пожалуйста, чаю! У меня что-то в горле сохнет.
Я пошел за чаем, который, кстати сказать, Верховный не пил еще в это утро. Обождав, пока Фока вскипятит чай, и взяв кружку с чаем, я пошел к Верховному. Он сидел за столом одетый в полушубок и папаху, собираясь, очевидно, после чая на позицию. На столе лежала какая-то бумага, на которой Верховный что-то писал. Как я узнал после, он писал резолюцию на донесении генерала Эрдели, который наконец откликнулся 31 марта. Между колен Верховного стояла его неизменная палка.
Держа в одной руке чай, а в другой кусок белого хлеба, я собирался было перешагнуть порог, как вдруг, раздался сильный шум и треск. Верховного швырнуло к печке, и он, очевидно, ударившись об нее, грохнулся на пол. На него обрушился потолок. Я пришел в себя перед дверью комнаты команды связи. Открыв глаза, я увидел бегущих и прыгающих через меня людей. Вспомнив только что происшедшее, я вскочил и бросился в комнату Верховного, которая была наполнена газом и черным едким дымом, смешанным с пылью, что не давало мне возможности различить лиц, находившихся там в это время, но все же я хорошо запомнил полковника Ратманова, Селяба Сердарова и одного поручика команды связи, которые помогали мне вытащить Верховного за ноги из-под обломков.
Вбежал в комнату генерал Романовский и, увидя меня, удивленно спросил:
– Вы живы, Хан? – Очевидно, ему успели доложить о моей смерти.
Верховного вынесли на берег Кубани. Находившиеся в роще люди, не зная о том, что снаряд попал в дом, беспечно разговаривали, но увидя, что несут Верховного, бросились к нему. Первый подбежал начальник конвоя полковник Григорьев. Послышались чьи-то рыданья. Генерал Деникин с влажными глазами сидел на земле недалеко от берега реки. На лице Верховного были видны мелкие ссадины и ранено было левое ухо. Врач Марковского полка, прибежав, принялся останавливать кровь, сочившуюся из левой руки, пробитой осколком снаряда, но уже было поздно!
– Доктор, есть ли надежда? – спросил, не двигаясь со своего места, генерал Деникин.
Доктор, приоткрыв глаза Верховному, в ответ отрицательно махнул головой. Прошла минута, – раздавалось только тяжелое хрипение Верховного и… Великого бояра не стало!
– Кто же будет командовать армией? – раздались кругом голоса.
– Я! Я приму командование! – сквозь слезы произнес генерал Деникин, подходя к Верховному. – Хан и Долинский, везите тело в Елизаветинскую! – приказал он нам.
Положив тело Верховного на дроги и прикрыв сверху буркой, пробитой снарядом (она лежала на кровати во время взрыва), мы пошли в Елизаветинскую. За дрогами Дронов (конюх Верховного) вел мрачного булана, который, как бы почуяв потерю великого своего седока, опустив голову вниз, шагал печально и медленно. Каждый из встреченных офицеров или солдат, увидя булана, не спрашивая у нас ни слова, подходил к дрогам и рыдал. На полпути к Елизаветинской мы встретили генерала Алексеева, по вызову генерала Деникина ехавшего на ферму. Он, поравнявшись с нами, слез с лошади и, подойдя к дрогам, приоткрыл лицо Верховного, снял шапку, перекрестился, поклонился телу и, обратившись к находившемуся здесь же полковнику Григорьеву, тихим голосом приказал:
– Возьмите на себя, полковник, заботу о теле!
– Слушаюсь! Слушаюсь! – поспешно ответил полковник Григорьев, поглядывая на Долинского и меня, как на людей, очутившихся теперь не у дел.
Наконец тело Верховного привезли в Елизаветинскую. Внеся его в первую попавшуюся на окраине станицы хату, мы принялись приготовлять все необходимое для погребения. Через полчаса была приготовлена теплая вода, и мы, раздев Верховного, положили в цинковую ванну и начали мыть. Мыли его жена ротмистра Натанзона, которая была в армии сестрой милосердия, хозяйка дома и я. Мыли Верховного три раза, так как нельзя было остановить сочившуюся кровь. Помыв, мы одели Верховного и положили на стол в углу хаты, поставив часовыми туркмен. Пришел батюшка, в доме которого мы остановились в день приезда в Елизаветинскую, и отслужил панихиду.
Весть о смерти Верховного мгновенно разнеслась по станице, и раненые, кто только мог двигаться, приходили поклониться телу любимого вождя. Офицеры рыдали, точно дети. А как сильна была их вера и любовь к Верховному, показывает тот факт, что, пока мы мыли Верховного, его бурка, брюки, полушубок и папаха, оставленные нами на солнце для просушки, были разрезаны пришедшими на куски и разобраны на память. На фронте известие о смерти Верховного произвело потрясающее впечатление. Люди пачками начали прибывать в Елизаветинскую. Многие теперь не верили в успех дела и в нового командующего. Даже генерал Эльснер, увидев меня, не выдержал и, рыдая, говорил:
– Все теперь пропало! Хан, голубчик, на кого он нас оставил?!
Наступила темнота. Была объявлена эвакуация раненых. Тело Верховного положили в гроб и, забив гвоздями, поставили нa дроги впереди обоза. На мою просьбу посадить на всякий случай на дроги туркмена, который мог бы бдительно следить за возчиком, полковник Григорьев сказал:
– Корнет, вы тут ни при чем (он меня усиленно называл корнетом, не желая принять во внимание представление Верховным меня и еще нескольких туркмен-офицеров в следующие чины). Тело генерала Корнилова поручено мне, и оно всецело находится в моем распоряжении. Поступлю я так, как захочу! Ваше указание старому полковнику, прожившему на свете пятьдесят с лишком лет, нахожу неуместным, и вообще, вы со своими указаниями… тем более, что вы теперь не адъютант!
– Виктор Иванович, я не понимаю генерала Алексеева, поручившего тело Верховного такому ненадежному человеку, как полковник Григорьев. Ведь ты знаешь, как Верховный презирал этого господина. Я боюсь за тело Верховного. Оно не уцелеет в руках этого легкомысленного человека! – сказал я, подойдя к Долинскому.
– Хан, дорогой, мы с тобой верой и правдой служили Верховному и общему делу. Верховный убит и сейчас же забыт этими господами. Мы ничего с тобой не сможем сделать, раз руководитель армии поручил тело Григорьеву. Я и ты теперь в стороне. Если что случится с телом Верховного, это ляжет на их совесть. Тебе или мне идти к командующему и говорить по этому поводу – неудобно, так как генерал Деникин знал отлично отношение Верховного к Григорьеву, и если он не принимает никаких мер против распоряжения генерала Алексеева, то, очевидно, у него на это имеются свои соображения! – ответил мне Долинский.
– Ты как хочешь, а я тело Верховного не оставлю. У меня такое на душе, что я прямо боюсь за него! – сказал я и направился к дрогам, за которыми решил ехать лично сам, в сопровождении моего денщика Фоки.
Часов в 8 вечера мы выступили в неизвестном для нас направлении. При выходе обоза с ранеными в станице стоял душераздирающий крик оставленных тяжелораненых. Их было оставлено приблизительно человек 70. Имя нового командующего было так незначительно и непопулярно в армии, что такое маленькое лицо, как начальник обоза, не спрашивая разрешения командующего, оставил по своему усмотрению на растерзание большевикам раненых. Об этом факте генерал Деникин сам пишет в своей книге «Борьба Корнилова» (стр. 305). По этому поводу в армии и среди раненых я слышал разговоры:
– Корнилов скорее сам остался бы на растерзание большевикам, но раненых вывез бы в первую очередь! – говорили одни.
– Да, нет больше у нас отца, имеем теперь отчима! – вторили другие.
О каком бы то ни было порядке среди отступавших войск, не говоря уже об обозе, нечего было и думать. Все шли, где хотели и как попало. Кто-то сострил, видя проезжавшего мимо генерала Деникина.
– Какая разница между Лавром Георгиевичем и Антоном Ивановичем? – послышался чей-то голос.
– Разница небольшая, – был ответ, – Лавр Георгиевич вел армию, а Антона Ивановича ведет армия!
Надо заметить, что с момента смерти Верховного в армии исчезла та вера, которая давала ей силу совершать чудеса. Если она сейчас шла, то единственно потому, что с ней шел генерал Марков. А куда он ее вел, никто не хотел спрашивать, зная заранее, что последует тот же ответ, что и в Ольгинской, т. е. «К черту!».
Глухой и недовольный ропот на генерала Романовского, исчезнувший при Верховном, с момента его смерти всплыл среди войск опять с новой силой. Чуткая армия сразу почувствовала на себе волю не командующего, которой у нее не оказалось, а генерала Романовского, который, вырвавшись из железных рук Верховного, теперь начал заслонять собою нового командующего. Подозрительный ко всем окружавшим его, кроме своих друзей, генералов Романовского и Маркова, командующий дал им полную свободу действий.
Итак, мы шли целую ночь и день и только в 8 часов вечера 1 апреля армия остановилась для починки моста перед немецкой колошей Гнач-Бау.
Была темная ночь, когда я, подойдя к полковнику Григорьеву, попросил его напомнить генералу Деникину о похоронах Верховного, и именно здесь, если он хочет сохранить останки вождя от врагов.
– Господин полковник, мне кажется, что тело Верховного начало разлагаться и имеет неприятный запах. Хорошо бы было похоронить его здесь сегодня ночью, если бы обстоятельства оказались благоприятными, а завтра Аллах знает, что ожидает нас, – сказал я.
– Я вас, корнет, еще раз прошу не вмешиваться в мои дела. Я, полковник Григорьев, знаю, что делаю, и не вам меня учить…
– Ну, ладно, Хан, больше не говори ни слова! – посоветовал Арон, услышав наш разговор.
Починка моста продолжалась около трех часов, и мы только после одиннадцати часов ночи вошли в Гнач-Бау.
Никто не заботился о помещении и о пище для раненых. Раненые, за неимением достаточно помещений в этой колонии, не были сняты с повозок. Весь обоз в два ряда набился в одну-единственную улицу Гнач-Бау. Было тесно. Штаб сразу переменил свою физиономию. Пошло рукопожатие. В армии началась новая жизнь. Я со своим Фокой поместился около сарая, где стояла повозка с телом Верховного. Казалось, новый командующий совершенно забыл о теле.
Настало утро. Большевики, узнав о нашей стоянке в Гнач-Бау, начали обстрел. Что творилось в это время, трудно описать. Снаряды начали рваться среди обоза. Поднялась невообразимая паника. Люди метались из стороны в сторону. Брошенные на произвол судьбы, раненые стонали, кричали, ругали, проклинали все начальство. Многие из возчиков, захватив лошадей, бежали неизвестно куда. Артиллеристы портили орудия и, бросая их, убегали. Музыканты разбивали свои инструменты. Сестры метались среди раненых, не зная, чем помочь им. Штаб растерялся и ничего не предпринимал. Я заглянул в штаб. В комнате, где сидел генерал Деникин, на столе стоял самовар, и все присутствовавшие пили чай.
Увидя меня, стоявшего в другой комнате, генерал Марков позвал к столу. Когда я подошел, генерал Романовский стал, шутя, укорять меня за то, что я забыл штаб, а генерал Деникин, подозвав к себе, приказал:
– Хан, передайте полковнику Григорьеву приказание предать тела Верховного и Неженцева земле, предварительно сняв кроки местности, чтобы впоследствии мы могли отыскать их, а потом приходите пить чай!
Удивительно то, что такую серьезную работу, как начертить план местности, где будет могила, командующий поручил такому совершенно не умеющему чертить и по натуре человеку столь легкомысленному, как полковник Григорьев, а не человеку более серьезному и знающему это дело, офицеру Генерального штаба. Странная небрежность командующего к телу Верховного меня очень поразила.
Я передал приказание полковнику, который, сделав большие глаза, спросил:
– Мне снять план с местности? Батенька мой, я не инженер! Ротмистр Арон, ты умеешь снимать план с местности? Если же да, то, пожалуйста, помоги, – просил он здесь стоявшего ротмистра.
– Я не так силен, но давай попробую, – ответил Арон, достав бумагу и карандаш, но оказалось, что и Арон не умел чертить.
Очень жаль, что этот план Арона не опубликован в книге генерала Деникина как документ. Если бы читатель увидел этот чертеж, он ужаснулся бы!
Пошли выбирать место.
– Ладно, справа 66 шагов от этого дерева. Тут должен быть край могилы. Копай тут яму! – приказал неуверенно Арон, проводя на бумаге какие-то линии.
Душа болела видеть всю эту небрежность!
Наконец, по мнению Арона, план был готов и приступили к рытью могилы. Я подошел первый, взял лопату и, сбросив несколько первых лопат земли, передал ее Селяб Сердарову, а он Мистулову, который передал джигитам. Когда последний джигит взялся за рытье, я не вытерпел и ушел, чтобы глаза мои не видели и уши не слышали, как тело Верховного будет предано большевикам. О чае я забыл. У меня в голове сверлила одна лишь мысль: «Что это, предательство со стороны высших чинов армии или трусость? Неужели пала вера в начатое дело и в самих себя или это простое издевательство? Почему такое отношение к телу Верховного – любимого вождя армии? Почему не взял лопату первым сам высший руководитель армии, а потом “помощник” Верховного? Если здесь нельзя исполнить честно долг в отношении Верховного, то почему так торопятся с похоронами? Почему не везут тело дальше? Ведь старый чемодан генерала Алексеева не хотят бросать! Почему? Почему?» – терзался я, задавая себе вопросы.
Через некоторое время я зашел опять в штаб и увидел там ту же компанию мирно беседовавших генералов. Увидя меня, генерал Деникин опять подозвал к себе и спросил:
– Ну, что, Хан, передали мое приказание?
Ответив утвердительно, я просил его разрешить мне при первой возможности оставить армию. Генерал Деникин, не говоря ни слова, повернул свое лицо от меня в другую сторону. Я ушел. Придя в сарай, где помещались туркмены – конвой Верховного, – я вызвал на улицу джигитов и, когда они выстроились, обратился к ним со следующими словами:
– Джигиты, вам не суждено было слышать от Верховного спасибо за вашу честную и преданную службу общему делу и ему. Это скажу за него я, так как я его близкий человек и ваш начальник, за которым вы пошли. Тело бояра мы сегодня предадим земле и тем окажем ему нашу последнюю службу. Наша миссия окончена. В дальнейшем я служить в этой армии не намерен, так как у меня нет той веры в нового командующего, какая была в бояра. Вы дали мне слово идти туда, куда я пойду с вами. Теперь мы дошли до того пункта, где должны расстаться. Я решил при первой возможности оставить армию и пробраться в Азию. Кто еще верит в армию, пусть остается, а кто эту веру потерял, иди за мной. Я, как честный человек и ваш начальник, должен был предупредить вас о своем намерении оставить армию.
После того как я закончил, со всех сторон послышались голоса джигитов:
– Ай, правда, Хан Ага, теперь и нам нет смысла оставаться здесь… Жаль, что с телом бояра так поступают. Мы уверены, Ага, что завтра сюда придут большевики и, откопав его, бросят зверям на поругание… Нехорошо, нехорошо! Весь позор и несмываемое пятно этого деяния ляжет на совесть нового командующего!..
Итак, великое преступление совершилось. Могилу сровняли с землей, и «я стороной незаметно прошел мимо (?), чтобы бросить прощальный взгляд на могилу», – так написал о себе генерал Деникин («Борьба Корнилова», стр. 300). Только интересно задать вопрос: от кого так бережно скрывал себя генерал, когда шел на могилу вождя? От чинов армии? От присутствовавших в ней большевиков? Или же от своей совести? Если от армии, то он ошибался: о похоронах Верховного и где именно он будет похоронен, знали все, а если от большевиков, то почему он не вез тело дальше, а отдал приказ о похоронах здесь, и так небрежно, «кое-как»! Ведь хоронили прямо на глазах у большевиков, под градом большевицких снарядов! Если бы генерал Деникин в этот день, собрав армию, поставил перед ней гроб и сказал: «Лавр Георгиевич, ведите нас!» и скомандовал: «Армия, за гробом!», то поверьте, что гроб этот довел бы нас туда, куда не довел помощник и преемник Верховного!
В этот день я ушел в Первый Кубанский конный полк, в составе которого принимал участие в боях во время встречи с бронепоездом у Медведовской. Со мной в полк ушли и четыре туркмена. В конвое осталось только два, и то лишь потому, что не успели получить жалованья, нарочно задержанного полковником Григорьевым.
По прибытии армии в Дядьковскую станицу меня и Долинского вызвал генерал Романовский.
– Хан, вы поступили нечестно. Если вы решили уйти из конвоя, не спросив об этом своих начальников, то это полбеды, но зачем вы уводите туркмен из конвоя? Только принимая во внимание любовь к вам Лавра Георгиевича и вашу заслугу перед армией, я оставляю этот поступок без внимания! – сказал мне генерал Романовский.
Очевидно, полковник Григорьев по-своему истолковал мой уход из конвоя как какой-то бунт и настроил против меня генерала.
– Ваше Превосходительство, я ничего нечестного не сделал, а поступил так, как подсказала мне моя совесть! – ответил я.
– Почему же вы не пришли хотя бы попрощаться с нами? – спросил генерал Романовский.
На это я ничего не ответил, хотя мне очень хотелось сказать несколько откровенных слов.
– Ну, Бог с вами! Вас, Виктор Иванович, если хотите, я оставлю в прежней должности у себя, а Хана в штабе, – предложил Долинскому и мне генерал.
Поблагодарив генерала Романовского, мы оба наотрез отказались, попросив разрешение пока быть в армии и при первой возможности оставить ее.
Генерал Романовский, в свою очередь поблагодарив нас за нашу службу и пожав нам руки, сказал:
– С Богом!
После смерти великого бояра
Смерть Верховного подействовала на меня так, как будто бы солнце исчезло с небосклона, оставив на своем месте слабо мерцающую свечу, которая вот-вот при малейшем дуновении ветерка потухнет. После «тайных похорон» Верховного брожение среди офицеров, начавшееся еще при известии о смерти его, стало выражаться все ярче и ярче. Офицеры собирались группами и советовались, как быть и что делать. Недоверие и полнейшее равнодушие к новому командующему выражалось совершенно откровенно. Люди, не стеснявшиеся говорить о своих чувствах к нему и недоверии, были лучшие элементы армии, и их правилом было говорить правду, не боясь последствий. Делали они это потому, что инстинктом чувствовали, что роль, взятая на себя генералом Деникиным, ему не по силам, и дело, начатое Верховным, в слабых руках его преемника рухнет.
– Нет Корнилова, нет и веры в дела армии! Она похоронена вместе с ним! – слышалось со всех сторон.
Почти в каждой группе беседовавших офицеров находился член контрразведки, которая после смерти Верховного росла необыкновенно быстро и заняла главное место в армии. Эти-то сыщики, присутствуя на беседах, хорошо запоминали фамилии «неверующих» и докладывали обо всем, куда нужно. За это они тепло устраивались, получали повышение по службе и, заручившись доверием начальства, впоследствии пускались в спекуляции, шантажи и делали вообще какие хотели преступления под защитой охраняемых ими начальников. И несмотря на все эти преступления, эти люди продолжали пользоваться прочным положением на службе и репутацией хороших людей.
Попавшие в число «неверующих» всячески выживались из армии или же попадали под строгий надзор, и каждый сучок в их поведении принимался за бревно.
Однажды я подошел к одной из беседовавших групп, в которой находился и начальник контрразведки, капитан генерального штаба Ряснянский. Тема разговора была обычная, хорошо мне известная и интересующая меня: как быть и что делать дальше? Группа эта состояла приблизительно из семи-восьми человек. Среди них были: Корниловского полка полковник Ратманов, бывший адъютант Верховного в японскую войну полковник Силица, уже известный читателю полковник, которого я встретил в Киеве у донских представителей в 1918 году, еще один пожилой полковник артиллерист и др. Подойдя к ним, я услышал следующее:
– Я решил уйти из армии! Нет Корнилова, нет и веры в дело и надежды на хороший исход! – говорил киевский полковник.
– А вот и Хан! Скажите, вы остаетесь в армии? – встретил меня полковник Ратманов.
– Я решил отстать от армии при первой возможности, – ответил я, хорошо зная, что через очень короткое время слова мои будут переданы теперь всесильному начальнику штаба и что я попаду в немилость, но последствия меня интересовали мало.
– И вы решили отстать от армии, Хан? – спросил начальник контрразведки, избегая смотреть мне в глаза.
– Да! – ответил я утвердительно.
Все сидели на стоге сена. Кругом ежесекундно рвались шрапнели. Погода была чудная. Было даже жарко. Пахло весной. Везде вокруг была весна, кроме наших душ, – там были темь, холод, зима! Казалось – солнце не греет!
Наступило молчание… Я ушел, видя собирающийся на окраине Гнач-Бау Первый Кубанский полк, который приютил меня и Долинского. Полк получил боевую задачу и готовился к выступлению.
Где бы я ни был в этот день, всюду слышалась одна и та же фраза: «Умер Корнилов, умерло дело!» Это состояние армии генерал Деникин называет паникой. Хорошо, пусть это была паника, но ведь паника в армии наступает тогда, когда исчезает вера и люди перестают верить в Сердара. Корниловская армия паники не знала потому, что Корнилов верил в правоту своего дела, верил в свою силу и верил в веру веривших ему. Этой верой он заражал свою армию. Обоюдная вера делала и Сердара, и его армию сильными, и она творила чудеса. Армия Корнилова с голыми руками, несмотря на колоссальные потери и превосходство сил противника, спокойно готовилась к штурму Екатеринодара 1 апреля. Co смертью же Корнилова эту армию охватила такая паника, подобную которой сам командующий генерал Деникин за три года войны не видел. Почему это случилось? Да потому, что армия увидела нового командующего, занявшего место, которое ему было не по силам.
Итак, командование генерала Деникина началось недоверием армии к нему, недоверием же ее и окончилось.
Помощником командира приютившего нас полка оказался штаб-ротмистр Корнилов, бывший адъютант Верховного в Могилеве. Он нас очень мило принял и указал место в хвосте полка. Долинский, я и Фока заняли указанное место. Увидев впереди себя женскую фигуру, я подошел к ней и узнал жену штаб-ротмистра Корнилова. Поздоровавшись с ней, мы с Долинским возвратились на свои места. С наступлением темноты полк тронулся в неизвестном направлении.
Ночь была тихая и ясная. Звезды испещряли бархатную высь и весело играли, перемигиваясь, как бы дразня путников. Вокруг нас необозримая степь. Мертвая тишина, нарушаемая иногда храпением лошадей или редкими ленивыми фразами сонных казаков.
Ехали мы всю ночь до наступления рассвета. Перед самой зарей полк змеей начал виться по железнодорожной насыпи и прошло немного времени, как мы подошли к железнодорожному мосту у станции Медведской. Голова полка начала переходить мост по двум настланным доскам. Под нами внизу, глубоко в пропасти, журча, течет река. Дошла очередь до жены штаб-ротмистра. Она тронула коня и поехала вперед, за ней поручик Ч-в (он был тоже во время Корниловского похода в конвое), за ним Долинский, я и Фока. За нами стояла длинная лента казаков, ожидая перехода. Не успели мы перейти на другую сторону моста, как в средину моста ударил снаряд. За первым последовал второй, третий…
– Помогите! – кричали казаки, падая в реку вместе с лошадьми со страшной вышины моста.
Я, Фока и еще несколько казаков помчались за прикрытие одного бугорка, где и спешились.
– Слава Богу, ваше благородие, что живы выбрались! А сколько людей попадало в реку! – говорил Фока, гладя свою вспотевшую лошадь.
Вскоре мы увидали бегущего поручика Ч-а, взывавшего о помощи. Подбежав к нам, поручик объяснил, что снарядом оторвало голову его лошади и что он не успел захватить переметную сумму с деньгами, принадлежавшими ему. Вскоре к нам подошла и супруга штаб-ротмистра, сброшенная лошадью, перепуганной разрывом снаряда. Она была вне себя и искала носившегося где-то мужа. Муж быстро вернулся, обрадовался, увидев ее невредимой, и приказал ловить испугавшегося коня. Скоро мы сели на коней и тронулись дальше. Один только поручик Ч-в шел пешком. Кто-то из казаков, сжалившись над ними, предложил ему круп своего коня. Он с радостью ухватился за это предложение и, сидя на крупе, оживленно рассказывал окружающим о том, как оторвало снарядом голову его лошади. Так мы ехали до Дядьковской станицы. Не доезжая до нее, Ч-в был поражен, увидев казака, приведшего его лошадь, приставшую к чужой сотне. Кто-то указал ему хозяина лошади, и ее привели к Ч-у. Деньги и бурка оказались в целости. Ч-в смутился и уж ничего больше не говорил о лошади без головы. Все мы весело смеялись тогда фантазией лицеиста поручика Ч-а и незаметно приехали в Дядьковскую станицу. На окраине ее мы увидели группу людей, с хлебом и солью ожидавших приезда командующего Добровольческой армией.
Постояв в Дядьковской станице один день, наш полк получил приказание двинуться в направлении Ново-Волокинской станицы для заслона армии. В этой станице мы простояли ночь спокойно. На другой день, во время обеда, в нашу хату вбежал казак и доложил штаб-ротмистру Корнилову о приближении к станице большевиков. Мы поспешно вскочили на коней. Местные большевики, извещенные о приближении своих товарищей, начали стрелять из окон хат. Мы бешено мчались по узким улицам, станицы стараясь как можно скорее выбраться. Здесь мы имели потери убитыми и ранеными. За станицей нас встретили залпами засевшие за бугром большевики. Мы все рассыпались и дали «деру» в полном смысле этого слова. Вечером того же дня у меня поднялась температура, а ночью я уже не мог сидеть в седле. Доложив командиру, я поехал с Фокой искать обоз.
В обозе от порядка, который я привык видеть при Верховном, не было и следа. Теперь здесь все были хозяева. Все ехали где и как хотели. Несмотря на то, что значительное число раненых было сокращаемо оставлением на произвол судьбы почти в каждой станице, якобы для уменьшения обоза, тем не менее этот обоз увеличился в несколько раз. Верховный всегда говорил: «Обоз только для раненых»! При нем это действительно так и было, так как Верховный сам проверял обоз и беспощадно чистил его от излишних ртов. Теперь же раненых бросали, а обоз был для здоровых и спекулянтов. Теперь в обозе везли все, начиная от красного товара до живого включительно. Чтобы устроиться в нем, стоило только поговорить об этом с начальником обоза, тем самым начальником, который по собственному своему усмотрению, не уведомляя даже командующего, оставил в Елизаветинской около 70 человек беззащитных раненых на растерзание большевикам, – поговорить через его адъютанта, который уж знал, как доложить своему начальнику.
Отыскав одного спекулянта-возчика, я объяснил ему, что болен, и просил его устроить меня на повозку. «Мне только до Дона», сказал я ему (армия шла на Дон). За 25 рублей спекулянт согласился довести меня. Поместился я на повозке, нагруженной красным товаром и мешками с ячменем. На повозке я был один и расположился даже с некоторым удобством, но повышенная температура и неимоверная слабость и головная боль мучили меня. Фоку я отправил в конвой. Генерал Романовский, как я узнал после, разрешил принять Фоку в конвой и даже приказал ему разыскать меня и привезти в штаб.
– Здесь твоему барину будет все же удобнее, чем в обозе! – сказал генерал Романовский Фоке.
Лежа в повозке, я невольно переносился в недалекое прошлое. Мне вспомнился обоз, двигавшийся в строгом порядке, встречаемый и заботливо провожаемый Верховным ежедневно в 5 часов утра. И как эта заботливость трогала раненых! При виде своего обожаемого «батьки» они на мгновение забывали свои тяжелые раны и готовы были опять рваться в бой, чтобы умереть за него. Теперь же мы двигались, где и как хотели и могли, заброшенные и забытые. Никто нас не встречал, не провожал, не заботился о нас. Казалось, никому до нас не было дела.
Беспомощный, лежал я на своей повозке и, глядя в темное небо, то уносился в прошлое, то забывался на время. Мысли, как черные тучи, ползли в моей голове, сменяя одна другую и утомляя и без того усталый мозг. Думал я о будущем России и содрогался от ужаса. Я был убежден, что большевизм силой оружия никто, кроме Верховного, не сможет уничтожить. Пройдут годы, и он изживет сам себя. Мы вернемся в Россию, но как она нас встретит? Новое поколение, выросшее среди крови, цинизма, разврата, с принципом «все можно!», встретит нас как нежелательные странные и непонятные обломки прошлого.
«Мы любили родину, – думал я, – и мы правы в наших действиях и верованиях». – «А разве это новое поколение не будет любить ее по-своему?» – спрашивал меня другой голос. Я терялся и тяжелое забытье опять охватывало меня, а повозка все двигалась и двигалась.
– Эй, ты! Живой ты или мертвый? Вставай, довольно дрыхать! – услышал я голос возчика, возвративший меня к действительности.
Я открыл глаза. Было приблизительно часов 5 утра. Мою повозку окружала толпа людей с торбами. Я слез, но сейчас же лег на землю, так как не мог стоять.
– Что он у тебя, черкес? – спросил кто-то из казаков, глядя на мое обросшее лицо.
– Наверное! – ответил хозяин повозки, отпуская на 10 копеек 5 кусков сахара.
Оказывается, мы приехали в П-ю станицу. Вследствие высокой температуры меня мучила жажда, но где достать воды, я не знал. Люди были заняты каждый своим делом, и на меня никто не обращал внимания. Недалеко от меня начали выгружать раненых, перенося их с повозок в одну из хат. Мимо меня пробежала сестра. Мне показалось знакомым ее лицо. Я старался вспомнить, где я ее видел, но память отказывалась служить мне. Несмотря на это, я окликнул ее. Она подошла, посмотрела, видимо, не узнала и, приняв меня за черкеса, не умеющего говорить по-русски, повернулась, чтобы уйти. В эту минуту я вспомнил, что под Филипповской я помогал ей перевязывать раненого.
– Сестрица, помогите! Ведь я вам помогал! – остановил я ее.
Она повернулась и, пристально взглянув на меня, ахнула и бросилась ко мне, узнав адъютанта Верховного.
– Обождите! Я сейчас! – сказала она и куда-то исчезла.
Через несколько минут я был окружен ранеными офицерами Корниловского и Марковского полков. Они перенесли меня в хату и сейчас приступили к расспросу, что и как. Меня устроили на кровати, а сами разместились на полу, на сене. Первую чашку горячего чая я получил первым. Каждый из них старался услужить мне чем-нибудь, заботливо спрашивая, чего я хочу.
Я почти не мог говорить, так как после тряски на повозке я чувствовал, что сон сковывает мне веки, и я начал дремать.
– Не мешайте, господа, пусть отдохнет! Как бы бедняга не заболел тифом! – слышал я, засыпая, заботливый голос сестры.
– Будет очень жаль! – произнес кто-то, втягивая в себя горячий чай.
– Да, все мы теперь так брошены, как он. Если на любимого Верховным человека не обращают внимания, то и мы с тобой нужны им как собаке пятая нога! – слышался чей-то взволнованный голос.
Я лежал в полусне. Через некоторое время меня пробудил чей-то голос, очевидно, продолжавший начатый разговор.
– Говорят, что генерал Деникин сам хороший человек, а вот начальник штаба ворочает им как хочет.
– А ну-ка, сестричка, надавите клавиши на яичницу! – переменил кто-то тему разговора.
– Ребята, кто может ходить, отправляйтесь поскорее на розыски яиц или вообще чего-нибудь съестного, пока рты не успели расползтись по станице. Потом уж поздно будет!
Я открыл глаза и попросил пить. Сестра ушла с выздоравливающими ранеными на поиски еды. В хате остались капитан, раненный в бедро, и прапорщик, раненный в грудь.
Капитан, корчась от боли, с трудом добрался до самовара, всполоснул стакан и налил мне чаю. Почти ползком он принес его мне.
– Извольте, поручик! – сказал он подавая чай.
– А что, поручик, мы не беспокоим вас своими разговорами и табачным дымом? – спросил прапорщик.
– Нет, нет! – поспешил успокоить я.
Беря стакан, капитан, глядя на меня, качал головой.
– Вы что, давно больны? – спросил он.
– Нет, только всего три дня, – ответил я, сбрасывая с себя бурку, ибо мне было после чая нестерпимо жарко.
– Да, жаль! А наше начальство-то знает о том, что вы больны? Кого, кого, а адъютанта и близкого человека генерала Корнилова должно было приютить у себя, а не так! Хотя, что уж говорить! Я знаю их! Нет Лавра, нет и порядка! Не командование, а лавочка! Теперь главное в армии – купля-продажа! Посмотрите, как перед дверью нашей хаты казак бойко торгует! Вот так и армию продадут! Жаль только нашего брата, обманутого и искалеченного, а сколько их-то будет впереди, искалеченных, обманутых, разочарованных, – Бог ведает! Поручик, разве вы меня не помните? – спросил он вдруг меня. – Ведь я при вашей помощи получил разрешение еще в Ростове на сформирование пулеметной команды. Потом, разве вы не помните меня перед Георгие-Афинской станицей на железнодорожной насыпи во время боя? Верховный, увидав меня там, приказал сойти с пулеметом вниз. «Я знаю мою армию! В ней все храбры! Я не хочу, чтобы вы рисковали!» – сказал он, стягивая меня с насыпи!
Я вспомнил этот случай и лицо капитана. Живо воскрес в моей памяти Верховный, сурово приказывающий заартачившемуся капитану сойти вниз. Я вижу его, как он глядит вперед и что-то бормочет себе под нос… Резко обернувшись ко мне, отведя бинокль от глаз, он приказывает:
– Хан, прикажите полковнику Миончинскому, чтобы немедленно открыл огонь по броневику!..
В это время в хату шумно вошли раненые с сестрой, неся съестные припасы. Яиц не нашли, зато есть мясо, картошка и капуста для щей. Сестра хлопотливо искала в хате, брошенной хозяевами, все необходимое для приготовления пищи.
У меня невольно закрылись глаза, и приснился мне следующий сон.
Увидел я большую группу людей, вооруженных винтовками, топорами, палками. Вся эта гогочущая и кричащая толпа тащила какого-то человека, одетого в белье. Подойдя ближе к толпе, я узнал в этом человеке Верховного. Он был без шапки, в нижнем белье, через дыры которого виднелось тело. Лицо желтое, усталое, измученное, но спокойное. Увидя меня в толпе, он сказал:
– Хан, а ведь нас предали! Я им этого не прощу!
Тон голоса был точно тот же, как 26 ноября 1918 года, во время похода на Дон. Я бросился к нему и – проснулся. Открыв глаза, я увидел на стене хаты изображение Кузьмы Крючкова, который, врезавшись в гущу шестнадцати конных немцев, рубил их направо и налево. Я проспал спокойно и удобно всю ночь. Рано утром выступали дальше.
Опять бесконечно тянущийся обоз, мучительные толчки, ужасные мысли, не дающие покоя. Показался штаб. Впереди шагом ехал верхом генерал Деникин в черном пальто и в серой барашковой шапке, сосредоточенно глядя на уши своей лошади. Рядом с ним ехал генерал Романовский, а за ним конвой. Не было никакой красоты в этой группе, и появление ее не волновало радостью душу. Не видно было булана, который всегда галопом нес небольшую фигуру великого человека, к которому с любовью и верой тянулись сердца его названых сыновей. Какой восторг загорался у каждого из них при виде обожаемого «батьки» и гордо развевавшегося за ним трехцветного национального русского знамени, эмблемы когда-то великой Руси!..
Проехали, и никакого впечатления не произвело появление нового командующего. Его проводили безразличными взглядами, и никто не спросил адъютанта Деникина: «Ну что, как батька?»
Увидев среди конвоя Фоку, я позвал его, и он, услышав мой голос, подъехал к генералу Романовскому, указав рукой в мою сторону. Генерал Романовский в сопровождении Фоки подъехал к моей повозке.
– Здравствуйте, Хан! Бедняга, вы совсем изменились! Больны? А? Так, пожалуйста, не стесняйтесь – приходите в штаб на следующей остановке. Там вам будет удобнее. Фока, приведи барина в Егорлыцкой в штаб! – приказал генерал и поехал догонять штаб.
По дороге в Егорлыцкую я случайно увидел ехавших в тачанке полковников Голицына и Страдецкого. Я крикнул, и тачанка остановилась. Тотчас же полковник Голицын, подойдя ко мне, крепко, по-отцовски, обнял и поцеловал. Затем взял меня к себе в тачанку. Несмотря на болезненное состояние, я чувствовал себя бодрее, глядя на человека, работавшего с Верховным в тяжелые дни его жизни.
В Егорлыцкой остановились в доме одного казака. Приготовили мне постель и заботливо уложили. Опять повысилась температура. Узнав о приезде Голицына, пришел Долинский. Часов в 11 ночи до моего слуха долетел звон колокола. Узнав, что звонят на пасхальную заутреню, я захотел идти в церковь. Все уговоры не делать этого остались тщетными. Вчетвером мы отправились в церковь, битком набитую добровольцами и небольшим количеством местных жителей.
Стоя в церкви, я невольно вспоминал ряд пасхальных заутрень: в корпусе, в училище, в Петрограде, на фронте и, наконец, здесь, под грохот орудий. Хотя я и мусульманин, но очень люблю русские праздники. В них много красивых обычаев и обрядов, волнующих, ласкающих и обновляющих душу. В это время в беспросветной темной ночи всей Руси, залитой морем братской крови, в маленькой, ярко освещенной церкви измученные, усталые добровольцы всей душой возносили молитвы о Воскресении. Они просили света, могущего прогнать темную ночь их родины. Я молился тоже об этом свете, об упокоении души Верховного и шедших за ним и павших смертью храбрых и отдавших родине самое дорогое – свою жизнь. Я молился за врагов Верховного, прося у Аллаха простить их грех.
В час ночи разговелись вчетвером. Пили красное вино. Чувствовал я себя немного бодрее. В 5 часов утра другого дня мы вчетвером на одной линейке выехали в Новочеркасск, который, по слухам, был взят казаками. Фока ехал верхом сзади линейки. Я решил по приезде в Новороссийск при первой же возможности пробраться оттуда в Хиву для получения благословения от моего старика-отца, а затем отправиться за границу для продолжения образования. Трое же моих спутников поставили себе целью пробраться в Сибирь к Колчаку.
Подъезжая ближе к Новочеркасску, мы яснее и яснее слышали грохот орудий. Близ города на полях мы видели много трупов как большевиков, так и казаков. Среди убитых много было в одежде рабочих и очень мало в военной форме. Въехали в город, который мы недавно оставили в цветущем состоянии. Город исторический – колыбель Добровольческой армии, остров спасения в дни великой русской смуты. Теперь он был пуст, грязен, забрызган кровью. Высокие пирамидальные тополя на Платовской и Московской улицах, казалось, не так весело и приветливо, как прежде, шумели, встречая гостей. Они хмуро смотрели вниз на людскую пошлость и зверства. Бог знает, сколько им, этим немым свидетелям, придется еще видеть впереди зверств, беспорядка и вообще всяких перемен!
Ах, Новочеркасск! Сколько красивых воспоминаний связано с тобой! Сколько надежд ты сулил нам и как мы верили в твоих сынов! Сколько волнующих и часто тревожных, но вместе с тем приятных минут пережито в стенах твоих! Эти чарующие, чистые, прозрачные, слегка свежие ночи, залитые серебристым светом волшебной луны, казалось, чутко притаившиеся, внимательно прислушивающиеся к каждому шороху! От их напряженного слуха не ускользало ничто: даже и еле слышный шепот влюбленных пар из-под ароматных кустов сирени! Столица Дона нравилась мне больше ночью, была ли ночь темная или лунная.
Мы подъехали к мрачному, погруженному во мрак Атаманскому дворцу. Вошли в него никем не встреченные. Прошли целый ряд пустых темных комнат и попали наконец в освещенную слабым мерцанием свечи комнату. В ней находились два человека. За простым столом сидел сам походный атаман генерал Попов и что-то писал. Он был одет по-походному в фуражке, при шашке сверх шинели и револьвере. Другой, тоже одетый по-походному, полковник Сидорин – начальник штаба генерала Попова, один из узников, вырвавшихся из стен «Метрополя» в дни сидения в нем Верховного.
При виде нас он улыбнулся, встал, подошел к нам, поздоровался, пожимая нам руки, и удивленно спросил о причине нашего визита в такое тревожное время. Полковник Голицын объяснил, что он, полковник Страдецкий и Долинский здесь проездом, едут в Сибирь к адмиралу Колчаку и, указывая на меня, сказал, что я болен и что он просит приютить нас. Полковник Сидорин на клочке бумаги написал записку хозяину гостиницы «Центральная» и предупредил нас быть начеку.
– Время неустойчиво, каждую минуту мы можем покинуть Новочеркасск! – сказал он нам.
Попросив полковника Сидорина предупредить нас в случае опасности, мы поблагодарили его и, распрощавшись с ним и атаманом, вышли.
По дороге из дворца в гостиницу мы шли по улицам совершенно мертвого города. Не было, казалось, в нем ни одной живой души. Дома, погруженные в мрак, улицы с разбросанными по ним трупами, с разрушенными снарядами мостовыми производили жуткое и тяжелое впечатление.
В грязной, почти полуразрушенной Центральной гостинице мы отыскали одну более приличную комнату и устроились в ней на ночлег.
Около четырех часов утра наш сладкий сон после утомительной тяжелой дороги был нарушен первым разрывом снаряда над гостиницей. Мои спутники, торопливо одевшись и пожелав мне всего лучшего, куда-то исчезли. Фока и я остались вдвоем. Чувство одиночества, беспомощности угнетало меня. Шрапнели рвались все чаще и чаще. Где-то слышалось «таканье» пулемета и ружейная стрельба. Ночной сторож гостиницы куда-то спрятался. В большой гостинице остались мы вдвоем. В это время на улице послышалось гиканье и дикие крики мчавшихся куда-то человек тридцати казаков. Все они держали в руках винтовки.
– Что ты делаешь, Фока? – спросил я, видя что он загораживает двери всяким хламом.
– Делаю баррикаду, Ваше благородие. В случае, если придут большевики, не сдаться им живым!
– Брось! Пойдем отсюда. Бери карабин! – сказал я, одевая полушубок.
Выйдя на улицу, мы увидели каких-то вооруженных людей, идущих по направлению Хатунки. Мы присоединились к ним. Никто не спрашивал, кто мы, куда идем. Мы тоже молчали. Долго шли по длинной неровной улице. Разрыв снарядов все чаще и чаще, ружейная стрельба тоже.
Показались первые лучи солнца, залившие розовым светом все кругом. Воздух чист и прозрачен. Аромат цветов и фруктовых деревьев, доносимый легким ветром, однако, не воспринимался обонянием. Вместо того чтобы наслаждаться прелестью раннего, весеннего, ароматного утра, душа тревожно ожидала предательского выстрела в спину, рука судорожно сжимала карабин и глаза напряженно, до боли, смотрели в одном направлении – туда, в сторону красных.
Дойдя до одного холма, мы прилегли за его гребнем. Перед глазами открылась широкая панорама. Противник был виден как на ладони. Большевики, конные и пешие, как саранча, напирали на слабые силы казаков. Однако вера в своих начальников у казаков в это время была так сильна, что они, удвоив энергию, все-таки удержали этот напор большевиков.
Лежа на холме, пригретый лучами солнца, я чувствовал себя неважно: голова была тяжела, тело болело, мысли, преследовавшие меня в обозе, не давали покоя и здесь. И жизнь без будущего была безрадостна и тускла. Я вздрогнул от выстрела, раздавшегося рядом со мной, и взглянул на соседа, решившегося выстрелом снять с лошади скакавшего комиссара. За первым выстрелом послышались другие.
– Ваше благородие, посмотрите, большевиков-то сколько! Как они прут на казаков! Жаль, что здесь нет генерала Корнилова. Он бы их разогнал в два счета! – говорил Фока, поспешно заряжая карабин.
В полдень казаки дрогнули. Начали отступать: одна часть в город, другая – в степь. Но в это мгновение произошла странная для нас вещь: товарищи почему-то затоптались на месте, начали митинговать, и их артиллерия свой огонь перенесла на вокзал.
К часу большевики отступили, и нам стали понятны их действия, так как мы узнали, что вблизи находится отряд полковника Дроздовского. Оставаться больше на позиции не было смысла, и я, опираясь на Фоку, возвратился в гостиницу. Там мы встретили нового жильца, есаула В.Н. Шапкина, комиссара Донского казачьего войска при Ставке во время сидения Верховного в Быхове.
Обнявшись, мы стали расспрашивать друг друга о политическом положении Дона, о походе. Фока в это время вскипятил чай и раздобыл откуда-то хлеб. Попивая чай, мы вспоминали прошедшие дни в Могилеве.
Моя мечта поехать в Хиву отдалялась, так как я не знал, в чьих руках находится Закаспийская область, через которую я должен был проехать в Хиву. К тому же Кавказ был занят немецко-турецкими войсками, и я, не желая пользоваться их услугами в моем передвижении, решил выждать в Новочеркасске благоприятный момент для осуществления моего желания.
Только через неделю после описанного утра я впервые вышел из гостиницы. Город успел измениться до неузнаваемости. Магазины и лавки были открыты и бойко торговали. По улицам, очищенным от трупов и мусора, толпилась праздничная публика, громко и весело шумевшая. Среди нее в большом количестве виднелись легкораненые добровольцы. В этот день я случайно встретил семью богатого казака Ивана Андреевича Абрамова в церкви на панихиде по убиенным казакам, которая, узнав, что я болен и живу в полуразрушенной гостинице, любезно пригласила меня поселиться у них. Мне был отведен кабинет в нижнем этаже, где некогда жил генерал Алексеев. Благодаря вниманию и заботам этой симпатичной семьи, я через неделю пришел в себя и мог подниматься наверх к завтраку, обеду и ужину.
В Новочеркасск постепенно стекались добровольцы, заполняя улицы и кафе. Везде встречались знакомые лица соратников генерала Корнилова, участников Ледяного похода. Глядя на них, невольно вспоминался Верховный и его командование. Вместе с ранеными явился и Мистул бояр. Был он невесел, говорил, что очень тоскливо служить теперь в конвое. Он предпочел перейти в полк. Вскоре за Мистул бояром ко мне в Новочеркасск приехали из конвоя четыре туркмена и один киргиз.
– Ай, Хан Ага, вместе с бояром умерла душа армии, а после твоего ухода скучно служить в конвое. Помоги нам пробраться к себе в Ахал! – просили они меня.
Я снабдил их документами и отправил в Азию.
В начале мая 1918 года в Новочеркасск приехал генерал Марков. Его сопровождало пять вооруженных казаков-кубанцев. По городу он ходил с нагайкой в руках. Его появление в большой белой папахе, серой, знакомой первопоходникам, куртке, в высоких сапогах сначала приятно действовало на всех офицеров, живших тогда в Новочеркасске. Он выступил в театре с призывом к офицерам идти на фронт. Но, несмотря на его популярность в армии, мало кто откликнулся на его призыв. Уставшие после похода офицеры, попав на отдых, не так легко готовы были расстаться с ним, да к тому же в армии не было магнита, который бы притягивал их сердца. Видя слабый результат своего выступления, генерал Марков стал прямо арестовывать и отправлять офицеров на фронт. Узнав об этой новой мере, офицеры стали разбегаться из Новочеркасска кто куда. Одни бежали в Ростов, занятый тогда немцами, другие к Колчаку, третьи поступали в Донскую армию, четвертые – просто скрывались. Были даже такие офицеры – и довольно изрядное количество, – которые просили меня взять их с собой в Туркестан для борьбы с большевиками. Офицеров возмущали действия генерала Маркова.
– Армия генерала Корнилова добровольческая! Мы все пришли в нее добровольно. Зачем же генерал Марков применяет полицейскую меру? – рассуждали некоторые.
Я лично встретился с генералом Марковым в Новочеркасске случайно: шедший со мной рядом офицер Марковского полка мичман Г. моментально исчез в магазине, бросив мне:
– Хан, спасайтесь, – Марков!
Я, подняв глаза, встретился с генералом Марковым, шедшим в сопровождении кубанских казаков.
– Ну, Хан, что поделываем? – спросил он, поздоровавшись со мной.
– Ничего, Ваше Превосходительство! Живу здесь и жду момента, чтобы выехать домой! – ответил я.
Кивнув головой, он пошел дальше.
Немцы, заняв Ростов, придали его быту дореволюционную внешность. Всюду был порядок, чистота и даже появились полицейские и жандармы. В Ростов в это время со всех концов съезжались офицеры, спешившие в армию генерала Корнилова. Эти приехавшие с жадностью расспрашивали об армии и о генерале Корнилове и, получая ответ, что он убит, терялись при этом известии.
– Что же теперь делать? Снова ехать к графу Келлеру в Киев? – говорили прибывшие.
– Если хотите драться с большевиками, поезжайте в Добровольческую армию. Ею командует теперь генерал Деникин, и она сейчас дерется под Тихорецкой.
Офицеры, разбившись на группы, расспрашивали добровольцев о численности армии, ее лозунге и о новом командующем. Получив довольно туманные разъяснения о численности армии и ее лозунгах, они, недоумевая, опустив головы, нерешительно отправлялись с вокзала в город. Эту картину я наблюдал при немцах, при союзниках она была другая.
– Ну что?! Союзники помогают нам? Говорят, их эскадра, пробив Дарданеллы, везет корпуса генералу Деникину на помощь! Это правда? Значит, конец большевикам! Отсюда прямо в Москву тогда? – спрашивали новоприбывавшие у встреченных добровольцев.
– Пока никаких корпусов мы не видели, кроме нескольких тощих мулов, выгруженных в Новороссийске!
– Как же так? У большевиков только и говорят о том, что союзники начали помогать Деникину.
– Не знаю. Думаю, это была утка, пущенная из Освага. По правде сказать, ни на чью помощь, кроме Божией, нечего рассчитывать! – отвечал обычно доброволец.
В июне месяце я, случайно узнав о присутствии шестидесяти текинцев в Ростове, поехал туда. Текинцы эти были 26 ноября 1918 года вместе с тремя офицерами взяты в плен большевиками и посажены в минскую тюрьму. Когда в Минск пришли немцы, текинцы были освобождены и теперь в Ростов были привезены неким полковником Икоевым. Отыскав их, я пожелал увидеть этого полковника, и предо мной предстал прапорщик Икоев, просивший меня во время сидения Верховного в Быхове дать ему какое угодно поручение по делу Верховного. Я категорически отказал, и он тогда исчез неизвестно куда. Теперь же я увидел Икоева в форме полковника Текинского полка, да еще с офицерским Георгиевским крестом. По просьбе джигитов я предложил ему освободить текинцев. Он отказался, ссылаясь на ростовского градоначальника, который-де по приказанию атамана Краснова хочет дать ему, Икоеву, охрану города и к этой роли он теперь подготовляет текинцев.
Возвратившись в Новочеркасск, я отправился к генералу Алексееву и доложил ему о просьбе текинцев и добавил, что Икоев не полковник, а прапорщик и что он никогда не был офицером Текинского полка.
– С удовольствием, Хан, сделаю все, что в моих силах, – сказал генерал Алексеев, беря лист бумаги и карандаш.
Написав что-то, он тихим голосом произнес:
– Зайдите, Хан, завтра ко мне, и я сообщу вам результат переговоров с атаманом. Я надеюсь, что туркмены будут отпущены! – сказал этот милый старик, отпуская меня.
На другой день действительно туркмены были отпущены и я их привез в Новочеркасск.
По прибытии текинцев в Новочеркасск по приказанию генерала Алексеева генерал Эльснер, военный представитель Добровольческой армии, устроил их в общежитии вместе со всеми добровольцами, подлежавшими отправке на фронт. Текинцы были оборваны, обношены, измучены и усталы. Оказалось, их подобрал «текинец полковник» Икоев где-то под Минском. Сначала он повел их против поляков на стороне большевиков. Потом, когда пришли немцы, он пошел с ними против большевиков и чехов. В одном бою с большевиками (во время атаки текинцев на поезд) Икоеву досталось в этом поезде 2 миллиона «керенок». Он эти деньги, как военный приз, присвоил себе – немцы разрешили. По указанию немцев Икоев с текинцами был доставлен в Ростов для несения охранной службы города.
В Ростове Икоев жил довольно широко, разъезжал по городу в своем щегольском автомобиле, разбрасываяденьги направо и налево, держа джигитов, что называется, в черном теле. Текинцы терпели молча до тех пор, пока не встретились со мной.
Не прошло и года, как Икоев был выслан атаманом Красновым из Донской области за убийства и ночные налеты на мирных жителей. Набрав человек сто каторжан, Икоев ночью «охранял» город, грабя и убивая население. Наконец Бог избавил Ростов от «услужливого» Икоева и его охраны.
С джигитами у меня вышла возня. Как я уже говорил, они были оборваны, нуждались в одежде и особенно в белье. С помощью госпож Абрамовой, Безобразовой и др. отзывчивых дам (которым как джигиты, так и я очень признательны за помощь) мне удалось одеть их и даже посылать поочередно в баню. С питанием джигитов вышло затруднение. Джигиты не ели свинины и поэтому не могли питаться из общего котла добровольцев, так как пища последним готовилась исключительно на свином сале. Туркмены голодали. Случалось, что они ели мясо один раз в неделю. Положение было тяжелое. На мою просьбу улучшить питание джигитов генерал Эльснер, ссылаясь на циркуляр генерала Деникина, отказался помочь, говоря, что в циркуляре издан приказ о содержании и о продовольствии только добровольцев, поступающих в Добровольческую армию, туркмены же наотрез отказались поступить без меня в армию. Ехать к себе в Ахал у них не было средств, а генерал Деникин не позаботился хотя бы в память сидения в Быхове снабдить туркмен необходимыми средствами.
В это критическое время из Екатеринодара приехал полковник Григорьев приглашать джигитов в конвой генерала Деникина. Он поступил бестактно: как «старый полковник, создавший Текинский полк», полковник Григорьев, не сообщив мне ни слова, отправился в общежитие, где жили джигиты, и, собрав их в одну комнату, предложил им поступить в конвой генерала Деникина, где их ждут малиновые халаты и такие же чакчары.
– Генерал Деникин, – говорил полковник Григорьев, – приказал генералу Эрдели собрать полк из текинцев, а вас, корниловцев, хочет назначить в свой почетный конвой!..
– Мы не хотим идти к генералу Деникину, так как не ждем от него ничего хорошего для себя, видя, как он относится к бояру Хану – адъютанту Великого бояра. Вместо того чтобы предлагать нам чакчары и халаты, он лучше бы послал нам барана на плов и дал бы возможность выехать в Ахал. Вместо этого он прислал тебя. Нет, полковник-ага, поезжай обратно и передай генералу Деникину спасибо за его гостеприимство. Мы видим, что он любит память Великого бояра так же, как любил его при жизни: хотя бы из уважения к его могиле, если уж он забыл Быховское сидение, он мог бы собрать нас и сказать нам слово – «здравствуй!»
Этот разговор мне передал мой помощник-турмен и мичман Трегубов Марковского полка.
После отъезда полковника Григорьева из Екатеринодара приехал корнет Силяб Сердаров. Он также просил джигитов ехать в конвой генерала Деникина. На его просьбу джигиты не обратили никакого внимания. Я тем временем всячески старался достать средства для отправки джигитов в Ахал.
Оставались не отправленными человек 25–30 джигитов, когда я заболел испанкой. В это время ко мне приехал из Киева корнет Абду-Захидов, молодой офицер Текинского полка, родом из Самарканда. В начале войны он попал во время атаки в плен к немцам. Во время революции, вернувшись в Россию, остался в Киеве, где впоследствии попал телохранителем к гетману Скоропадскому и с ним вместе ездил к Вильгельму. Портрет его можно видеть в книге генерала Деникина на странице 34 тома третьего, где изображен гетман Скоропадский в германской главной квартире.
Я принял Абду-Захидова в постели. Он заявил мне, что ротмистр Натензон сейчас находится на службе у гетмана в качестве начальника конвоя. У него есть несколько человек джигитов, и он просит, чтобы я ему прислал всех находившихся в то время у меня джигитов для устройства их у гетмана. Выслушав Абду-Захидова, я ответил:
– Вот что, корнет! Передайте, пожалуйста, ротмистру Натензону следующее: если он, ротмистр Натензон, все тот же, каким я знал его в Могилеве, то пусть бросит службу гетману, немецкому ставленнику, и перейдет сюда, в ряды Добровольческой армии. Это будет лучше и честнее, чем работа с немцами, – разрушителями нашей родины. Текинцы служили одному Великому бояру, он умер и умер конвой. Ни я, ни текинцы ни к кому больше служить в конвой не пойдем. Я сейчас занят отправлением джигитов домой! – закончил я.
Перед взятием Тихорецкой Добровольческой армией генерал Алексеев был приглашен к Абрамовым обедать, где в этот день присутствовал и я. После обеда генерал Алексеев любезно расспрашивал меня о туркменах и об их жизни. Я доложил ему, что они по два, по три человека едут в Ахал.
После обеда я проводил генерала домой. Прошло несколько дней. Ко мне пришел сын генерала Алексеева, Николай Михайлович, с просьбой дать ему несколько джигитов для сопровождения отца в Торговую, а потом в Тихорецкую.
– Время сейчас неспокойное – Бог знает, Хан, что может случиться. Вы же свой человек и знаете людей! – просил он меня.
Я на другой же день выделил 12 человек джигитов, и Николай Михайлович вооружил их. Джигиты просили меня, чтобы я тоже поехал с ними.
– Мы, Хан Ага, не хотим ехать с чужими. Они не понимают наш язык, а мы их! – говорили они.
Я передал просьбу джигитов Николаю Михайловичу. Он очень обрадовался, что я поеду с ними, и тотчас же предложил разместить джигитов на грузовике. Генерал Алексеев (я сейчас и не помню) с какими-то лицами поехал на автомобиле впереди, а я с Наколаем Михайловичем и джигитами на грузовике сзади.
Вокзал Тихорецкой мы нашли переполненным. В ожидании прибытия генерала Алексеева на вокзале стояли генералы Деникин и Романовский. Генерал Деникин не только не ответил мне на приветствие, но даже не потрудился поздороваться с парными часовыми туркменами. Генерал Романовский поздоровался, улыбаясь. С вокзала мы отправились в большой каменный двухэтажный дом, отведенный для генерала Алексеева недалеко от вокзала. Я поселился с джигитами тоже в этом доме. В маленькой комнатке, рядом со столовой генерала Алексеева поместились я и Николай Михайлович. Обедали и ужинали почти всегда втроем: генерал Алексеев с сыном и я, за исключением тех дней, когда бывали гости.
Однажды генерал Алексеев, позвав меня в столовую, спросил о причине моего ухода из армии. Я объяснил ему.
– Хорошо, Хан! В вас поколеблена вера, это я понимаю, но почему текинцы не хотят поступать в ряды Добровольческой армии?
– Ваше Высокопревосходительство, мне неудобно говорить за туркмен. Это слишком длинная история. Я прошу вас поручить это дело кому-нибудь другому. Пусть это лицо расспросит туркмен и ответ передаст вам.
Генерал Алексеев призадумался, вытирая платком очки. Он что-то хотел сказать мне, слегка покашливая, но вошел кто-то в комнату и я вышел.
Через некоторое время Николай Михайлович спросил джигитов, почему они не хотят служить в армии.
– Там, где не хочет служить Хан, не хотим служить и мы… Если мы нужны армии, то пусть нам укажут такого начальника, который бы заменил Хана. Служить с полковником Григорьевым в конвое мы не хотим! – отвечали джигиты.
Спустя два или три дня (сейчас не помню) генерал Алексеев пожелал обойти лазарет, который находился недалеко от его квартиры. После обеда Николай Михайлович куда-то ушел, и генерал Алексеев пригласил меня пойти с ним. У дверей госпиталя нас встретил Н.М. Родзянко, бывший начальник санитарной части. Обойдя госпиталь, генерал Алексеев вошел в последнюю палату с окном в сад. Здесь лежал тяжело раненный в боях под Тихорецкой гвардии полковник Хованский.
– Узнаете? – произнес генерал Алексеев, называя раненого по имени и отчеству.
Тот утвердительно качнул подбородком, и слезы брызнули у него из глаз.
Постояв с минуту молча, генерал Алексеев тихо произнес:
– Ничего, Господь Бог поможет, поправитесь!
Раненый отрицательно покачал головой, и слезы текли по его щекам.
– Идемте, Хан! Он начинает волноваться! – произнес генерал Алексеев, когда я углом простыни вытирал слезы раненого.
Через неделю с разрешения генерала Алексеева я со своими людьми уехал в Новочеркасск, где находилась в это время семья Великого бояра. Я застал Таисию Владимировну и Наталию Лавровну убитых горем. Один только Юрик не поддавался слезам и говорил в нос:
– Хан, папу-то убили! Теперь папы нет!
Я не выдержал и зарыдал. Рыдали мы втроем. Я рассказал Таисии Владимировне обо всем виденном после смерти Великого бояра.
– Лицемеры, дрянные люди не захотели вывезти тело Лавра Георгиевича, а при жизни назывались друзьями! Боже, накажи их за Лавра!
Успокоив немного Таисию Владимировну, я вошел к Наталии Лавровне. От нее я узнал о специальном приезде полковника Григорьева, посланного генералом Деникиным, который заверил их, что тело Верховного находится в безопасности, но Таисия Владимировна, зная еще по Быхову полковника, не поверила ему: она чуяла что-то неладное и волновалась.
Прошло несколько дней, и семья Великого бояра получила телеграмму от генерала Деникина с приглашением на торжественное погребение генерала Корнилова в Екатеринодаре. Посылая эту телеграмму, генерал Деникин не потрудился послать в Гнач-Бау ни Арона, ни полковника Григорьева узнать, находится ли там действительно тело Верховного.
Таисия Владимировна и Наталия Лавровна просили меня ехать с ними на похороны Лавра Георгиевича. Я привел оставшихся в моих руках 25 человек джигитов и, неся службу охраны поезда, где ехала семья, как при жизни Великого бояра, мы ехали в Екатеринодар. На вокзале семью встретил генерал Деникин, который, опять не ответив на мое приветствие и приветствие часовых, прошел в купе к рыдающей семье и, взяв ее, увез в город. Я со своими джигитами остался на запасном пути на произвол судьбы. Никто нас не спрашивал, кто мы, зачем приехали и что мы собираемся делать. В эту ночь мы легли спать голодными, так как, кроме белого хлеба, купленного мною, и чаю, мы ничего не ели. Утром на другой день повторилось то же самое, то есть мы голодали по-прежнему, но терпели. Утром из города прибыла семья Верховного, и мы поехали за телом. Туркмены молча тяжело вздыхали, – только один из них по пути в Гнач-Бау сказал:
– Жаль, что нет нашего бояра! Его преемник тоже большой человек, но с ничтожным сердцем, а без сердца из начатого Великим бояром дела ничего не выйдет!
Не желая огорчать Таисию Владимировну, я молчал и терпел. От нее же я узнал, что генерал Деникин выразился так:
– Я бы приказал арестовать Хана при появлении его на территории Добровольческой армии, но, приняв во внимание любовь к нему Лавра Георгиевича, оставляю его в покое.
«Меня арестовать?! За что?! За то, что я явился главной причиной сохранения ему жизни в Быхове, не дав второй раз стать жертвой солдатни?! За то ли, что я люблю Россию больше, чем он? За то ли, что, когда после смерти Великого бояра вылезшие из подполья лакеи и прислужники курили фимиам ему, Деникину, я сказал: “Я не знаю генерала Деникина и не верю в него!” За то ли, что я отдал для служения общему делу молодость, здоровье и собственное благополучие? За что же, наконец?! Было бы гораздо честнее позвать меня и Долинского и лично сказать свое спасибо за нашу службу и добавить: “Хотите продолжать службу в Добровольческой армии, милости прошу, а если нет и вы не верите мне – с Богом!”» – думал я.
Мне было горько и обидно такое отношение!
По дороге в Гнач-Бау Таисия Владимировна плакала и говорила:
– Как люди переменились, Хан. При Лавре Георгиевиче у них были совсем другие лица, а теперь все изменилось. Лавр Георгиевич был доверчив, как ребенок. Он не знал людей и считал всех этих людей своими друзьями. А вот я теперь вижу, какие они друзья!
В Гнач-Бау нас встретил ротмистр Арон. Он проводил нас в дом колониста-немца и со словами: «Сейчас иду откапывать тело Верховного», куда-то исчез. Подождав в доме колониста около часа, Таисия Владимировна начала нервничать и просила меня пойти и узнать в чем дело. Я пошел.
Подойдя к ротмистру Арону, я увидел его с чертежом в руках, старавшимся отыскать тело Верховного, но, казалось, безуспешно. Изрыв большую площадь земли, где должно было находиться тело Верховного, ничего не нашли, кроме тела полковника Неженцева. От Верховного же остались только кусочки гроба. Таковы были результаты тайных похорон, устроенных по приказанию генерала Деникина.
– Хан, дорогой, сделай милость, помоги мне, старому дураку, – подготовь семью к мысли об исчезновении тела! – просил ротмистр Арон.
При известии об изчезновении тела Верховного жена идочь упали в обморок. Этот удар для Таисии Владимировны был очень тяжел. Она не могла перенести смерти любимого мужа-друга и мысли об издевательстве над его телом. Придя в себя, она не могла уж больше плакать и как бы окаменела от горя.
Таисия Владимировна прожила затем недолго и вскоре умерла.
– Хан, я все это принимаю как издевательство над нами! – говорила она по пути в Екатеринодар.
Побыв в Екатеринодаре несколько часов, мы выехали в Новочеркасск.
Перед самым моим отъездом в Хиву ко мне приехал полковник Колобов Михаил Владимирович, которому высшее начальство приказало собрать все, что касалось эпохи Верховного, и он деятельно взялся устраивать музей генерала Корнилова. Меня, как адъютанта Верховного, он просил приехать в Екатеринодар, чтобы с меня написали портрет для музея.
Я приехал, и с меня был написан портрет художником А.П. Мочаловым. Я передал полковнику Колобову две пули, которые Верховный просил меня сохранить.
Взглянув на картину, где изображалась смерть Верховного, я удивился фантазии художника и тех лиц, которые передали ему подробности о последних минутах Верховного. Почему-то художник нацепил Верховному шпоры, которых он в походе не носил. Ту позу, которая изображалась на картине, никто не видел. Я, единственный человек, присутствовавший в момент разрыва снаряда в комнате, такой позы не помню, несмотря на то, что эта минута навсегда врезалась в мою память. В момент взрыва снаряда Верховный не стоял, а сидел у стола и вмиг он был подброшен снизу назад к печке в сидячем положении. Верховного ударило головой о печку. Потом я узнал, что эта картина писалась по рассказам многих «очевидцев», среди которых был и поручик Ч-в, который уверял нас под Медведовской, что его лошади оторвало гранатой голову.
В день открытия музея меня встретил озабоченный художник с бледным лицом, заявивший, что все его труды пропали даром, так как мой портрет не разрешено генералом Деникиным поставить в музей. Я удивился мелочности генерала Деникина. Если я был любимым адъютантом генерала Корнилова, то эту любовь и мою заслугу перед родиной никто не может отнять у меня. Эта мысль меня успокоила, и я, попрощавшись с Наталией Лавровной (Таисия Владимировна уже умерла) и поцеловав Юрика, поспешил выйти из музея.
Перед самым отъездом в Новочеркасск я зашел к генералу Романовскому попрощаться.
– Я пришел, Ваше Превосходительство, попрощаться с вами. Еду в Азию к Сердару. Если наступят еще раз тяжелые дни, зовите меня, я буду рад помочь вам! – сказал я, прощаясь.
Генерал Романовский улыбнулся и, глубоко вздохнув, произнес, взяв меня за голову:
– Эх, Хан, Хан! Спасибо! Счастливаго вам пути! Привет от меня Туркестану! – и опять глубоко вздохнул.
Попрощавшись с семьей генерала Романовского, я уехал в Ахал.
Прошло около года, когда я возвратился из Бухары, куда меня командировал генерал Ласточкин (начальник штаба Сердара) и Сердар для точного выяснения того, что творилось в Бухаре у Эмира. Пока я приехал из Бухары, Закаспийская область пала и Ураз Сердар с джигитами очутился на острове Ашур-Аде (в Персии).
При первой встрече с Сердаром (по возвращении из Бухары) он, в присутствии офицеров, обняв меня, поторопился передать привет от генерала Романовского, который, встретив Сердара в Ставке в Таганроге, спросил:
– Где Хан и что вы можете сообщить о его судьбе?
Сердар доложил, что он послал меня в Бухару с поручением.
– Как бы беднягу не убили! – сказал генерал Романовский.
Мне очень жаль, что я уж больше не встретился с генералом Романовским.
Иллюстрации

Текинцы Закаспийской области. Фото конца XIX в.

Текинец. Начало XX в.

Воины-текинцы. Начало ХХ в.

Знаменная группа Текинского полка

Командир Текинского конного полка С.П. Зыков. 1910-е гг.

Всадники Текинского конного полка

Лавр Георгиевич Корнилов. Фотопортрет и статья, посвященная июньскому наступлению русской армии на Западном фронте. Журнал «Искры», № 26, 1917 г.

Текинцы на привале

Текинский конный полк

Солдаты на фронте принимают присягу Временному правительству

Л.Г. Корнилов выступает перед войсками. 1917

Встреча генерала Л.Г. Корнилова на Николаевском вокзале в Москве. Август 1917 г.

Большой театр в Москве во время проведения Государственного совещания. Август 1917 г.

Члены Временного правительства с верховным главнокомандующим накануне государственного совещания. В центре сидит А.Ф. Керенский, слева от него Л.Г. Корнилов

Могилев в начале ХХ в

Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве

Приказ Верховного главнокомандующего генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова с объяснением смысла происходящих событий («Корниловское выступление»). 29 августа 1917 г.

Телеграмма А.Ф. Керенского на все телеграфные станции о запрещении передавать телеграммы в ставку Л.Г. Корнилова. 29 августа 1917 г.

Генерал М.В. Алексеев и А.Ф. Керенский. 1917 г.

Быховская тюрьма.

Группа арестованных генералов и офицеров во главе с Корниловым в период быховского заточения. Осень 1917 г. По номерам: 1. Л.Г. Корнилов. 2. А.И. Деникин. 3. Г.М. Ванновский. 4. И.Г. Эрдели. 5. Е.Ф. Эльснер. 6. А.С. Лукомский. 7. В.Н. Кисляков. 8. И.П. Романовский. 9. С.Л. Марков. 10. М.И. Орлов. 11. Л.Н. Новосильцев. 12. В.М. Пронин. 13. И.Г. Соотс. 14. С.Н. Ряснянский. 15. В.Е. Роженко. 16. А.П. Брагин. 17. И.А. Родионов. 18. Г.Л. Чунихин. 19. В.В. Клецанда. 20. Прапорщик С.Ф. Никитин. 21. Неизвестный

Текинцы в Быхове. 1917 г.

Генерал Н.Н. Духонин, отдавший 19 ноября 1917 г. распоряжение об освобождении быховских узников

Генерал Л.Г. Корнилов во время 1-го Кубанского похода. Весна 1918 г.

Дом на хуторе близ Екатеринодара, в котором 13 апреля 1918 г. был смертельно ранен генерал Л.Г. Корнилов

Первопоходники у символической могилы генерала Л.Г. Корнилова. 1918 г.

Резак Бек Хан Хаджиев

Первое издание книги Хана Хаджиева «Великий Бояр». Белград, 1929 г.
Примечания
1
Зверем называют по кавалерийской традиции новичка.
(обратно)2
Книга «В стране Бахадуров».
(обратно)3
Полковник Кюгельген, помощник полковника Зыкова.
(обратно)4
Глава из книги «В стране Бахадуров».
(обратно)5
Глава из книги «В стране Бахадуров».
(обратно)