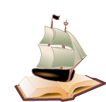| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Вавилонская башня (fb2)
 - Вавилонская башня [liters][Babel Tower] (пер. Виктор Константинович Ланчиков,Ольга Н. Исаева,Валентин Игоревич Фролов) (Квартет Фредерики - 3) 3535K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Антония Сьюзен Байетт
- Вавилонская башня [liters][Babel Tower] (пер. Виктор Константинович Ланчиков,Ольга Н. Исаева,Валентин Игоревич Фролов) (Квартет Фредерики - 3) 3535K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Антония Сьюзен БайеттА. С. Байетт
Вавилонская башня
Нечасто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф, и госпожа Байетт – отрадное исключение.
New York Times
Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.
TimeOut
Байетт препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно: как добрый хирург – скальпелем.
Тони Моррисон (лауреат Нобелевской премии по литературе)
Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.
The Times
Настоящий пир для литературных гурманов. Препарируя человеческие страсти и конфликты, Байетт закручивает интригу похлеще любых детективов.
Daily Telegraph
Пожалуй, самый амбициозный роман леди Антонии, как минимум не уступающий «Обладать». В ее «Вавилонской башне» мы наблюдаем и хронику интеллектуальной жизни Фредерики, и глубоко личную, чувственную историю. Это книга о жизни в искусстве – но также об искусстве жить.
Harpers & Queen
Выдающаяся книга – исключительно серьезная и притом неудержимо очаровательная; ничего подобного по размаху в нашей литературе еще не было. Интеллектуальный накал идеально уравновешен здесь глубокой симпатией к самым разнообразным персонажам.
Spectator
В третьем романе тетралогии Фредерика Поттер – бывшая йоркширская школьница и кембриджская выпускница, а теперь жена херефордширского сквайра – сбегает с малолетним сыном от мужа-тирана из его имения Брэн-Хаус и оказывается в Лондоне 1960-х годов, который вот-вот трансформируется в психоделический «свингующий Лондон». История матери-одиночки, зарабатывающей на жизнь преподаванием в художественном училище и литературной критикой, переслаивается главами «романа в романе» под названием «Балабонская башня» и протоколами двух судебных процессов – над этой книгой, обвиненной в оскорблении общественной морали, и процесса по Фредерикиному иску о разводе. Байетт воскрешает легендарное десятилетие в изобильной и безупречно достоверной полноте. Когда-нибудь историки будут благодарны леди Антонии за такую щедрость, ну а читатели могут благодарить уже сейчас.
Boston Review
Всепоглощающий, поистине головокружительный читательский опыт.
Washington Post Book World
Острый критический взгляд и подлинная эмпатия, грандиозный охват и внимание к мельчайшим деталям, эмоциональная прямота и прихотливая интеллектуальная игра – в «Вавилонской башне» есть все это и гораздо больше.
Miami Herald
Байетт на пике формы. Она, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.
Denver Post
«Вавилонская башня» – неоспоримое доказательство того, что леди Антония – один из величайших британских литераторов; поставить рядом с ней практически некого.
Atlanta Journal-Constitution
Блистательный роман эпического масштаба, подобный удивительному живому гобелену.
Entertainment Weekly
Богатое авторское воображение и неисчерпаемый набор литературных приемов гарантируют: скучать читателю «Вавилонской башни» не придется.
Philadelphia Inquirer
Захватывающий, прихотливо выстроенный, невероятно изобретательный роман.
Houston Chronicle
Только Байетт способна так непринужденно разбавить юмором атмосферу мрачного предчувствия, а деконструкцию классических произведений насытить романтикой и ревностью.
Charlotte Observer
Виртуозная демонстрация максимального стилистического диапазона, идеальный писательский слух.
San Jose Mercury News
Единоличным, можно сказать, усилием Байетт опять выводит британскую литературу на первые роли.
Dallas Morning News
Разнообразные сюжетные линии «Вавилонской башни» идеально сливаются в единое целое, и читатели до самого конца переживают за героев.
Newsday
Литература для Байетт – удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны. Не книга, а настоящее пиршество.
Town & Country
Роман для тех, кто не боится разгневаться, взволноваться и даже, возможно, обогатиться.
St. Louis Post-Dispatch
Творчество Байетт всегда отличали беспощадный ум и зоркая наблюдательность. Ее героев не спутаешь ни с чьими другими.
Orlando Sentinel
В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.
Marie Claire
Интеллект и кругозор Байетт поражают.
Times Literary Supplement
Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.
Scotsman
Поразительная внимательность к вещам и людям.
London Review of Books
Антония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.
Daily Telegraph
Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.
The New York Times Book Review
В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.
The Baltimore Sun
Байетт, подобно Эросу, «вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир» и побуждает нас влюбляться в язык снова и снова.
The Independent
Перед вами – портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из нынеживущих удается так щедро наполнить роман жизнью.
The Boston Globe
Байетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.
Elle
«Квартет Фредерики» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.
Entertainment Weekly
Байетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь следить затаив дыхание за хитросплетениями судеб в ее романах.
Newsday
Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.
Hartford Courant
Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.
New York Times
Читая русских писателей, многое понимаешь о том, что такое роман. Русская классика поразительна, и если читаешь ее в юности, кажется, что ты ничего похожего никогда не напишешь. Именно поэтому нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и еще – ради сюжета.
А. С. Байетт
* * *
У. Х. Оден. «Цирцея»
La Nature n’a qu’une voix, dîtes-vous, qui parle à tous les hommes. Pourquoi donc que ces hommes pensent différemment? Tout, d’après cela, devait êtreunanime et d’accord, et cet accord ne sera jamais pour l’anthropophagie[1].
Мадам де Сад, из письма к мужу
Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику…[2]
Ф. Ницше
Предисловие
Можно начать так.
Дрозд высмотрел в груде камней плиту-наковаленку – или алтарь: камень обтесанный, почти прямоугольный, серый с золотом, на солнце горячий, в тени замшелый. Груда громоздится на голой вершине высокого холма. Ниже раскинулся полог леса. Бежит здесь, конечно, ручей, дающий начало речушке.
Дрозд будто прислушивается к звукам земли. На самом же деле боковым зрением высматривает добычу, таящуюся в траве, в палых листьях. Вот он клюет, пронзает, несет раковину с мягким нутром на свой камень. Поднимает ее, разбивает. Еще одна раковина. И еще. Извлекает измятую плоть, всасывает сок, роняет, тут же подхватывает, глотает. Комок перекатывается в горле. Дрозд поет. Песня – густые слоги, короткое чоканье, трель за трелью. Желтоватая грудка дрозда – в крупных бурых пятнах, перья лоснятся. И еще одна трель. И еще.
На камнях вытесаны знаки. Может, руны. Может, клинопись. Может, пиктограммы: птичий глаз, или нечто идущее, или разящий топор, или копье. Разрозненные разноязыкие буквы: α и ∞, T, A и G. Вокруг – осколки раковин: спиральные завитки – словно ушные раковины, за которыми ни наковален, ни молоточков, и ничего не выковать. Потревожишь – раздастся разве что хрупкий хруст. Приютились себе вокруг. Устья по краям – или безукоризненно белые (helix hortensis), или лоснисто-черные (helix nemoralis). Завитки полосатые, золотистые, мелоподобные, бурые, шуршат меж бойких дроздиных лапок. Из камней смотрят останки их раковин-предков, живших миллионы лет назад.
Дрозд выводит свою незамысловатую призывную трель. Стоит на камне, который мы назвали наковаленкой или алтарем, и повторяет. Почему эта трель нам так по душе?
I
А можно начать с того, как осенью 1964 года Хью Роуз идет по Лейдлийскому лесу в Херефордшире. Сам лес, большей частью девственный, теснится в межгорьях, а Хью Роуз идет по обросшей с обеих сторон старым темным можжевельником дороге, которая тянется по холмам и долинам.
Мысли, жужжа, роятся вокруг него, как насекомые разных цветов, размеров и бойкости. Он думает о стихотворении, которое сейчас сочиняет: стихи о гранате – не стихи, а обильные рдеющие соты. Думает о том, как заработать на жизнь. Учительствовать ему не нравится, но в последнее время он только преподаванием и перебивался, и здесь, среди темных стволов можжевельника, ему вспоминается запах мела, чернил, мальчишечьих тел, шум в коридорах, возня. А здесь от лесной подстилки поднимается терпкий дух прели. Он думает об издателе Руперте Жако, который, может быть, даст ему заработать рецензированием рукописей. Деньги, наверно, не бог весть какие, но на жизнь хватать будет. Он думает о гранате, окровавленном розовом желе, о слове «гранат», крепком и пряном. Думает о Персефоне, и механика этого мифа тянет его за собой, но осторожность не пускает. Миф – слишком размашисто, слишком легко, для граната это чересчур. Надо иносказательно. Почему, впрочем, непременно иносказательно? Он думает о Персефоне, какою та представлялась ему в детстве: белая девушка в черной пещере сидит за черным столом, а перед ней на золотом блюде горстка зерен. Гранатов он в детстве не видел, и шесть зерен, которые съела Персефона, казались ему сухими. Она сидит, склонив голову, волосы – бледное золото. Не надо бы Персефоне есть эти зерна, но она съедает. Почему? Нельзя так спрашивать. Съедает, потому что это такая история. Он думает, а взгляд останавливается на древесных стволах, молодых побегах, кустах ежевики, пламенеющих ветках бересклета, глянцевых листьях остролиста. Он думает, что когда-нибудь вспомнит и Персефону, и остролист, и вдруг замечает, что семенные коробочки бересклета, мягкие, розовые, четырехгранные, немного похожи на зерна граната. Бересклет еще называют веретянкой. Он думает о веретёнах, мимоходом вспоминает Спящую красавицу, уколовшую палец веретеном, возвращается мыслями к Персефоне, думает о грезящих девах, вкусивших кровавые запретные зерна. Не о стихах, которые пишет сейчас, нет. Его стихи – о плоти плода. Мерным шагом ступает он по опавшей хвое и мягкому тлену. Деревья потом ему вспомнятся по запавшим в душу образам, а образы подскажет память о деревьях. Разуму любая работа под силу, думает Хью Роуз. Но почему именно эта работа выходит у разума такой отменной, такой роскошной?
Дорога упирается в ограду с перелазом. Дальше – зыбистые поля и живые изгороди. За перелазом безмолвно стоят женщина и ребенок. Женщина одета не по-городскому: бриджи, сапоги, куртка для верховой езды, косынка, завязанная ниже подбородка, как у нынешней королевы и ее августейшей сестры. Она облокотилась обеими руками на ограду – облокотилась, а не навалилась – и смотрит в лес. Ребенка за перелазом видно лишь наполовину. Кажется, он прижался к ноге женщины.
Хью подходит ближе, женщина с ребенком стоят неподвижно. Он собрался было свернуть влево, на тропинку в зарослях. И тут она его окликает:
– Хью Роуз? Хью Роуз. Хью…
Он не узнает ее. Другая одежда, другое место, другое время. Она помогает ребенку взобраться на перелаз. Движения быстрые, неловкие – и он вспоминает. Ребенок стоит на верхней ступеньке, одной рукой опираясь на ее плечо.
– Фредерика… – вырывается у Хью Роуза.
Фамилию не произносит, осекается. Она ведь теперь замужем. Сколько было бурных толков, обид, пересудов из-за ее замужества. Жениха, мол, никто не знает, он не из старых друзей – какой-то чужак, темная лошадка. И на свадьбу никого не пригласили, ни университетских ее любовников, ни тех, кто о ней теперь сплетничает, о свадьбе стало известно по чистой случайности. А потом Фредерика исчезла. Так все рассказывали друг другу, переиначивая и приукрашая. Говорили, что муж этот держит ее почти что взаперти, почти что как узницу в крепости – представляете? – в глуши, вдали от людей. Еще у нее беда какая-то стряслась, кто-то умер, кто-то из родных, почти в то самое время, и Фредерика изменилась, до неузнаваемости изменилась. Так изменилась, что ничего от прежней Фредерики не осталось. Хью как раз тогда перебирался в Мадрид – хотел посмотреть, можно ли там писать стихи и одновременно зарабатывать. Когда-то он был влюблен во Фредерику, а в Мадриде влюбился в тихую шведскую девушку. Фредерика по-прежнему ему нравилась, но он потерял ее, пропала душевная близость, потому что любовь всегда предшествовала приязни и смешивала все карты. Вспомнить Фредерику мешала память о тогдашней своей неудаче и память о Зигрид, другой неудаче.
Да, она изменилась. Одета как на охоту. Но на охотницу больше не похожа.
– Фредерика, – повторяет Хью Роуз.
– Это Лео, – говорит Фредерика. – Мой сын.
Из синего капюшона смотрит неулыбчивое лицо малыша. Волосы у него рыжие, как у Фредерики, на два-три тона темнее. Под густыми темными бровями – большие темно-карие глаза.
– Это Хью Роуз. Мой старый приятель.
Лео долго смотрит на Хью, на лес. И молчит.
А можно начать с подземной часовни в церкви Святого Симеона недалеко от вокзала Кингз-Кросс, день тот же, время то же.
Дэниел Ортон сидит в черном вращающемся кресле и, словно привязанный к витому телефонному шнуру, то медленно описывает в кресле полукруг, то возвращается. Ухо обжигают электрические слова, брызжущие из черной раковины, которую он прижимает к виску. Он слушает, нахмурив брови.
– Я, понимаете, прям как взаперти, я это… это… это… ну, вроде надо оторвать задницу от стула, выйти из комнаты, а я не могу, сил нету, а надо, глупо ведь, толку ведь никакого, я это… это… это… даже если выйду, они меня растопчут, тут же размажут, опасно ведь, вы это… это… это… вы меня слушаете или вам до лампочки? Кто-нибудь меня это… это… это… слушает?
– Да, вас слушают. Расскажите, куда вам надо идти. Расскажите, почему вы так боитесь выйти из комнаты.
– Никуда мне не нужно, и я никому не нужна, в том-то и дело, что ничего не нужно, но что толку-то? Вы слушаете?
– Слушаю.
Глухие стены, полумрак. К колонне кругом пристроены три фанерные кабинки с телефонами, для звукоизоляции обшитые ячеистой упаковкой для яиц. У двух других телефонов никого. У Дэниела в кабинке – синяя с белым вазочка с анемонами. Два распустились: белый и темно-пунцовый с черной мучнистой сердцевиной, опушенной мягкими черными ресничками. Белый и красный еще не раскрылись, и яркие цвета упрятаны в пушистые чехлы, сизый и серовато-розовый, выглядывающие из плоеного воротничка листьев. Над каждым телефоном висит листок с текстом, добротно выведенным рукой каллиграфа-любителя.
На листке в кабинке Дэниела написано:
Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения.
Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. (Первое послание к Коринфянам, 14: 9–11.)
Звонит второй телефон. Дэниелу приходится отделаться от первой звонившей. Места у телефонов пустовать не должны, однако даже святым случается опаздывать.
– Помогите мне.
– Я постараюсь.
– Помогите.
– Надеюсь, помогу.
– Я поступила ужасно.
– Расскажите. Я слушаю.
Молчание.
– Я буду только слушать. Расскажите мне все-все. Я для этого здесь и сижу.
– Не могу. Нет, я не смогу. Напрасно я позвонила. Извините. До свидания.
– Погодите. Расскажите мне все: может, вам станет легче.
Словно тянет из темной пучины темным тросом загарпуненную морскую тварь. Тварь задыхается, бьется.
– Понимаете, мне надо было бросить все и уйти. Надо. Я себе твердила: надо уйти. Все время про это думала.
– Так многие из нас думают.
– Думать-то думаем, но не… не делаем, что сделала я.
– Расскажите. Я буду только слушать – и всё.
– Я никому не рассказывала. Целый год – да, кажется, целый год, уж и не помню, сколько времени прошло. Рассказать кому – этого я не вынесу, я тогда буду полное ничтожество. Я ничтожество!
– Вы не ничтожество. Расскажите, как вы ушли.
– Я готовила деткам завтрак. Такие были славные детишки…
Слезы, надрывные всхлипы.
– Ваши?
– Да, – шепотом: – Нарезала хлеб, намазала маслом. Большим таким ножом. Большой такой, острый.
У Дэниела по спине бегут мурашки. Он отучил себя видеть за голосами лица и обстановку – бывают ошибки, – поэтому изгоняет из воображения сжатые губы, неприбранную кухню.
– И что?
– Не пойму, что на меня нашло. Стою, смотрю: хлеб, масло, плита, грязные тарелки, нож этот. И я стала кем-то другим.
– А дальше?
– Ну, положила нож, ничего не сказала. Надела пальто, взяла сумочку. Не сказала даже: «Я на минутку». Вышла из дому, закрыла дверь. А потом шла и шла. И… и не вернулась. А малыш сидел на высоком стуле. Он ведь и упасть мог, да мало ли чего еще. Но я не вернулась.
– Вы давали о себе знать? Мужу хотя бы. Есть у вас муж?
– Муж-то есть. Можно сказать, есть. Но я – никому. Не могла. Понимаете – не могла.
– Хотите, помогу с ними связаться?
– Нет, – поспешно, – не надо, не надо, не надо! Я не перенесу! Я поступила ужасно!
– Да, – отвечает Дэниел, – но ведь все еще можно поправить.
– Я же сказала. Спасибо. И – до свидания.
– Я, кажется, могу помочь. Вам, кажется, помощь нужна…
– Не знаю. Ужасно я поступила. До свидания.
Святой Симеон – церковь не приходская. Стоит она в грязном дворе, над нею высится массивная квадратная средневековая башня, заточенная сейчас в щетинистую клетку строительных лесов. В восемнадцатом веке церковь расширили, в девятнадцатом расширили еще раз, во время Второй мировой она пострадала от бомбежек. Неф викторианской постройки кажется несоразмерно высоким и узким, тем более что при расширении храма его оставили в прежних границах, разве что внутри кое-что переделали. Раньше его украшали витражи девятнадцатого века, особыми достоинствами не отличавшиеся: по одну сторону – Всемирный потоп с Ноевым ковчегом, по другую – Воскрешение Лазаря, явление воскресшего Иисуса в Эммаусе и языки пламени, сошедшего на апостолов в Пятидесятницу. От взрыва бомбы витражи ссыпались внутрь помещения, и между скамьями поблескивали груды потемневших стеклышек. После войны набожный стекольщик из числа посещавших церковь взялся соорудить из осколков новые витражи, однако не смог, а то и не захотел изобразить прежние сюжеты. Вместо них он смешал на витражах россыпи золотых и лиловых звезд, травянисто-зеленые и кроваво-красные потоки, кочки из стекол цвета жженого янтаря и когда-то прозрачных, а теперь закопченных, дымчатых. Грустно восстанавливать разбитые картины, где будут зиять дыры, сказал он викарию. Пусть лучше витражи будут яркие, праздничные – и, добавляя к старым стеклам новые, он изобразил нечто беспредметное, но с намеком на предметность: то там, то сям из красных складок выглядывают морды жирафов и леопардов, головы павлинов в странных ракурсах, белеют крылья, разделенные мутно-зелеными и небесно-голубыми прогалинами, среди языков пламени Пятидесятницы застыли ангелы, допотопные аисты и голуби. Вершины Арарата громоздятся на дымчатой куче мусора с разбросанными как попало обломками ковчега. Уцелела подвязанная челюсть Лазаря и его окоченевшая белая рука, и теперь они сплелись в хоровод с рукой, преломляющей хлеб в Эммаусе, и держащей молот рукой строителя ковчега. Осколки первозданной радуги сияют меж синих, с белыми шапками, волн.
В часовню, цокая высокими каблуками, спускается Вирджиния (Джинни) Гринхилл. Извиняется: автобусы опаздывали, в очередях склоки. Ничего, отвечает Дэниел. Она приносит ему чай, песочное печенье и душевный покой. Личико у нее милое, круглое, круглые очки подперты круглыми румяными щеками, губы изогнуты кверху. Она устраивается в своем – некрутящемся – кресле и раскидывает на коленях недовязанный свитер со сложным желтовато-изумрудным узором.
Позвякивают спицы. Дэниела клонит в сон. Раздается звонок его телефона.
– Помните: Бога нет.
– Вы уже говорили.
– А раз Бога нет, да будет в мире один закон: делай что хочешь[3].
– И это говорили.
– Если бы вы понимали, что это значит! Если бы понимали! Не вещали бы таким самодовольным тоном.
– Надеюсь, я говорю не таким тоном.
– Солидным тоном, дежурным тоном, непререкаемым тоном.
– Какой может быть тон, когда вы мне слова вставить не даете.
– Вам на это жаловаться не положено. Вам положено выслушивать.
– Я слушаю.
– Я же вас оскорбил. И вы не отвечаете. Так и слышу, как подставляется другая щека. Настоящий служитель Божий – или просто раб Божий. Я же время у вас отнимаю. Ну да вы и сами его попусту тратите – раз Бога нет. Homo homini deus est, homo homini lupus est[4], а вы как собака из старой басни: ошейник холку натер, зато сыта[5]. Скажете, не так?
– Вы хотите настроить меня против себя, – произносит Дэниел, тщательно подбирая слова.
– Вы уже против меня настроены. Я же слышу. И раньше слышал. Настроены, настроены – я ведь твержу, что Бог мертв[6].
– Мертв Бог или нет – я вас слушаю.
– Вы мне ни разу не сказали, что я, наверно, очень несчастен. Умно. Потому что это не так.
– Просто я не спешу с выводами, – мрачно отвечает Дэниел.
– Такой весь справедливый, сдержанный такой, безумствам не предается.
– «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“»[7].
– Так я безумец?
– Нет. Просто к слову пришлось. Само вырвалось. Считайте, что я этого не говорил.
– Вы что, и правда ошейник носите?
– Под толстым свитером. Как и многие сегодня.
– Благодушие. Душевная анемия. Аномия[8]. А я время у вас отнимаю. Такой вот растратчик чужого времени. Пристаю к вам с Богом, а к вам небось дозваниваются другие безумцы – кто весь в крови, кто накачался секоналом.
– Совершенно верно.
– Если Бога нет, они все ничто.
– Об этом судить мне.
– Призвание у меня такое – звонить вам и говорить, что Бога нет. Когда-нибудь вы меня услышите и поймете.
– Что я понимаю, чего нет – не вам судить. Вы меня придумали на свой лад.
– Разозлились. Вы еще поймете – не сразу, не очень вы сообразительный, – что я звоню и стараюсь вас разозлить, потому что работа у вас такая, призвание: не злиться. Но мне в конце концов удается. Спросите, почему?
– Нет. Если спрошу, то у себя. Вы меня очень разозлили. Довольны?
– Думаете, я ребячусь? Нет.
– Ребячества – не по моей части.
– Так и есть, разозлился. До свидания. До следующего раза.
– Как вам будет угодно, – отвечает Дэниел: он и правда рассержен.
– Железный, – произносит Джинни Гринхилл.
Она дала это прозвище глашатаю смерти Бога за его голос, деланый, чуть дребезжащий, как у дикторов Би-би-си, с металлическим звоном.
– Железный, – отвечает Дэниел. – Говорит, хочет меня разозлить. И разозлил. Чего он звонит – не пойму.
– А со мной он обычно не разговаривает. Это вы ему нравитесь. Мне просто говорит, что Бога нет, и весь разговор. Я ему: «Да, мой хороший» или несу какую-то чушь – и он вешает трубку. И чего он так: с горя, от злости или еще почему – непонятно. Мы тут у себя, наверно, принимаем все слишком близко к сердцу: думаешь, человек в отчаянии, а он просто хочет тебя позлить. Мир к нам, наверно, повернут изнанкой.
Спицы стучат. Голос у нее домашний, как гренки с медом. Ей за пятьдесят, не замужем. Заводить разговор о ее личной жизни и мысли не приходит. Когда-то работала в корсетной мастерской, а теперь живет на проценты от вкладов и пенсию. Ревностная христианка, и беседовать с Железным ей, пожалуй, труднее, чем с мастурбирующим в телефонной будке маньяком.
В часовню спускается каноник Холли. Джинни Гринхилл как раз отвечает на новый звонок:
– Нет, что бы ни случилось, мы помочь готовы… шокировать меня – может, и да, но я очень сомневаюсь…
Каноник Холли садится и наблюдает, как Дэниел записывает в журнале:
4:15–4:45. Железный. Как обычно: Бога нет. Дэниел.
– Что ему нужно? Есть у вас догадки?
Каноник вставляет сигарету в треснутый янтарный мундштук и окутывает Дэниела клубами дыма. От него все время отдает дымком, как от копченой рыбы.
– Нет, – отвечает Дэниел. – Одна и та же мысль, один и тот же стиль. Старается вызвать раздражение – и в самом деле вызвал. Может, он мучается из-за того, что Бога нет или Он умер.
– Отчаяние на религиозной почве как мотив самоубийства.
– Такие случаи известны.
– Еще бы.
– Слишком он болтлив для потенциального самоубийцы. Чем, интересно, он занимается? Звонит то утром, то днем, то вечером.
– Время покажет, – замечает каноник.
– Не всегда оно показывает, – произносит Дэниел, у которого уже было два печальных случая: один звонивший с отчаянием в голосе сбился на полную бессмыслицу, сменившуюся пустотой и потрескиванием в трубке, другой голос делался писклявее и писклявее, и вдруг связь прервалась.
А еще можно начать с первых глав книги, которой суждено стать причиной стольких бед, но сейчас это еще лишь куча набросков и отдельные сцены, вообразившиеся и перевообразившиеся автору.
Глава 1
Об основании Балабонской башни
Когда лучезарная заря Революции, омрачившись, сменилась багровым заревом Террора, когда булыжные мостовые города почти расселись от потоков крови и клочьев плоти, забившихся в щели между камнями, когда кровавое лезвие, не зная устали, взметалось и падало дни напролет и люди уже задыхались от сладкого смрада бойни, как-то ночью горстка вольнолюбцев бежала из Города – поспешно, порознь, тайно. Они старательно нарядились так, чтобы их не узнали, и подготовились к бегству загодя: тайком услали вперед припасы, распорядились, чтобы на фермах в безлюдной местности их дожидались повозки и лошади, поручив это тем, кому можно довериться, – даже в эту недобрую пору такие еще встречались. Когда они наконец сошлись во дворе одной фермы, их недолго было принять за ватагу неотесанных костоправов, грязных нищих, дубоватых крестьян и молочниц. Тогда те, кто по виду были вождями беглецов или, по крайней мере, устроителями побега, рассказали о предстоящем путешествии: путь их лежит через леса и равнины в обход больших городов и селений до самой границы; там они попадут в соседнюю горную страну и за покрытыми снегом хребтами доберутся до укромной долины, где одиноко высится замок Ла Тур Брюйар, принадлежащий одному из беглецов по прозвищу Кюльвер, – попасть в него можно лишь по узкому деревянному мосту над темной безжизненной пропастью.
По пути надо будет ехать с поспешностью, прячась от посторонних глаз, встречным не доверять, разве что тайным помощникам в условленных местах и удаленных от городов деревушках и на постоялых дворах – помощников этих можно будет узнать по условным знакам: синий цветок, заткнутый за ленту шляпы определенным манером, или пучок петушиных перьев с одним орлиным. Если же все благополучно достигнут назначенного места – дай-то Бог, чтобы так и случилось! – там их маленькое общество устроит жизнь на началах истинной свободы вдали от мира, где царит пустопорожнее витийство, фанатизм и Террор.
И они отправились в путь, подвергая себя опасностям и невзгодам, которые лучше не описывать, а предоставить эту работу воображению читателя, ибо это история не о мятежном мире, оставшемся позади, а о мире новом, который они уповали создать если не для всего человечества – те надежды не сбылись, – то для этих немногих избранных.
Не все прошли этот путь до конца. Двоих юношей схватили и отдали в солдаты, и лишь год спустя им с большим трудом удалось убежать. Одного старика зарезала еще более ветхая старуха, когда он, изнемогая от усталости, весь в поту, прилег в придорожную канаву и смежил глаза. Двух девушек изнасиловала свора крестьян, хоть они искусно придали себе вид хрычевок с изрытыми оспой лицами; когда же под маскарадными лохмотьями обнаружились молодые, шелковистые тела, их изнасиловали еще раз, уже за обман, а потом, прельстившись свежей упругой плотью, еще, а потом, не cдержавшись, еще; у девушек уже не оставалось сил молить о пощаде, и слезы уже не текли по заплаканным лицам, но насилие повторилось, и они скончались – от удушья ли, от страха ли, от отчаянья ли – кто знает; и кто знает, не показалась ли им эта смерть милосердным избавлением. Счастливцы, добравшиеся до замка-башни, так и не узнали об их судьбе, хотя слухов об этом происшествии ходило множество. Ну да в ту пору смерть от чужой руки была не редкость.
А вот путники, собравшиеся у деревянного моста на вершине горы Клития, поистине являли собой зрелище редкое. Грязные и потрепанные, отощавшие в пути, они тем не менее были бодры: надежды воскресли, и кровь опять заиграла. Ла Тур Брюйар (одно из названий замка) было отсюда не различить, но вождь уверял, что стоит преодолеть последнее воздвигнутое природой препятствие – перейти мост над пропастью, – и глазам их откроется местность, в которой они смогут устроить земной рай: долина, орошаемая стремительными реками и излучистыми ручьями, на ней поросший лесом холм, а на нем крепость, где веками укрывались его предки, – там они и поселятся.
Вождь их, хоть человек и родовитый, называл себя просто Кюльвер: беглецы условились, что возьмут себе новые имена, чтобы этим свидетельствовать свое отречение от старого мира и новое рождение в мире новом. Его постоянной спутницей была госпожа Розария. Они составляли прелестную пару: прямое воплощение мужского и женского начала в пору первого цветения. Кюльвер был выше среднего роста, широкоплечий, но гибкий, лаково-черные волосы его, длиннее, чем требовала мода, разметались по плечам крупными прядями. Крепко вылепленное лицо освещалось улыбкой таких же крепких губ, алых и чувственных, из-под упрямых бровей смотрели темные глаза. Розария, стройная, но полногрудая, приминала седло крепким, но пышным усестом. Волосы ее тоже рассыпались по плечам, но она решилась выпустить их из-под капюшона лишь здесь, на вершине Клитии, и, чуть откинув голову, наслаждалась прохладой, веющей в этом раздолье, где высятся горы, белеют снега, а внизу зеленеет долина. Лицо у нее задумчивое и властное, плотные губы выгнуты, между бровей вразлет затаились морщинки, словно она постоянно решает какой-то вопрос. По воле родителей ее ожидал брак с нелюбимым, по воле революционных властей – притеснения, суд на скорую руку и мгновенная казнь, но она, проявив ловкость и безжалостность в выборе средств, бежала и от родителей, и от властей. В тот день, когда начинается наша история, ее золотистые волосы спутаны, кожа припудрена дорожной пылью, на которой алмазами сверкают капли пота.
Был в числе собравшихся возле моста и юный Нарцисс, бледный, хрупкий, совсем еще мальчик, то трепетно нерешительный, то внезапно порывистый; был здесь рассудительный Фабиан, приятель Кюльвера в вольные годы учения, остерегавший его в ту пору от сумасбродств; был здесь человек постарше, называвший себя Турдус Кантор[9], – он кутался в тяжелый плащ, ибо даже при ясном солнце его пробирал озноб от горного воздуха. Еще была здесь отважная супруга Фабиана Мавис, а с ними трое их детей, теперь получивших имена Флориан, Флоризель и Фелисита. Ожидались еще дети: у моста должны были появиться еще два семейства со своими чадами и осиротевшими детьми своих родственников, но их ждали только через несколько дней – в силу обстоятельств им пришлось задержаться в пути. В стороне тихо беседовали еще три женщины: смолокудрая Мариамна и близнецы Целия и Цинтия, чьи русые волосы бледно мерцали в солнечном свете. Путников сопровождали и слуги, распоряжавшиеся повозками и вьючным скотом, но о тех слугах, кому по достижении цели путешествия было назначено присоединиться к остальному обществу, разговор впереди.
Кюльвер огляделся и, рассмеявшись, произнес:
– Мы почти у цели, ужасы и опасности позади. Еще немного – и мы сами себе хозяева и заживем по-своему. Замок Ла Тур Брюйар, где вас ожидают, еще во времена моего деда пришел в запустение. Камни растаскали на постройку амбаров и часовен, залы лишились обстановки, в разбитые окна пробрался плющ. Но много уже поправлено: многие комнаты и палаты вновь приспособлены для жилья, конюшни, кухни и прочие службы приведены в должный порядок, хотя, как вы скоро увидите, над головами у нас работы будут еще продолжаться, чтобы наше жилище стало надежным и ладным… Все вы, верно, знаете о моем намерении устроить нам в этом замке убежище. Я хочу, чтобы наша жизнь тут сделалась упражнением в свободе – свободе в отношении важных предметов: просвещение, образ правления в нашем маленьком обществе, совместный труд, брожение мысли и страсти. Не останутся без внимания и предметы, на иной взгляд, мелкие: искусства, одежда, еда, убранство жилищ, забота о саде и огороде. Всё это мы будем решать сообща и совершим во всем такие перемены, представить которые нам сегодня недостанет воображения. В мире и согласии мы заживем по законам разума и страсти. Прочь мелочные ограничения. Мы сведем вместе такое, что прежде не сводилось. Найдется место и тому, кто озабочен лишь одним, и тому, кто желает, как бабочка, порхать с цветка на цветок… Дамиан и Самсон останутся тут на несколько дней подождать, не прибудет ли повозка с детьми и прочими отставшими спутниками, мы же перейдем через мост и, когда наконец все соберутся вместе, возьмем топоры и подрубим его опоры, чтобы преградить путь опасности, угрожающей нам с этой стороны.
– Не преградим ли мы и себе путь к бегству из долины? – спросил Фабиан.
– Будем надеяться, бежать никто не захочет. Впрочем, удерживать силой никого, конечно, не станут – ведь мы замыслили общество, где всякий располагает безграничной свободой. Притом на юге есть тесные ущелья, которыми можно выбраться из долины – не без труда, но все же не с такими трудностями, с какими мы сюда добирались. Но я уповаю, жизнь наша, полная удовольствий, наслаждений и заботы о взаимной выгоде, потечет так отрадно, что всякий будет далек от мысли ее оставить.
– Еще как далек, – улыбнулась Розария и, пришпорив коня, первой взъехала на мост.
И они благополучно перебрались через пропасть. Кое-кто не решался взглянуть вниз, где на головокружительной глубине, не согретый солнечным светом, меж острых базальтовых глыб клокотал поток, подернутый, словно дымкой, мелкими брызгами. Фабиан прижимал сына к груди, чтобы мальчик не глядел в пропасть, сестренка же его бесстрашно глазела вокруг и смеялась. Так, оживленно беседуя о земном рае, который им предстоит скоро увидеть, въехали путники в теснину, за которой открывалась Фезанская долина.
Фредерика не предлагает Хью перебраться через перелаз, а, кажется, хочет вместе с ним уйти в лес. Она передает ему мальчугана и, отказавшись от помощи, быстро спускается по ступенькам на его сторону. Такая же поджарая, лицо по-прежнему угловатое.
Они бредут по тропинке среди деревьев. Разговор не клеится. Бывало – виделись каждый день и говорили обо всем: Платон, советские танки в Будапеште, Стефан Малларме, Суэцкий кризис, стихотворные размеры. Тем труднее говорить о событиях шести лет разлуки. Вспоминают общих друзей. Хью рассказывает, что Алан преподает историю искусства в Художественном училище Сэмюэла Палмера[10]. Кажется, еще статьи пишет. Ездит в Италию. Тони – независимый журналист, дела идут неплохо, даже на телевидении подвизается. Сам Хью по-прежнему пишет – да, пишет: поэзия – это сегодня важно, говорит он Фредерике, и та, не отрывая глаз от рассыпанных под ногами буковых орешков, кивает и мычит в знак согласия. Зарабатывает он преподаванием, но это не для него. Один издатель предлагает ему писать внутренние рецензии, за гроши. Но поэт только на гроши и может рассчитывать, говорит Хью Роуз Фредерике, и она опять мычит, натужно, словно задыхается. Про Рафаэля Фабера, чей кружок любителей поэзии они вместе посещали, она не спрашивает. Хью рассказывает, что Рафаэль напечатал свою поэму «Колокола Любека». Читатели понимающие в восторге.
– Я знаю, – отвечает Фредерика.
– Видишься с Рафаэлем? – с невинным видом спрашивает Хью. Он был влюблен в Фредерику, а она в Рафаэля, но здесь, в лесу, кажется, что все это было в другой стране, в другую эпоху, что это его ушедшая юность.
– Да нет, – говорит Фредерика. – Я с тех пор ни с кем не общалась.
– Ты ведь писала для «Вог», – вспоминает Хью, для которого это была такая же неожиданность, как сейчас – наездничья куртка и бриджи: духовно Фредерика никогда не отставала от жизни, однако мир потребительских утех и светских сплетен с ней не вяжется.
– Пописывала. До замужества.
Хью ждет. Ждет, что она расскажет о замужестве.
– У меня погибла сестра, – говорит Фредерика. – Не слышал? Вскоре после этого я и вышла за Найджела, а потом родился Лео, а потом я сильно болела, недолго. Знаешь, сначала даже представить трудно, что может с тобой сделать смерть близкого человека.
Хью спрашивает про смерть сестры. Сестру Фредерики он не знал. Она была старше Фредерики и, кажется, тоже училась в Кембридже, но жила, как и вся их семья, в Йоркшире. О сестре Фредерика рассказывала мало. С ее слов, одинокое и необычное существо, женщина волевая, ищущая.
Фредерика рассказывает про смерть сестры. Чувствуется, что рассказ этот она словно вызубрила – так ей проще, только так она и может об этом рассказывать. Сестра, говорит она, была замужем за викарием, у них было двое детей. И вот как-то раз кошка притащила в дом птицу, воробья, и он забился под холодильник. Сестра стала вытаскивать, а холодильник не заземлили как следует… Она была совсем еще молодая. Эта смерть нас всех потрясла, говорит Фредерика с кривой усмешкой. И долго еще трясла, добавляет она мрачно. Очень долго. Ужасно, говорит Хью: бесстрастный тон Фредерики притупляет воображение.
– И Найджел взялся меня опекать. Раньше я в опеке не нуждалась, а он стал опекать.
– Я Найджела не помню.
– Он тоже там бывал, в Кембридже. Не учился, а так, заезжал. Его фамилия Ривер, у его семьи собственный дом, старинный. Брэн-Хаус – вон там, за полями, где перелаз. Это всё их поля.
Идут дальше. Малыш держится за руку Фредерики. Резкими пинками разбрасывает мертвые листья.
– Гляди-ка, Лео: каштаны, – говорит Фредерика. – Видишь? Вон там.
Один-два шипастых зеленых шарика; сквозь щели с белыми, отдающими в желтизну краями лоснится светло-бурая кожура. Лежат среди вороха листьев в ложбинке.
– Пойди возьми, – говорит Фредерика. – Мы всегда так радовались, когда их находили. Редко попадались: местные мальчишки их собирали первыми. Сбивали с дерева камнями. А для нас – целое событие. Каждый год. Мальчишки насаживали их на веревочки и лупили друг друга. Я – нет, я их просто хранила, а когда пожухнут и сморщатся, выбрасывала. И так каждый год.
Малыш тянет ее за собой. Один он собирать каштаны не хочет. Он тянет, и Фредерика идет за ним, подбирает каштаны с подстилки из мертвой листвы и протягивает сыну – «почтительно», мысленно произносит Хью Роуз.
– Любишь их на веревочку нанизывать? – спрашивает Хью у Лео.
Малыш не отвечает.
– Он у нас в отца, – замечает Фредерика. – Неразговорчивый.
– Это ты такая, – говорит Лео. – Ты неразговорчивая.
– В молодости, когда мы с твоей мамой дружили, – говорит Хью Роуз, – она болтала без умолку.
Фредерика рывком выпрямляется и идет дальше, Лео и Хью остаются вдвоем возле каштанов. Хью ботинком ворошит листву, и в ней обнаруживается орех-великан, выпроставшийся из оболочки крепкий глянцевый шар. Хью протягивает его Лео, и тот, чтобы взять находку в руки и рассмотреть поближе, передает свои каштаны Хью.
– У меня есть пакет с сэндвичами, – говорит Хью. – Хочешь – сложи их туда.
– Хочу, – отвечает Лео. – Спасибо.
Он торжественно опускает каштаны в пакет, возвращает его Хью и протягивает ему руку. Хью берет его за руку. Он никак не придумает, о чем бы еще завести разговор.
– Пошли ко мне пить чай, – произносит Лео.
– Твоя мама меня не приглашала.
– Пошли пить чай.
Они нагоняют Фредерику.
– Этот дядя, – объявляет Лео, – этот дядя идет ко мне пить чай.
– Было бы здорово, – говорит Фредерика. – Пойдем, Хью. Тут недалеко.
Хью дает согласие, и мальчуган сразу оживляется: бегает, совершает вылазки в подлесок, набивает карманы перьями, раковинками, подбирает даже клок шерсти.
– Бурная у тебя жизнь, Фредерика, – говорит Хью. – Сколько тебе всякого на долю выпало.
– Жизнь и доля, – произносит Фредерика. И, помолчав: – Это не одно и то же. А должно, наверно, быть одним. Насчет жизни у меня когда-то сомнений не было. Я хотела.
Фраза как будто бы бессодержательная и незаконченная.
Они перебираются через перелаз и идут по вечереющему полю, где щиплет траву грузная белая лошадь, где поет в терновнике птица, где Хью спотыкается о кротовину, – и в душе все встает на свои места. Теперь им владеет чувство, описать которое у него нет слов, хотя оно сродни его стихам. Это чувство… он назвал бы его английским чувством, хотя, возможно, оно охватывает всякого человека при мысли о смерти. Это мимолетное чувственное осознание своего бренного тела со всеми его мягкими, темными, липкими внутренностями, всеми сочленениями мельчайших костей, всеми излучистыми, гудкими, чуткими нервами и сосудами. Осознание того, что ты тут, внутри, под этой кожей, – осознание приятное, потому что чувствуешь: там, за пределами этой кожи, волос, глаз, губ, ноздрей, завитков уха, раскинулись просторы, течет время, происходит что-то сложное. Безотчетное удовольствие живого существа оттого, что все внешнее было таким задолго до его, существа, появления и таким после него и останется. Удовольствие это, думает Хью, было бы невозможно, если бы ты сперва не пожил на свете, не поскитался по родным краям – в его случае Англии – так, чтобы все это отпечатлелось в мягкой бледной массе внутри черепной коробки, настроило по-своему и вкус, и зрение, и обоняние. Это особое удовольствие от жизни, говорит себе Хью, возможно лишь тогда, когда понимаешь, что приближается смерть. И испытываешь его обычно как раз в такой местности: общипанная трава, обнаженные камни, дерево, куст, холм, горизонт, – потому что за тысячи, за миллионы лет до появления городов, да и после их появления многие поколения твоих предков испытывали такое же чувство в такой же вот местности. Это помнишь клетками тела, думает Хью. Каждая пядь этой почвы, кажется, приняла в себя кости пальцев и сердечные мышцы, шерсть и ногти, кровь и лимфу. Сильные чувства могут накатить и в городе, затянуть сознание в свой водоворот, но они не такие, как это: зелень, синь, просизь. А еще такие воспоминания вспыхивают, когда снова и снова перечитываешь слова, которые, как почва и камни, сделались частью душевного состава: «Ода бессмертию», например, или «Соловей»[11], или сонеты Шекспира. И тут наслаждение краткостью своего бытия – Хью спотыкается и падает – примешивается к удовольствию от долговечности этих слов.
Иногда он опасается, что это чувство знакомо уже не всем, что знают его лишь немногие, да и те стесняются его, видят в нем шаблон восприятия, пасторальную пошлость. А его, живого ли, умирающего ли, запах земли, шевелящиеся в траве губы лошади, черные сучья в сером воздухе пробирают до нутра. Вслух он ничего этого не произносит. Поднимается на ноги и бредет дальше. Впереди по траве ковыляет коренастый малыш Фредерики. Хью пытается вспомнить, каково это – быть таким маленьким, что год кажется бесконечным, до весны или лета еще далеко-далеко, – как человеку с планеты, которая совершает один оборот вокруг солнца за пол его жизни.
* * *
За воротами на дальней кромке луга показался Брэн-Хаус. Он и в самом деле похож на крепость: его окружает высокая стена, перед ней – ров с водой. Над стеной виднеется черепичная крыша с нарядными дымовыми трубами в тюдоровском стиле. Великолепная глухая стена из старинного красного кирпича местами крошится, там и сям позатянулась мхом и лишайником, обросла очитком и каменными розами, льнянкой и львиным зевом. Над стеной нависли ветви фруктовых деревьев, за ними высится кипарис.
– Как красиво, – произносит Хью.
– Да, – отзывается Фредерика.
– Повезло Лео: расти в таком месте, – говорит Хью, которого все не покидает «английское» чувство.
– Знаю, – говорит Фредерика. – Я знаю, место чудесное.
– Пойдем через сад, – объявляет малыш и бежит вперед.
За поворотом в стене обнаруживается дверь, к ней ведет перекинутый черед ров горбатый деревянный мост. Они идут садом.
– Вот не представлял тебя в роли хозяйки поместья, – замечает Хью.
– Я сама не представляла.
– «Только соединить», – вполголоса произносит Хью слова Маргарет Шлегель из «Говардс-Энда»[12]. От этих слов английское чувство вновь окутывает его или накатывает с новой силой.
– Не смей. – Это говорит уже не та женщина, которую он встретил сегодня, это прежняя Фредерика.
Лео счищает грязь с подошв о металлическую скобу. Дверь отворяет женщина средних лет в кожаных ботинках на шнуровке и шерстяных чулках. Она кладет руку на плечо Лео и ведет его в дом. Пора пить чай, говорит она.
– Это Пиппи Маммотт, – представляет Фредерика. – Пиппи, это мой приятель Хью Роуз. Мы знакомы по университету. Лео пригласил его на чай.
– Сейчас еще чашки принесу, – говорит Пиппи Маммотт.
Она удаляется, держа за руку Лео.
Хью и Фредерика проходят через выложенную плиткой прихожую, минуя квадратную винтовую лестницу, в гостиную, уставленную удобными диванчиками и подоконными скамьями.
– Чай подадут сюда, – произносит Фредерика. – И приведут Лео. Найджела нет дома. На работе, наверно. У его дяди своя компания, морские грузоперевозки. Найджел там днюет и ночует. Иногда неделями не возвращается.
– А ты? – спрашивает Хью. – Ты чем занимаешься?
– А чем, по-твоему, я – такая – могу заниматься?
– Не знаю, Фредерика. Когда мы в последний раз виделись, ты готова была горы свернуть – хотела стать первой женщиной-преподавателем в Кингз-колледже, завести свою телепрограмму, написать что-то этакое, новаторское…
Они разговаривают стоя. Фредерика, не отрываясь, смотрит в окно.
В гостиную входят две женщины, их представляют: Оливия и Розалинда Ривер, сестры Найджела. Привозят на сервировочном столике чай, и Пиппи Маммотт разносит чашки. Оливия и Розалинда сидят рядышком на диване, покрытом льняной тканью в пышных розовых и серебристо-зеленых цветочках. Это смуглые, коренастые женщины с тенью на верхней губе. Глаза под широкими темными бровями – как у Лео: большие, темные, блесткие. На них удобные джемперы, у одной светло-серый, у другой оливковый, юбки из твида, на литых ногах непрозрачные чулки. Они забрасывают Хью вопросами, которые не задавала Фредерика. Чем он занимается? Где живет? Женат ли? Как ему нравится прелестная здешняя местность и как это можно жить в большом городе, где такой смрад, такая толчея и от машин прохода нету? Хочет он посмотреть усадьбу, домашнюю ферму? Хью отвечает, что проводит отпуск в пешем походе, до следующего места ночевки далеко. Оливия и Розалинда предлагают быстро довезти его на «лендровере», но Хью отказывается: поход ведь пеший и, кстати, ему пора – до места надо добраться засветло. Сестры без уговоров его поддерживают. Это он правильно делает, что выполняет задуманное, им это нравится, а хочешь увидеть жизнь на природе – лучше всего путешествовать пешком. Пиппи Маммотт раздает пшеничные булочки, куски пирога, разливает чай, доливает. Малыш снует между мамой и тетушками, показывает то ей, то им разные вещицы. Пиппи Маммотт берет его за руку и объявляет, что ему пора уходить.
– Я еще не хочу, – упрямится он, но его уводят.
– Скажи мистеру Роузу «до свидания», – велит Пиппи Маммотт.
– До свидания, – произносит малыш без всякого стеснения.
Хью действительно собирается уходить. Что надо добраться засветло, это правда, да и загостился он тут. Фредерика провожает его до двери, потом идет с ним по длинной дорожке к воротам, чтобы показать, куда дальше.
– В Лондон выбираешься хоть когда-нибудь?
– Да нет. Раньше выбиралась. Там ничего не получилось.
– Приезжай, с нашими повидаешься. С Аланом, с Тони. Со мной. Мы по тебе скучаем.
– А ты мог бы писать. О поэзии.
– Ну приезжай, постарайся. Тут у тебя столько помощников…
– Это не помощь.
Вид у нее потерянный, беспомощный. Поцеловать ее? Не хочется. Нету в ней больше той неуемной живости, и былого острого влечения он уже не испытывает. Он неожиданно обнимает ее, трется щекой о ее щеку. Она вздрагивает, замирает и стискивает его в объятиях:
– Как я рада, что ты оказался там, в лесу. Не пропадай, Хью.
– Конечно, – отвечает Хью.
Телефонная трубка тараторит, крякает и урчит.
– В сексе важно, как ты сам к себе относишься, – говорит Джинни Гринхилл. – Да-да, я знаю: есть какие-то общие представления о привлекательности, о параметрах, как вы говорите, да, есть, конечно, я знаю…
Черная раковина вновь тараторит, крякает, урчит, тараторит, разражается очередью взрывных звуков.
– Нет, про отвращение я, конечно, не забыла, есть и такое чувство, глупо про него забывать. А с другой стороны, сколько вокруг разных людей, столько любопытного, столько доброты…
Каноник Холли просматривает записи Дэниела в журнале:
3:00–3:30. Женщина. Боится выйти из комнаты. Не представилась. Судя по выговору, из Лондона. Обещала снова позвонить. Дэниел.
3:30–4:05. Не представилась. Под влиянием минуты ушла из дома, бросила детей. Судя по выговору, из северных графств. «Я поступила ужасно». На предложение помочь связаться с семьей реагировала резко отрицательно. Дэниел.
4:15–4:45. Железный. Как обычно: «Бога нет». Дэниел.
Каноник Холли закуривает еще одну сигарету. Ему под шестьдесят, он недурен собой: поджарый, как породистый скакун, удлиненное лицо с глубоко посаженными глазами, длинные крепкие зубы, чуть пожелтевшие от никотина. Железный ему интересен, но он никогда с ним не говорит. В том, что касается Бога, он разбирается хорошо. Написал ставшую популярной и вызвавшую споры книгу под названием «В Боге без Бога», выступал по телевидению в поддержку епископа Вулиджского и его труда «Быть честным перед Богом»[13]. «В Боге без Бога» – тонкое и озадачивающее рассуждение о том, что если отказаться от умилительных представлений о заоблачном старце или блуждающем по надзвездным пажитям радетеле малых сих, то, кажется, можно открыть Силу, которая, как показал Иисус, сделала человека Воплощенным Словом, Воплощенной Душою. Бог внутри, как писал каноник, «устроил нас дивно»[14] не как горшечник, который мнет безжизненный ком грязи или глины. Устроение это было поистине дивно: Бог, как Разум, действовал в тех первых простейших организмах, которые сбивались вместе в первородной жиже. Он рос вместе с нами – и по-прежнему растет, растет, как разрастается клетка, и развивается, как развивается эмбрион из яйцеклетки оплодотворенной. Он, по прекрасному выражению Дилана Томаса, та «сила, которая через зеленый фитиль выгоняет цветок»[15].
Дэниел сомневается, так ли уж богословские построения каноника Холли отличаются от взглядов атеистов и пантеистов. Сам он по складу характера богословствовать не склонен, он просто религиозный человек, который уже и не понимает, что такое «религия». И еще он подозревает, что собственные его убеждения не так уж далеки от взглядов каноника Холли. Он заметил, что каноник мыслит лишь в привычном кругу христианских категорий: молитвы, ссылки на Библию, обряды, догматика – это отчасти они залог его бодрости, это они определяют его судьбу, его личность. Дэниел наблюдателен. Он убежден, что если каноник со своими рассуждениями и метафорами окажется, так сказать, вне церковной ограды, то без хоралов, обрядов, без исполнения возложенных на него обязанностей быстро зачахнет. Дэниел – тот не зачахнет. Пожалуй, из-за весьма основательных сомнений почти во всех церковных догматах ему вообще следовало бы жить и работать вне церкви. Но он не уходит отчасти потому, что ему нужна некая безличная инстанция, обязывающая его к добродетели. Ему, например, нужно, чтобы его обязывали терпеливо выслушивать Железного. Такая у него работа: если выполнять ее без побуждения, от кого бы оно ни исходило, будет уж не то – блажь какая-то, что-то неестественное, нездоровое даже.
В церковной же ограде ощущение Бога как силы, от которой все его клетки растут как на дрожжах, наделяло каноника Холли неиссякаемой энергией, трогательной и в то же время раздражающей. Он стал учредителем и членом группы, назвавшей себя «Психоаналитики во Христе», написал еще одну книгу, «Наши страсти, страсти Христовы» – труд о сексуальности и религии с обильными ссылками на Фрейда и Юнга, антропологов и историков религии, на Уильяма Блейка, Уильяма Джеймса, святую Терезу Авильскую и Хуана де ла Крус. Эта книга имела еще больший успех, чем «В Боге без Бога», и вызвала вопросы у церковных иерархов, которые по здравом размышлении направили каноника Холли вместе с Дэниелом – тот приходил в себя после чего-то вроде нервного срыва – на работу в Центр психологической помощи при церкви Святого Симеона, сотрудничающий с отделением благотворительного фонда «Вас слушают». Работу эту каноник Холли любит, любит звонивших, любит и Дэниела, и Джинни, и остальных сотрудников. У телефона он само внимание: рот открыт, глаза горят, каждая жилка напряжена – готов тут же кинуться на помощь, проявить участие, сопричаститься чужой беде. Вдумчивых васслушателей такая истовость должна была бы насторожить. Но делу она помогает. Дэниел не раз убеждался, что помогает: он слышал, как каноник хрипловатым голосом подбадривает робеющих:
– Смелее, не бойтесь. Рассказывайте, рассказывайте. Меня ничем не смутишь, правда-правда.
И Дэниел убеждался: помощь оказана и принята. И все же он со своими неурядицами к канонику Холли не обратился бы. Уж скорее поделится с Джинни Гринхилл, а та дежурно улыбнется и благодушно кивнет. Ей рассказывать о своих бедах нет смысла, но выслушать она выслушает. Почему – он понятия не имеет. Не спрашивал. Они не настолько близки, и от этого им легче работать вместе.
Джинни Гринхилл кладет трубку и тихо вздыхает.
– Еще кто-то мастурбирует? – интересуется каноник Холли.
– Не так чтобы прямо. Не понравился он мне. Девица-коллега, он ходит за ней по пятам. Говорит, прямо бредит ею, ни о чем больше думать не может, ночами не спит. Все хочет, чтобы она обратила на него внимание, а он ей противен.
– В самом деле противен? – спрашивает каноник Холли.
– Хочется ответить: почем мне знать? Если судить по собственному впечатлению, пожалуй, да, противен. Раз человеку кажется, чаще всего так и бывает. Это насчет обратного обычно ошибаются. Хотя помню, один неделями ныл, какой он замухрышка, а пришел сюда – крепкий такой симпатяга, вот только бы вес немного сбросил и держался посмелее. Просто удивительно, какими люди себе представляются.
– Вы с ним хорошо работали, – одобряет каноник Холли. – Неподдельная теплота, никаких несбыточных обещаний.
Он достает письмо, полученное от епископа, – ответ на свое предложение открыть при церкви Святого Симеона учебные курсы для сексуальных терапевтов. Составить перечень обычных жалоб, давать непрофессиональным консультантам профессиональные советы по этой части. Джинни заваривает чай на всех и замечает, что, по ее мнению, для многих звонивших не менее полезно было бы открыть курсы по планированию своего бюджета.
– Послушать вас, Джинни, – говорит каноник, – можно подумать, вы, милая моя, страшная ханжа: малейший намек на плотскую страсть или томление плоти – и вы заговариваете о другом. Но вы не ханжа: я слышал, как вы с полным сочувствием, с разумными доводами убеждали тех, кто обижен судьбой и сам готов обижать.
Спицы мерно позвякивают. Джинни склонилась над вязаньем.
– Мне кажется, – говорит она, – что сегодня церковь и правда должна как-то заниматься проблемой пола – это, пожалуй, и правда ее забота, если можно так выразиться.
Каноник торжествует. Он закуривает еще одну сигарету и жадно затягивается.
– Церковь занималась проблемой пола всегда, милая моя, в этом все и дело. Секс всегда был в центре внимания религии. Обычно она его изгоняла и искореняла, но, когда человек что-то изгоняет и искореняет, он становится изгоняемым одержим, а оно превращается во что-то неестественно чудовищное. Вот почему сегодняшнее стремление принимать нашу сексуальность как факт, как радость – это просто здорово: мы не противодействуем этой силе, а действуем с ней сообща.
– Я-то думала, в центре внимания религии Бог, смерть, – возражает Джинни Гринхилл. – Как сжиться с мыслью о смерти. Я думала, главное это.
Смерть тоже, подхватывает каноник. Не будь полов, откуда бы взялась смерть? Зародышевая клетка бессмертна, разделенные же по признаку пола индивидуумы обречены: смерть вошла в это мир вместе с полом.
Звонит телефон. Каноник подается вперед:
– «Вас слушают». Чем могу помочь?.. Да, он здесь. Минуточку, не кладите трубку. Сейчас позову.
Он зажимает микрофон рукой и, выпуская клубы едкого табачного дыма, протягивает телефонную трубку Дэниелу:
– Кто-то из ваших.
– Алло. Дэниел слушает. С кем я говорю?
– Это Руфь. Вы меня помните? Я приезжала вместе с Жаклин к Юным христианам, когда вы жили здесь, в Йоркшире.
В памяти возникает образ: овальное лицо, точеные черты, тяжелые веки, между плеч сбегает длинная, мягкая, бледная коса.
– Помню, конечно. Вам чем-то помочь?
– Кажется, вам лучше к нам приехать. С Мэри несчастный случай, лежит в больнице в Калверли без сознания. С ней сидит бабушка. Я работаю в детском отделении. Решила, надо сообщить вам, обещала разыскать.
Дэниел лишается дара речи. Бугры и впадины ячеистой упаковки для яиц ходят ходуном, как от землетрясения.
– Дэниел, алло. Вы слышите?
– Слышу, – отвечает Дэниел. Во рту пересохло. – Что с ней?
– Ушибла голову. Ее нашли на детской площадке. Может, какая-нибудь девочка сбила с ног, может, упала с чего-нибудь – неизвестно… Дэниел, алло!
Язык не слушается. Негромким голосом, каким и сам Дэниел обычно успокаивает звонящих, Руфь продолжает:
– Она почти наверняка поправится. Ушиб не спереди, а сзади, это хорошо. Сзади черепные кости прочнее. Но я подумала, может, все-таки вам сказать, может, вы захотите приехать.
– Да, – отвечает Дэниел. – Да, конечно, немедленно выезжаю. Поездом. Так всем и передайте, выезжаю. Спасибо, Руфь.
– Ей отвели лучшую палату, – доносится издалека голос. – Уход – сами понимаете: стараемся.
– Понимаю. До свидания.
Он кладет трубку и сидит, уставившись в стенку своей кабинки. Крупный мужчина сидит и дрожит.
– Чем-нибудь помочь? – спрашивает каноник Холли.
– С дочкой несчастный случай. В Йоркшире. Надо ехать.
– Нужно выпить крепкого горячего чая, – советует Джинни. – Сейчас дам. А каноник позвонит на Кингз-Кросс и узнает расписание поездов, да? Вы, Дэниел, знаете, как это произошло?
– Нет. И они, кажется, тоже. Ее нашли на детской площадке. Мне надо идти.
Каноник уже набрал номер вокзала и слушает рокот в трубке.
– Сколько ей?
– Восемь.
Про своих детей он канонику и Джинни не рассказывает, а они не спрашивают. Они знают, что жена его погибла по трагической случайности, что дети живут в Йоркшире у дедушки с бабушкой. Знают, что он их навещает, но сам он об этих посещениях молчит. Джинни наливает ему еще чаю, угощает сладким печеньем: сахар тут считается первым средством помощи при стрессе. Каноник вдруг начинает записывать время отправления поездов. Хорошо хоть до Кингз-Кросса пара минут ходьбы, замечает Джинни, можно по дороге купить зубную щетку. Деловито расспрашивает о состоянии девочки.
– Она без сознания. Говорят, почти наверняка поправится. Может, и так, они ведь, наверно, отвечают за свои слова?
– Да уж наверно, отвечают.
– Она еще совсем маленькая, – произносит Дэниел.
Но мысленно он видит перед собой не Мэри, в сознании или без сознания. Он видит жену Стефани: она лежит на полу в кухне, губа вздернулась, открывая влажный оскал. Он – всего-навсего человек, видевший это лицо. Она – всего-навсего это жуткое лицо. Эта картина засела у него в мозгу. Таково посмертное существование Стефани. Лицо это преследует его даже в часы бодрствования. Приобретя повадку затравленного зверя, он ловко уклоняется и ускользает от всяких таящихся в закоулках сознания подробностей, способных высветить, вызвать это лицо в памяти. Есть слова, невинные приятные воспоминания, есть запахи, есть люди, которых он чурается как огня, потому что они напомнят об этом мертвом лице. Сновидения он даже раскрашивает черной тушью, не выпускает сознание во сне из тисков воли, не позволяет себе видеть во сне это лицо и просыпаться с этим воспоминанием.
Он не раз говорил себе, что пережившие горе – подобно ему – нередко чувствуют, как опасны они для других. Других переживших. Сам он и правда чувствует, как опасен для Уилла и Мэри, своих детей. Впрочем, это не единственная причина, почему они живут в Йоркшире, а он обитает здесь, в подземной часовне под башней церкви Святого Симеона.
И вот он словно метнул в свою дочурку валун или столкнул ее с высоты.
– Один поезд отходит через четырнадцать минут, – сообщает каноник Холли. – Следующий через час и четырнадцать минут. За четырнадцать минут вам не успеть.
– Постараюсь, – отвечает Дэниел. – Я бегом.
И он поднимается по ступенькам.
В пору былого величия Ла Тур Брюйар был замком почти неприступным. Проезжая по долине и раскинувшимся окрест лугам, путники приметили, сколь крепки и неприветливы его внешние стены, местами обветшалые, местами изуродованные брешами, где-то гордо высящиеся, где-то рассыпавшиеся по склону замшелыми глыбами. На крепостном валу и в проломах работники восстанавливали стены. На них были яркие короткие камзолы – лазурные, светло-вишневые, алые, – и от этого труд их походил на празднество. Госпоже Розарии почудилось даже, что они поют – что издалека доносятся мелодичные звуки.
Во дворе замка обнаруживалось, что у него не одна башня, а множество, и все они разных размеров и очертаний, словно твердыню эту сооружали веками без единого плана. Все камни для постройки добывались на склоне одной горы, но в остальном башни были разительно несхожи: прямоугольные и конические, незамысловатые и прихотливо изукрашенные, с башенками, с крытыми сланцем куполами, со стрельчатыми окошками, мерцавшими, как глаза, с галереями, в наряде из плюща и иных ползучих растений. Многие башенки были не то недостроены, не то полуразрушены, и там, на карнизах и лишенных кровли крышах, яркими пятнами мелькали камзолы работников. Когда путники взъезжали на холм, где стоял замок, сверху доносились радостные и приветные возгласы, и под ноги коням сыпались торжественные подношения: плоды и цветы.
Путники въехали в проем меж двумя привратными башнями, но очутились не во дворе, как ожидала госпожа Розария, а в темном тоннеле, не то образованном стенами двух соседствующих зданий, не то проложенном в скале. Сумрак в извилистом этом тоннеле, ведущем в недра твердыни, рассеивали только снопы света из редких окошек под самым сводом, а где потемнее – светильники на вбитых в свод закопченных крюках. Но вот тоннель кончился, и они оказались в тесном дворе-колодце. Вокруг вздымались здания из множества ярусов: портик над портиком, балкон во вкусе барокко прилепился к готической галерее, ввысь убегали ряды обычных окон, которые по законам перспективы уменьшались самым изящным образом, а над ними виднелась незаконченная соломенная кровля, больше подобающая средневековому коровнику. Одни окна сияли мириадами разноцветных огоньков, другие, с потрескавшимися арочными сводами, зияли, как пустые глазницы. Небо в эти первые минуты после прибытия казалось госпоже Розарии далеким-предалеким и, как всегда, когда оно кажется далеким-предалеким, синело особенно густо, иззубренное и исцарапанное краями кровель, похожими на ногти и зубы, обрубки членов и осколки черепов.
Жилые покои
Кюльвер повел госпожу Розарию в приготовленные для нее покои. Они шли по бесчисленным коридорам с бесчисленными дверьми и арками, поднимались и спускались по множеству лестниц – госпожа Розария диву давалась на такую причудливость. Покои ее располагались в длинной галерее, и дверь в них была скрыта расшитой завесой. В мутном, неровном свете трудно было различить, что изображалось на этой вышивке, но госпоже Розарии показалось, что это скопища яростно извивающихся конечностей, обращенные вверх круглые груди, растрескавшиеся арбузы на зеленой траве.
Внутри все было залито розовым светом. Сначала госпожа Розария подумала, что они оказались в гостиной, освещенной огнем камина, но потом поняла, что они в будуаре, где изящные окна завешены розовым шелковым тюлем, сквозь который льется солнечный свет. Мебель располагалась так, что комната оставалась просторной. Стояло здесь палисандровое бюро с инкрустацией, из того же дерева молитвенный аналой с подколенником, обитым розовым бархатом, – для коленопреклонений удобнее не придумать. В остальном будуар был убран в восточном вкусе: низкие диваны, инкрустированные слоновой костью, по ним разбросаны подушки всевозможных форм и размеров, мягкие шелковые ковры, затканные персидскими розами, и гвоздиками, и маргаритками с багрянцем на кончиках лепестков. Были тут большие мягкие кушетки, самый вид которых навевал сладкую истому, а на них наброшены покрывала из чего-то, что при таком освещении походило на котиковый мех телесного цвета, кашемировые шали, розовый мех лисий. Госпожа Розария вбежала в опочивальню, где высилось громадное, как галеон, ложе с расшитым пологом, вспененным кисеей и муслином. По всем комодам и столикам были расставлены сияющие волшебным светом склянки, благоухающие цветами и мускусом. Среди подушек и одеял укромного этого ложа недолго сгинуть без возврата – и не в одиночку.
Госпожа Розария ходила по комнатам, ахала, ощупывала шелка и слоновую кость, парчу и черепаховую отделку, атлас, и меха, и перья. Но вот она отдернула шелковую штору – и при свете дня со многих предметов и тканей сбежал розовый румянец, оттенки сделались тоньше: белоснежное и светло-палевое, северные меха, клыки и кости обитателей юга, серебристое шитье и бледнейшая золотистость шелковых покрывал.
Пройдет время – и при близком рассмотрении откроется, что роскошь эта лишь мишура, а под ней холод камня и мерзость запустения, плиты пола в потеках и трещинах, стены крошатся. Но сейчас все это было наглухо скрыто плотными шпалерами и завесями, белыми и темно-розовыми в честь госпожи Розарии. Было там и изысканнейшее изображение Дианы, выполненное разными оттенками красного и белого, розового и телесного цвета: богиня-девственница совершает омовение в серебристом ручье под белоснежными ветвями, а рядом юный Актеон, румяный красавец, но уже и млечно-белый олень, на теле этого существа ярко алеют беспорядочные струи крови, бегущей из-под белых клыков бледных гончих, которые картинно впились в задыхающееся горло Актеона.
Прибытие детей
На третьи сутки новые обитатели замка сидели за полдень на просторном балконе, пили и беседовали о том, как устроить жизнь так, чтобы она дарила еще больше отрад и наслаждений. Слуги обоего пола то и дело подливали в кружки и бокалы пенистое пиво, багряное и золотистое вино. В Башне уже порешили, что разделение на хозяев и слуг упраздняется, – порешили то бишь хозяева, слугам о том никто не сообщал и совета у них не спрашивал, – но как и когда произвести эту важную перемену в отношениях обитателей Башни, к согласию еще не пришли. Условились лишь, что обсудят это во всех подробностях, когда в замке соберется все общество и можно будет считать, что задуманное поистине начинает исполняться.
Госпожа Розария и Кюльвер, Турдус Кантор и Нарцисс обозревали окрестные луга и равнины, когда зоркий Нарцисс приметил среди деревьев на краю долины какое-то движение. Из темного леса, как казалось с такой вышины, медленно выполз червь, вокруг которого сновали муравьи, но, когда он подполз ближе, стало ясно, что это вереница повозок, а с ними всадники со стрекалами, подгоняющие упряжных животных. Вереница все приближалась, и уже можно было различить три огромные фуры, каждая с парой волов в упряжке, а еще ближе стало видно, что волы затейливо разукрашены гирляндами и кончики рогов у них вызолочены.
– Дети, дети едут! – донеслось со двора, и сидевшие на балконе, дождавшись, когда фуры подъедут к воротам, стремглав бросились вниз по лестнице, чтобы встретить добравшихся до места назначения в стенах крепости.
Кто сидел в покачивающихся крытых повозках, сверху было не видать, видны были только возницы в тяжелых плащах с капюшонами, скрывающими лица, в руках – длинные бичи с короткой рукоятью, какими в деревнях подгоняют неповоротливую скотину. И правда: на вздымающихся белых боках волов рдели кровавые рубцы, следы усердия возниц, которое, впрочем, не оказывало на медлительных животных никакого действия. Провести громоздкие фуры в середину крепости – если это была середина – оказалось делом нелегким: до встречающих доносились странные хрипы, жалобное мычание, тревожный рев, и наконец фуры въехали в темный двор.
Вот он, блаженный миг, которого ждали с таким нетерпением! Верх повозок откинут и свернут; то, что было внутри, рвется наружу: детские личики, мягкие волосы, сияющие глаза, нежные кулачки. Кто-то спал и теперь потягивается, выходя из сонного забытья. Другие, бойкие шалуны, с улыбкой предвкушают новые приключения. Третьи, более робкие, сидят, смущенно потупившись, только шелковые ресницы трепещут над пухлыми щеками. Четвертые хнычут – у малышей всегда так: соберутся вместе веселые, резвые детишки и непременно кто-то захнычет. Но их голоса тонут в шуме праздничной суматохи. Детей ласкают, высаживают из повозок на каменные плиты нового их обиталища. Их любовно передают из рук в руки, целуют, оправляют растрепанные платьица, и под сенью высоких зданий царит радость.
Пригласили и возниц сойти с козел и присоединиться к общему ликованию. Те спустились наземь, откинули с запыленных лиц капюшоны, свернули и убрали бичи. Первой фурой правил старый знакомец всего общества Меркурий, красавец с гибким крутым телом, острым, как лезвие, профилем и как бы вопрошающей улыбкой, от которой трепетали сердечные струны Целии и Цинтии. Появление Меркурия было еще одной радостью, ибо ходили слухи, что путь ему преградили войска, что он был схвачен нагим в борделе в объятьях блудницы, что он сложил голову на плахе, выдав себя за своего доброго друга Армина, что он утонул, переплывая реку в самое половодье. От этих разноречивых известий ожидавшим его рисовались ужасные картины. Не только Цинтии с Целией, но и чувствительному Нарциссу воображалось, что это они тонут в реке, что это их обезглавливают, их нагишом вытаскивают из постели, прерывая любовное соитие, что это они спасаются бегством, а ветви деревьев их хлещут, кустарник стреноживает. Утешало лишь несходство этих историй, которое наводило на мысль, что, возможно, нет среди них ни одной правдивой, что все это выдумки, – как теперь и оказалось.
Второй возница – круглолицый, румяный как маков цвет, с черными как смоль волосами, остриженными так коротко, будто он лишь неделю-другую как бежал из тюрьмы или из армии. Но когда он с заливистым хохотом сбросил с себя плащ, под ним обнаружилось пышное женское тело, и все узнали в этом развеселом арестанте госпожу Пионию, героиню множества амурных приключений и совсем уж несчетных историй о разных интригах, истинных или мнимых. Кюльвер и Розария бросились заключить эту дородную даму в объятия, а она, еще раз напоследок щелкнув бичом, объявила, что маленькие ее подопечные вели себя примерно и заслужили сладостей: на заставах сидели, притаившись, как мышки, на горных лугах услаждали ее слух пением и пели как соловьи, – всех их она нежно любит, так бы и задушила в объятиях.
Тут выступил вперед третий возница и медленно-медленно стащил капюшон, обнажив седоватую голову, седоватую бороду и задубевшее лицо с морщинками вокруг светло-голубых глаз. Молчание охватило толпу, а потом люди стали перешептываться: пришельца никто не знал, и все расспрашивали друг друга, знаком ли он кому-нибудь, случалось ли видеть его раньше.
А у госпожи Розарии вырвалось:
– От этого человека пахнет кровью.
Незнакомец сделал еще шаг-другой, вертя в руках бич и улыбаясь, как показалось некоторым, – а правда ли он улыбался, под усами и бородой было не разобрать.
– Кто ты? – спросил Кюльвер.
– Ты обо мне наслышан, имя мое уж точно слышал не раз, а многие здесь знают меня не только по имени… к моему прискорбию, – прибавил незнакомец скорбным голосом.
– Если бы я не знал, что это невозможно, – задумчиво сказал Фабиан, – я бы сказал, что тебя зовут Грим, что ты полковник Грим из Национальной революционной гвардии.
– Да, я был полковником Национальной гвардии, а прежде – полковником гвардии королевской: всю жизнь моим ремеслом была военная служба. Но вот я здесь и, если вы меня не прогоните, хочу остаться с вами.
При этом признании по толпе, окружавшей повозки, пробежал ропот, раздались даже возгласы негодования и кое-кто повторил за госпожою Розарией: «От этого человека пахнет кровью».
Полковник Грим же невозмутимо стоял перед толпой и глядел в разгневанные и испуганные лица.
– Поистине от меня пахнет кровью, – сказал он. – Я что ни день обоняю этот запах, меня мутит от него. Довольно с меня крови. Кровь бежит в сточных канавах, кровь забрызгала хлеб наш, кровь питает корни яблонь, на чьих ветвях висят вместе с плодами смрадные удавленники. Может быть, вы не поверите, и все же матерый убийца, пресыщенный кровью, сослужит хорошую службу при учреждении братства, какое задумали вы, – на началах добра и свободы.
– Мыслимо ли такое? – вскричала Целия. – Да, мы о тебе наслышаны, мы знаем твои поступки: пытки, казни, убийства, убийства, – и чтобы такой изверг стал товарищем тем, кто хочет жить в мире и согласии?
– Убить его! – выкрикнул какой-то юноша. – Пусть жизнью заплатит за страдания наших семей, наших близких! Скрепим наши братские узы этой презренной кровью!
И отвечал полковник Грим:
– Кто, как не муж крови, угадает кровавые помыслы в любом доме, в любом семействе, в любом собрании? Я волк, который всегда узнает негодную собаку на пастбище, месье Кюльвер. Я страж порядка, я служил террору и много мог бы порассказать о природе порядка и террора и порядке посредством террора – много такого, что пока вы знать не считаете нужным. Но знать это нужно всякому, и если вы меня прогоните или убьете, рано или поздно уверитесь в этом сами. В глазах вашего общества, месье Кюльвер, я отмечен каиновой печатью. Руки мои обагрены, у вас же – у всех у вас – руки чисты. Но Каин был отмечен печатью затем, чтобы сыны Адама его не тронули. Мне сдается, по вашему учению, человек – это не просто прежние его деяния и, уж конечно, не деяния прежних моих хозяев. Дайте мне случай показать, каков я в мирной жизни.
– В толк не возьму, как ты к нам пробрался, – нахмурился Кюльвер.
– Свел знакомство с Меркурием и госпожой Пионией и выдал себя за старого вашего друга Вертумна – он, увы, скончался в подземной темнице. Я показал им поддельные письма, написанные якобы твоею рукою, и они поверили. Не упрекай их. Я хитрость еще не растерял.
– Он приведет за собой гвардейцев, – сказала Мавис.
– Как такое возможно? – возразил Грим. – И зачем бы тогда я добрался до вас, не таясь, в одиночку, прямо сказал, кто я таков, и вверил вам свою участь? Да если бы я захотел, гвардейцы уже поджидали бы вас тут. Но я хочу другого: ваши надежды теперь и мои надежды, друзья мои, – я надеюсь, мы сделаемся друзьями. Гвардия здесь вас не потревожит, и я больше не полковник Грим, а просто Грим, седой, увядший, мечтающий на закате дней о новом рассвете, буде на то ваше согласие.
– Прогоните его, – произнесла госпожа Розария, ноздри ее трепетали.
Но Кюльвер сказал:
– Речи его справедливы. Пусть остается, покуда кто-нибудь не заметит, что он внушает всем нам недоброе. У всякого может проснуться желание измениться к лучшему или искупить былые грехи, как он говорит. Но говорит ли он от чистого сердца или лукавит, проверим.
И все вернулись в замок, рассуждая о происшествиях нынешнего дня.
II
Фредерика читает Лео книгу. Она сидит на краю кровати, укрытой стеганым пуховым одеялом, и читает, как хоббит отправился в полное опасностей путешествие. Комната зеленая с белым, под потолком бордюр с героями сказок Беатрикс Поттер – когда-то это была детская Найджела. Шторы, скрывающие сумерки за окном, озарены желтоватым светом: на тумбочке горит ночник со стеклянным кремовым колпаком.
– «Сперва они проезжали владения хоббитов, – читает Фредерика, – просторный добропорядочный край с отличными дорогами, населенный почтенным народом; время от времени им встречался какой-нибудь гном или фермер, спешившие по своим делам. Потом пошла местность, где жители говорили на незнакомом языке и пели песни, каких Бильбо раньше не слыхивал. Наконец они углубились в Пустынную Страну, где уже не попадалось ни жителей, ни трактиров, а дороги становились все хуже да хуже. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за густых лесов. На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди. Все кругом сделалось мрачным, погода вдруг испортилась»[16].
– Страшненько, – произносит Лео.
– Да, страшновато, – соглашается Фредерика: она считает, что страх – это приятно.
– Совсем капельку, – добавляет Лео.
– Дальше страшнее. Интереснее.
– Ну, читай.
– «Близился вечер, время чая прошло, весь день не переставая лил дождь, с капюшона текло в глаза, плащ промок насквозь, пони устал и спотыкался о камни. Путешественники были не в духе и молчали».
– Бедный пони. А Уголек у нас не устает, правда? Мы о нем заботимся. А дождя, тетя Олив сказала, он не боится. Тетя Олив говорит, он сильный.
– Сильный. Очень сильный. Читать дальше?
– Читай.
– «Как бы мне хотелось очутиться сейчас у себя дома, – думал Бильбо, – в моей славной норке, у очага, и чтобы чайник начинал петь!»
Еще не раз потом ему пришлось мечтать об этом!
Лео протирает кулачками глаза. Трет так яростно, что наблюдающая за ним Фредерика сама жмурится от боли.
– Не надо, Лео. Глазки заболят.
– Не заболят. Это мои глазки, я знаю. Они чешутся.
– Слипаются.
– Ничего не слипаются. Ты читай.
– «А гномы все трусили вперед да вперед, не оборачиваясь, словно совсем забыв про хоббита».
Лео удобно устроился в постели – откинулся на подушку, подпер щеку рукой. Фредерика смотрит на него с озабоченной нежностью. Ей знаком каждый волос у него на голове, каждая пядь его тела, каждое слово его лексикона, хотя в этом она то и дело ошибается. И это он виноват, что жизнь ее не сложилась, размышляет она: в душе этой смирившейся Фредерики еще мятётся прежняя, неистовая. Если бы не Лео, твердит она себе по сто раз на дню, презирая себя и себе удивляясь, – если бы не Лео, я бы бросила все и ушла. Она поглядывает на его рыжие волосы – изысканно рыжие, благороднее тоном, чем у нее, и блестящие, как те каштаны, которые он собирал вместе с Хью Роузом. Ребенок-мужчина. Крутые плечи, волевой подбородок. Удивительно, какое сильное чувство внушает ей это маленькое тело, – вот так же она удивлялась сильному чувству, какое внушало ей тело его отца. И у Лео когда-нибудь будет такое же. Она привыкла к мысли, что Лео – сын своего отца. Ей нравится, как Лео сидит верхом на Угольке: ножки не справляются с тяжелыми стременами, голова в бархатном шлеме для верховой езды выглядит так внушительно, даже слишком внушительно на таком маленьком теле – ну прямо жук какой-нибудь или гоблин. Но Лео верхом на Угольке – сын своего отца, принадлежит его миру, где она чужая, незваная гостья. Да и не хочется ей быть там своим человеком, гостьей желанной, и она с обычной своей прямотой, как обычно смешанной с яростью, признает, что совершила чудовищную ошибку. Задушевным, ровным, волнующим голосом читает она о чародеях и карликах, троллях и хоббитах, обитателях ночи, ужасах, кровопролитиях, и Лео ежится от удовольствия. Она снова и снова размышляет о том, что она натворила, как такое могло случиться, почему ничего уже не поправишь, как жить дальше. «Только соединить, – с презрением вспоминает она. – Только соединить прозу и страсть, монаха и животное»[17]. Невозможно соединить, не стоит труда, в который раз мысленно стонет и стонет она, – эта мысль не дает ей покоя. Она думает о мистере Уилкоксе из «Говардс-Энда», думает с ненавистью: пустышка, набитая трухой, размалеванное чучело, а не человек. А Маргарет Шлегель несмышленыш – сам Форстер этого не понимал, потому что он не был женщиной, потому что считал, что, если «соединить», будет лучше. Потому что понятия не имел, к чему это приведет.
– «Рассвет вас застанет – и камнем всяк станет!» – сказал голос, похожий на голос Вильяма. Но говорил не Вильям. В эту самую минуту занялась заря и в ветвях поднялся птичий гомон. Вильям уже ничего не мог сказать, ибо, нагнувшись к Торину, превратился в камень…
Дверь отворяется, мать и сын поднимают головы. Входит мужчина, отец – вернулся, как обычно, без предупреждения. Малыш мигом стряхивает дремоту, садится в кровати и ждет, когда отец его обнимет. Найджел Ривер прижимает сына к себе, потом обнимает жену. Он с холода, и щека у него холодная – только что приехал, так не терпелось повидать семью, что сразу в детскую, даже отдышаться не успел. Это смуглый человек в темном костюме – этакая мягкая броня, – на крепких щеках синеватая щетина.
– Читай-читай, – говорит он. – Читай дальше, я тоже послушаю. «Хоббит» у меня самая-пресамая любимая книга.
– Страшноватенькая, – говорит Лео. – Но только самую капельку. Мама говорит, дальше интереснее, еще интереснее.
– Это точно, – соглашается смуглый человек, растягивается рядом с сыном и, тоже положив голову на подушку, смотрит на Фредерику, сидящую на краешке кровати с книгой в руках.
С мистером Уилкоксом ничего общего.
Дело, наверно, в том, что любовник он замечательный, если бы и мистер Уилкокс был таким. Но вообразить его таким Фредерика не может: неправдоподобно.
За ней наблюдают две пары темных глаз.
В комнате царит теплый полумрак и пристальное внимание.
– «Так и стоят они по сей день, совсем одни, разве что птицы на них садятся. Вам, может быть, известно, что тролли обязаны вовремя спрятаться под землю, чтобы рассвет их не застиг, в противном случае они превратятся в скалы, в горную породу, из которой произошли, и застынут навсегда. Именно это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом»… Здесь я хотела остановиться: место подходящее, а Лео уже засыпал, правда?
– Я не засыпал. Я ждал папу.
– Не выдумывай. Мы же не знали, что он приедет.
– А я знал, у меня предчувствие было, что он приедет. Я знал, правильно знал. Ну, читай.
– Читай, – подхватывает человек, лежащий навзничь, словно каменный рыцарь на средневековом надгробии, сверкающие ботинки нависли над полом.
Всем хорошо, и она читает дальше. Доходит до того, как в пещере нашли сокровища, конец главы.
– Ты хорошо себя вел? – спрашивает Найджел. – Что тут без меня было?
– У мамы был гость. Очень хороший дядя, а зовут его странно: Ро-уз. Мы встретились в лесу и позвали его пить чай.
– Очень мило, – произносит Найджел любезным тоном.
Он целует сына, желает ему доброй ночи, целует и Фредерику. Свет гасят, и малыш закручивает одеяла удобным коконом.
Пиппи Маммотт приготовила ужин, и они ужинают у камина. Подаются любимые блюда Найджела: картофельная запеканка с мясом и печеные яблоки с изюмом и медом. Сама Пиппи ужинает отдельно и все же то и дело заглядывает к Найджелу и Фредерике узнать, не нужно ли добавки. Найджел не отказывается, и Пиппи все время подливает им вина и остерегает: яблоки горячие, не обжечься бы. «Они и должны такими быть», – успокаивает Найджел и нахваливает ее яблоки и запеканку. Он и Фредерика сидят в массивных креслах по сторонам камина, а Пиппи Маммотт стоит спиной к огню и греет мягкое место. Она рассказывает, что сегодня поделывал Лео, как ловко он уже ездит на Угольке, какой он храбрый, как сегодня у них был неожиданный гость, приятель Фредерики, – сказал, что совершает пеший поход и повстречался, мол, с ней случайно.
– Очень мило, – замечает Найджел тем же бесцветным голосом.
Когда Пиппи увозит сервировочный столик с бренными останками ужина, он, как и ожидала Фредерика, спрашивает:
– А кто это, Хью Роуз?
– Старый приятель из Кембриджа. Пишет стихи. Довольно хорошие, по-моему. Жил года два в Мадриде, теперь вернулся.
– Ты не говорила, что он придет.
– Я и не знала. Он в пешем походе. Мы с Лео наткнулись на него в лесу случайно… Угостили чаем… Его Лео пригласил, не я.
– А ты что же не пригласила старого-то приятеля?
– Я бы, наверно, пригласила. Я уже было совсем собиралась…
– Странно, как это он тут ни с того ни с сего оказался.
– Что же тут странного? Он понятия не имел, где мы живем. Просто шел и шел. По лесу – Лео тебе рассказывал.
– Ты, конечно, рада была повидаться со старым знакомым?
Фредерика смотрит на мужа, пытаясь понять, что стоит за этим бесстрастным вопросом. Обдумывает ответ.
– Разумеется. Я своих друзей давно не вижу.
– Скучаешь по ним, – произносит Найджел все тем же бесстрастным тоном.
– Естественно, – отвечает Фредерика.
– Так пригласи их, – предлагает Найджел. – Хочешь – пригласи. Пусть погостят.
Фредерика мгновение колеблется и решает не отвечать. Она хмуро смотрит в огонь камина. Потом таким же, как и у Найджела, бесстрастным голосом спрашивает:
– Ты в этот раз к нам надолго?
– Какая разница? Пригласи – и все. Буду я здесь, нет ли, – надеюсь, встрече друзей мое присутствие не помешает.
– Я не об этом. Я всего-навсего хочу узнать, надолго ли ты в этот раз приехал.
– Не знаю. На пару дней. На пару недель. Не все ли равно?
– Нет. Я хочу знать.
– Да я и сам не знаю. Вдруг позвонят. Вдруг дела какие-нибудь.
Фредерика смотрит на пылающие поленья, и ей представляется женщина, идущая босиком по горячему кострищу: осторожно перебирает ногами, стараясь не наступить на тлеющую головню, готовую вспыхнуть.
– Когда ты поедешь в Лондон, я поеду с тобой.
– Зачем это?
– Просто… помнишь, как раньше мы с тобой вместе: танцевали, в городе там всякое. И старых друзей я повидать хочу, это правда. И может быть, подыщу себе работу. Мне надо чем-то заняться.
Эта фраза получилась слишком натужной, без той непосредственности, какую хотела придать ей Фредерика.
– Мне кажется, занятий у тебя предостаточно. Ребенку нужна мать. А в доме для всех дело найдется.
– Не надо так, Найджел. Мне ты такого не говори. Ты знал, какой я была, когда шла за тебя. Ты знал, что я умная, независимая, что у меня большие планы. И это тебе, кажется, нравилось. Какие еще достоинства могли тебя привлечь? У меня ни денег, ни связей, я не красавица – только и было что ум да деловитость. Но нельзя же выбрать жену только за эти качества и ожидать, что она станет вести такую жизнь, как…
– Как кто?
– Как такая девушка, которую можно было бы скорее представить твоей женой, – но ты такую не выбрал, – которая ездит на охоту, стреляет, наслаждается жизнью в деревне.
– Не понимаю, зачем выходить замуж, если не хочется быть женой и матерью. По-моему, ясно, что, когда девушка становится женой и матерью, она должна быть готова к некоторым переменам. Я бы еще понял, если бы ты мне отказала. Помнится, когда я делал тебе предложение, думал, откажешь – но ты согласилась. Я считал, ты и правда человек дела. А ты только хнычешь. Такой у тебя славный сынишка, а ты хнычешь. Нехорошо.
Фредерика встает и принимается расхаживать по комнате:
– Найджел, выслушай меня. Прошу тебя, выслушай. Я тебя вижу редко – где ты бываешь, что делаешь, об этом ты рассказываешь мало.
– Тебе будет неинтересно.
– Возможно. Не знаю. Но мне надо чем-то заняться.
– Ты раньше много читала.
– Это для работы.
– Ясно. Что ж, если нет необходимости, не читай.
– Я не о том. Ты же понимаешь, что я о другом. Да, мне не нужно зарабатывать на жизнь – в смысле работать для заработка.
Да, нужно другое – так нужно, что она чуть не плачет.
– У тебя есть Лео, есть я – тебе мало?
– Ты вечно в разъездах. А о Лео и так есть кому позаботиться, опекунов у него в избытке: и Пиппи, и Олив, и Розалинда – они его обожают. Он ведь не только с родителями живет. Всех твоих друзей – и тебя, и друзей твоих – растили няни.
– Почему так получилось со мной, тебе известно. Мать ушла от мужа, ты же знаешь. Ушла, когда мне было два года, – ты знаешь, я рассказывал, часто рассказывал. Она была женщина бесхарактерная, непрактичная. Я-то думал, ты будешь заниматься Лео сама, будешь дело делать.
Он трагичен, обаятелен, груб.
– Ну пожалуйста, – настаивает Фредерика, – позволь мне поехать с тобой в Лондон и поговорить кое с кем насчет работы. Может, устроюсь рецензентом в издательство. Почти наверняка устроюсь – на Лео и домашние хлопоты время останется. А могу вернуться в Кембридж и приняться за докторскую – ее ведь можно частично писать и дома, а когда закончу, Лео будет уже большой. И я смогу заниматься чем хочу.
– И с приятелями можешь повидаться. Я смотрю, у тебя все больше не приятельницы, а приятели. В этот раз я тебя взять не могу. Я оттуда прямо в Тунис, надо встретиться с дядей. Не получится.
Тлеющие головни вспыхивают, выбрасывают огненные струйки, как газовая горелка. Фредерика воспламеняется:
– Тогда я поеду одна. Сама поеду, сама по себе. Тебе до меня дела нет, ты думаешь только о себе и о доме…
– И о Лео.
– И о себе. Я для тебя пустое место. Ты понятия не имеешь, кто я, что я. А я личность – была личностью. Я личность, которую уже не видят…
Говорит она страстно, и все же уверенности в том, что она личность, у нее нет. Ту Фредерику, какой она себя видит, в Брэн-Хаусе не знает никто – ни Пиппи, ни Олив, ни Розалинда, ни Лео, ни даже Найджел.
– Вон что Кембридж с девушками делает, – дразнит ее Найджел. – Растут там в тепличных условиях. Идей набираются.
– Я хочу туда вернуться, – объявляет Фредерика.
– Не выйдет, – отвечает Найджел. – Ты уже не в том возрасте.
Фредерика направляется к двери. Она уже было собирается побросать вещи в чемодан и уйти в ночь, пешком уйти. Но она не знает, где чемодан, да и шаг нелепый. Неужели с ее умом она не придумает, как убежать от тех обстоятельств – той жизни, – в которые ей не следовало бы попадать? Нервы раскалены, и от этого руки, зубы, позвоночник пронзает боль. Найджел преграждает ей путь. Тихим голосом – тихим, печальным, медоточивым – он произносит:
– Ты прости меня, Фредерика. Я люблю тебя. Я потому и бешусь, что люблю. Ты потому и здесь, что я люблю тебя, Фредерика.
Он усвоил то, что, как ни странно, не может уразуметь великое множество мужчин, – стратегическую ценность этих слов. По части риторики он не силен. Как заметила, не вдумываясь в свои наблюдения, Фредерика, все, что он говорит, – отблеск словесной глазури, которой облит и затуманен мир, где он обитает, язык, в котором такие понятия, как мужчина, женщина, девушка, мать, долг, определены раз и навсегда. В этом мире язык служит для того, чтобы все просто оставалось на своих местах. Будь храбрым, говорит этот язык, и охваченные смятением обычные люди слышат этот приказ и без жалоб и слез проявляют чудеса стойкости. Казалось бы, тем, кто распоряжается этой твердой валютой, состоящей из считаных слов, не составит труда добавить к ним простое и звонкое «Я тебя люблю, я тебя люблю». Фраза всем в этом мире понятная, каждая женщина ждет, когда она прозвучит, ждет жадно, как собака дожидается кормежки, тяжело дыша и исходя слюной. Но произносить ее стараются реже – то ли от страха нарваться на отказ, то ли от неловкости за открытое проявление чувств. Это не сословное. «Я тебя люблю» не произносят и рабочие, и бизнесмены, и владельцы поместий, и слова «Он ни разу не сказал, что меня любит» раздаются и в квартирах муниципальных домов, и на загородных виллах.
Найджел Ривер никогда не руководствовался этим общим правилом. Но если о языке он не размышляет, то о женщинах думает, думает давно; он открыл для себя силу этой фразы, от которой утихает гнев, пропадает решимость, смягчается поверхность глаз и слизистая оболочка. При словах «Я тебя люблю» тело женщины становится влажным – его тело это знает. Он преграждает путь разгневанной Фредерике и видит, как губы ее слегка оттаивают, кулаки слегка разжимаются, на шее бьется жилка.
Все его внимание устремлено на Фредерику. Он хочет ее. Он не желает ее отпускать. Он выбрал ее матерью своего сына. В эту минуту он ничего, кроме нее, не видит, он всем своим существом следит, что выразит следующее ее движение – отвращение, колебания, готовность уступить. Так кот следит за оцепеневшим кроликом, неспособным ускакать: что он сделает – соберется с духом, отведет взгляд, с трепещущим сердцем опустит голову? Он ее любит – вот это и есть любовь. Он приближается, придерживает дверь рукой и наваливается на нее, чтобы Фредерика не открыла, чтобы ее тело оказалось между его телом и твердой древесиной. Он безотчетно понимает: если она почувствует запах его кожи, пальцами ощутит его вожделение, у нее только два пути: либо она в ярости попытается вырваться, станет царапаться, либо, как бывало, захочет, чтобы он еще раз ее коснулся. А может, и то и другое: будет царапаться и хотеть, хотеть и царапаться. Когда они оказываются рядом, он пускает в ход другой глагол:
– Я хочу тебя, Фредерика.
Он нарочно называет ее по имени, чтобы она поняла: он хочет именно ее, Фредерику, – не просто женщину, не Женщину, не праздную утеху, а Фредерику. Инстинктивно усвоенный язык куртуазной любви.
Лицо Фредерики пылает от ярости, кровь кипит, горят уши и ноздри. Она уклоняется от поцелуя, это движение напоминает о брачных танцах чаек или гагар. Он поворачивает голову в такт ей и, не разжимая губ, целует шею, ухо. Я пропала, думает она: ею овладевает желание, она клянет себя за это желание, силится его побороть, но оно вновь возникает – это как рассеянные по всему телу слабые удары тока. Больно.
– Я хочу тебя, я люблю тебя. Я хочу тебя, – звучат простые слова.
Она вот-вот без сил опустится на пол, бежать не может, отвечать не хочет. Он подхватывает ее и уводит наверх. Подталкивает, несет, поддерживает, обнимает – глаголы перечислять дольше, чем продолжается этот путь. Пиппи Маммотт из кухни провожает их глазами и уносит тарелки. Она такое уже видела. Фредерика как пьяная, думает Пиппи. Может, и правда пьяная, думает Пиппи, – ей нравится так думать. Взяла Фредерика Найджела в руки, думает Пиппи, хотя происшедшее на ее глазах говорит об обратном.
Потом он лежит с закрытыми глазами, тяжелой рукой прижимая ее к себе. Телу Фредерики тепло и радостно. Кожа на животе покраснела от напряжения, расслабленности, утоленности. И еще она слышит, как по сосудам струится кровь. «Слышит» – ее слово, хотя слово неточное: слух тут ни при чем. Она лениво размышляет, почему оно пришло ей на ум, и решает, что это как с морской раковиной: слышат в ней пульсацию собственной крови и говорят, что «шумит море». Фредерика мыслит словами не когда занимается любовью, или трахается, или как там еще обычай или приличия требуют называть это занятие, а до или после. Сейчас, глядя на тяжелые, влажные веки Найджела, на его обвислые губы, словно ослабевшие после приступа боли, она догадывается: она любит его за то, что он легко и умело переносит ее туда, где слова не нужны. Она размышляет о Блейке, о «приметах утоленного желанья»[18] и проводит своим острым носом по его плечу, обоняя запах его пота – пота, принадлежащего ей, пота, который она знает, знает собственным телом. Она размышляет о причудливом образе Джона Донна, чистой и красноречивой крови, румянцем играющей на щеках умершей женщины. Неутомимый мозг Фредерики в черепе, обтянутом кожей под спутанными рыжими волосами на влажной подушке, ищет точную цитату.
«Кровь так чиста и так красноречиво Румянит ей ланиты, и на диво Разумно тело, мыслящая плоть…»[19]
«Мыслящая плоть, – думает Фредерика. – Красноречивая кровь». Если она сейчас, среди ночи, заговорит с Найджелом о признаках утоленного желанья или красноречивой крови, он ничего не поймет. Он мыслит только телом. За это она его и выбрала, отсюда и все дальнейшее. Ведь можно же как-то соединить, думает она, только соединить, и она представляется себе русалкой, которая влажными розовыми пальцами расчесывает себе не только волосы, но и волокна мозга, распутывает, приводит в порядок. Найджел что-то бормочет на своем тайном сновидческом языке. «Мн, – произносит он. – Хмн? А-хмн». И тому подобные слоги. Она вдыхает его запах, дыхания их смешиваются на подушке. «Хмн, хмн», – нерешительно отвечает он, и их ноги и руки соединяются.
Кровать Мэри в конце длинной палаты отгорожена занавеской. Вечер, тишину нарушает только мерное хныканье какого-то малыша, уткнувшегося лицом в подушку. Мэри неподвижно лежит на спине, бледное личико освещает лампа под зеленым колпаком, прикрепленная к металлической стойке в изголовье. Дэниел, все еще разгоряченный с дороги, взмокший, сидит рядом на тонконогом стуле, который едва выдерживает его вес. Сидит уже час, но сердце все колотится, воротник душит. По другую сторону кровати сидит Уинифред, бабушка. Спокойно вяжет – что-что, а соблюдать спокойствие она умеет, как умела ее дочь, вспоминает Дэниел, хотя вспоминать не хочется. Глаза Мэри закрыты. Дышит ровно, неглубоко. На лбу аккуратная узкая повязка, словно лента, какими подвязывали волосы греческие царевны. По белой прохладной коже, точно бурые семечки, рассыпаны веснушки. Волосы над повязкой шелковистые, золотисто-рыжие, рыже-золотистые. Рот приоткрыт, и видны зубы – зубы ребенка и в то же время взрослой женщины.
Она не шевелится. Дэниел обливается потом. Уинифред вяжет. Дышит. Дэниел ерзает на своем стульчике, касается пальцами щеки Мэри и отодвигается.
– Как лежала, так и лежит, – произносит Уинифред. – Тихо так.
– Говорили, доктор придет.
– Придет, наверно. Должен. Подождем.
Спицы размеренно движутся. Дэниел неотрывно всматривается в лицо дочери. Чуть погодя входит Руфь, склоняется над неподвижным лицом, умелыми пальцами поднимает одно веко, другое, заглядывает в невидящие глаза.
– Нормально, – со знанием дела объявляет она. Ощупывает лоб Мэри и повторяет: – Нормально.
В своем пурпурном халате с широким черным эластичным поясом под белым фартуком, карманы которого набиты ножницами и прочими инструментами, она величественна и прекрасна. Длинная белая коса забрана под высокий крахмальный чепец с оборками сзади, распущенными вроде голубиного хвоста. Ее прохладная ручка ложится на его тяжелую руку: за пределами больницы она бы точно к нему не прикоснулась, но здесь она хозяйка. Предлагает ему чаю, но он отказывается и спрашивает, когда придет врач.
– Скоро будет, – отвечает Руфь. – Уже идет. У него еще несколько неотложных случаев.
Она удаляется, скользя на резиновых подошвах черных туфель.
– Маркус одно время ей увлекался, – вспоминает Дэниел.
– Он, по-моему, и сейчас с ней встречается, – отвечает Уинифред. – Только с нами не очень откровенничает. Вы ведь его знаете.
Дэниел размышляет о Руфи и Маркусе, но делиться этими мыслями с Уинифред не стоит, и он хранит молчание.
Врач, как водится у врачей, забегает на минуту и торопится прочь. Повадки врачей Дэниелу знакомы. Он когда-то состоял священником при больнице. Этой самой больнице, при этом отделении. И он знает, почему врачи стараются не попадаться на глаза тем, к кому он сейчас сопричислен, – встревоженным, ожидающим, беспомощным. Выказывать им человеческое участие тогда полагалось ему, Дэниелу. Доктор сообщает Дэниелу и Уинифред, что на рентгеновском снимке не видно никаких повреждений: череп цел, состояние девочки стабильное, так что остается ждать и наблюдать. Убедиться, нет ли последствий внутреннего кровотечения. Похоже, время сейчас лучшее лекарство. Он такой молодой, такой розовый, этот врач. Он показывает на просвет рентгеновские снимки головы Мэри, вдруг Дэниел видит в облике своей девчушки сумрачную пещеру-череп с носовыми ходами, зияющими глазницами, зубами, сквозь которые как бы видны другие зубы, – вдруг осеняет: это проростки резцов взрослого человека под лишенными корней молочными зубами. Все в порядке, уверяет врач и поспешно собирает снимки.
Время посещения заканчивается, а Мэри все лежит неподвижно. Вновь появляется Руфь и предупреждает, что пора уходить. Уинифред возражает: не хотелось бы, чтобы Мэри оказалась в одиночестве – «проснулась в одиночестве», как она выражается. Вязанье она все-таки убирает. Дэниел просит, чтобы ему позволили остаться с дочерью.
– Мы присмотрим, – обещает Руфь. – Не беспокойтесь.
– Я только посижу, – упрашивает Дэниел. – Я же никому не помешаю. Мне уже так случалось, я умею не путаться под ногами.
– А с Уиллом повидаться не хотите? – спрашивает Уинифред. – Он сейчас у дедушки, знает, наверно, что вы приехали.
– Завтра, – отвечает Дэниел. – Завтра повидаюсь. А сейчас останусь здесь. Может, она очнется.
Он понимает – понимает и Уинифред, – что когда Мэри очнется, то первым, кого она думает увидеть, будет Уинифред. Быть возле девочки в эту минуту – ее право. Он это знает, знает, что знает это и Уинифред. И все же твердит:
– Я хочу остаться. Так ведь можно устроить, я помню. Я хочу остаться при ней.
– Конечно, – отзывается Уинифред. – Вы ведь приехали издалека. А с Уиллом увидитесь завтра.
Он слишком поглощен мыслями о дочери и лишь вполуха прислушивается: нет ли в ее голосе укора или иронии – нет, ничего не заметно. Уинифред он, надо сказать, полюбил и чувствует, что она отвечает ему чем-то вроде любви. Его мать умерла вскоре после гибели жены, она лежала в геронтологическом отделении, сердилась, бормотала что-то бессвязное – сколько он ее помнит, она ни разу не пыталась выведать, что у него за душой, как пытается сейчас Уинифред. Что ж, если она говорит с укором или иронией, имеет право. Он поднимается – сиденье стула словно отпечаталось на ягодицах, – неторопливо подходит к теще и обнимает. Прежде она казалась не такой сухопарой и приземистой.
– Спасибо, – говорит он. – Я знаю, вы… я знаю вас. Я так вам обязан, Уинифред.
– Приглядывайте за ней, – говорит Уинифред. Она не может заставить себя произнести бессмысленное «Все будет в порядке» – а вдруг не будет – и тщательно подбирает слова. – Я только повидаюсь с Биллом и Уиллом и завтра приду. Если что, звоните в любое время, если вдруг…
– Понимаю, – отвечает Дэниел.
– Тут вот раскладушка, – говорит Руфь. – Поставьте рядом и постарайтесь поспать. Я каждые четверть часа буду заглядывать, проверять зрачки. Присмотрю за вами обоими.
Ночь в детском отделении наступает рано. Наступает рано, однако в палате не так чтобы очень темно: горят лампы на кронштейнах, освещая спутанные волосы, разметавшиеся в кроватях тела детей-обезьянок, от которых тянутся трубочки капельниц и тросы, удерживающие на весу поврежденные конечности, освещая беспокойного малыша, жарко сопящего в подушку. Руфь достает из тумбочки зубную щетку и полотенце, и Дэниел в уборной, пропахшей карболкой, приводит себя в порядок. Неслышно ступая, он через всю палату возвращается к дочери. Стены палаты расписаны жизнерадостными картинками – все больше овечки. Художник явно питал к ним слабость, а может, писать их было легче, а может, и то и другое. Под раскидистым деревом стоит Крошка Бо-Пип в кринолине и с крючковатым посохом в руках и напряженно вглядывается в даль, а позади нее по зеленому склону, семеня и подпрыгивая, убегает в синее небо изрядное стадо разноцветных овец. Овцы – почти прямоугольные скопления округлых мазков, из которых торчат черные уши, черные морды и черные ноги-прутики. Художник без особого успеха постарался сделать овец, бегущих вдали, поменьше. В синем небе клубятся густые, похожие на овец облака. Бо-Пип стоит спиной к зрителям, голова ее повернута, но лицо скрыто полями капора, – как видно, художник боялся, что с ним он не справится. На противоположной стене Мэри со своим барашком идет вдоль ограды к хижине с маленькими окошками и вывеской «ШКОЛА». На Мэри малиновый жакет и зеленая юбка. Из-под школьного берета выбиваются светлые кудри (точь-в-точь овечье руно), она как пушинку несет бурый квадратный портфель. Барашек вышел какой-то ненатуральный: то ли ноги коротковаты, то ли морда великовата, а может, застывшая улыбка слишком похожа на человеческую. На круглом же лице Мэри красуются лишь растянутые в улыбку губы и два круглых бледно-голубых глаза. Овцы поверх ограды рассматривают трусящего за Мэри барашка. Черные морды, белые морды, рогатые, шерстистые.
Дэниел сидит у постели дочери. Ночь течет и течет. Время от времени приходит Руфь, поднимает веко с рыжими ресницами. «Нормально, – приговаривает она, – нормально», – и снова улетучивается.
Рот у Мэри приоткрыт. Зубы влажны. Не успевает он спохватиться, как на него всею тяжестью обрушивается воспоминание о мертвой Стефани: застывший взгляд, приподнятая губа, влажные зубы. Он чувствует – и это не преувеличение, – как сердце хочет остановиться, содрогается, как забарахливший мотор. Он борется с накатившей тошнотой. Ждет, чтобы видение исчезло, – так человек, прикоснувшийся к раскаленному железу, ждет, чтобы утихла пульсирующая боль. Наконец оно исчезает, привидевшееся это лицо, и он тяжелым пальцем опускает губу девочки, скрывает зубы. Губка у нее теплая – теплая и влажная. Ему вспоминаются зубы, с силой пробивающиеся из челюстной кости. Он касается ее щеки, маленького плеча, берет в темноте ее прохладную ручонку и зовет:
– Мэри…
И снова:
– Мэри…
Мэри блуждает по сумрачным синим пещерам. Не идет, а летит, или течет, или плывет по воздуху, вьется меж помавающих ветвями мускулистых стволов, а может, жилистых скал. Синий сумрак вокруг, и багрец, и аспидно-серое что-то, и на всем и во всем тусклый свет – изливают его и эти столбы, и ветви. Мэри плывет, а рядом сияющей проволочкой тянется боль, повторяет ее извилистый путь, но к Мэри не приближается, только светом ее обжигает, если Мэри вдруг заметит ее, острую словно бритва, заметит ее колючее острие, ее рвущееся наружу пламя. Мэри плывет с нею в медленном танце: летит та, летит и другая, летит другая, и та летит, вместе спускаются, вместе вьются туда и сюда, но друг от друга поодаль, и в пространстве меж ними нет ничего – ни синего света, ни зримой тьмы, пустота.
Руфь появляется каждые полчаса.
– Нормально, – говорит она, заглянув под веки. – Нормально.
Дэниел сидит безучастно, держит дочь за руку.
– Вы бы поспали, – советует Руфь.
– Не хочется.
– Надо бы. Она, пожалуй, сегодня не проснется. Обычно среди ночи не просыпаются. Рассветет – тогда да. Какао принести?
– Спасибо, я сам схожу. Разомнусь, а то все тело затекло.
В тесной кухоньке Руфь варит ему какао, и они садятся за стол для ночных дежурных, на котором лампа под зеленым колпаком обозначила озерцо света, оставляя их лица в тени.
– Мы ее отсюда увидим, – обещает Руфь. – Здесь все так устроено, чтобы каждого было видно.
Дэниел расспрашивает Руфь, как она живет, чем занимается. Она сидит, опустив бледное овальное лицо, прихлебывает чай, и он ждет услышать в ответ какую-нибудь благодушную пошлятину.
– Если бы не моя духовная жизнь, я бы в этом заведении – на этой работе – долго не выдержала, – отвечает Руфь.
Дэниел вспоминает: он священник. Сан обязывает принимать такое со всей серьезностью и в то же время дает право на непринужденную болтовню, однако она говорит так, что этот тон не годится.
– Вы, помнится, часто бывали у Юных христиан. Сейчас у Святого Варфоломея бываете?
– Случается. Конечно, после Гидеона и Клеменс многое изменилось. Новый викарий – какая там духовность. Отрабатывает что положено, и все. Ну да не мне судить. Чужая душа потемки. Со мной-то он не беседует. А вы там у себя с Гидеоном, наверно, по-прежнему видитесь? Как у него все здорово получалось!
– Понимаете, я живу не совсем обычно, замкнуто, со старыми друзьями не встречаюсь, – поясняет Дэниел дежурно проникновенным голосом: профессиональные интонации вернулись на место.
Своего бывшего викария Гидеона Фаррара он ненавидел и презирал, хотя время от времени пытался смиренно заглушить в себе это чувство.
– Я, так сказать, из паствы Гидеоновой, – рассказывает Руфь. – Из Чад Радости. В Лондон на важные собрания выбираюсь редко, а в Йоркшире работа, работа, ни минуты свободной. Правда, здесь, на пустоши, он организовал Семейный круг, замечательное движение: происходят чудеса, все так… так одухотворены, так увлечены. Жаль, сам Гидеон приезжает редко, но Клеменс – она тоже во главе – то и дело. У нас с ними связь постоянная, это большая радость.
– Приятно слышать, – осторожно отзывается Дэниел.
– Я устроилась сюда, потому что хотела делать какое-то доброе дело, – продолжает Руфь, – помогать малышам, тем, кто страдает ни за что. Когда обучают медсестер, не предупреждают, что в детских больницах труднее всего. Со стариками не так: когда уходит старик, за него можно только радоваться, но малыши, которые здесь лежат… подолгу… за них переживаешь больше, чем за тех, которые умерли. Вы об этом, конечно, судить не можете, но вы поймете: все меняется… все по-другому, когда твои страдания – приношение Иисусу, когда тем самым ты сопричастна Его страданиям за нас всех, иногда это ощущаю, хотя, конечно, не понимаю. Да и незачем нам понимать.
В ровном, негромком голосе ее прорезаются новые ноты, решительные, экстатические.
– А ведь и я когда-то состоял священником при больнице, – признается Дэниел. – Этой самой. Работа не та, что у вас, но то, о чем вы говорите, мне знакомо.
– Как, должно быть, вы были здесь нужны, – вздыхает Руфь. – Тех, кто понимает и слышит, так мало.
Помнится, это было не так, думает Дэниел.
Он возвращается к дочери, по-прежнему лежащей без движения. Руфь снова заглядывает в невидящие глаза и повторяет:
– Нормально.
Мэри блуждает среди темно-васильковых потоков, проплывает в устья пещер, низвергается, течет по тесным ходам. Сизое пространство ширится и дрожит. Издалека доносится глухой звук. Кого-то где-то тошнит.
Дэниел беспокойно дремлет на выдвижной кровати. Выдвигается она из-под кровати Мэри, и тело девочки оказывается на ярус выше. Пружины под ним скрипят и стонут. Девочка шевелится, ворочается, откидывает руку, детские пальчики касаются его. Он зовет Руфь, та произносит: «Нормально» – и снова проверяет зрачки. Светает, появляется дневная смена, и палата оживает: тележки, губки, термометры. Руфь приносит Дэниелу чая и говорит, что ей пора, но вечером она снова придет. Дэниел жадно глотает горячий чай и чувствует, как он растекается у него в желудке. Губы Мэри шевелятся.
– Смотрите, – говорит Руфь, – смотрите: губы…
Мэри оказывается в пасти меловой пещеры. Ее засасывает, уносит вверх, ей хочется плыть и замереть где-нибудь неподвижным осадком, но среда, где она пребывает, разбушевалась: вот-вот выбросит ее прочь. В темно-фиолетовый мир, в васильковые пещеры врываются ярые рыжие сполохи, перед глазами кровь, жаркая пелена. Голову пронзает боль, она мотает головой. Все сплющивается в рыжую плоскость. Она открывает глаза.
– Мэри, – произносит он. – Мэри. Ну, наконец…
Она отчаянно пытается сесть. Горячими руками он обнимает ее за шею, она прячет лицо в его бороду, нос его касается живой ее кожи, жарких волос, ощущает биение пульса на тонкой шейке. Она барахтается, силясь выпростать руки и ноги из-под одеяла, льнет к нему всем телом. Обхватывает его шею мертвой хваткой.
– Папка мой, папка, – повторяет она, и Дэниел целует ее волосы, глаза жжет. – Ой, – виновато произносит Мэри, – меня тошнит.
Дэниел подставляет ей миску. Какое это чудо, ее голос, судорожная торопливость, подергивания животика, звук тошноты: это жизнь, она жива. А ведь кое-кто на моем месте, думает Дэниел, и не сомневался бы, что она жива, что она очнется. Но я из тех, кто знает: могла не очнуться. На этот раз ему удается не вызвать в воображении мертвое лицо.
Мэри идет на поправку. Семья собралась за завтраком. Дэниел по-прежнему в Йоркшире. Каноник Холли распорядился: раз он там, пусть сидит и не рыпается. Вместо него у телефона подежурит новый волонтер: обучение прошел успешно, работник что надо. Мэри уже дома, но в школу не ходит. Восстанавливает силы. Что случилось на детской площадке, где ее нашли без сознания, она не помнит. Раз сказала, что очутилась в каком-то большом-большом месте и увидела, как с неба камнем падает что-то большое… Большая птица, наверно, неуверенно уточняет Мэри, темная такая, сверкающая.
Завтракают всей семьей: Билл Поттер, Уинифред, Дэниел, Мэри и Уилл. Дело происходит уже не в неказистом доме на Учительской улочке, где они жили, пока Билл преподавал, где Уинифред растила детей, а потом внучат. Биллу шестьдесят семь, он уже два года как на пенсии. Последние пять лет его работы Уинифред каждый день ждала этого события с ужасом. Он из тех, для кого работа – это жизнь. На прощание ему преподнесли подарки: вытесанную из гранита, материала неподатливого, скульптурную группу работы его бывшего ученика – стадо овец, полный комплект Оксфордского словаря и купон на приобретение книг на крупную сумму. А когда мистер Тоун, директор, объявил, что в глазах многих Билл Поттер и был Блесфордской школой, раздались стоны, одобрительные крики, всхлипы и бешеные аплодисменты. Уинифред казалось, Билл выдернут из школы, точно зуб с окровавленным корнем. А еще она тревожилась за себя. Билл был терпим в семейной жизни лишь тогда, когда ему не приходилось просиживать дома. Оставаясь дома подолгу, он, как летучий газ, заполнял собой все пространство, рычал, горячился, стучал кулаком. Она предпочитала покой, а покой наступал лишь в отсутствие мужа.
В ответной речи Билл поблагодарил всех и сообщил, что из дома на Учительской улочке он съезжает. Он имел право оставаться там еще года три – в школе думали, он, как и его предшественник, еще будет помогать: проверять экзаменационные работы, натаскивать учеников к поступлению в университет, совсем уходить не станет. Вполне в духе Билла: до этой речи он своими планами ни с кем не делился, и кое-кто из присутствующих даже заподозрил, что он принял решение именно там, в актовом зале, в разгар чествования.
– Я не намерен путаться под ногами, брюзжать о том, что делается, и созерцать собственные ошибки, – говорил Билл. – Я отправляюсь на поиски прекрасного. Смейтесь, кому смешно. Блесфорд-Райд – местечко недурное, садовники стараются, но красивым его не назовешь. Во всем пантеоне хоть сколько-нибудь приятная внешность только у Бальдера, но его унесла смерть. Куплю себе дом на пустоши – я один приглядел: симпатичный, ладный, с садом – и буду на досуге за садом ухаживать. А досуга будет мало: я собираюсь много работать, очень много. Ведь кто не живет, тот мертв, я всегда это говорил, а я умирать не собираюсь, ни боже мой.
Уинифред видела: он чуть не плачет, и она вновь простила его за то, что он, не советуясь с ней, рубит сплеча. Ведь даже не спросил, захочет ли она переехать, – впрочем, может, и так знал, что захочет. Но дом на пустоши казался ей нелепой прихотью, так она мужу и объявила. Всякому ясно, что, когда уходят на пенсию, вот так сразу удаляться от всех не годится. Притом Уиллу тогда было восемь лет, Мэри шесть, обоим скоро в школу – об этом он подумал?
Оказалось, подумал. Он облюбовал дом из серого камня постройки XVIII века в городке Фрейгарт, в лощине между Пикерингом и Готлендом. За домом, увитым плетеными розами, белыми и золотистыми, раскинулся сад с каменной оградой сухой кладки, а за ней – овечье пастбище. В городке имеется начальная школа, и Билл заверил Уинифред, что ее директор Маргарет Годден – настоящий учитель: он бывал у нее на занятиях, она педагог прирожденный. Мисс Годден оказалась крупной улыбчивой блондинкой лет под сорок. Передавать знания было ее страстью, и она терпеливо в своем деле совершенствовалась. Кроме нее, в школе преподают еще двое: в средних классах мистер Хэббл, в младших – мисс Чик. Мистер Хэббл живет тут же в городке, у него жена и четверо детей, учатся в этой же школе. Мисс Чик живет по соседству с мисс Годден, это ее ученица и походит на нее во всем: та же склонность к полноте, то же упорное стремление к совершенству. Учителя Уинифред понравились, а белые и желтые розы совсем обворожили. Внутри дом был устроен изящно и прочно, в кухне стояла массивная плита, имелась там и каменная кладовая, а к дому пристроен сарай со старинным водяным насосом. Уинифред представила, как можно жить, когда тебя окружает, по неожиданному выражению Билла, красота. Тонкие оттенки, переливы света, старое дерево, желтые и белые розы. Они с Биллом принялись разъезжать по окрестным городкам и приобретать на аукционах стулья, столы, шкафы, комоды. Это занятие стало их общим увлечением, они друг с другом вели разговоры, каких никогда не вели прежде.
– Это как игра такая, – говорила Уинифред. – Едешь на верхней площадке автобуса, заглядываешь в окна, фантазируешь: какой бы я была, если бы жила там, как бы мне в этом доме жилось.
– Из автобуса я этот дом и увидел, – отвечал Билл, – когда возвращался с занятий в другой школе. Такие фантазии – насчет домов – часто приходят, когда небо еще не потемнело, а в окнах уже горит свет.
Год-другой после переезда Уинифред не оставляло странное чувство, нельзя сказать, чтобы неприятное: когда она вечерами сидела у камина, протирала овальный стол, поливала цветы в приоконных ящиках, обозревала выложенную каменной плиткой прихожую, стоя на верхней площадке широкой лестницы, чьи ступени за несколько столетий пообтерлись под ногами ныне покойных, которые приходили, уходили, устраивали судьбы других людей, – все это время она казалась себе призраком среди каких-то декораций, который держится так, чтобы соответствовать красоте обстановки. Но постепенно она с этой обстановкой сроднилась: вот здесь Билл рассадил колено об камин, а у этого окна она подрубала шторы, белые с лавандовым узором и горчичные, – они висят на том окне и, когда оно открыто, колышутся от ветра. И что еще удивительнее: Билл здесь не кричит, не стоит над душой, не хандрит, не киснет, а, как и обещал, занимается делом. Он расширил географию своего учительствования, разъезжает по йоркширскому побережью, забирается далеко от дома, ведет занятия в школах Скарборо и Уитби, Калверли и Пикеринга, рассказывает о Д. Г. Лоуренсе и Джордж Элиот с таким жаром, словно решает их судьбу. Его заинтересовали священники-методисты, которые когда-то читали пламенные проповеди в этих местах. Он пишет книгу. В разное время она называлась то «Английский язык и сообщество культуры», то «Культурное сообщество и английский язык», то «Культура, сообщество и английский язык». Билл проводит в разъездах столько времени, что Уинифред в его отсутствие обретает душевный покой, а когда он возвращается, то рассказывает, где был, что слышал. Мисс Годден, мистер и миссис Хэббл и мисс Чик заходят к ним на ужин, заглядывают и сотрудники Северо-Йоркширского университета, которые обзавелись домами в окрестных городках и проводят там выходные, они прогуливаются возле дома Поттеров в грубых кожаных башмаках и шерстяных носках и любуются розами.
Окно кухни, где они завтракают, выходит в сад, за которым открывается пустошь. Билл сидит на одном конце стола, Уинифред на другом. Дэниел и Мэри бок о бок склонились над тарелками с овсянкой, украшенной завитками патоки: золото вплавляется в бледно-серое. Напротив сидит Уилл, смуглый десятилетний крепыш с черными глазами под густыми черными бровями. Сразу заметно, что он до смешного похож на отца, и так же заметно, что он не удостаивает отца ни взглядом, ни словом. Шумно уплетает яйца вкрутую и гренки, спешит в школу. Билл неосторожно заводит разговор о том, где Уиллу учиться дальше. Можно держать вступительный экзамен в Блесфорд-Райде, там обучение обойдется гораздо дешевле, внуку Билла сделают уступку, а можно пойти в какую-нибудь государственную школу неподалеку, тогда Уиллу не придется уезжать из Блайт-Хауса.
– Раз уж ты здесь, Дэниел, не хочешь посмотреть школу? – предлагает Билл.
– Как скажет Уилл, – отвечает Дэниел.
– По-моему, это ни к чему, – говорит Уилл. – А вообще я хочу в единую среднюю[20] в Оверброу. Все ребята там учатся. С кем дружу.
– У единых есть свои плюсы и свои минусы, – изрекает Билл. – Но у школ старого образца тоже. Знания они точно дают, а это важно.
– И единые дают.
– Вы бы с отцом съездили, посмотрели.
– Школы, дед, это по твоей части. Езжай ты.
– Давай хотя бы разберемся, готов ли ты к вступительному экзамену, – предлагает Билл и поворачивается к Дэниелу. – Уилл у нас смышленый, спроси директора школы, она о нем высокого мнения, очень высокого.
– Некогда сейчас разбираться, – буркает Уилл. – Мне в школу пора.
Дэниел не дурак: он замечает, что Уилл колеблется, позволить ли отцу беседовать с директором, и, когда Уиллу удается выкрутиться, Дэниел вздыхает с облегчением. Шумно отодвинув стул, Уилл надевает ветровку и берет тяжелый ранец. Уинифред дает ему яблоко, песочное печенье и термос. Он целует ее в щеку, бросает Биллу и Мэри общее «до свидания» и небрежно кивает отцу:
– Пока.
Отец и сын озабоченно, настороженно хмурят черные брови. Уилл уходит.
Дэниел смотрит на руку Мэри, на ее бойкий кулачок, сжимающий ложку. Радуется каждому движению каждого ее мускула.
– Уиллу хочется в Оверброу с Китом, и с Микки, и с этой девочкой с такой чуднóй прической, – сообщает Мэри и, помолчав, ни с того ни с сего добавляет: – Папка, ты еще не уезжаешь? Ты ведь только-только приехал. А ко мне в школу хочешь – приходи, я согласна.
– Могу задержаться немного, – соглашается Дэниел.
– Хоть немножко, – просит Мэри. – Хоть чуть-чуть.
По пустоши, пробираясь овечьими тропами, бредут двое. Направляются к калитке в сад. Уинифред встает и заваривает еще кофе.
– Это Маркус и Жаклин, – объясняет она Дэниелу. – Опять возились с Жаклиновыми улитками. Она об улитках диссертацию пишет. Встают в четыре утра, пересчитывают, и все такое.
– Она и в школе у нас про улиток рассказывает, – сообщает Мэри. – У нас там этих улиток целая колония. Мы за ними ухаживаем, для Жаклин, делаем с ними настоящие опыты, смотрим, как они едят, какие у них маленькие. У нас большая книга, и мы все про улиток записываем, какого они размера, все-все. Полезно.
– Если ты считаешь, что улитки полезные… – произносит Дэниел почти сочувственно.
Издалека пришельцы кажутся такими маленькими, что поначалу их едва можно отличить друг от друга. На обоих ветровки и резиновые сапоги – сыро, погода как раз для улиток, – оба худощавые, походка у обоих упругая. Лучше бы с Маркусом не встречаться. Брат Стефани был в кухне, когда воробей запорхнул под холодильник, а холодильник нанес удар… Дэниел никогда не задавался вопросом, смог бы Маркус не растеряться и спасти сестру, – не задавался, потому что боялся рассвирепеть. Целый год Маркус жил у них, предаваясь самоедству, глубокомысленно хандрил, портил настроение Стефани, был для всей семьи бельмом в глазу. Столбняк этот постепенно проходил, но такой слабонервный, мелкотравчатый человечишко запросто может снова в него впасть. А для Дэниела он остается персонажем того страшного дня: тощий как жердь человек, с лицом словно кусок заветревшего сыра, восковым, покрытым каплями пота, стоит рядом, ну совсем рядом с розеткой, в которую включен холодильник, и дрожит мелкой дрожью. Дэниел в ту пору пришел к выводу, что принимать переживания Маркуса близко к сердцу ему не имеет смысла. Тут ничего не поделаешь, Маркус есть Маркус. Надежды избавиться от напасти у него никакой, и Дэниел ему не помощник. Пусть так и мучается, решил тогда Дэниел, – и теперь он видит, как этот молодой человек рядом с молодой женщиной бодро шагает по пустоши, смеется, подходя к садовой калитке. Как он может смеяться? – спрашивает затаившийся в душе Дэниела демон. И Дэниел, собрав всю свою беспристрастность, отвечает: на дворе тысяча девятьсот шестьдесят четвертый, Стефани погибла в пятьдесят восьмом. А мы живы. Маркус молод, получил ученую степень – в какой области, Дэниел точно не знает. Уинифред только что рассказала, что Маркус защитил докторскую, теперь он «доктор Поттер», преподает в Северо-Йоркширском университете, состоит в какой-то группе, занимающейся серьезными исследованиями. Мы живы, твердит себе Дэниел, хотя знает, что к нему это не относится. Сам он – не совсем, не весь, не жив.
Мэри тянет его за рукав свитера:
– Пойдем улиток смотреть, пойдем.
Маркус и Жаклин снимают ветровки, им подают яичницу с ветчиной, гренки и горячий кофе. Приятное угощение после блужданий в темноте, сырости, холоде, пронизанном духом торфяника, блужданий до рассвета – тоже, впрочем, приятных. Жаклин ведет наблюдения за двумя колониями helix hortensis и двумя helix nemoralis, изучает генетические изменения в популяциях по тому, как они проявляются в полосках на раковинах. Она принесла пополнение узницам школьных колоний и тех, с которыми она работает в университете, и Мэри восклицает:
– Смотри, какие у них рожки славные! Смотри, какие рожки! А знаешь, папка, у них тысячи зубов, Жаклин рассказывала…
Жаклин превратилась в миловидную женщину с темно-русыми волосами до плеч, жесткими, от природы вьющимися. Кожа у нее не как у домашней затворницы: смуглая от загара, упругая, глаза ясные, карие. Прежде она вместе с Руфью бывала у Юных христиан. Дэниел рассказывает, как заботливо Руфь ухаживала за Мэри, и Жаклин удивляется: откуда у нее только силы берутся заниматься этим изо дня в день, тяжелая ведь работа. Даже при этих словах она непринужденно улыбается.
– Здравствуй, Дэниел, – говорит Маркус и садится завтракать. – Здравствуй, Мэри. Как твоя голова?
– Все не вспомню, как это я ушиблась, – говорит Мэри. – Чуднó, когда чего-то не знаешь, чего-то важное про себя: тебе важно, а ты не знаешь.
Маркус, который занимается нейробиологией мозга и особенно проблемой памяти, соглашается: да, интересно.
– Но, возможно, память вернется, – добавляет он. – Ты, может, и помнишь, только не знаешь об этом. А потом все вдруг станет ясно.
Встрече с Дэниелом Маркус не рад. Отчасти по той же причине, что и Дэниел. Тот помнит, как Маркус стоял у розетки, Маркус же помнит лицо Дэниела в эту минуту: вот он входит, вот замечает это. Как и Дэниел, он думал, что не переживет этого потрясения. Он думает – когда вообще об этом задумывается, – что выстоял только заботами Жаклин и Руфи. Это Руфь обняла его и не отпускала, пока он не смог дать волю слезам, а потом их утирала. Это Жаклин упорно, беспощадно добивалась, чтобы он не замыкался в себе, чем-то увлекся. Таскала его по лекциям, где он постепенно вновь научился слушать, засыпала его жалобами на собственные проблемы, которые он ловко решал своим на диво изощренным умом без участия души, оцепеневшей, как улитка в раковине. Он еле-еле ноги передвигал, а она брала его в полевые экспедиции, старалась заразить своим горячим интересом к тому, что тогда лишь начинали называть «экологические исследования». И когда, несмотря на боль, интерес у него забрезжил, она показала: тебе интересно, ты жив. Как-то раз они пережидали грозу в пещере на Седельной пустоши: каменные стены, свод – темная земля, из которой торчат жесткие белые корни стелющихся снаружи растений. Повиснув в воздухе, корни переплетались и врастали обратно в родную стихию. Гроза бушевала, вода уже просачивалась в пещеру, по своду бежали темные ручейки, со слепых корней свисали сверкающие капли, падали, разбивались о камни. Часто потом рисовались ему в воображении эти темные пятна, эти редкие яркие капли. Вот что с ним было. Это Жаклин и ее упрямая приверженность фактам убедили его, что с ним все именно так, что вода просачивается в пещеру.
Маркус понимает, что в смерти Стефани виноват он. Но что ему от этого понимания? Понимает и то, что из-за него смертельный удар получил, кроме покойной, еще один человек: Дэниел, что он нанес неисцелимую рану Мэри и Уиллу, а сверх того Уинифред с Биллом. Фредерику он пострадавшей не считает. Понимает, что если мучиться и угрызаться, ничего хорошего не выйдет, и поэтому не мучается и не угрызается, но от этого не легче. Он считает, что не надо было Дэниелу срываться с места и мчаться в Лондон, но понимает, что не ему винить Дэниела: он должен помнить о собственной вине. При этом он работает, работает хорошо, очень хорошо, интересуется работой коллег. Живет себе и живет, и все же, как Дэниел – но по-другому, – остается в том страшном месте, с тем страшным пониманием.
Билл распечатывает только что полученные письма. Одно, в буром конверте, оставляет напоследок, читает его и смеется. Это бледно напечатанное послание на официальном бланке.
– От Александра Уэддерберна, – говорит он. – Его включили в Государственную комиссию по исследованию преподавания английского языка в школах. Комиссия Стирфорта: председатель – Филип Стирфорт, антрополог, изволите видеть. Доверить председательство в такой комиссии учителю английского – черта с два. Я смотрю, вице-канцлера нашего, грамматиста, старика Вейннобела в список включили, но председатель не он. Учитель из Александра получился так себе – вот он сам об этом пишет… Просит прислать в комитет свои наблюдения – я, мол, на его памяти лучший учитель. Спасибо на добром слове. Говорит, будут посещать школы по своему выбору, надеется оказаться в наших краях, погостить. Напишу-ка я ему, какие чудеса творит мисс Годден с заданиями по английскому языку в старших классах. Может, и правда поделиться с ним наблюдениями? Толку от этой затеи не будет – от такого никогда толку не бывает, но как знать, может, и неплохо, если в Министерстве образования хотя бы узнают о дельных мыслях и здравых принципах.
Дэниел говорит, что как-то виделся с Александром, и Жаклин интересуется, не бросил ли он драматургию. Никто не знает. Дэниел спрашивает Жаклин о Кристофере Паучинелли, натуралисте, который руководит полевой исследовательской станцией. Жаклин рассказывает, что сейчас он на конференции по пестицидам в Лидсе. Билл замечает, что Паучинелли никому проходу не дает с разговорами о протравке семян и опрыскивании посевов, но Жаклин возражает: а как же иначе, если люди не понимают, во что превратили землю? Один только Маркус знает – да и то лишь отчасти, – что происходило в душе Жаклин в шестьдесят первом – шестьдесят втором годах, когда они только-только начинали исследовательскую работу в Северо-Йоркширском университете: она вместе с датчанином по имени Лук Люсгор-Павлинс занималась популяционной генетикой улиток, а Маркус вместе с математиком Джейкобом Скроупом под руководством микробиолога Абрахама Калдер-Фласса работал над математической моделью сознания. В шестьдесят втором, когда он уже год отучился в аспирантуре, грянул Карибский кризис. Как и все его сверстники, Маркус до сих пор одержим ядерным страхом, предчувствием конца света, когда кто-нибудь – запустит, применит, задействует? – машину всеобщего уничтожения и мир истребится, замерзнет, обезлюдеет, станет таким, как воображается после документальных фильмов о Хиросиме и Нагасаки: миром, символ которого – грибообразное облако над атоллом Бикини. Как только начались события на Кубе, Джейкоб Скроуп сложил книги, упаковал вещи и собрался в Ирландию, подальше от возможных очагов поражения – Лондона и Файлингдейлской базы ВВС с ее огромными шарами системы раннего оповещения, белеющими среди пустоши. Прогнозы Скроупа встревожили Маркуса, но Жаклин твердо стояла на своем: «Не совсем же они безмозглые. Мужчины есть мужчины: надуваются друг перед другом, как индюки или гусаки. Вот увидишь: они одумаются, заговорят по-другому, должны же они понять, люди все-таки». Эту уверенность внушило ей собственное здравомыслие, ставшее для Маркуса спасательным кругом, и все же он этой уверенности не разделял. По его наблюдениям, здравомыслие было не такой сильной стороной человеческой натуры, как представлялось Жаклин и ей подобным, – общество, в котором они жили, только и держалось тем, что представляется. В конце концов, как индюки и гусаки, Хрущев и Кеннеди бросили надуваться и разошлись в разные стороны. Между тем Жаклин начала замечать, что камни-наковаленки дроздов, вокруг которых они с Кристофером Паучинелли вели счет улиточьим раковинам, все чаще стоят без дела, что яиц в скворечниках все меньше, что во дворах ферм и амбарах появляются мертвые совы. Весной 1961 года в Англии были обнаружены десятки тысяч мертвых птиц. У Паучинелли появилось еще одно занятие: обеспечить доставку коробок с птичьими трупиками в лабораторию Северо-Йоркширского университета, где анализ показал, что в их организме содержится ртуть, линдан и другие отравляющие вещества. В 1963 году в Англии вышла книга Рейчел Карсон «Безмолвная весна»[21], Жаклин дала почитать Маркусу. В королевской усадьбе в Сандрингеме, рассказала она, в числе мертвых птиц оказались фазаны, красные куропатки, вяхири, клинтухи, зеленушки, зяблики, черные и певчие дрозды, жаворонки, погоныши, вьюрки, воробьи, сойки полевые и домовые, овсянки, завирушки, черные и серые вороны, щеглы, ястребы-перепелятники…
– Погубим мы планету, – говорила она Маркусу. – Мы биологический вид с каким-то сбоем в развитии. Всех истребим.
– И об атомной бомбе такое же мнение. Пожалуй, правда. Истребим всех.
– Потому что мы существа разумные, но нам не хватает разума обуздать собственный разум. Птиц погубили не нарочно, просто хотели что-то улучшить, повысить урожайность пшеницы, картофеля, протравливали семена. По-моему… да-да, именно так: где речь идет не о жизни человека, не о судьбе армии, надо бы нам отучиться от излишнего рвения. Но по-моему, удержаться от уничтожения планеты ума нам не хватит.
– Из-за радиоактивных осадков меняется генетический состав, – добавлял Маркус, – и от химических мутагенов меняется. Миллионы и миллионы лет создавались деятельные организмы, а теперь мы можем их истребить – или изуродовать – в мгновение ока.
– В одиночку не поборешься, – вздыхала Жаклин. – Остается разве что дохлых птиц собирать.
– Собирать неопровержимые доказательства. Иначе близоруких равнодушных политиканов не пронять.
Молодые, здоровые, они были преисполнены кипучего отчаяния, свойства всех молодых и здоровых, когда они сталкиваются с подлинной, не надуманной опасностью. Они так и видели заболоченные низины, безлюдные просторы, гнилые стволы, мертвые озера, где не слышно птичьих трелей. Во время славных прогулок по пустоши, когда они наблюдали улиток, наслаждались щебетом взмывающего ввысь жаворонка или призывным пением ржанки, им всюду мерещились гибель и тлен – так их предков на загородных прогулках сопровождали видения адского пламени, раскаленных клещей, жажды неутолимой.
Поглядывая, как Билл разбирает письма, Дэниел спрашивает его, что слышно о Фредерике.
– Ничего не слышно, – бросает ее отец. – Писать не соизволит. Знай я ее похуже, подумал бы, что брезгует. Но я ее знаю хорошо: уж в этом-то смысле она воспитана как надо. Если и водится за ней снобизм, то разве что интеллектуальный – ни за что не поверю, что она вышла за этого субъекта, потому что ей вздумалось поблистать в мире тугозадых наездников и завсегдатаев балов в охотничьих клубах. Время от времени пачками шлет фотографии своего малыша. Ее, как я заметил, на них нет. У нас его карточек тьма: то на пони, то на яхте…
– Что такого, если на пони?
– Все вы поняли, Дэниел. Прекрасно поняли. Не по зубам ей этот кусок. Надо сказать, он мне сразу не понравился, Найджел этот, и снова встретиться с ним мне, надо сказать, не хочется, даже если предложат – ну да мне и не предложат. Нет, ничего хорошего у них не получится. От нас отдалилась, живут там как Красавица и Чудовище – или как Гвендолен и Грэндкорт[22], – но не удивлюсь, если не сегодня завтра она соберет вещички и объявится у нас. Она ведь далеко не смиренница, Фредерика наша. Ну, сбилась с пути, но не сегодня завтра спохватится и…
– С чего ты все это взял, Билл? – перебивает жена. – От нее никаких известий. Может, они живут душа в душу.
– Ты так думаешь? Правда так думаешь?
– Нет. Просто не знаю. И потом, у нее маленький сын.
– Она моя дочь. Мне ли ее не знать? На нее что-то нашло. С ней бывает. Ей бы кого-нибудь вроде вас, Дэниел, вроде нас с вами.
– Страшный вы человек, – замечает Дэниел. – Даже на свадьбу к нам не пришли. Всех почти до слез довели. А теперь говорите про себя и меня «мы», будто я вроде вас.
– Так и есть. Тогда схлестнулись два «вроде». Теперь другая история. Мне кажется, она потянулась к этому Найджелу как раз потому, что он не вроде нас – потому что ни капли на нас не похож. Одно скажу: и среди тех, кто на нас не похож, она могла бы выбрать мужа получше Найджела.
– Тебе же ничего не известно, Билл, – настаивает Уинифред. – Просто ты обиделся.
– Нет, я не обиделся. Я кое-что для себя открыл. Понял, что когда твоя дочь мертва, радуешься уже тому, что другая жива, пусть даже она тебя не навещает. Начинаешь видеть вещи в правильном свете. Живое – оно и живет наперекор всему. Наперекор – это Фредерика всегда любила… Расстроил я Дэниела. Я не нарочно. Ладно, пойду писать ответ Александру. Не дуйтесь, Дэниел, вы знаете, как у нас с вами сложилось.
– Знаю, – отвечает Дэниел. – Кланяйтесь Александру. Он славный.
Маркус собирается уходить. Жаклин с ним. Дэниел пожимает Маркусу руку – теперь это именно рука, а не снулая рыба. У Маркуса наружность самого обычного молодого человека умственных занятий: худощавый, в очках, бледно-каштановые волосы.
Дэниел спрашивает Жаклин, видится ли она с Фарраром.
– Нет. Дело прошлое. Мне вдруг пришло в голову, что это пустое. Простите.
– За что? Мне самому было не по душе.
– А вот Руфи идет на пользу. Хотя, по-моему, в некотором смысле совсем не на пользу.
– Это точно.
Мэри по назначенному врачом распорядку отправляют в постель, и в тихой кухне симпатичного дома Билла Дэниел остается с Уинифред один на один.
– Ей-богу, Билл стал совершенно невыносим, – произносит Уинифред. – У него за Фредерику душа болит. Ее так не хватает, а из-за того, что нет Стефани, ему кажется, что и Фредерика нас бросила. Надеюсь, вы посмеялись, когда он сказал, что вы с ним похожи. Не посчитали оскорблением напоследок.
– Нет-нет. Этот очаг отпылал. Нам бы надо пожать друг другу руки. И потом, это только первый тайм. Мы должны взглянуть правде в глаза. Хотя бы полуправде.
– А Уилл еще сменит гнев на милость, – обещает Уинифред, которая хочет, чтобы воцарился мир, согласие и порядок.
– Как так? Я поступил с ним… вообще поступил… жестоко и глупо. Если на прямоту, без сантиментов: погибает женщина, мужчина остается с двумя детьми на руках и в один прекрасный день бросает их, уезжает, так что они разом теряют двоих, – и такое простить?
– Нельзя тут без сантиментов, Дэниел. Вспомните, что было тогда: вы почти помешались, им с вами было только хуже. Вы же не скажете, что мы за ними плохо присматриваем.
– Не скажу. Вы творите чудеса. За детей можно не беспокоиться. У них есть дом. Семья. А из меня какая семья? Я все понимаю.
– А для Билла… Ему так важно, что Уилл рядом, он с ним играет – а вот с Маркусом не мог, ходил тогда туча тучей… Но тут уж ничего не поправишь… Зато с Уиллом у него все ладится, он доволен.
– Я оставил детей не для того, чтобы разудовольствовать Билла.
– Я понимаю.
– До встречи с ней… со Стефани… мне казалось, что я живу на пределе, за пределом. Где другие не выдерживают. Мы поженились, и я решил обойтись простым счастьем. Мне повезло: мы были счастливы… время от времени, а мы знали, какая это удача, как редко такое выпадает… и чем мы для этого… пожертвовали: она книгами, друзьями, а я… я… потребностью жить там, где опасно. Да, именно так. Где опасно. И когда она погибла… меня как будто толкнуло обратно в тот мир. Жизнь с ней… как будто меня на канате тянуло вверх, к солнцу на горном уступе… Оказалось, напрасно. Жизнь без нее… Я не мог… Я думал…
– Понимаю, Дэниел. Не мучайте себя.
– И еще. Тогда я думал, что им – Уиллу и Мэри – оставаться рядом со мной опасно, что это им во вред, что надо их держать подальше от меня такого… для их же блага… Да-да, я так думал…
– И кажется, были правы.
– Да, а сейчас… сейчас… Вон Маркус: держится как… как… нормальный человек, смеется с этой своей Жаклин. А я… Сын меня ненавидит… Как бы вам это объяснить?.. Мир изменился, изменились Уилл и Мэри… Разбираться в человеческом горе, Уинифред, моя профессия. Я вижу, кто живой, а кто ходячий покойник. Они – живые.
– А вы, значит, ходячий покойник.
– Вот именно… Нет. Не совсем. Иногда только. Только когда по-настоящему. Черт! Делаю то же, что живые: завтракаю, смотрю, как завтракает Мэри, любуюсь на нее, удивляюсь Биллу, когда он рассуждает о Фредерике, улыбаюсь… Я выбрался оттуда, из этой прозрачной черноты… знаете, когда видишь мир… сквозь угольную пелену…
– Понимаю.
– А я уже нет. Ну как мне оставить Мэри, вернуться в Лондон к своим занятиям, когда моя девочка здесь чуть не умерла, а меня рядом не было? Как смириться с тем, что Уилл так меня ненавидит? Поверьте, я не воскрес, так сказать, а именно стал ходячим покойником. Мне нравится запах ваших гренков, но я чувствую его не наяву, а по памяти. Понимаете? Я не понимаю, понятно ли вам. Мне кажется, человечество в большинстве своем ходит по хрупкой кровле над бездной, и каждый знает, что она зияет по нему, – почти у каждого есть за душой что-то такое, что он предпочитает скрывать от собственного сознания – не решается направить мысль в эту сторону… Вот и я такой же…
– Вы не такой, раз об этом говорите. Раз замечаете это в других. Раз к этому присматриваетесь, работаете с этим, не уходите в сторону, не отворачиваетесь. Своим подопечным в Лондоне вы нужны. Таких, как вы, вокруг немного. Вас одного на всех и на всё не хватит.
Каждое утро обитателей замка Ла Тур Брюйар будили упоительные звуки свирелей и колокольцев и чистые детские голоса. Госпожа Пиония составила из детишек хор, и они самозабвенно распевали в коридорах и во дворе замка свои обады[23]. Петь они старались негромко, сладостно, поэтому звуки эти не раздражали, а ласкали слух, отчего разбуженные ими лишь поворачивали голову на подушке, чтобы лучше слышать. Затем все общество трапезовало в Большом зале, к столу подавался хлеб, только что испеченный в поместительных печах, а к нему мед, и желе из смородины, и плошечки с топлеными сливками, и кувшины пенистого молока – коровы паслись на травянистых склонах ниже замка. Госпожа Розария, которая что ни день открывала для себя все новые уголки их отрезанных от мира владений, обнаружила коровник, где этих грузных добродушных животных доили, и молочный двор, где молоко процеживали, снимали и сбивали сливки, пахтали масло. Она попала туда случайно, через сырой, пахнущий плесенью проход, который посчитала кратчайшим путем в отхожее место, и, очутившись там, чуть не зарыдала от восхищения. Это было красивое прохладное помещение, где все вокруг блестело и царил совершенный порядок; пол был вымощен керамическими плитками, стены и прочие поверхности выложены изразцами разных цветов и рисунков: темно-зеленые и густо-прегусто лазурные с россыпями незабудок, с изображениями синих молочниц на белой глазури, ветряных мельниц, флюгеров и прочих бесхитростных существ и предметов из деревенского обихода. Дородная молодая женщина литыми, румяными, голыми до плеч руками пахтала масло, другая переливала молоко: сладкая теплая влага пенистым потоком бежала в большую глиняную крынку. Млея от восторга, госпожа Розария обошла все это тихое помещение, прикасалась к прохладным поверхностям, розовым пальчиком отколупывала на пробу сыр и наконец по вымощенному камнем коридору прошла в коровник, где молодой человек и молодая женщина доили двух золотисто-палевых коров, а в воздухе был разлит запах сена, душок мочевины и животных испарений – дух такой же незабываемый, как благоухание розового сада. Она завороженно наблюдала, как десять пальцев разминают, оглаживают, сдавливают, щекочут коровье вымя, а оно чуть подрагивает и податливо сжимается под пальцами, соски напрягаются и выпускают в ведро шипящую белую струю. Молодой доильщик касался лицом щетинистого брюха коровы, и на лице и на брюхе блестели бисерные капли пота.
Более восхитительного зрелища не придумаешь – госпожа Розария так и сказала Кюльверу, когда утром он, по обыкновению, заглянул в ее розовый будуар побеседовать о делах грядущего дня. Она спросила, кто эти милые обитатели молочного двора и коровника, и Кюльвер отвечал: молочницы и скотник, они там хозяева. У госпожи Розарии не шли из головы цедильные сита и бруски масла, а может, вспоминался ей и теплый, душистый бок коровы, поэтому она объявила, что хочет научиться этому ремеслу, – разве не пожелал он, чтобы у них не было ни слуг, ни хозяев? Значит, в идеале и молочниц со скотниками быть не должно.
Именно так, согласился Кюльвер, он, как никто, понимает насущную необходимость осуществить этот замысел до конца. С самого приезда он сочиняет Манифест, который будет предложен для общего обсуждения, – о том, как лучше распределять труд в новых общественных и хозяйственных условиях. Оказывается, продолжал он, рассеянно запустив руку в привычное место, ложбину между пышных грудей Розарии, и искусно поигрывая правым ее соском, – оказывается, для правильного разделения труда потребуется разрешить множество других вопросов: как поставить образование, чтобы оно приносило достойные плоды, какую завести одежду, как переменить повседневную речь. От всех этих мыслей голова идет кругом, признался он и, оставив в покое напрягшийся правый сосок, принялся ласкать левый. Госпожа Розария туманным взглядом посмотрела в окно, встрепенулась от удовольствия и повторила, что хочет работать на молочном дворе, очень ей это по душе. С отрешенным видом опустилась она на колени и, чувствуя, как Кюльвер твердой рукой раздвигает ей влажные ляжки, заметила, что обсудить разделение труда со всем обществом надлежит еще прежде, чем Кюльвер допишет свой ученый Манифест. Иначе, добавила она волокнистым, трепещущим от наслаждения голосом, ибо Кюльвер разверз ей нижние уста, – иначе подумают, что он мнит себя владыкой и законодателем, а не одним из членов общества, основанного на свободе и равенстве, как было меж ними договорено, – и слово «договорено» перетекло в протяжный, нечленораздельный стон упоения.
Кюльвер произнес речь перед обществом в помещении, которое он называл Театр Языков, а иногда – реже – Театр Совета. В замке, как мы увидим, имелись и другие театры: Театр Пантомимы, например, Театр Жестокости. Театр Языков был прежде капеллой, как и некоторые другие театры – к примеру, Театр Жертвоприношений. В Башне были, конечно, еще капеллы, но одни стояли без употребления, другие сделались просто кельями затворников, третьи приспособлены под гардеробные, винохранилища, палаты, где души и тела подвергались тщательному рассмотрению. Сколько ни пересчитывали эти капеллы и часовни, итог всегда выходил немного другой – ну да при подсчете прочих помещений замка расхождения оказывались еще больше.
Название «Театр Языков» отчасти объяснялось тем, что под сумрачными сводами этого зала сохранился старинный фриз с языками пламени, из коих одни, клокоча, словно погребальный костер, устремлялись вверх, другие, похожие на зубцы короны, устремлялись вниз. Стены крошились, фреска осыпалась. Кое-кто полагал, что языки пламени – часть росписи капеллы, изображающей геенну огненную, и о справедливости этой догадки говорила фигура черного как смоль беса над южным входом: бес размахивал восемью руками, в каждой он держал плачущего навзрыд младенца и скалил белые клыки, словно вот-вот пожрет их. Другие же думали, что огненные языки – остатки картины нисхождения Святого Духа в день Пятидесятницы, и указывали на расположенные ниже едва различимые жердеобразные фигуры – возможно, собравшихся в иерусалимской горнице апостолов. Ссылались они и на своего рода зримые доказательства: ниже тянулся выцветший орнамент из епископских митр.
Театр Языков тускло освещался двумя готическими окнами в двух противоположных стенах, но вместо алтаря была сооружена сцена с темно-синим, как ночное небо, занавесом, усыпанным золотыми звездами, и со всякими приспособлениями, чтобы поднимать и опускать декорации: постаменты, престолы, оштукатуренные стены и прочие нужные для представления сценические принадлежности. В зале рядами стояли резные скамьи с высокими спинками – почти как в церкви. Скамьи не то чтобы неудобные, однако зрители волей-неволей сидели прямо, как присяжные в суде.
Кюльвер появился из глубины сцены. Держался он скромно и одновременно бодро – эту манеру он хорошо усвоил. Одет он был щеголевато: зеленые панталоны, белые чулки, простой, но затейливо повязанный шейный платок, блестящие волосы зачесаны назад. Речь его продолжалась часа полтора, говорил он уверенно, умно и страстно, время от времени, если его суждения оказывались слишком замысловаты, читал выдержки из еще не законченного Манифеста. Для удобства нынешних читателей перечислим главное из того, что говорилось. Истинно любопытствующие могут познакомиться с его учением о страстях и влечениях в Приложении А2 к нашему труду, где оно изложено доскональнейшим образом, – хотя, надобно заметить, когда эти мысли впервые прозвучали в Театре Языков, они еще только-только начинали приобретать словесное воплощение и нисколько еще не обладали ни блистательной многосторонней огранкой, ни прихотливо стройной согласованностью, в которой перекликались тонкие наблюдения психологического и политического свойства. В сущности, в ту пору гений Кюльвера лишь безотчетно устремлялся к уразумению того, что если вожделения всех людей, слившиеся воедино, вместе с общей волей образуют Единое Существо, движимое лишь заботами о самосохранении и наслаждениях, то можно создать общество, где душевное и телесное неразделимы. Для уразумения этого ему предстояло тщательно исследовать и разграничить разновидности взаимоприкосновенных страстей человеческих больших и малых, постичь, какими способами они дают себе выход, подобно тому как цветы источают аромат и испускают пыльцу – способами такими же естественными, как дыхание или кровоток.
Вот перечень важнейших предметов, о которых говорил в своей речи Кюльвер. Слушая его, госпожа Розария, да и не одна она, упоенно любовалась решительными складками возле его подвижной верхней губы, наблюдала, как бьется жилка на белой его шее, как играют под глянцевитой тканью ягодицы, замечала – не в последнюю очередь, – как, возбуждаемый ораторским пылом, под атласной оболочкой твердеет и вспучивается мужской его уд. Госпоже Розарии до смерти хотелось коснуться его, выпустить на волю, и она отводила душу в бешеных рукоплесканиях.
1. Задуманному обществу надлежит стремиться к совершенной свободе для всех и каждого, дабы всякий его сочлен имел возможность жить, проявляя свои душевные свойства в полной мере.
2. Для этого надлежит упразднить ложные различия, принятые в растленном мире, из коего они бежали. Не будет меж ними ни хозяев, ни слуг, ни жалованья, ни долгов, и какую работу исполнять, каким утехам предаваться, как делить их по справедливости, все это будет решаться сообща, и так же будет назначаться вознаграждение из общих запасов имущества и талантов. Упразднить надлежит не только привилегии, но и профессии: пусть каждый берется за то дело, которое ему по душе, ибо лишь желанный труд приносит добрые плоды, от труда же подневольного ничего доброго не бывает.
3. – По зрелом размышлении, – продолжал Кюльвер, – мы, вероятно, обнаружим, что многие зловредные различия и утеснения в нашем мире проистекают от установлений, на которые мы в мыслях посягать не дерзали. Многие из нас уже мысленно оспорили и отвергли религии наших праотцев и соотичей, ибо поняли, сколько зла принесли они, однако мы еще не вполне уяснили себе, как дурно сказались на наших устремлениях и наклонностях прочие противоестественные установления: брак, семья, главенство мужчин, деспотическое подчинение ученика учителю. Я льщусь надеждой показать, сколь пагубен – как для мужского естества, так и для женской чувствительности – обычай единоличного сожительства, я надеюсь доводами ума и сердца доказать, что дети, оставленные на попечение породившим их, сколь бы заботливыми и нежными те ни были, погрязнут в косности.
Вот о чем еще он рассуждал.
4. Как устроить, чтобы всем – мужчинам, женщинам, детям – поручались те занятия, которые им больше подходят, принимая в уважение обычаи семьи и возраст каждого.
5. Как придумать более нарядное и менее стесняющее платье, отбросив ложную стыдливость, в коей при новом порядке не будет нужды, и обойтись при этом без зловредного китового уса и шнуровок, разве что найдутся такие – Кюльвер считал, что найдутся, – кто получает от подобных утеснений телу удовольствие.
6. Как, в конце концов, преобразовать и переиначить речь, ибо многие виды наслаждений и человеческих отношений, предлагаемых Кюльвером, именований в ней не имеют, а те, что имеют, называются грубо и бранно, сохраняя в себе отзвук запретов и похотливых устремлений священников, деспотических отцов и педантов-наставников.
– Речь, – восклицал Кюльвер, и было видно, как во влажном его зеве трепещет горячий язык и блестят зубы, – речь есть порождение телесного начала, порождение первых наших привязанностей и желаний, от лепета младенца у материнской груди до бесстрастных речений ясновидцев, старающихся облечь в слова еще не имеющее именований! Мы переладим речь по своему образу и подобию! – восклицал Кюльвер. – Кто мы теперь, каковы наши занятия, каковы отношения друг с другом и с миром – все это станем мы обозначать поцелуями и причмокиваниями.
7. Он предложил также, чтобы все общество время от времени по принятому с общего согласия распорядку имело участие в различных театральных представлениях. Тут будут и танцы, и пантомима, и музыка, и диспуты, и хоры, и акробаты, и жонглеры…
– И шпагоглотатели, и огнеглотатели, – перебил кто-то из задних рядов.
– Будут и они, если меж нас найдутся особы, имеющие чувственное расположение к холодной стали, или охотники опалять себе глотку… Станем мы давать и драматические представления, как старые пьесы о старом, о честолюбивых помыслах королей и полководцев и стенаниях несчастных однолюбов, так и новые о новом общественном устройстве, новых знакомствах, новых желаниях, новых способах уладить новые несогласия. После таких представлений будут обсуждаться их смысл, и важность, и достоинства, и изъяны, а диспуты эти задором и страстностью не уступят самим представлениям… Еще предлагаю я рассказывать друг другу разные истории. Многие из вас полагают, что занятие это годится лишь для детей и дикарей, но отвечу, что с таких рассказов и начинается общение человеческое: из всех животных лишь мы способны глядеть вперед и вспять и, обращаясь к делам и мудрости прошлого, предвидеть будущее. Я предлагаю, чтобы всякий из нас в свой черед рассказал правдивую историю своей жизни с той, кроме прочего, целью, чтобы меж всеми нами появилось понимание и укрепилось дружество, притом чем глубже мы вникнем в историю, тем лучше уразумеем, каким образом переплетены те страсти, те желания, которые управляют нашими судьбами. Когда же таким порядком эти страсти и желания сделаются известны, легче будет понять, как употребить эту силу для общего блага и общих наслаждений. Когда же рассказчики изощрятся и станут искреннее, а слушатели поднатореют в искусстве спрашивать и выпытывать, а истории будут становиться правдивее и правдивее, тогда все, что рассказчик утаивал, чего стыдился, его желания, в недоброе старое время жестоко подавляемые, выйдут наружу, на свет, ясный свет разума, теплый, приветный свет дружества. Притом я убежден, что таимое под спудом заражает гнилью и тело и разум ко вреду человека и всего общества. Гнойники на коже излечиваются солнечным светом, нарывы и язвы в душе – участливым созерцанием… Возможно, со временем мы станем разыгрывать эти истории в лицах, изменяя их так, чтобы они обретали благотворные и целительные свойства, возвращая утраченное, позволяя отчаянным желаниям исполняться, – как знать? Я смею надеяться, что эти рассказы сделаются существеннейшим нашим занятием, с позволения сказать, священнодействием… Но это всего лишь замыслы, замыслы всего лишь мои. Теперь надлежит нам вместе неспешно и обстоятельно размыслить о дальнейшем, а также быстро и умело разобраться с делами насущными.
Не только госпожа Розария, но и все собрание, даже дети и несмышленые младенцы встретили эту речь неистовыми рукоплесканиями. Побуждаемые жаром восторга и желанием соучаствовать, люди стали задавать вопросы. Так, Турдус Кантор спросил, не будут ли рассказы о собственной жизни – занятие, по его суждению, поучительное и увлекательное – сходствовать с принятым у старой церкви обычаем исповедоваться и не станут ли бессовестные люди, как бывало в исповедальнях, подчинив себе волю слабых, внушать им покорность и страх. На это Кюльвер отвечал, что такое было возможно лишь при тайных исповедях, но не в задуманных им собраниях благожелателей, где будут царить искренность, любовь и дружеское участие.
Госпожа Мавис, прижав к груди младенца Флориана, спросила, как скоро намеревается Кюльвер отдать детей на общественное попечение и не озаботиться ли прежде тем, чтобы самые младшие члены общества не остались бы без того, в чем имеют нужду, включая материнское молоко и ласковый материнский лепет? Ибо в рассуждении желаний она, как и всякая женщина, жаждет кормить, баюкать и тешить свое дитя. На это Кюльвер отвечал, что все будет решаться лишь после обстоятельного обсуждения, склонности же, о коих она объявила primo facie[24], говорят за то, что лучшее применение им найдется в какой-нибудь детской, – впрочем, и это сперва подлежит рассмотрению, ибо надо принимать в рассуждение и горячее желание самих детей, а равно и прочих кормилиц и нянек.
Что же до наивного мнения госпожи Мавис о природном чадолюбии всех женщин, оно опровергается примерами из истории. Достаточно вспомнить обычай просвещенных афинян избавляться от нежеланных младенцев, чаще всего женского пола, выставляя их в глиняных сосудах за городской стеной, или принятое у китайцев истребление нежеланных девочек, которых нежно удавливали или изводили наказаниями за всякую провинность.
Юная особа по имени Дора, состоящая камеристкой при знатной даме – или состоявшая до этой минуты, если это и правда была минута освобождения от оков, раскрепощения, началом затеянных Кюльвером перемен, – спросила сдобным и томным голосом, который госпожа Розария чуть не назвала наглым: какое употребление при новом порядке получит вкорененное в ее натуре страстное желание жить на господский манер, распивать чаи, нежиться на кушетке и амуриться с кавалерами? На этот легкомысленный вопрос Кюльвер с лучезарной невозмутимостью ответствовал, что отныне время от времени – когда именно, будет устанавливать общество во всей его целокупности – возможность нежиться на кушетке и попивать чай будет у всякого, кто пожелает: это удовольствие отнюдь не пустячное. Что же до амуров с кавалерами, готовность ублажать их и разделять с ними наслаждения сделаются правом и обязанностью всех женщин в Башне. Поскольку же без труда, доставляющего земные блага, обойтись невозможно и обществу нужно пропитание, членам его придется стряпать, пахать, сеять. Однако и те, кто не способен трудиться в поле и на кухне, должны найти, как приносить пользу обществу. При новом порядке, рассуждал Кюльвер, едва ли особе, задавшей вопрос, предложат ремесло шлюхи, ибо удовольствовать друг друга все будут по взаимному согласию и без вознаграждения, разве что кто-нибудь возымеет охоту покорыстоваться за свои старания: Кюльвер приметил, что иным попавшая в руки монета, имеющая хождение в их стране, или набитый деньгами чулок под кроватью доставляет большее наслаждение, чем сколь угодно многие объятия и соития, и он, Кюльвер, не вполне разобрался, истребится ли эта наклонность в совершенном новом мире или же останется на веки вечные. Последние слова Кюльвера, кажется, повергли юную особу в размышления: она наморщила прелестный лобик и задумчиво выпятила губки.
В наступившей тишине из темной глубины зала донесся мрачный голос полковника Грима:
– А кто нужники будет чистить?
Собрание безмолвствовало. Полковник Грим повторил, и вопрос его прозвучал веско и безыскусно:
– Так кто же будет чистить нужники? Вот что я вам скажу: прежние попытки создать совершенное общество или справедливое содружество часто препинались на этом самом пункте: это не безделица, а нужда немалая, да простится мне этот каламбуришко.
Никто не нашелся что ответить. Только Нарцисс предложил, чтобы работу эту исполняли все поочередности, каждый столько-то раз в год или в месяц, имея себе напарника. И добавил с любезной улыбкой, что сам он с радостью откупился бы от этой повинности, предложив взамен что угодно из остающегося в их распоряжении после установления нового порядка. Меркурий сказал, что лучше всего найти человека, имеющего страсть к хитроумным изобретениям, чтобы он придумал устройство, которое позволит сделать нужники самоуправляемыми, и они будут сами работать, сами опорожняться, сами очищаться. Турдус Кантор сказал: коль скоро было решено, что всякий станет выполнять ту работу, какая отвечает его страстным желаниям, обращая их на общее благо, стоит узнать, нет ли меж ними человека, имеющего страстное желание вычищать испражнения. Ему случалось видеть, как помешанные обитатели Бедлама с удовольствием играли оной материей, но, по его суждению, меж членами их общества бедламских помешанных еще не имеется. Кюльвер отвечал, что упомянутые особы, по всему вероятию, были заточены в Бедлам, потому что тамошнее общество порицало их природное влечение к навозу, в обществе же разумном такие люди, если доверить им чистку нужников, окажутся весьма полезны. Вновь воцарилось молчание, которое прервал двенадцатилетний Мариус: он предложил, чтобы чистить нужники заставляли в наказание, как в школах и военных лагерях, где ему случалось бывать. Госпожа Пиония изъявила надежду, что в новом мире, который они вознамерились построить, о наказаниях и помысла не будет, и разговор перешел от вопроса полковника Грима к вопросу о желательности или нежелательности наказаний. Этот глубокомысленный, увлекательный и утомительный спор продолжался несколько часов.
Когда он закончился, Турдус Кантор сказал Гриму:
– А твой вопрос остался без ответа.
– Да. И теперь дело повернется еще хуже: даже те, кто прежде нужники чистил, не согласятся этой работой заниматься.
– Что бы иным нашим вождям не показать пример – не встать во главе первой когорты дерьмовщиков?
– Не такого пошиба он человек. Ну, наладить дерьмовщицкое дело ему, пожалуй, еще по плечу. Не это приблизит его падение.
– Легко ли найти готовых по доброй воле взяться за такую работу?
– Всякого можно вынудить по доброй воле пойти против своей натуры.
– Сдается мне, Грим, не слишком истово веришь ты в успех нашего дела.
– Я этого не говорю. Скажу так: я уже немолод, и если делу суждено завершиться успехом, он придет так нескоро, что я не доживу. Если же его с самого начала постигнет неудача, я буду рядом и приду на помощь. Кое в чем я опора надежная.
Тем же вечером к Кюльверу пришел Дамиан, его камердинер – или бывший прежде его камердинером. Он, как повелось, негромко и почтительно постучал в дверь, и Кюльвер, как повелось, небрежно произнес: «Входи», откинулся на кушетке и вытянул ноги в сапогах. Теперь Дамиану надлежало – или надлежало бы прежде, – с заботливым видом опустившись перед господином на колени, разуть его и унести сапоги, сунув длинные руки в теплые голенища, бережно натянуть упругую кожу на высокие колодки, а потом вернуться и облачить ноги хозяина в бархатные туфли, расшитые узорами. За годы бытования этого короткого обряда слуга и господин уснастили его множеством ласковых забав. Бывало, к примеру, Дамиан проводил губами по влажным шелковым чулкам хозяина, не пропуская ни дюйма, сперва на одной ноге, потом на другой. Бывало, он осторожно стаскивал чулки и целовал точеные голые ноги Кюльвера, запуская язык в каждую ложбинку между пальцами, а Кюльвер лежал, раскинувшись на подушках, и на чувственных губах его вольно или невольно какие только улыбки не играли. Дамиан был крепкого сложения, ростом пониже Кюльвера и, судя по всему, несколькими годами старше. Волосы его, черные и очень прямые, были подстрижены так, что прическа напоминала шлем; большие, глубоко посаженные глаза смотрели печально; усы, пышные, но ухоженные, доставляли ногам Кюльвера неизъяснимое наслаждение – и не только ногам. Бывало, Дамиан переносил свои попечения на колени и ляжки хозяина, а порой благоговейно распускал ему панталоны и ласкал языком открывшийся взору великолепный жезл. Нос его, Дамиана, был прямой и тонкий, и от его прикосновений в паху у Кюльвера и в мягком мешочке, заключавшем яички, разливался особый трепет и дрожь. Эти забавы проходили обычно без слов, Дамиан тонко чувствовал, как далеко ему позволено зайти и в рассуждении хозяйского тела, где самым священным и реже всего даруемым сокровищем были наливные уста, и в рассуждении силы, какую он вкладывал в свои ласки или даже посягательства. В иные дни этот обряд завершался тем, что хозяин лежал, раскинувшись среди подушек, а слуга, распахнувшись, обрушивался на него всем своим жилистым телом, так что кожа приникала к коже. Если в продолжение этих игр Дамиан причинял хозяину слишком сильную или слишком слабую боль, тот ударом ноги сбивал его наземь, а сила у него была немалая. Однажды коротким, метким ударом точеной белой ноги он переломил Дамиану ключицу.
В тот вечер Дамиан шагнул в комнату и растерянно остановился в дверях, руки его висели как плети.
– Входи, входи, – произнес Кюльвер вполне дружелюбно.
– Я не знаю, что мне делать надлежит, – признался Дамиан.
Кюльвер откинулся на подушки. В свете ночника под золотисто-розовым колпаком венецианского стекла, стоящего на полке над кушеткой, лицо его было особенно прекрасно. С минуту подумав, он угадал мысли Дамиана и ласково сказал:
– Теперь, конечно, делай что пожелаешь. Что доставит тебе удовольствие.
И прибавил с неизменно любезной улыбкой, покачивая свесившейся с кушетки ногой:
– Тебе, верно, хочется побыть на моем месте. Когда мы предавались этой забаве – когда ты заступал место хозяина, а я твоего раба, – тебе, верно, это нравилось. Разве в этой роли я не удовольствовал тебя вполне? Что бы нам не поиграть в эту игру и нынче?
Дамиан все стоял в сумраке у двери, вялый и понурый.
– С этой игрой покончено навсегда. Вам ли не понимать? Больше нам в нее не играть, монсеньор, – разве что после вашей речи в Театре Языков мне следует обращаться к вам «друг мой».
– В речи этой я говорил еще, что каждый должен заниматься тем, что доставляет ему наслаждение. Нам всем надлежит уяснить себе свои искусно скрываемые наклонности к тому, что сделается для нас высочайшим наслаждением, и предаваться тому, чего мы желаем. Сдается мне, Дамиан, забавы наши были тебе по вкусу. Твоя испарина отдавала восторгом, семя твое било в эти подушки радостно. Что бы и дальше так? Подойди, ложись, а я стащу с тебя сапоги, спущу панталоны, стану лизать тебе ноги, дуть в твои лобковые кущи.
– Вы, я вижу, не понимаете, – твердо произнес Дамиан. – Я наслаждался тем, что тело мое, как и жизнь, в вашей власти, мысли же были свободны. Удовольствовать вас телесно, как и выполнять другие обязанности: готовить шейные платки, подавать вино и лакомства, приносить расторопно бичи и сигарки, – это ради хлеба насущного. Если я и орошал ваше тело и подушки семенем, то лишь потому, что в мыслях, словно похотливый султан, любовался, как вы корчитесь, связанный так, что голова приникла к лодыжкам, а путы раздирают нежную плоть, а черная рабыня бичует вас хлыстом из бычьего члена. Я возбуждал в себе похоть видом воображаемых ручьев воображаемой крови, и лишь так, сударь, друг мой, мог я исполнить свою обязанность. От которой теперь избавлен.
Кюльвер сел на кушетке, и словно бы тучи пробежали по его челу цвета слоновой кости.
– Что ж, – сказал он неуверенно, – вот и занятие. Черных рабынь и бычьих хлыстов обещать, увы, не могу, но веревок у нас в изобилии: хочешь исполнить свое желание – свяжи меня и можешь причинить мне боль.
– Вы всё не понимаете, – отвечал Дамиан. – То было желание человека бесправного, невольника, слуги при своем господине. То было желание человека, скрывающего желания: он им не хозяин, исполнить не может. Теперь же я человек свободный – по вашим то есть словам – и должен уразуметь желания свободного человека. И вам, похоже, в этих желаниях места нет: я мечтаю лежать в объятиях госпожи Розарии и слушать, как она милым голосом твердит: «Любовь моя, душа моя, родной» и прочие нежные слова, какие мне и не снились, а прелестные ее пальцы касаются меня трепетно, бережно, ласково. Но может, это дело несбыточное: как знать, возжелает ли она меня, раба или свободного. Безответная страсть, сударь, друг мой, способна лишить покоя так же, как забота о нужниках при новом укладе.
Тогда-то и забрезжил у Кюльвера замысел, по причине которого обитателям Ла Тур Брюйара суждено было испытать столько удовольствий и пережить столько бедствий. Ему вспало на ум, что эти затруднения – досадная утрата возможности предаваться утехам с Дамианом, страсть Дамиана к госпоже Розарии и его сомнения, ответит ли та взаимностью, – затруднения эти устранятся, если призвать на помощь Искусство, Повествование, Театр, все то, что он бегло очертил ближе к началу этого долгого дня. Ибо если человеческие свойства и обязанности у всякого в их обществе перестали быть неизменными и человеку приходится искать себя в новом потоке жизни, то не лучшее ли средство к самопознанию – средство наивернейшее – на глазах у всех, для общего блага разыграть свое прошлое, свое будущее, свое примечтавшееся? В таком театре госпожа Розария без боязни сможет испытать или изобразить страсть к Дамиану, которая дремала бы или таилась, если бы он домогался ее у дверей ее будуара лишь себе на потребу.
Но Кюльвер не был готов посвятить Дамиана в новый замысел всеобщего облагодетельствования и вместо этого лишь произнес:
– Поскольку теперь я имею нужду избыть тяготы душевные и телесные, придумаем же вместе, как нам друг друга разудовольствовать в равной мере и степени, а после расстанемся и крепко уснем. Уляжемся тут, на ковре, лицом к лицу, удом к уду, и каждый будет делать то, что, как в зеркале, повторяет поступки другого. Лобзание за лобзание, ласка за ласку, и так, пока не насладимся вдосталь, – этим ли не покажем, что сделалось равенство и уважение меж нами, даже если после мы выберем другой образ действий? Что ты на это скажешь?
– Скажу, – отозвался Дамиан, – что придумано ловко: я согласен на это, имея в мыслях наслаждаться в ваших объятиях честно и непритворно.
И они скинули одежды и возлегли уста к устам, удом к уду, робея, подобно невинным отрокам, и Дамиан приник к заповедным устам в долгом, крепком поцелуе, и уста эти, сперва отпрянув, сладостно открылись и вернули поцелуй полной мерой. Так они и продолжали, поначалу неумело, но по договору на всякую ласку отвечать равной, одушевление росло и росло. И Кюльвер убеждался: славное, своеобычное начало получило содружество, надо и дальше так.
III
Здравствуй, Фредерика.
Ты хотела, чтобы я тебе написал, – вот пишу. Странная у нас получилась встреча в лесу: ты вся прямо как существо из другого мира, другого времени, а тут еще твой красавец-малыш. Я был потрясен: ведь я про него даже не слышал, и мне стало ясно, как мы друг от друга отдалились – а жаль. Ты, наверно, никогда и не догадывалась, как много для меня значишь, а я, когда увидел тебя в лесу, только тогда и понял, как мне не хватает твоего безотказного ума и понимания – я знаю, оно у тебя было, – почему чтение и литературный труд – это важно. Тогда нам казалось, мы все это понимаем, вот мы и жили вне реальности, как отшельники, как в раю: наше предназначение – изучать поэзию. Похоже, останься мы там подольше, так бы и продолжалось, как получилось у Рафаэля, но мне лично было бы не по себе, даже если бы в академическом смысле я чего-то стоил – а я не стою. Провести остаток жизни в стенах какого-нибудь колледжа – как душа Теннисона в башне «Дворца Искусства»[25], – да я бы усомнился в своей реальности, хотя с определенной, вполне резонной интеллектуальной позиции такие сомнения – бред. Живет же Рафаэль сложной, богатой, многогранной, напряженной жизнью, и она не менее реальна, чем жизнь и смерть его родных в Аушвице, – хотя я прекрасно вижу, как та реальность иссушает его жизнь. Расскажу-ка я о реальности, которую смастерил для себя – в том числе из обрывков нереального: надеюсь, ты ответишь.
Главное, чем занимаюсь, – сочиняю стихи. Говорю сразу, потому что частенько несколько дней, а то и недель до стихов руки не доходят: много времени отнимают преподавание и рецензирование для «Какаду-пресс», так что объявлять себя поэтом как-то не с руки, даже настроение портится. Иной раз при знакомстве представляешься: «Я поэт», а после об этом не заговариваешь, добавляешь: «Временно преподаю» или «По совместительству работаю в издательстве». Написал пару вещей, которые самому понравились, но понимаю, что своего голоса еще не нашел, и это меня удручает: для поэта я не так уж и молод. Если соберусь с духом, пошлю стихотворение о гранате, которое сочинял, когда мы встретились: ты удивишься, когда увидишь, что эти образы навеяны вашими тисами, – а что, ягоды тиса немного смахивают на маленькие гранаты, вот только вставить это в стихи не получилось. Всякое стихотворение тащит за собой образы, которые к нему относятся, но в него не встроились. На свете все взаимосвязано, хоть ты и рассвирепела, когда я отозвался о твоей личной жизни: «Только соединить».
Преподаю я днем с понедельника по четверг. Разница между разными школами колоссальная. То любознательные шестиклассники[26], штудирующие «Зимнюю сказку» и «Гамлета», то детишки тринадцати-четырнадцати лет с убогим словарным запасом, которые не могут ни минуты посидеть спокойно и помолчать: этих я побаиваюсь. Как-то раз меня пырнули под ребра ножницами, а однажды я пару недель ходил с заплывшим глазом: заехали уголком переплета Библии. Снова погрузился в школьную обстановку, которая мне никогда не нравилась (мягко выражаясь): есть в ней что-то жуткое, и дело даже не в насилии, тупости и духе мещанства, – она, можно сказать, вполне «реальна». У школ своя реальность, обособленная, как в башне из слоновой кости, со своими правилами, своим языком, совсем как в колледжах Кембриджа. Я, пожалуй, легко отделался: с самого начала не надеялся, что эта работа будет приносить радость и удовлетворение, а вот коллеги, которые были одержимы высокой миссией приобщать лондонских подростков к творчеству Д. Г. Лоуренса и Гарди, неизбежно ломают себе шею. Один коллега на досуге часами составлял антологию для группы школьниц на тему «Огонь» – так вот: его класс подожгли, и горел он под злорадный ведьминский визг. Идеализм в учительской среде не редкость, но в действительности, по-моему, торжествует положение вещей, изображенное в «Повелителе мух»: оказывается, большинство учеников в школах, где мне разрешили включить эту книгу в программу, думают так же. Надеюсь, я не пострадаю от собственного увлечения, как мой коллега-огнелюб, и мою голову не водрузят на шест на детской площадке в качестве жертвы.
Попадаются и необычные ученики: в средней школе, где я сейчас преподаю, есть парнишка по имени Борис, у него абсолютный слух на поэтическую речь, он смакует даже случайные метрические повороты в «Гамлете», я на него не нарадуюсь, но привязываться душой к таким, как он, не хочу: тогда я буду «учителем», а я не учитель. Я учу понимать книги, учу ради этих книг, знала бы ты, Фредерика, что я за годы преподавания в Степни, Тутинг-Би, Мордене открыл для себя в «Гамлете»: даже ты поразилась бы. Если я как учитель чего-нибудь стою, то лишь потому, что книги мне дороже учеников, и кое-кто из детишек за это меня уважает. Притом я умею их приструнить, это, наверно, врожденное, кому-то дано, кому-то нет, так что иногда они все-таки мои объяснения слушают. Наверно, понимают, что я их не люблю, и мне дела нет до их мнения обо мне. Я думал, держать их в строгости мне не удастся, но ошибся. Цыкнешь: «Тихо!» – иногда и правда замолкают, и мне это нравится. Кто бы мог подумать!
Еще полтора дня работаю на Руперта Жако. «Какаду-пресс» – ответвление «Бауэрс энд Иден», выпускает книги для интеллектуальной публики, предприятие убыточное. Руперт печатает все, что считает стóящим: стихи, высокохудожественные романы, даже эссе. Спит и видит завести под маркой «Какаду» ежемесячный журнал, и, если получится, у меня есть слабая надежда стать его первым редактором. Но старый Гимсон Бауэрс желанием не горит, он прибрал к рукам самое прибыльное – учебники, религиозную литературу – и хорошо зарабатывает на издании занятного богословского трактата «В Боге без Бога», который вдруг всем понадобился. «Какаду-пресс» располагается в Ковент-Гардене, в тупике Элдерфлауэр-Корт: две запущенные комнаты, шаткая лестница, подвал, набитый упаковочными материалами. Мне там нравится. Чудовищно бездарные вирши, которые как рецензент отвергаю, – и те нравятся: по ним видно, насколько поэзия нужна людям, даже таким, у которых нет слуха, лексикон нищенский, которые и двух мыслей друг с другом не могут сплести. Если школьники спрашивают: «Да на кой она нужна?» – я рассказываю, как человек берется за перо, когда у него рождается ребенок, умирает бабушка, когда видит, как лесом проходит ветер.
Опишу-ка я Жако. Кудрявый, упитанный, роста среднего, учился в частной школе. Ему лет под сорок или слегка за сорок. Носит жилетки – шерстяные или из чего-то вроде жаккарда, красные и желто-горчичные. Милые поджатые губки, очень писклявый голос, многие считают его человеком недалеким – срабатывает стереотип, – но это заблуждение. Он очень умен, без труда отличит сокола от цапли[27] и делает хорошее дело. Мои стихи ему нравятся, но с оговорками, которые я принимаю и уважаю. Вряд ли по этому описанию ты составишь о нем верное представление, но это для начала: приезжай и познакомишься с ним лично.
Заканчиваю это длинное письмо и опять принимаюсь проверять школьные сочинения о «Рынке гоблинов»[28]. Недавно виделся с Аланом и Тони, рассказал о нашей встрече, они обрадовались, сказали, что по тебе скучают, надеются, что скоро повидаемся. Какими же мы тогда были зелеными юнцами и как наша братия была в тебя влюблена, кто по уши, кто наполовину! Но это было тогда, теперь, кажется, мы взрослее и мудрее.
Если соберусь с духом, пошлю тебе стихотворение про гранат. Удастся пристроить – посвящу тебе. Я иногда задумываюсь: уместно ли в наше время сочинять стихи о греческих мифах – разве они не отжили свое, разве сегодня нам не следует размышлять о другом? Но школа, клочки повседневности, на мой взгляд и вкус, такие же избитые, отмирающие темы для стихов, как Деметра с Персефоной. Их власть, Фредерика, была долговечнее закона об образовании 1944 года и возни каноника Холли со своим божно-безбожным Богом. Говорю, а сам не понимаю. Герои мифов не воспринимаются как мертвечина, хотя мое стихотворение – говорю и понимаю – оно о смерти и в этом смысле. Ты увидишь, что по-настоящему оно не закончено, потому что не понимаю, зачем сочинялось. Пойму – расскажу. Ну, раз я тебя нашел, жду ответа.
Нежно-пренежно любящий тебя
Хью
Гранат
Пиппи Маммотт отдает это письмо Фредерике во время завтрака. Семья сидит за столом, из окна открывается вид на газон, за ним ров с водой, поля, лес. Лео ест яйцо всмятку, макая в него хлебные палочки. Оливия и Розалинда едят яичницу с ветчиной и свежие грибы – едят и похваливают. Найджел берет кастрюльку с электрической плитки – она стоит неподалеку на сервировочной тумбе – и кладет себе еще грибов, и тут Пиппи Маммотт приносит почту. Оставляет письма возле тарелки Найджела, два передает Розалинде и Оливии, одно Фредерике. Затем возвращается к своей овсянке.
Письмо пухлое, Фредерика не сразу узнает почерк, понимает только, что он хорошо ей знаком. Потом, разобравшись, кладет сложенный лист со стихами рядом с тарелкой, думает и все письмо почитать после, когда останется одна. Но тут она ловит на себе взгляды – взгляд Пиппи, взгляд Оливии, – разворачивает письмо и читает, украдкой улыбаясь. Вернувшийся с грибами Найджел замечает эту улыбку:
– Ишь длинное какое. Кто пишет?
– Старый приятель. – Фредерика не отрывается от письма.
Найджел берет чистый хлебный нож и вскрывает свои письма: надорвет конверт, разрежет, надорвет другой.
– Из кембриджских?
– Да.
– И что, хороший приятель? Друг?
– Да-да, не мешай, Найджел.
– Забористое, видно, письмо. Чего ухмыляешься?
– Я не ухмыляюсь. Там про преподавание в лондонских школах. Читай вон свои.
Найджел встает и снова идет к сервировочной тумбе.
– Грибочки из серии «Хочу еще», – замечает Оливия.
Но Найджелу зубы не заговоришь.
– Если там какая-то шутка, поделилась бы.
– Никаких шуток. Дай дочитать.
– Небось любовное послание, – вкрадчиво произносит Найджел, заглядывая через плечо Фредерики. – Что это ты отложила?
– Тебя это не касается.
Найджел берет сложенный листок.
– Стихи это. К тебе отношения не имеют.
– Вот и молодой человек, который у нас пил чай, пишет стихи, – невинно вставляет Розалинда.
– Молодой человек, который пришел аж из Лондона, чтобы заблудиться у нас в Старом лесу… Жаль, меня не было, не познакомились. Нет, правда, жаль… И что он пишет после того, как тебя нашел, а, Фредерика?
Он наклоняется и выхватывает письмо. Движется быстро, без промаха. Фредерика не успевает стиснуть письмо покрепче, как оно ускользает из ее рук. Он, подпрыгивая, как фехтовальщик, перебегает на другую сторону стола, где его не достать. Держит письмо перед глазами.
– «Здравствуй, Фредерика. Ты хотела, чтобы я тебе написал, – вот пишу. Странная у нас получилась встреча в лесу: ты вся прямо как существо из другого мира, другого времени, а тут еще твой красавец-малыш…»
Он читает писклявым, детским голоском.
– И т. д. и т. п… Ага, вот: «Ты, наверно, никогда и не догадывалась, как много для меня значишь, а я, когда увидел тебя в лесу, только тогда и понял, как мне не хватает твоего безотказного ума…» И пошел, и пошел.
– Ведите себя прилично, Найджел, – произносит Пиппи Маммотт. Судя по голосу, она сама не ждет, что ее услышат или послушают.
– Отдай, – требует Фредерика.
Найджел вычитывает отдельные фразы, слегка подделываясь под тон недоумка. Все молчат, и скоро он сдается и, насупившись, дочитывает про себя. Потом берет стихотворение и снова ерничает:
– «На кресле из сребра она сидит, перебирая вяло розовыми пальцами, как будто бы за пяльцами».
Даже разъяренная Фредерика отмечает, что, несмотря на нарочито шутовской тон, ритм он все-таки воспроизводит правильно.
– Что за белиберда? – недоумевает Найджел. – Почему там прямо не сказано, про что это?
– Сказано.
Он читает еще несколько строк, машинально соблюдая ритмический рисунок, и замолкает.
– Дай сюда письмо и стихи.
Он никак не сообразит, что сказать, что сделать, и только озирается, нахохлившись и сверкая глазами. Возможно, он и вернул бы, но Фредерика опрометчиво добавляет:
– У нас присваивать чужие личные бумаги считалось непростительным.
– Ты не у вас. Ты у нас. И у нас мне не нравится, что ты получаешь письма от слюнявых стихоплетов, что замужняя женщина якшается с бывшими хахалями, – ты жена, у тебя сын растет.
– «Красавец-малыш», – задумчиво произносит Лео, и все вспоминают о его присутствии.
– Маленькие мальчики красавцами не бывают, золотко, – говорит Пиппи Маммотт. – Про них надо говорить «хорошенький» или «симпатичный».
– «Существо из другого мира, другого времени, а тут еще твой красавец-малыш», там так написано, – упрямо твердит Лео. – Как эльфы, наверно, или как хоббиты, он про них, наверно. Понимаешь, он нас увидел и удивился. Он хороший, он мне нравится.
Фредерика, готовая разбушеваться не хуже своего отца, оторопело смотрит во все глаза.
– Мне не нравится, что ты таким глупым голосом читаешь, не нравится, – продолжает Лео. – Это я его пить чай позвал. Я же говорю: он мне нравится.
– Да уж вижу, как он тебя обратал, – ворчит Найджел уже не так воинственно.
– Это я не понимаю, – Лео посматривает то на отца, то на мать, придумывая, как поступить, что сказать, чтобы отвести беду.
– Ладно, вот тебе твое письмо, – буркает Найджел. – Сочини стишки в ответ.
– Я писать стихи не умею.
Фредерика складывает оскверненное письмо и наблюдает, как Найджел поглощает грибы. Его черные-пречерные глаза под длинными черными ресницами устремлены на тарелку. «Нет, нет в мире глаз темней!» Ненавижу, твердит рассудок, ненавижу, ненавижу. Зачем я только здесь поселилась? Дура я была, дура, дура. Фредерика задумчиво жует кусочек хлеба и размышляет о Хью и Фредерике тогдашней, не нынешней. Прежняя мгновенно поняла бы, влечет ее к какому-то мужчине или нет, стерпит она его ласки или нет. Любит ли он те же стихи, что она, легко ли поделиться с ним своей печалью, удачей, идеей – это другое. Бывали такие, кто при случае мог стать близким, и те, кто не стал бы никогда. На миг она останавливается на этой мысли, сама ее не понимая. Хью Роуз ей нравился, чего там – она любила его, любила куда сильнее, чем Найджела, признается она себе с горечью, в смятении. Но когда Найджел яростно кромсает грибы, его тело пробуждает в ней желание, а Хью, встрече с которым она обрадовалась, – как старая любимая книга, потерянная и найденная. Радость без этого жуткого ощущения близости, без чувства, что он – для нее.
Найджел, чавкая, уплетает грибы.
После письма Хью Роуза супружеская жизнь Фредерики предстала в другом свете. Она привыкла к мысли, что ее супружество не задалось, и привыкла винить в этом себя. Приняла опрометчивое решение, не учла обстоятельства – эти и подобные мудрые сентенции звучат в ее сознании изо дня в день, мешаясь с невнятными стонами тоски и досады. Найджела в своих несчастьях она еще не винит, ее раздражают только его долгие отлучки и неспособность понять, что ей нужно, – а ей нужно заняться делом, каким – не вполне ясно, но делом. Да, она готова признать, что полюбила его за то, что он так на нее не похож, но не изменилась же она из-за этого. Она по-прежнему Фредерика. Да, она готова с ним объясниться, но разговор все не получается: с Найджелом не очень-то поговоришь. Она твердит себе, что ей давно надо было об этом догадаться. Бедной Фредерике так хочется самой отвечать за то, что выпало на ее долю. Люди придумали первородный грех потому, что иначе пришлось бы согласиться с гипотезой пострашнее. Лучше быть центром мироздания, чья слабость стала причиной всех бед, чем жертвой стихийных и часто враждебных сил. Мне плохо, потому что я не обдумала все как следует, твердит себе Фредерика. Сцена с письмом ее огорчила – не только потому, что Найджел впервые обошелся с ней грубо (не слушать, когда с тобой разговаривают, не всегда грубость), но и потому, что выглядел он нелепо. С каким глупым видом он читал письмо Хью Роуза жеманным детским голосом! Ей надо любить его, хотеть его, пусть даже его друзья, близкие, образ жизни ей неприятны. Пусть лучше будет загадочным и зловещим. Но не глупым.
Письмо Хью Роуза принесло и другие перемены. Письма на Фредерику так и сыпятся, и это под пристальным взглядом Найджела, который на этот раз задерживается дома дольше обычного. Письма непрошенные: сама она никому не писала и боится, как бы Найджел не заподозрил, что это ответы на ее отчаянные или нежные послания. Он смотрит, как она их читает. Больше не выхватывает, не спрашивает от кого. Она сама рассказывает. «Ты все с мужчинами дружбу водишь», – говорит он ей напрямик. А однажды:
– Как бы тебе понравилось, если бы у меня были только приятельницы?
– Я бы не возражала, – твердо отвечает Фредерика, но мысль о его отлучках будоражит воображение, и она понимает, что возражала бы. – Такой уж меня воспитали, – добавляет она, как бы извиняясь.
Найджел не отвечает.
Одно письмо – от Алана Мелвилла.
Дорогая Фредерика.
Хью Роуз передал, что ты хочешь получить от нас весточку, и рассказал, где ты сейчас обретаешься. Пили за твое здоровье в «Ягненке и стяге», Тони, Хью, я и еще один-два субъекта. Хью говорит, ты живешь в поместье, вокруг леса, поля. Как тебе там живется, не представляю, а хотелось бы – наверняка красиво: у тебя все получалось красиво. А собрание картин в доме имеется? Я думаю написать книгу о ранней венецианской живописи, а в коридорах наших поместий с их сизой северной хмурью таится множество удивительных лиц и ландшафтов из того вечно залитого золотистым сиянием мира. Пока я зарабатываю иначе: преподаванием, но не в обычной школе, как Хью, а в Художественном училище Сэмюэла Палмера в Ковент-Гардене. Читаю живописцам, гончарам, дизайнерам, ткачам историю искусства, хоть они и считают, что знакомство с Джотто и Тицианом им ни к чему: как бы оно не повредило их оригинальности – у них, разумеется, талант от Бога, даже у самых безнадежных подражателей. Тебе школа понравится, будет интересно.
Хью не мастер описывать людей и архитектуру. Всего-то и заметил что какие-то тисы, дребедень какую-то и какие-то чашки, но какая ты стала, что тебя окружает, это из его рассказа не поймешь. Ах да: он рассказал про твоего сынишку-красавца. Ты бы хоть прислала нам открытку с аистом или драже в серебристой корзинке. Я с поместной публикой ладить научился – навестить тебя?
Другое письмо – от Тони Уотсона, близкого друга Алана. В университетские годы они жили в одном номере, и Фредерика называла их «хамелеон» и «оборотень». Алан вырос в трущобах Глазго; бойкий, светловолосый, он был наделен каким-то внесословным шармом. Тони же, сын видного публициста марксистского толка, получивший образование в прогрессивном духе, отличался пролетарскими вкусами и замашками и в речи старательно подражал отчасти бирмингемскому диалекту, отчасти кокни. У Тони письмо получилось длиннее, чем у Алана, да и теплее, хотя по-человечески Алан ей ближе. С ним-то у нее завязалась настоящая дружба, размышляет Фредерика, дружба, которой чужды похотливые помыслы, непостоянство, желание подчинять. Фредерика не раз задумывалась: нет ли у Алана гомосексуальных наклонностей?
Здравствуй, Фредерика [пишет Тони].
Я так понимаю, тебя надо развлечь. У нас тут не соскучишься: предвыборная кампания – дым столбом, танцы до упада: твист, шейк, рок-н-ролл, тот вывихнул позвонок, этот ногу, прямо эпидемия. Я написал статью для «Стейтсмена» про клуб модов[30]: ты оценишь, как я разобрал тексты песен Таунсенда[31] в духе Ливиса[32], и мои итальянские брюки оценишь. Ах да, у тебя ведь с музыкой не очень, и потом, может, ты сама твистуешь почем зря в шикарных ночных клубах, так чего я буду рассказывать про музыкальные новинки? Жаль, что мы потеряли друг друга из вида.
А если серьезно, Фредерика, выборы – штука важная. Я вкалываю в Белсайз-Парке: раздаю листовки, хожу по домам агитатором. В воздухе разлито электричество – справедливости ради добавлю: и в лейбористской среде встречаются обширные заповедники плесени и тухлятины, какими отличаются провинциальные тори, среди которых ты очертя голову обосновалась. Буду иметь тебя в виду, когда понадобится поджигательница революции вести подпольную работу среди быков, маслобоек, конской упряжи и ослиного рева… Но-но, Уотсон, не зарывайтесь… В общем, я раздаю направо-налево обещания насчет Нового Мира и Новой Технологии: долой грязные скандалы из-за девочек по вызову и министров со спущенными штанами, долой мужчин в масках, фартучках с кружавчиками и хлыстом в руке[33], даешь честных, порядочных ливерпульских экономистов и незапятнанных людей в белых комбинезонах, производящих полезные, бесклассовые вещи, от которых равенство налаживается день ото дня быстрее (когда агитируешь по домам в северном Лондоне, посудомоечная машина – такое мощное орудие революционной пропаганды, что мое почтение, особенно в семьях рабочих, т. е. там, где женщины горбатятся над кухонными раковинами и вообще тащат на себе воз тяжелой неоплачиваемой работы).
Пописываю для газет репортажи на политические темы: два напечатали в «Миррор», три в «Стейтсмене», один в «Манчестер гардиан». Остроумные разборы длинных, нудных речей, обзоры предвыборных кампаний в забытых богом округах, все в таком роде, – кажется, становлюсь популярным, но, знаешь, Фредерика, сегодня если и искать себе место, то на телевидении: это первый случай, когда телевидение играет на выборах такую важную роль. У бедного лорда Хьюма[34] (ну да, сэра Алека, но у меня язык не поворачивается произнести, а ручка написать) не лицо, а череп и вставная челюсть плохо подогнана, и заметно, что эти мелочи для него как осиновый кол: губят его в глазах избирателей чем дальше, тем больше, что меня, конечно, радует: не нравится мне его тупая озлобленность. Его прозвали «Черепастый» и жалуются на его тяжелый взгляд: сглазит еще. ТВ, Фредерика, – волшебный ящик, эта сила только начинает себя показывать. Мне только бы до него добраться, только бы на него пробраться. Слова – это здорово, но passé[35]: сила, девочка моя, там, и я туда проберусь. Твой закадыка по Клубу социалистов Оуэн Гриффитс устроился в управление Лейбористской партии по связи с прессой и время от времени елейно улыбится с голубого экрана – ты телевизор-то смотришь, мать моя, или вы в своей доиндустриальной глуши вообще отошли от жизни и такими вульгарными развлечениями брезгуете? К чести Гриффитса, он усвоил главное: ящик – устройство комнатное, и Гриффитс приучает людей с душой и замашками площадных горлопанов держаться приветливо и непринужденно, говорить бойко и не повторяясь, хотя многим это дается нелегко, но этот твой валлийчик видит публику насквозь и митинговых выходок не допускает. Он объясняет партийным заправилам, в чем их просчеты и как надо, далеко пойдет, вот увидишь, хотя насколько серьезны его убеждения, не пойму.
Хью говорит, ты обзавелась отпрыском. Сказать по правде, с трудом представляю, но думаю, что ты и в этой роли такая же: строгая решительность плюс выдержка.
Я сегодня вижусь с самыми разными людьми. Старые друзья стали умственно неповоротливее и глубокомысленнее. Мы тебя любим, Фредерика, приезжай погостить, приезжай порезвиться, приезжай приблизить нашу победу, если тебе позволят. (Подозреваю, что не позволят. Ну, Уотсон, теперь гляди…)
Помнишь «Комоса»? Помнишь того орла, который устроил так, что все твои ухажеры побывали на этом позорище с твоим участием, находчивая ты наша? Так вот, теперь эти незаурядные организаторские способности брошены на что-то вроде кампании по распространению листовок среди парнокопытных – это чтобы ты знала, что тебя любят и ценят. Держи хвост морковкой и мысленно прими долгий жаркий поцелуй, который шлет тебе
Тони
Здравствуй, дорогая Фредерика.
Письма я пишу редко, но сейчас, пожалуй, написать надо. Голос из прошлого и – очень надеюсь – из будущего тоже, но насчет этого пишу осторожно: ты как-никак состоятельная замужняя дама. А помнишь мотоцикл, залитый кровью номер отеля в Скарборо и как я старался помочь тебе разобраться с твоими эзотерическими метаниями? А пляж в Камарге, а террасу Лонг-Ройстона, а улыбки летней ночи[36], а твой юный чистый голос (ну да голос помню я, ты могла слышать только изнутри, со стороны он слышится иначе, говорю как профессионал)? «Я буду как камень, ни капли крови не пролью я…» Сейчас тембр этого голоса уже не тот, угас, как те огни в кронах деревьев, и я страшно боюсь возрождения драмы в стихах и не вернусь, а жаль.
Чем занимаешься? Я по-прежнему мчусь, оседлав двух коней сразу – оба устремлены к звездам, – но твержу себе: так продолжаться не может: ох, и полечу кубарем в своем розовом мишурном наряде на опилки арены, да простится мне эта смена метафоры. Работаю за двоих и живу двумя жизнями. У меня есть лаборатория в Северном Йоркшире, в Башне Эволюции, где мы проводим интересные исследования, касающиеся устройства зрения, восприятия фигур, визуальной памяти с младенческих лет и т. п. То и дело вижусь с твоим братом: он сотрудничает с микробиологами и нейробиологами: новое направление, конечно претендующее на то, чтобы потеснить мои эксперименты с активным мозгом. Тебе приятно будет узнать, что о Маркусе они – Абрахам Калдер-Фласс и Джейкоб Скроуп – очень высокого мнения. Наш вице-канцлер, неисправимый идеалист, все еще держится того убеждения, что Знание нерасчленимо, и мы общаемся поверх перегородок между дисциплинами так свободно, как почти ни в одном исследовательском центре. Я рассказываю коллегам, что вторая моя жизнь – тайный постыдный флирт с волшебным ящиком – есть прямое продолжение первой: я анализирую, как мозг конструирует из отдельных черт и распознает лицо и форму, и мне более-менее верят, потому что результаты у меня хорошие, и помощники тоже.
Недавно я подготовил пару симпатичных телепередач об искусстве и восприятии. Ты вообще телевизор смотришь? Кто бы понимал, какое значение для искусства и интеллектуальной жизни может иметь голубой экран – ящик – в ближайшие десять-двенадцать лет. У нас в руках средство распространения культуры, которое может изменить – и изменит – наши взгляды на мир и, как следствие, наш образ жизни, к худу или к добру. Возможно, что и к худу: людям свойственно стремиться к рутине, праздности, умственной неподвижности, но сейчас, когда я это пишу, мне верится, что справедливо и обратное: людям нужны и сложность, и непокой, биение мысли, и нечто подобное ящик ему обеспечивает. Такого серьезного разговора у нас с тобой еще не было, ты заметила? Это потому, что я тебя не вижу, твое присутствие, твое лицо меня не отвлекают, и я говорю, что думаю. Так вот, друг мой: письменная культура – культура не из ящика – скоро будет сдана в музей, почит на пыльных полках. Открою тайну: думать на языке ящика ты не умеешь. Тут надо мыслить образами, ассоциациями, мелькающими фигурами. Боятся, что в руках власть имущих манипуляторов ящик станет средством управлять массами, как сома у Хаксли[37], но мне интересно не это. Да, осуществимо, но те, у кого достаточно изобретательности, чтобы такое устроить, засохнут с тоски от одной мысли о таком задании – я, конечно, про ученых, а не про политиканов, те ребята простые. А мне интересно, как эти мыслеформы изменяют молекулы нашего сознания, интересно разобраться, что может произойти, а что нет, не окажутся ли Шекспир, и Кант, и Гёте, и даже Витгенштейн громоздким хламом, с которым возиться себе дороже, – зло это, благо ли, тут, Фредерика, я не судья.
А ведь я пускаться в рассуждения не собирался. Я хотел написать куртуазно-пресное послание бывшей пассии, сказать: «Вернись, повидаемся, побеседуем». На телевидении готовится пробный выпуск телеигры: надо угадать, откуда взята литературная цитата, и они, как всегда, отчаянно ищут хоть одну женщину, знающую хоть одну цитату. Ты, конечно, не известная писательница или что-то такое, но все-таки женщина, смышленая, видная, цитат знаешь чертову уйму, так что будешь в Лондоне – позвони: я с продюсером знаком.
Ты, я слышал, растишь сына. Ох какая ответственность. Я уж точно никогда не справлюсь. Пиши. Пиши, пока язык не перестал быть полноценным средством общения.
С любовью и нижайшим почтением
Уилки
Здравствуй, Фредерика.
Я только что узнал, что у тебя теперь есть сын, так что прими запоздалые поздравления. Надеюсь, ты счастлива – ты выбыла из нашего круга и пропала из вида как-то неожиданно. Я много о тебе думаю и правда надеюсь, что ты счастлива.
Что касается меня, я работаю на образовательном телевидении: ставлю отрывки из разных пьес и даю к ним комментарий. Получается неважно: по отрывкам представления о пьесе не составишь. Неважно и с учебной точки зрения, потому что я не вижу детей, к которым обращаюсь, но в общем занятие приятное, коллеги и актеры славные, так что – работаю. В настоящее время ничего не пишу, хотя один-два замысла пьес для телевидения и театра у меня есть.
Самое интересное событие за последнее время: меня пригласили в Государственную комиссию по исследованию преподавания английского языка. Мы уже провели первое заседание, председатель комиссии, антрополог, пока производит впечатление человека толкового, состав комиссии – пестрая смесь: учителя, лингвисты, писатели, сотрудники теле- и радиокомпаний. Программа плотная, будем посещать школы и колледжи, уже сейчас набралась гора сведений, будем их внимательно изучать. Я написал твоему отцу, просил поделиться мнением: из всех моих школьных коллег и просто знакомых учителей он самый лучший, такое сочетание практичности и высоких идеалов – это нам, по-моему, и нужно. Вошел в комиссию и профессор Вейннобел, вице-канцлер Северо-Йоркширского университета, но председателем сделали не его: он грамматист, и есть подозрения, что в случае идейных противоборств может оказаться слишком parti-pris[38].
Буду раз узнать о твоей нынешней жизни, о твоем муже и о сыне, конечно. Письмо, кажется, получилось чересчур церемонным, но ты умеешь читать вдумчиво.
Всего самого наилучшего.
Александр
Здравствуй, Фредерика.
Извини, что после долгого молчания объявляюсь как гром среди ясного неба – или яко тать в нощи. Я недавно побывал в Йоркшире: ты, наверно, слышала, что Мэри получила травму, травму серьезную, но уже оправилась, снова ходит в школу и вроде ни на что не жалуется. Ну да, может, и не слышала: ты, как и я, ни с кем там не общаешься. Я потому тебе и пишу. Беседовал с твоим отцом, он, похоже, был бы рад получить от тебя хоть строчку. Но это во мне проснулся священник: отцу больно, обидно, хочется получить весточку, однако из гордости не признается. А я пишу письма с трудом – тем более тебе, для которой писать – занятие привычное. Твой отец удостоил меня чести: объявил, что мы друг на друга похожи (он и я), – если кто и способен в полной мере оценить комизм и иронию этого утверждения, так только ты. Я его в ответ ничем тяжелым не ударил, но со всем христианским смирением согласился, ибо толика истины в его словах есть. А вот кто на него и правда похож, это ты, Фредерика, и он это тоже понимает, и он уже не молод. Извини, что я это рассказываю – профессиональная привычка вмешиваться в чужие дела из богоугодных соображений, – но одну дочь он уже потерял. Не пойму, почему не пишу о твоей матери – она более терпелива и замкнута, – просто разговорился я именно с ним. К нашему обоюдному удивлению.
Мои новости будут тебе ни к чему. По-прежнему работаю в часовне, спасаю оказавшихся на краю пропасти – звучит мелодраматично, но бывает, что не только звучит, – тех, кому от прыжка туда стало бы, а может, и не стало бы легче. Странное ремесло. Работа по мне, хотя иной раз увидишь, как на улице кто-то поет, подумаешь – вот чудак, а потом понимаешь: ведь и я такой.
Береги, Фредерика, своего красавца-мальчугана (я его видел, ты присылала родителям фото). Я о своем заботился плохо и уже вижу, что буду жалеть об этом всю жизнь. Надеюсь, повидаемся, и еще надеюсь, что знаю тебя хорошо: ты наверняка простишь меня за то, что я сунулся не в свое дело, – даже если ты моему совету не последуешь. Это опять во мне заговорил священник.
Благослови тебя Господь.
Любящий тебя
Дэниел
Фредерика вскрывает конверт за конвертом, Найджел наблюдает. Читая письма, Фредерика время от времени поднимает глаза и встречает его пристальный взгляд. Она читает слова Алана, Тони, Эдмунда Уилки, Александра, Дэниела, а по ту сторону стола стоит пристальное гробовое молчание. Солнце заливает осенним светом белую скатерть, столовое серебро – сумрачный человек не сводит с нее глаз. Призрачные образы друзей встают со страниц писем как живые: мягкая улыбка Алана, увядающая красота Александра, озорной юмор Тони, немыслимое сближение Дэниела с ее отцом. Вспоминает она и себя, какой была прежде: споролюбивая, страстная, глупая, умная… Она перечитывает письма, уединившись, то есть в своей ванной, окно которой царапают ветки жасмина и облепляют присоски дикого винограда, но теперь живые слова и одушевленные призраки тащат за собой образ сумрачного наблюдателя. Он реальнее их всех. Она помнит его спину, его живот, и горло его, и смуглый его член. Она читает письмо Уилки, письмо Алана, письмо Тони, а думает о его члене и слизывает слезы. Муж реальнее их всех, а она не так реальна, как прежде.
Она сама не знает, хватит ли у нее мужества ответить на письма и сложить ответы в китайскую вазу в прихожей, откуда письма забирают на почту. Она пишет ответы и рвет, снова пишет и снова рвет. Ей страшно. Она устраивает поездку за покупками в Спессендборо, покупает там пачку открыток, адресует их друзьям и коротко пишет: «Спасибо за письмо. Скоро отвечу. Ф.». Адрес Дэниела она не знает, но помнит, при какой церкви его часовня, и пишет туда. На глазах Оливии и Розалинды она отправляет открытки с видами холмов, речных прибрежий, летних полей. Открытки держит веером, чтобы сестры видели, как коротко она написала. Зачем – сама не поймет.
Найджел задерживается в Брэн-Хаусе. Они чудно проводят время. Устраивают пикники на холмах вместе с Лео, показывают ему следы оленя и барсука. Беседуют о Лео. После Фредерика уже и не вспомнит, что говорили. Запомнится его ладонь на ее руках, когда они сидели в зарослях папоротника, запомнится что-то вроде счастья, запомнятся два тела, томно раскинувшиеся на подстилках, и лихорадочно мелькавшие заветные мысли. Она решает ответить на письма потом, когда он уедет. Но он все не уезжает.
Приходит еще одно письмо: безобидный бурый конверт, адрес напечатан, адресовано «миссис Найджел Ривер». Она собирается открыть, но он протягивает руку:
– Дай-ка мне.
Она отдает, он читает и возвращает. Это стандартное приглашение на традиционный банкет для бывших выпускников ее кембриджского колледжа. «Сообщите, пожалуйста, кого из бывших студентов Вы хотели бы видеть рядом с собой за столом».
– Зачем ты это?
– Я решил, ты что-то задумала. Ты же говорила, что хочешь туда вернуться, – я и решил, что ты уже взялась за дело. Ошибка вышла.
Он не добавляет: «Извини», но это неохотное «Извини» словно витает в воздухе.
– Может, и вернусь.
– Не понимаю, как это у тебя получится.
– Получится… если захочу. Я ведь могу ездить туда-сюда. Поживу здесь, поживу там. Изловчиться можно. Ты ведь приезжаешь и уезжаешь.
– Потому-то тебе и нельзя.
– Как ты можешь такое говорить? Это несправедливо.
– Не вижу ничего несправедливого. У тебя есть обязанности. Ты знала, на что идешь.
– Никто в точности не знает, на что идет…
– А я считал тебя такой умной. Нельзя же выйти замуж и жить так, будто ничего не изменилось.
– Нельзя же выти замуж и мгновенно измениться.
– Мгновенно, может, и нельзя, но человек все-таки меняется. Не желаю я, чтобы ты моталась туда-сюда, как будто Лео и меня на свете нет. Незачем тебе.
– Неужели ты и правда думаешь, что все так просто?
– А почему бы мне так не думать?
И все-таки его опять вызывают. Позвонил дядя Губерт из Туниса. Найджел собирается в Амстердам. К своей досаде, Фредерика понимает, что ей больно и обидно. То ли потому, что будет по нему скучать, то ли потому, что он сам себе хозяин, а она нет, то ли потому, что он расстается с ней вот так, с легким сердцем. Люди в браке испытывают чувства, которые не то чтобы рождаются в собственной душе, а неразрывно связаны с этой эластичной клеткой. Больше я этой глупости – замужества – не совершу, думает Фредерика и понимает, что подумала глупость. Она замужем.
Она застает Найджела в спальне за чтением ее писем. Это происходит за день до его отъезда. Он сидит на кровати, в одной руке письмо Уилки, в другой – письмо Тони.
– Просто решил проверить, не задумала ли ты чего, – произносит он со своим обычным уверенным, несокрушимым спокойствием.
Фредерика замирает в дверях.
– Обнаружил? – спрашивает она с тяжеловесной до смешного иронией, обычной в таких обстоятельствах.
– Не нравятся мне твои приятели, – объявляет Найджел. – Они мне не нравятся.
– Они же не тебе пишут. – Фредерика смотрит на него в упор.
– Стерва ты, – произносит он тем же ровным голосом. – Сучка тупая.
В былые времена Фредерике случалось разбушеваться не хуже своего отца. Она еще мгновение стоит в дверях, чувствуя, как пальцы и все внутри зудит от ярости, и заходится криком. Она грозно приближается к Найджелу и выхватывает письма – письмо Дэниела слегка надорвано. Она выкрикивает то, что обычно кричат при подобных обстоятельствах: что она не позволит так с собой обращаться, что она ни минуты здесь не останется, уходит сейчас же. Она распахивает гардероб и швыряет одежду на ковер. Находит старый чемодан и с криком и плачем бросает вещи в него. Письма, ночная рубашка, зубная щетка, свитер, бюстгальтер. Слезы застилают глаза. Вещи, которые нельзя оставлять, – книги, письма, их так много, они такие тяжелые… При мысли о тяжести новый поток слез.
– Уеду, уеду, ни минуты не останусь! – причитает она и бросает в чемодан все без разбора, как попало: черные шелковые трусики, подарок Найджела, ни разу не надевала; прилив адреналина облегчает и возбуждает.
Найджел подходит сзади, хватает ее волосы у самого затылка в пучок и резким, умелым движением поворачивает ей голову. Адская боль. Фредерика слышит хруст шейных позвонков. «Он убил ее», – думает она, и сама удивляется этому «ее», и тут же понимает, что она жива, в здравом уме, испытывает боль.
– Тупая сучка, – повторяет он и наносит – коленом? локтем? – удар в поясницу, вновь без особых усилий причиняя ей страшную боль.
Фредерике никогда не случалось драться. Брат и сестра были сверхъестественно миролюбивы, а когда приходил в ярость отец, страдала мебель, летели в огонь книги, но до побоев никогда не доходило. Она была хорошо воспитана, остра на язык, из тех детей, которым издевательства не грозят. Такого, как сейчас, с ней еще не бывало.
Найджел обхватывает ее голову, рука прижимается к ее лицу. Он тяжело дышит. Она открывает рот, но вдыхает духоту ткани. Язык упирается в ворс. Она поворачивает голову, и кончик носа, пройдясь по хлопчатобумажной манжете рубашки, прикасается к коже – коже, которую она знает как самое себя, коже, жгучей от ненависти. Фредерика что есть силы впивается в нее зубами. Во рту вкус крови. А насмешливый судья ее поступков в мозгу презирает ее, Фредерику, за такие вульгарные выходки, и никак не заставишь его умолкнуть.
– Сучка, – повторяет Найджел и бьет ее кулаком под ребра.
Дыхание перехватывает. Она все крутит головой, стонет от боли и растерянности, стискивает зубы, почти что жует, рот уже полон крови. «Сучки кусаются», – задыхаясь, думает она, кровь на зубах наводит на мысль о вампирах. Тут она склоняется вперед, беспомощно обвисает у него на руках, вялая, неподвижная, как мертвое тело. Уловка старая как мир, шепчет все подмечающий рассудок. Подействовало. Найджел отпускает ее, смотрит на лежащее тело, и тут Фредерика бешеным ударом делает ему подсечку, сбивает с ног. Найджел валится на кровать так, что ноги свисают на пол. Фредерика, превозмогая боль в позвоночнике, поднимается, бросается в ванную и запирает дверь.
Возле унитаза небольшая стопка книг – стихи. Фредерика любит, уединившись здесь, учить стихи наизусть, чтобы важное хранилось в памяти. Йейтс, Малларме, Рафаэль Фабер, Шекспир. Она пристраивается на крышке унитаза и раскрывает томик Шекспира. Слов не разобрать, перед глазами марево, словно полощется ярко-алая, как маков цвет, кисея. Она задумчиво слизывает с губ и зубов кровь: соль, металл и что-то еще, думает она, вкус живого, и соли, и металла. Ее так лихорадит, что нет сил подняться и прополоскать рот. И зубы ноют. Расшатались в деснах. Она сидит, склонившись над Шекспиром в позе прилежной школьницы, вдыхает запахи ванной: запах тела, запах воды, вкрадчивый дух одеколона, едкий запах отбеливателя. Кровь.
За дверью тихо. Потом раздается шарканье ног. Найджел расхаживает по спальне. Фредерика ждет. И вдруг страшный грохот: Найджел колотит в дверь чем-то тяжелым и изрыгает проклятья. Дверь прочная. В этом доме все прочное. Сначала ванных комнат тут было немного, но потом соорудили еще, все с прочными дверями. Фредерика склонилась над Шекспиром и молчит. Она не знает, что делать; это она-то, для которой беспомощность и нерешительность – нож острый. Посидев так немного, она вспоминает про других обитателей дома: что они подумают, что предпримут? Оливия, Розалинда, Пиппи Маммотт спрячут голову под одеяло и заткнут уши. Лео… О нем она старается не думать. Услышит ли он, испугается ли, кого станет винить? Сейчас она впервые чувствует угрызения совести и испытывает ненависть к Найджелу.
Грохот прекращается так же внезапно, как начался. Она ждет, что он ее окликнет, но за дверью молчание. Дверь толстая, и расслышать, что там происходит, трудно. Шаги, что-то тащат по полу, что-то разбивается. Тишина. Она смотрит на томик Шекспира: книга раскрыта на «Много шума из ничего»:
Бенедикт. Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это?
Беатриче. Странно, как вещь, о существовании которой мне неизвестно. Точно так же и я могла бы сказать, что люблю вас больше всего на свете. Но мне вы не верьте, хоть я и не лгу[39].
В двенадцать лет худощавая и веснушчатая, в семнадцать угловатая и шумная, в двадцать окруженная молодыми кембриджскими друзьями, Фредерика всегда воспринимала это благодушное, прозаическое приятие неизбежного как образ любви. Что такое любовь, что она такое, неужели всего лишь какой-то опасный помысел? Что-то звякает, и ванная погружается во тьму. Хоть бы полоска света под дверью. Мрак, мрак. Шекспира не видно, не видно собственных ног. В окне тоже темным-темно: здесь не город, уличных фонарей нет. Слышно только ее жаркое дыхание и цоканье капель воды.
За дверью раздается хриплый голос, отчаянный и торжествующий:
– Ну, что ты будешь делать теперь?
Она не отвечает.
– Теперь особо не почитаешь. Выходи.
Она не в силах ответить. Она поджимает ноги, упирается подбородком в колени, словно обхватывает Шекспира своим телом.
– Я подожду. Посижу и подожду, – добавляет голос.
Она на цыпочках подходит к двери и говорит в замочную скважину:
– Напугаешь Лео.
– А кто виноват? Не ты, сучка, которая жалеет, что его родила?
Снова неистовый стук в дверь. Она возвращается на прежнее место. Глаза уже привыкли к темноте. Она различает окно, матовый темно-кобальтовый квадрат. Различает тени перистых листьев жасмина и листьев винограда, видит одну-две звезды, яркие точки за стеклом, звезды без имени, такие одинокие в небесном просторе.
Она долго сидит в темноте. Размышляет о письме Дэниела и его любопытном открытии про то, что, на взгляд Билла, он и Дэниел друг на друга похожи. Нынешнее происшествие напоминает ей о детстве: она росла в обстановке, где вспышки гнева, потоки брани и сентиментальные примирения были обычным делом. Пожалуй, она и за Найджела вышла отчасти из-за того, что его холодная невозмутимость казалась противоположностью вспыльчивости Билла, – и вот она сидит в ванной и ожидает, когда буря утихнет. И Стефани против воли Билла вышла замуж за его антипода. Но Дэниел прав: он похож на Билла. Судьба подкрадывается сзади и бьет по затылку, с горечью думает Фредерика, ощупывая ноющую шею и поясницу. Mutatis mutandis[40]: Билл много бранился, но его брань не задевала, Найджел повторял одно слово, и от него очень больно. А как хорошо научился говорить Лео: дай бог, чтобы ему не довелось причинить кому-нибудь словами боль. При мысли о Лео она снова начинает хныкать. Рассудок лаконично докладывает: «Она хнычет». Хорошее слово, почти звукоподражательное. По носу текут слезы.
– Фредерика, пусти меня, а? Я тебя не трону. Прости. Ну, пусти меня.
Будь это Билл, такие слова означали бы, что самое страшное позади. Ладно, у нее уже нет сил, будь что будет. В темноте она подходит к двери, поворачивает ключ и отступает. Он входит, медленно-медленно, на ощупь продвигается вдоль стены. Поврежденная рука, левая, замотана хлопчатой нижней юбкой. Другую руку кладет ей на грудь: жар на жар, на томление – тяжесть.
– Ты и правда сучка, – произносит он хрипло от наплыва неописуемых чувств, но уже без злобы. – Скажешь, нет? Самая настоящая, мне бы раньше понять. Смотри, что ты мне с рукой сделала.
– Не видно. Надо включить свет, что ты там с ним сделал, вынул пробки или проводку повредил? А то… а то еще кто-нибудь… проснется.
Она говорит шепотом.
– Тогда пойдем вместе, чтобы ты еще глупостей не наделала.
– Пойдем.
Он подхватывает ее за талию. Вдвоем они пробираются по темному дому, жмутся к стенам, проходят, неслышно ступая, по лестничным площадкам, собираются с духом, чтобы спуститься по знакомым лестницам. Предохранительный щит расположен в чулане в чем-то вроде сейфа. Найджел отпускает Фредерику, дергает рычаг рубильника вниз, раздается металлический стон и звон. Под дверью ложится полоска тусклого света из коридора. В доме ни звука. Найджел похлопывает Фредерику по крупу: так хозяин ободряет кобылу.
– Ну вот, – говорит он.
В спальню они возвращаются быстрее, там по-прежнему горят только настольные лампы и ночники. Вид комнаты ужасен. На кровати груда пустых флаконов от лосьонов и кремов Фредерики, все больше подарки: Фредерика по-прежнему предпочитает детскую присыпку Джонсона. На полу разбросаны ножки стульев. Сами стулья лежат, словно трупы животных, задрав культи ампутированных конечностей. По зеркалу прошла чудовищная трещина. На шторах кровавые потеки, пятна крови красуются на простынях и одеяле. Фредерике приходит на ум письмо Уилки с упоминанием обстановки ее незабываемой дефлорации, и, чтобы у Найджела не пробудились те же воспоминания, поспешно замечает:
– Как будто здесь произошло убийство.
– Да, зрелище жутковатое. – Найджел несколько сконфужен, но явно горд.
– Я здесь спать не буду. Устроюсь где-нибудь еще. Может, наведем порядок?
– Вот еще. Они приберут, им за это платят. Что ж, поищем другое место. Вон хоть твоя кровать, где ты раньше спала. А я к тебе ночью тайком пробирался.
Фредерика думает было ответить, что хочет лечь одна, но она устала, ей безумно хочется спать, ей страшно – так страшно, что она не решается себе в этом страхе признаться, так страшно, что она, как часто и многие женщины, готова искать утешение именно у этого мужчины, которого она боится.
Крадучись, они по длинным коридорам проходят в гостевую, прежде служившую Фредерике спальней. Найджел откидывает пыльное покрывало, замарав его кровью: постель застелена. Происходит любовное сближение. Найджел сейчас умный, ласковый. Утром она обнаруживает, что он оставил на подушке пятна крови. Спина болит, из-за этого с оргазмом у нее ничего не получается, раз-другой она пытается его изобразить или прервать это занятие, но Найджел уговаривает, не теряет надежды, прикасается к самым укромным уголкам ее тела, мурлычет ей в ухо свою песню без слов, и наконец – вот оно, блаженство: она издает крик, содрогается, и Найджел шепчет: «Ну вот. Вот и порядок» – бессмысленные фразы, заключающие в себе множество смыслов.
Лежа рядом с ним в темноте, она жалуется:
– Знаешь, как больно?
– Мог бы вообще убить. Я, когда служил в спецназе, учился рукопашному бою. Мне убить тебя было раз плюнуть, ты бы и не заметила.
Фредерика на миг задумывается.
– То есть это мне повезло, что ты меня случайно не убил?
– Примерно так. Да ладно тебе. Просто я знаю, где болевые точки.
– Это ты предупреждаешь или извиняешься?
– И то и другое, скажешь, нет? Давай-ка помолчим, от разговоров только хуже. Спи, завтра все будет в порядке, тебе же понравилось, как мы сейчас… чем мы сейчас занимались, правда? Тебе же было хорошо, да?
– Да, но…
– Сказал же: помолчи. Вот ведь болтливая сучка. От разговоров бывает больно.
Он кладет руку, теплую, твердую, дружескую, на треугольный мыс у нее между ног.
– На меня можешь положиться. Спи.
На другой день на лестничной площадке какая-то женщина смывает с обоев кровь. Приехал фургон, и Пиппи Маммотт с водителем переносят туда сломанные стулья. Простыни перестелены, повешены новые шторы, возвращены на место пустые флаконы. Найджел опять уезжает. На прощанье целует Фредерику и Лео, который обвивает его шею, как спрут.
– Будьте умницами, – говорит он им. – Я позвоню. Будьте умницами.
Оливия и Розалинда с Фредерикой не общаются. Разве когда все собираются за столом, происходят одни и те же разговоры. За завтраком говорят мало, за обедом – о делах хозяйственных: «Мне надо съездить в Херефорд, купить кое-что для роз, постричься. Не хотите со мной?» За чаем завязывается что-то более похожее на светскую беседу, то есть сестры и Пиппи Маммотт пытаются завести разговор с Фредерикой, то есть все говорят исключительно о Лео, который пьет чай вместе со взрослыми – обед ему чаще, почти всегда, относят в детскую. Обсуждают его успех, его словечки, Уголька. Заканчивается всегда тем, что у мальчугана есть голова на плечах, и Лео при этих словах хватается за виски. В первый раз, как догадывается Фредерика, он и правда встревожился, на месте ли голова, теперь он просто потешает взрослых: тети и Пиппи Маммотт так и покатываются со смеху. Иногда начинают вспоминать, каким был в этом возрасте его отец. Сравнивают, кто как падал, кто как боялся темноты, сравнивают рост и «сметливость». Первое время ее, бывало, пичкали рассказами о детстве Найджела, будто ей неймется узнать об этой золотой поре, будто она не переживет, если очевидцы не поделятся с ней этими сведениями. Сейчас эти рассказы звучат реже, на смену им ничего не пришло. Фредерика гадает, давно ли Пиппи Маммотт живет в этом доме, застала ли она детство Найджела или узнала о нем, познакомившись с домом и его обитателями. Спросить ее нетрудно, и все же Фредерика не спрашивает, как и ее не спрашивают про ее прошлое, ее родителей, сестру, брата, детей сестры. Этих детей она порой упоминает, сравнивая их с Лео, – для нее эти разговоры о Лео все равно что настольная игра, в которую она играет сама с собой, начисляя очки за повторенные клише, а особый куш – если эти банальности относятся и к Найджелу, и к Маркусу, и к Лео, и к Уиллу. Сестры и Пиппи чувствуют, что в замечаниях этих что-то не так, но что именно, не понимают и, кажется, не жаждут разобраться.
Фредерика подозревает, что в ее отсутствие они разговаривают по-другому. Иногда из-за закрытой двери до нее доносится оживленный гул голосов, в них слышна то озабоченность, то настойчивость, то боль, то смех – при ней эти голоса так не звучат.
Ну и пусть. Она не той же масти, что Оливия с Розалиндой и Пиппи Маммотт. И они дают ей это понять – не со зла, а просто не считают нужным ее щадить, просто расставляют точки над i. Так уж получилось, что она здесь живет, что Найджел к ней тянется, что без нее Лео жилось бы не так чудесно, дом поместительный, место найдется каждому, человек она малообщительный, натура хлипковатая, рыхлая, у нее своя жизнь, у них своя, но, если ей нужно что-то привезти, съездить за врачом, отправить посылку, они всегда готовы помочь. Рады помочь. Ей помогают: вот что связывает ее с их миром. Найджелу и Лео нравится, когда ей помогают. От нее никакой помощи не требуют, пусть только ни во что не мешается. Фредерика и не мешается, но так, что их несколько коробит.
Когда они только-только поженились, они поставили себя в этом доме так, будто проводят здесь медовый месяц. Завтрак, обед ли, ужин ли – могли, взявшись за руки, удалиться к себе в спальню. Разливая чай, наливая вино, нежно касались друг друга, вспоминает Фредерика. Повстречавшись с ними на лестнице, сестры проходили мимо, словно не видят их, словно их нет. Одинокая и беззащитная, Фредерика задним числом стыдится своего дурного поведения – дурного, может быть, на чей-то взгляд: тогда ей никто ничего не говорил, не припоминают и сейчас. Теперь Найджел – как восточный паша в своих чертогах, думает она, но вслух сказать не решается. А Лео – маленький мальчик в гареме. Исполнится ему лет восемь – отправят в школу. Туда, где учился его отец.
Страшно представить, что у Лео будет общая спальня с другими мальчиками, думает Фредерика. Она видела, как эти мальчики плачут. Скверно.
Увезут Лео – она тоже сможет уехать, думает Фредерика. Когда Лео будет восемь, ей будет тридцать два, думает Фредерика. Жизнь почти прошла.
Оливия и Розалинда противостоят Фредерике как единое целое, но сестры не одногодки. Оливия старше Розалинды – ненамного, правда, – и обе лет на пять-шесть, а может, и семь старше Найджела: Фредерика и про это не спрашивала, а ей не рассказывают. Получается, им далеко за тридцать, и они наверняка подумывали о замужестве, но подтверждений этому нет. Их супруг Брэн-Хаус. Они никогда не ссорятся, даже не препираются по-сестрински из-за пустяков, что удивляет и озадачивает Фредерику. Она придумывает длинную сомнительную историю, как сестры однажды рассорились насмерть – из-за мужчины, из-за того, что у одной появилось жгучее желание уйти из дома, заняться чем-то еще, ездить на гоночном автомобиле, пойти санитаркой в больницу, поступить на факультет птицеводства, отправиться в круиз по Средиземному морю… Воображение Фредерики быстро иссякает. Ссора их так вымотала и напугала, что они условились больше никогда друг другу не перечить. Подкрепить эту фантазию нечем, если не считать того, что на лицах сестер, когда никто не видит, застывает слегка угрюмое выражение. У них, как у Найджела, большие, темные, глубоко посаженные глаза, над которыми темнеют четко очерченные брови. Борода у Найджела внушительная, он подбривает ее дважды в день, от скул до челюсти лежит темно-сизая тень, отчего его удлиненное лицо выглядит особенно привлекательным. У всех троих кожа над верхней губой темнее. Волосы у Оливии и Розалинды аккуратно подстрижены и постоянно ухожены. И все у них ворсистое: твидовые костюмы, ноги, покрытые темными волосками, кожа у губ. Когда у них бывает несчастный вид, это еще не значит, что они и правда несчастны. Найджел иногда кажется безнадежно унылым даже в ту минуту, когда он на верху блаженства. Так уж у них устроены лица. Лео унаследовал их строгие глаза, но строение лица позволяет выражать более разнообразные чувства.
Сестры общаются не только с домашними, однако Фредерику присоединиться не приглашают. Она побывала на одной-двух сельскохозяйственных выставках графства. Она упивалась напряженной борьбой на тамошних скачках, запахом кожи и конского волоса. Она и сама научилась ездить верхом и получает от этого в некотором роде удовольствие, верховая езда – едва ли не единственное, что роднит ее с этим чуждым миром, где она думала найти столько неожиданного. Ей нравится ездить вместе с Найджелом, нравится скакать галопом по росистой траве, она любуется ладным телом едущего впереди Найджела, склонившегося к конской гриве: это настоящее, это ее возбуждает. Ей нравится мчаться по весь опор к горизонту. Поездки с сестрами не то. Они предпочитают пускать коней мелкой трусцой, чтобы не отрываться от компании, либо отправляются верхом на охоту, куда Фредерика ни ногой, за что они, не показывая вида, ее презирают: «Какое нам дело, что ты считаешь правильным, а что нет?» Но приятели-всадники появляются и исчезают, появляются и исчезают другие семьи, приезжающие в «лендроверах». С Фредерикой пыталась подружиться Пегги Голлисингер, элегантная нервозная женщина, источавшая оглушительный запах духов «Ма Грифф». Она приезжала пару раз, усаживалась в гостиной с новоиспеченной миссис Ривер и с места в карьер принималась живописать со всеми подробностями измены своего мужа, поглощая джин с тоником, который действовал на нее как аспирин на подвядшие цветы. Потом она засыпала на диване, Пиппи Маммотт звала ее шофера, и тот ее уносил. «Увы, так каждый раз, – говорила Пиппи Фредерике. – Некоторые от джина всегда с ног валятся. А когда с ней так обращаются, она недовольна. Бедная Пегги. Жалко ее, заблудшая душа». Фредерика задумалась: не считают ли и ее кандидаткой в заблудшие души?
Самая постоянная подруга Оливии и Розалинды, которую чаще всего приглашают и вспоминают, – Элис Инглиш. Это женщина чуть помоложе сестер, маленькая, бойкая, с копной разметавшихся серебристо-русых кудряшек, круглым личиком, острым подбородком и широко поставленными голубыми глазами. Элис, особа более разбитная, чем сестры Ривер, в первые же недели после знакомства с Фредерикой несколько раз обещала ей: «Мы очень-очень подружимся». Постепенно Фредерика поняла: это потому, что Элис имела виды на Найджела, хотя судить, насколько эти виды имели основания, Фредерика, разумеется, не могла. Найджел про Элис ничего не рассказывал, но это может быть доводом как против таких подозрений, так и за. Иногда Элис с беспечной уверенностью сообщает: «Я знаю, Найджел считает, что…» – это и про опасность единых средних школ, и про недопустимость лжи в парламенте, и про необходимость гарантировать неподкупность судей, и про наказания для коммунистических шпионов. В последнее время она бывает все чаще, все чаще и решительнее высказывает приписываемые Найджелу взгляды: как раз сейчас разрабатываются планы предвыборных баталий, а она как-то связана с местным отделением Консервативной партии. Фредерика не без удовольствия слушала ее без пяти минут признания насчет нее и Найджела. Приятно сознавать, что ты обладаешь тем, чего кто-то домогается, – по крайней мере, тешить себя мыслью, что кто-то домогается того, чем ты обладаешь. Но не по душе ей этот новый Найджел, тори до мозга костей, который, окажись он там, созвал бы все графство на битву на окраинах Вустера из страха, что к власти придет этот зловредный прощелыга Гарольд Вильсон[41]. Элис знает, что Найджел считает Вильсона донельзя беспринципным, донельзя опасным, донельзя некомпетентным. Элис знает, что, по мнению Найджела, Вильсон задумал отобрать у людей тяжким трудом заработанные деньги и отдать дармоедам, которые преспокойно сидят на шее у государства, живут в роскошных квартирах, за которые платят гроши, а в доме телевизор, а у дома машина – да-да. Элис знает: Найджелу хочется, чтобы Фредерика помогала убеждать торговцев не обращать внимания на заискивания этого мошенника. Сам Найджел с Фредерикой о политике не заговаривает. Она догадывается, что он голосует за тори – это одно из слагаемых его противоестественной притягательности, как у Дон Жуана, как у Байрона: неизбывная, неискупимая порочность. Она догадывается, что он понимает: она голосовать за тори не может и не станет, хотя в последнее время сомневается – понимает ли? Если бы он высказал мнение вроде того, о чем Элис говорит: «Найджел считает…» – она бы десять раз подумала, выходить ли за него: он угодил бы в тот же разряд людей, которые, как Элис, для нее эстетически неприемлемы. Но он интереса к политике не проявляет. А пуританское воспитание Фредерики сказывается на ее политических воззрениях странным образом. Хотя Билл и Уинифред состоят в Лейбористской партии и всецело ей преданы – в силу сословной принадлежности, интуитивного выбора и выношенных убеждений, – дочери они привили терпимость, независимость мышления и осторожный скептицизм, требующий не судить о вещах по первому впечатлению и видеть во всем и хорошие и дурные стороны. В некоторых отношениях Билл фанатик: так, он фанатически не приемлет фанатизм. Поэтому Фредерика понимает: ее безотчетная неприязнь к Консервативной партии, в сущности, так же необоснованна, как у иных безотчетная неприязнь к неграм и гомосексуалистам. Негры, гомосексуалисты, дамочки-консерваторши – все они люди, убеждена Фредерика. И все же, когда Элис Инглиш твердит: «Вы должны помочь, Фредерика, должны поддержать наших», Фредерику просто мутит от омерзения, и она отвечает почти что собственным голосом, который в этом доме звучит не так часто: «Они не мои». И, помолчав, добавляет: «И я, надо сказать, очень этому рада».
Она поднимается к себе. Тяжелой поступью. Топ-топ. Захлопывает дверь. Хлоп. Что толку?
Чтобы успокоиться, она ищет письмо Тони. Письма она как убрала, так к ним и не прикасалась: они отравлены ненавистью и кровью, писавшие их ужаснулись бы. Вот оно, письмо Тони, исполненное лукавого идеализма, вот письмо Дэниела: на миг ей становится стыдно. Дэниел прав, надо бы написать Биллу и Уинифред. Но нету сил. Страшно снова пережить те дни после гибели Стефани. Краешком души ей хочется, чтобы после смерти сестры не осталось ничего – ни дома их, ни прошлого, ничего: добрая память больнее недоброй. Из-за жестокой развязки вся история обернулась кошмаром: улыбка Стефани, мудрость Стефани, ленивая безмятежность Стефани – все теперь морок, призраки, жуткие бесформенные сгустки, дергающиеся в пустоте. Да, прав Дэниел. Билл потерял дочь, и нельзя, чтобы он потерял двух.
Она напишет Биллу по-настоящему, но не сейчас, потом. Она ищет письмо Эдмунда Уилки и никак не найдет. Перерывает все заново. Нету. Письмо самое личное, самое неожиданное: ведь она не была с Уилки так дружна, как с Хью, или с Аланом, или с Тони, не была в него влюблена, как в Александра. К тому же это единственное письмо, где есть что-то о сексе, единственное письмо, которое могло зацепить непрошеного читателя. Она роется в комоде, куда спрятала письма, среди свитеров. Перебирает все вещи на письменном столе. Нигде нет. Все ясно: письмо Уилки взял Найджел. Письмо Уилки для нее приобретает такую громадную важность, как утерянный предмет, который ищешь во сне: найдешь – все встанет на свои места. Ей рисуются картины, навеянные письмом: залитая кровью постель в Скарборо, Башня Эволюции в Северо-Йоркширском университете. Возвращается боль от удара в спину, болит кожа на голове, где выдраны волосы. Накатывает ненависть. Нрав у Фредерики бешеный, но собственная ненависть ее пугает. Найджел кажется ей опасным, отвратительным, но испытывать такое унизительно, она противна самой себе.
С наступлением ночи Фредерика принимается обшаривать потайные уголки в комнате Найджела. Она никогда не заглядывала к нему в гардероб, не прикасалась к разложенным там и сям грудам бумаг. Его бумаги безучастные, подзапылившиеся, лишенные дыхания жизни, как у ее бумаг. Перебирает стопку на комоде: затея пустая, бессмысленная, не станет же он держать письмо Уилки на видном месте, среди банковских выписок и счетов. Потом роется в ящике, где, как черные яблоки на лотке, разложены аккуратно свернутые в клубок носки, в ящике с рубашками, ящике с трусами, так бережно сложенными, такими чистыми, такими безликими. Обшаривает его куртки в гардеробе, на внутренних карманах которых красуется «Найджел», достает оттуда смятые конверты, старательно не читая ни строки, как будто, если она не допустит бесцеремонности, это защитит ее от бесцеремонности мужа. Кладет все на место, даже нераспечатанный презерватив, найденный в буром конверте. В гардеробе хранятся запертые чемоданчики разных размеров. Она смотрит на них и, захлебываясь от черной ненависти, снова лезет в ящик с нижним бельем, где видела коробку из-под сигар, полную ключей. Кажется, в таких местах аккуратные мужчины хранят ключи от пропавших, забытых или сломанных вещей: может, подойдет вместо потерянного ключа от нужной вещи. Для мужчин такие ключи то же, что для женщины – ключ от швейной машинки, от старой шкатулки с фотографиями, от дневника, который вела пять лет, а когда места не осталось, постыдилась хранить и выбросила. Фредерика ставит сигарную коробку возле глубокого гардероба и пробует разными ключами отпереть разные чемоданчики и ящички. Из чемодана побольше, к которому подошел вполне обыкновенный ключ, доносится запах вроде душка зрелого сыра. В чемодане – скомканная, явно нестиранная одежда для регби самых разных цветов: черный и мандариновый, багровый и пышно-пурпурный. Лежат там и носки, заляпанные, кажется, старой грязью, – впрочем, грязью она была в 1950-е, сейчас это слежавшаяся пыль. Он, оказывается, в регби играл. Она поспешно запирает чемодан. Удача с ключом обнадеживает, она пробует еще, ошибается, снова пробует, подбирает ключи, упиваясь собственным бесчинством, праведным бесчинством. Отпирает еще один чемоданчик – что-то вроде дипломата, – обнаруживает ворох школьных фотографий. Найджел пятилетний, Найджел девятилетний, Найджел в школьном пиджаке и канотье, смуглый Найджел на групповой фотографии, с которой во все глаза глядят выстроенные рядами юноши: напряженные лица, тугие пухлые губы. Маленьким ключом – маленьким, но не хрупким, замысловатым, не похожим ни на один в этом скопище, с пустотелой шейкой и хищно ощеренной бороздкой – она отпирает чемоданчик вроде того, каким потрясает министр финансов, когда представляет парламенту проект бюджета.
Письма Уилки там нет. Там подборка журналов и фотографий. «Ну, ты понимаешь, каких…» – как сказал бы мужчина мужчине или женщина женщине. А в ответ – многозначительный кивок. Сколько плоти и как она тягуча, как выпирают мышцы, какие выпуклости, сколько чистой, шелковой, янтарно-розовой кожи, отливающей глянцем! Какие раскрытые влажные впадины, какие сверкающие зубцы, какие зубы-жемчужины, приближаются, разжимаются, как вздулись лиловые вены! Какие штуки, какие руки, какие бедра, какие кудри, какие немыслимые извороты вроде бы неподатливой, упругой плоти! Какие холеные брови, какие капли крови, какие позы, какие слезы, какие страхи, какие славные забавы, всего понемногу. Какие оригинальные ракурсы: клитор, анус, головка члена, увула, плотское, жидкое – водопадом. Один журнал назвался «Гадкие байки на ночь», другой – «Так им и надо, проказницам». Разнообразие тел не беспредельно, и все же они разнообразнее поз на этих страницах. Пожалуй, репертуар эротических фантазий так ограничен, что особенно не развернешься. Цепи, плети, замки, шипы, сапоги, клетки – оснащение камер пыток со времен Средневековья не очень изменилось, разве что изобретение резины его освежило и разнообразило. Если бы Фредерику спросили, вредны ли такие журналы, не стоит ли их запретить, она бы ответила, как принято – как скоро будет принято отвечать во всех газетных рубриках, куда читатели обращаются за советом: нет-нет, они даже полезны, это просто развлечение, людям нравится – ну и хорошо. Она представить не могла, что ощутит ее тело, когда она увидит эти голые ягодицы, эти свиные вымена, эти зияющие пасти. Мелькает мысль о себе, о своих ощущениях в темноте – насколько ощущение от этих картинок связано с эротикой, – и она размышляет: значит, когда он… когда я… когда мы с ним… в его воображении… Ее мутит от омерзения, она понимает, что увиденное неувиденным не сделаешь, что это не так уж важно, что ее едва брезжившим эротическим фантазиям прежними уже не бывать. Все равно что найти под полом сундук с расчлененными трупами, в бешенстве говорит она себе, и прикинуться, что ничего не видела, – нет, не смогу. Или притягивает, или отталкивает, меня – отталкивает, и тут фрейдовские домыслы, что отвращение – оборотная сторона влечения, не годятся: так бывает разве что с некоторыми неопределенными запахами, это мне понятно, а здесь все чудовищно примитивно, как кукла кустарной работы, и унизительно, как бы мой безукоризненно либеральный мозг ни старался избежать этого оценочного слова, – унизительно и грязно, несмотря на то что эти пышные румяные телеса блистают чистотой.
Она подумывает устроить костер, и ей вспоминается, как в детстве отец устроил костер из тщательно припрятанных «Девичьих кристаллов». Бедный Билл, что бы он сказал, сравнив эти журналы с пошленькими историями и Schwärmerei[42] «Кристаллов»? Кто его знает. Ее эротические фантазии начинаются со словесного и нескáзанного: прежде чем она точно узнала, что там происходит между мужчиной и женщиной, она представляла себе Элизабет Беннет и Дарси[43], оставшихся наконец наедине нагишом, или мистера Рочестера[44], но он вызывал уютный, ласковый, согревающий душу трепет и смотрел на нее – Джейн-Фредерику, Фредерику-Джейн – с любовью.
Ох уж эти раздутые груди… Ткнешь такую пальцем – заскрипит и прыгнет на тебя, как воздушный шарик.
Фредерика запирает чемоданчик и ставит на место.
Письмо Уилки она обнаруживает в кармане своего халата.
Может, конечно, не она туда положила. Что-то такого не помнит.
Фредерика вместе с Оливией, Розалиндой, Пиппи и Лео отправляются в «лендровере» в Спессендборо. Она говорит, что хочет просто развеяться – отчасти это так, безвылазно киснуть в Брэн-Хаусе невыносимо, – но есть и другая причина: она собирается поговорить с кем-нибудь по телефону без свидетелей. С кем именно, она еще не решила – мысль, что придется-таки обратиться за помощью к рассудительному Уилки, почти удручает. Спессендборо – городок ярмарочный. Один его конец застроен помещениями для скота с неопрятными выгульными площадками из бетона. Другой конец выглядит симпатично, там есть гостиница под названием «Красный дракон», вдоль широкой главной улицы тянутся старинные лавки – хлебная, мясная, кондитерская, галантерейная с витринами из толстого волнистого стекла – и лавки посовременнее, где торгуют товарами постаромоднее: глиняной посудой работы местных кустарей, вареньем и консервами домашнего приготовления, в витрине аптеки выставлены цветные бутылочки. В переулках стоят краснокирпичные дома георгианской архитектуры, а дальше – приземистые домики в окружении садов, усаженных цветами: надраенные дверные молотки, в окнах чистенькие кружевные занавески. В городе имеются два кафе: «Самопрялка» и «Медный чайник», внутри множество темных стульев на длинных точеных ножках с ситцевыми подушками, расшитыми узорами в якобианском вкусе, шаткие столики, круглые и овальные. Риверы почему-то ходят только в «Самопрялку», в «Медный чайник» никогда. Там они пьют чай с булочками, малиновым вареньем и корнуоллскими топлеными сливками. Чайник накрывается вязаным сборчатым чехлом с шерстяным бантиком на макушке. Дождавшись, когда Пиппи берется за чайник, Фредерика объявляет, что на минуту отлучится: забыла что-то в аптеке. За аптекой телефонная будка, из «Самопрялки» ее не видно.
Мелочи у нее с собой много. Она заходит в будку и раскладывает монеты на обложке потрепанного и рваного телефонного справочника. В будке пахнет как обычно: неистребимый запах табака, душок мочи, запах камня и бакелита, пыльная затхлость. Фредерика сжимает трубку, звонит оператору и, в последний момент приняв решение, называет номер Алана Мелвилла. Издалека доносится недовольное мычание коровы. Фредерика ждет, тишину в трубке нарушает то треск, то гул, то жужжание, и наконец голос с шотландским акцентом произносит:
– Алло. Алло.
– Алан?
– Да. Я вас слушаю.
– Алан, это я, Фредерика.
– Фредерика? – Голос звучит радостно. – Что скажешь, пропащая душа? Как жизнь? Ты где? По делу звонишь?
Он всегда, даже в минуты близости, держался располагающе вежливо и отстраненно.
– Нет. То есть да. Мне надо с кем-нибудь поговорить. Я так обрадовалась твоему письму. Мне кажется, ты от меня теперь далеко-далеко – во всем, не только географически. Как же приятно услышать твой голос – нет, правда… Черт, деньги кончаются. Не вешай трубку… Вот, теперь все в порядке. Я бросила шиллинг, надолго хватит.
– Давай я тебе перезвоню. Ты откуда звонишь-то?
– Из Спессендборо. Нет, поговорим так. У меня куча мелочи. Я звоню из автомата, потому что… звоню, потому что… из автомата, пожалуй, могу говорить свободнее.
– Фредерика, голос у тебя грустный. Какие-нибудь неприятности?
– Нет. Не совсем. Одиноко мне, вот и все.
В стекло стучат. Это Лео, белый носик прижался к стеклу на уровне коленей Фредерики. Она озирается. На нее с разных сторон смотрят Оливия, Розалинда, Пиппи Маммотт. Лица у них сердитые, но, поймав на себе взгляд Фредерики, они улыбаются и одобрительно машут.
– Все, Алан, мне пора.
– Но, радость моя, ты ведь ничего не рассказала, даже не начала…
– Мне пора. Тут стоят возле будки.
– Ну пусть подождут немного.
– Не могу я говорить, когда они смотрят. Пора мне. Передавай всем привет. Скажи, что их письма были… были…
– Фредерика, можно я тебе позвоню?
– Нет. Да. Не знаю. Я еще раз попробую…
– Что-то, Фредерика, у тебя неладно.
– Мне пора. Пора…
– Фредерика…
– До свидания. Передавай привет Тони и остальным. До свидания…
Им незачем делать ей замечания, незачем спрашивать, кому она звонила, незачем уличать: вы сказали, что идете в аптеку, а мы вас нашли в телефонной будке, – им все и так совершенно ясно.
– Простите, я заставила вас ждать, – говорит Фредерика.
В ответ:
– Ничего-ничего, мы только что подошли.
Все втискиваются в «лендровер», Фредерика сидит между Пиппи и Оливией, Лео на коленях у Пиппи. Так только кажется, будто я взаперти, твердит себе Фредерика. Могу взять и уйти, хоть завтра, да, могу. Стоит мне сказать: «Я ухожу», эти трое только обрадуются, вот так.
– А чай у тебя остыл, – рассказывает Лео. – Мы всё думали, куда ты девалась.
Он цепляется за ее руку. Стиснутая плотными крупами Пиппи и Оливии, Фредерика не может пошевелиться.
Лео прямо влюбился в сказку про Томми Брока и мистера Тода[45]. Фредерика пробует читать ему другие книги – «Паровозик Томас»[46], прочие истории про хоббитов, – но он каждый вечер хочет слушать только эту довольно циничную сказку. Большие куски оттуда он цитирует на память, особенно смакует развязку, когда лис думает, что убил барсука.
– «Похороню этого мерзкого типа в яме, которую он вырыл. Постираю свое постельное белье и высушу его на солнце, – сказал мистер Тод. – Помою скатерть и разложу ее на солнце для отбеливания. И одеяло нужно повесить на ветру, и кровать должна быть полностью продезинфицирована, проветрена и нагрета бутылками с горячей водой. Возьму жидкое мыло, копру, всякие моющие средства, соду и жесткие щетки, персидский порошок и карболку, чтобы уничтожить запах. Нужно все обеззаразить. Может быть, придется жечь серу»[47].
– Мама, а сера – это что? А персидский порошок?
– Сера – она желтая и плохо пахнет, – отвечает Фредерика, подхватившая стиль Беатрикс Поттер. – Из нее делают спички и ракеты для фейерверков, а пахнет она как тухлое яйцо… ну, это ты, пожалуй, не поймешь, яйца сегодня, похоже, не тухнут. Гадкий такой запах.
– Томми Брок, наверно, очень гадко пах, – замечает Лео, – раз от его запаха нужно тухлые яйца нюхать. А чем он пах, как ты думаешь?
– Как пахнут ноги, если их месяцами не мыть, – отвечает Фредерика. – Но этот запах ты, наверно, тоже не знаешь.
– Я один раз нюхал рубашку мистера Уигга, когда он работал в саду. Папа говорит, от мистера Уигга такая вонь. Мама, Томми Брок пах, как мистер Уигг?
– Гораздо хуже. И никогда не говори о людях, что от них вонь, это нехорошее слово, они могут обидеться.
– А мне нравится. «Вонь». Похоже на «конь». Конь – вонь… Это, наверно, про Угольковы какашки.
– Хватит про вонь. Слушай дальше.
– Ты еще не сказала, что такое персидский порошок.
– Не сказала? Просто я сама не знаю. Я ведь тебе вчера говорила, помнишь?
– Могла бы и посмотреть.
– Могла. Но откуда мне было знать, что ты захочешь слушать про Томми Брока и мистера Тода четвертый раз подряд?
– Могла бы и знать. Они мне нравятся, Томми Брок и мистер Тод. И завтра про них почитай. Мне нравится, когда они друг другу делают всякие ужасности. Они ужасные люди и делают ужасные вещи, и все так ужасно, а маленькие кролики все-таки спасаются. Только напугались немножко, кролики. Мама их встревожилась, насторожила уши… Как это уши настораживают?
– У тебя не получится, ты же не кролик. Примерно так.
Она запускает обе руки в свои рыжие волосы, вытягивает две прядки и шевелит ими. Лео пронзительно хохочет: слушая сказку, он перевозбудился.
– Давай дальше! Ну, давай! «Мистер Тод открыл дверь…» – подсказывает он.
– «Томми Брок сидел за кухонным столом мистера Тода, наливал чай из заварного чайника мистера Тода в чашку мистера Тода, он был абсолютно сухим и улыбался. Он швырнул эту чашку в мистера Тода и ошпарил его».
Лео, повизгивая и задыхаясь от смеха, катается по подушкам, лицо его лоснится от пота. Фредерика гладит его по голове и прижимает его лицо к своей груди. Он вцепляется ей в волосы и, сотрясаясь от хохота, дрыгает ногами.
Проходит неделя или чуть больше. Однажды, когда все они – Оливия, Розалинда, Пиппи Маммотт, Фредерика и Лео – сидят за чаем, возле дома раздается хруст гравия под колесами машины.
– Элис, наверно, – говорит Розалинда.
Пиппи Маммотт с набитым ртом – она ест фруктовый пирог – возражает:
– Это машина не Элис, это «лендровер».
– Не наш, – уточняет Олив. – Наш немного тарахтит.
– Что-то не узнаю, – говорит Розалинда.
Пиппи подходит к окну.
– Трое мужчин, – сообщает она. – Незнакомые. Вылезают из машины. Идут к двери.
– Консерваторы приехали агитировать? – спрашивает Олив.
Пиппи идет открывать. Слышен рокот мужских голосов, разобрать можно только последнее слово: «Фредерика». Фредерика встает и сама направляется к двери. У двери она видит Пиппи Маммотт, а перед порогом, где им не место, где они словно бы не существуют, стоят Тони, и Алан, и Хью Роуз. Возле дома блестит полировкой новенький «лендровер».
– Добрый день, миссис Маммотт, – здоровается Хью. – Мы проезжали мимо…
– …И решили навестить старую приятельницу, Фредерику, – подхватывает Тони.
Алан добавляет:
– Я надеюсь, мы никому не помешали, а, Фредерика?
Фредерика боится расплакаться. Она сбегает по ступенькам и обвивает рукам шею Алана. Он обнимает ее. Обнимает ее и Тони. Хью Роуз целует в щеку. Пиппи Маммотт стоит в дверях и созерцает это беспорядочное обнимание.
– Чаю хотите? – спрашивает Фредерика со смехом, в котором звучат истерические нотки. – Заходите, выпьем чая.
– Мы так и надеялись, что ты пригласишь, – говорит Тони, надвигаясь на Пиппи Маммотт. – Спасибо за теплый прием, – добавляет он, хотя во взгляде Пиппи теплоты не наблюдается. – После долгой езды чай – как раз то, что надо, правда, Алан? Правда, Хью?
Бойкая компания вваливается в дом, друзья с любопытством озираются, обступают Оливию и Розалинду, пожимают им руки.
– Я смотрю, вы дорогу не забыли, – обращается Олив к Хью Роузу.
– Это было нетрудно. Проезжали мимо, дай, думаем, повидаемся с Фредерикой. Если повезет.
– Чай остыл, – замечает Пиппи Маммотт. – Пойду заварю свежий.
Она увозит сервировочный столик. Фредерика знакомит гостей и хозяев: Тони, Алан, Хью, Розалинда, Оливия, Лео.
Все рассаживаются и пристально друг друга разглядывают. Алан отпускает пару похвал архитектуре Брэн-Хауса, Розалинда и Оливия растерянно, кратко отвечают.
– Ну а ты, Фредерика, что поделываешь? – спрашивает Тони. – Чем, радость моя, занимаешься? Расскажи, как живешь.
– У меня есть Лео… – начинает Фредерика и осекается. – Лучше вы расскажите… обо всех наших, чем сами занимаетесь.
– У всех предвыборная лихорадка, – говорит Тони.
– Я читаю лекции в галерее Тейт, – рассказывает Алан, – о Тёрнере. Неожиданно увлекся Тёрнером. Никогда романтизмом не интересовался, а теперь вдруг увлекся.
– А я пристроил свое стихотворение о гранате – вот что посылал – в «Нью стейтсмен», – говорит Хью. – Я уже много стихов написал, почти на целую книгу. Хотел назвать ее «Колокольцы и гранаты», но название уже занято[48]. А про колокольцы у меня там есть. Я, конечно, не с «Колоколами Любека» состязаюсь, у меня скорее перепевы «Мэри Все Наоборот»[49].
– «Колокольцы, да ракушки…», – вспоминает Лео.
– Вот-вот. – Хью поворачивается к Лео. – Сад, а в нем разные блестящие штучки.
– «На нем орехи медные и груши золотые»[50], – цитирует Лео.
– Да он у тебя поэт, Фредерика.
– Просто ему нравятся слова, – отвечает Фредерика.
– Странно, если бы было иначе, – замечает Тони, поглядывая на сумрачных тетушек на диване; те отмалчиваются.
Возвращается Пиппи Маммотт с сервировочным столиком и свежезаваренным чаем. Тони съедает три куска фруктового пирога, Алан – сэндвич с огурцом и паштетом из сардин.
– А Уилки? – спрашивает Фредерика. – С Уилки, наверно, встречаетесь?
– Он с головой ушел в свою телеигру. Подготовил пробный выпуск, говорит, обхохочешься: литературные светочи и театральные дамочки смачно попадают пальцем в небо, Одена принимают за Байрона, Диккенса за Оскара Уайльда, Шекспира за Сесила Форестера[51]. Он просил, чтобы мы и тебя уговорили: все играют, даже Александр, приходи.
– Ты их разделаешь под орех, – обещает Алан.
– Кому интересно меня видеть?
– Придешь – все станет интересно. С тобой всегда так.
Хозяйки раздают чашки с чаем, гости отвечают мимолетными улыбками. Все трое говорят наперебой, разговор получается приятный и занятный, с уважением к непосвященным: того, что понятно только своим, почти не касаются, но привычные Фредерике мысли и темы, близкая ей болтовня и пересуды – это ей как живительная влага, без них она увядала. Она вступает в разговор. Рассказывает Хью, чем ей понравилось его стихотворение. Рассуждает про Персефону, сидящую во мраке перед разрезанным гранатом, про гневно взмывающую в эфир иссохшую Деметру. По-приятельски перебрасываются цитатами.
– «Перебирая вяло розовыми пальцами», – вдруг выпаливает Лео.
– А я и не знал, что мама тебе это читала.
– Это не мама, – говорит Лео. – Это папа.
Сумрачные женщины на диване сводят губы в ниточку и переглядываются.
Фредерика тянется к Лео. Хью, занятый только своими стихами, ничего не замечает.
– Папе понравилось? – спрашивает он.
– Вроде нет, – отвечает Лео.
– Он стихи не… – начинает Фредерика.
– Ему нравятся хоббиты. А мне эти стихи понравились, – великодушно сообщает Лео.
– Вот бы погулять по вашему лесу, а, Фредерика? – предлагает Алан. – Можно? Можно мы там пройдемся? Я родом с угрюмого севера, эти места не знаю. Здесь красиво.
Фредерика встает.
– Пойдем погуляем, – соглашается она. – Да-да, здорово, именно то, что мне нужно. Пойдем проветримся.
Алан обращается к Оливии и Розалинде:
– Не составите компанию?
– Мы, пожалуй… – начинает Розалинда.
– Нет, спасибо, – отвечает Оливия.
– Нет, спасибо, – вторит Розалинда.
В первый раз на ее памяти у них возникло разногласие, мысленно отмечает Фредерика, но тут же решает, что, наверно, преувеличила: просто она снова стала самой собой, она снова счастлива и наблюдательна до неосторожности.
– Мы ненадолго. – Фредерика идет в прихожую и берет куртку. – Надеюсь, не очень надолго. И потом, тут ничего особенного.
– Я с вами! – объявляет Лео. – Подождите меня.
– Не стоит, детка, – спохватывается Пиппи Маммотт. – К ужину опоздаешь. Будут греночки с сыром, твои любимые, и пирог с патокой, ты его тоже любишь.
– Я тоже пальто надену. – Лео идет к двери.
– Маме не хочется, – уговаривает Пиппи Маммотт. – Мама хочет побыть с друзьями, они давно не виделись. А мы посидим дома, подождем их, поиграем в «Счастливые семьи»[52] – тебе же нравится.
– Нет, маме хочется. – Лео останавливается и чуть не плачет, но чувствуется, что его не свернуть: внук Билла Поттера, сын Найджела Ривера, застывшая у камина фигурка. – Ей не хочется быть с ними без меня, не хочется!
Фредерика стоит и смотрит на сына. Молчит, но смотрит прямо в глаза. Вместо нее за дело берется Тони Уотсон:
– А пальто-то где?
Алан присоединяется.
– Мы за ним будем очень-очень хорошо присматривать, – обещает он Пиппи. – Приведем домой – до ужина еще куча времени останется.
Фредерика подает Лео пальто, он порывисто сует руки в рукава. Они проходят через сад, идут лугами. Лео сперва снует между Хью и Аланом, потом усаживается на крепкие плечи Тони и, вцепившись в его курчавую шевелюру, указывает на разные разности, тонущие в густеющих сумерках: ворона, барьер для скачек с препятствиями, корыто для водопоя, ворота, к которым прибиты тушки сорок и горностаев.
В присутствии Лео Фредерику о ее жизни не расспрашивают. Алану приходит в голову: Лео хоть и маленький, но не увязался ли он за ними, имея намерение, пусть и неосознанное, помешать Фредерике рассказывать о себе? Едва разговор прерывается задумчивой паузой, малыш тут же бросается пронзительно тараторить, стараясь для форса говорить умное. Это он на всякий случай, думает Алан, на всякий случай… Трое друзей стараются примениться к обстоятельствам. Верные друзья приехали помочь чем только могут. В лесу совсем стемнело, брезжат лишь дымчатые остатки закатного света.
Дружеская компания возвращается домой, рассуждая о словах, означающих сумерки: полумрак, потемки, crépuscule, Dämmerung[53]. Хью цитирует Гейне: «Im Dämmergrau, in das Liebeland / Tief in den Busch hinein»[54]. Чтобы растянуть прогулку, идут кружным путем, к парадному входу, вдоль рва с водой, и Алан замечает:
– А ты и правда живешь в настоящей крепости.
– Хью, когда сюда попал, все цитировал: «Только соединить». Я вспылила, но он, конечно, прав.
– Соединила?
– Слушай, Алан, кто может судить, что реальнее: Брэн-Хаус или Лондон? Те, у кого на уме только книги, или те, у кого головы забиты цифрами? Но постоянно думать о литературе мне в Кембридже поднадоело. Я сказала себе: хватит с меня теней, соединю, – и вот я здесь, в крепости.
– И для полноты картины тут своя миссис Данверс[55] имеется.
– Но-но. Эти твои неуместные аналогии могут выйти боком.
– «Им деммерграу, ин дас либеланд…», – произносит Лео.
– У тебя все к языку прилипает, – замечает Хью.
Алан берет Фредерику за руку.
Они поворачивают, переходят по мосту ров с мутной зеленой водой и ступают по хрустящему гравию. Возле «лендровера» стоит еще один автомобиль – не зеленый «астон-мартин» Найджела, а сверкающий серой эмалью «триумф». С верхней ступеньки входной лестницы на друзей смотрят трое мужчин, один – гораздо приземистее остальных – Найджел. У двух других экипировка непринужденно деловая: блейзеры, фланелевые брюки. Первый смуглый, с курчавой белой бородой изящной формы. Второй лысый, в роговых очках. Алан выпускает руку Фредерики. Тони снимает Лео с плеч и ставит на землю, и малыш, оглядевшись, мчится по гравию и карабкается по ступенькам к отцу. Фредерика извиняется за присутствие своих друзей, хотя понимает, что это лишнее. Представляет их: старые приятели, она понятия не имела, что они будут проезжать мимо. Говорит она запинаясь, а Найджел и его спутники все так же возвышаются на верхней ступеньке у входа. Найджел молча, коротко кивает Алану, Тони и Хью: лаконичное, степенное, безулыбое приветствие. Представляет своих спутников: Говиндер Шах и Гейсберт Пейнаккер. Оба чинно подают руки Алану, Тони и Хью – руки протянуты сверху вниз, и друзьям приходится пожимать их в позе придворных.
– А это моя жена, – сообщает Найджел.
– Очень приятно, – говорит Шах.
– Рад познакомиться, – говорит Пейнаккер.
Фредерика чувствует, как ее изучают, осмысляют, каждый по-своему. У Шаха из бороды выглядывают пухлые мягкие губы, под глубоко посаженными глазами, над которыми кудрявятся белые брови, пролегли две морщинки, как от улыбки. Под темно-синим блейзером сорочка цвета слоновой кости, шея под ней повязана шелковым индийским платком, огненно-рыжим с золотом, а по нему разбросаны лиловые и черные цветочки. Пейнаккер гладенький, безволосый, весь как яйцо: лоснится яйцеподобная голова на плотном яйцеподобном теле. На нем сорочка цвета индиго в белую полоску и аккуратнейшим образом повязанное длинное кашне. Найджел одет в темный свитер и темные брюки. На Алане, Тони и Хью водолазки, вельветовые куртки и штаны. Вид непрезентабельный, невзрачный. Окажись друзья Фредерики в родной стихии, приятели Найджела рядом с ними выглядели бы расфуфырами, однако они не в родной стихии. Обе компании могли бы легко сойтись, завести живую беседу, найти общий язык, но этого не происходит. Найджел объясняет, что им с Пейнаккером и Шахом надо обсудить кое-какие важные вопросы. Он предлагает друзьям Фредерики выпить, но те отказываются и ретируются к «лендроверу».
– Может, вы одолжите нам Фредерику? – спрашивает Тони. – Мы бы в Спессендборо поужинали, пока вы тут разговариваете.
Просьба эта высказана походя, без всякой задней мысли, это понятно всем.
– Пожалуй, не стоит, – отвечает Найджел. – Она, пожалуй, не согласится. Ведь мы только-только приехали.
– Раз вы будете что-то обсуждать, не так уж я вам и нужна, – возражает Фредерика.
Умом она понимает: ничего особенного она не сказала.
И понимает: поплатится она за эти слова.
– Мы тут немного задержимся, – говорит Тони. – Остановились в «Красном драконе». Может, еще увидимся.
– Может быть, – отвечает Найджел. – Как знать.
Всем ясно: будь его воля, они не увидятся больше никогда.
Фредерика сидит за ужином вместе с Пейнаккером, Шахом и Найджелом. Приятелей Найджела она видит нечасто, а когда такое случается, они разговаривают с ней мало. Кажется, за стенами дома жизнь Найджела протекает больше частью в мужском обществе: клубы, бары, сигары, запутанные интриги. Когда он в Брэн-Хаусе, этот мир обступает дом-крепость незримо, подает голос из эфира: гортанные голоса, возбужденные голоса, голоса вкрадчивые, голоса сдобные, европейские голоса, азиатские голоса, американские – они просят позвать к телефону Найджела, и он, развалившись в кожаном кресле, целый вечер беседует со всем белым светом. Похоже, если бы не друзья Фредерики, ее бы ужинать в компании Пейнаккера и Шаха не пригласили. В те редкие дни, когда в Брэн-Хаусе появляются пришельцы из внешнего мира, ее ссылают ужинать в детскую к Лео или она располагается у камина, а Пиппи Маммотт на подносе подает ей что-нибудь вкусное. Сейчас она сидит с гостями, но с разговорами к ней не обращаются. Пейнаккер с ней если и беседует, то в третьем лице, через Найджела.
– Как славно жить в этих краях вашей драгоценнейшей супруге, – говорит он, не без приятности улыбаясь одновременно и мужу и жене. – В Голландии пейзажи не так разнообразны, одни равнины. Ваша драгоценнейшая супруга бывала в Голландии?
– Нет, – отвечает Фредерика. – Мне хочется побывать в Рейксмузеуме[56]. Посмотреть картины Ван Гога.
– Свозите ее разок, Ривер, – советует Пейнаккер. – В Роттердаме ничего красивого нет, а вот Дельфт и Лейден ей понравятся, полюбуется тюльпанами.
Говорит он это без всякого интереса, но – сама любезность.
– Так вы, миссис Ривер, интересуетесь живописью? – спрашивает Шах.
В отличие от Пейнаккера он на Фредерику смотрит. Их взгляды встречаются, и по губам его пробегает понимающая улыбка, дежурная или нет – непонятно.
– Я просто в восторге от вашего платья, – продолжает он. – Этот оттенок коричневого так идет к вашим волосам. Так какие картины вам больше нравятся?
Фредерике и самой по душе этот наряд: облегающее платье из джерси с воротником-стойкой и длинными узкими рукавами, платье темно-коричневого оттенка, между кофейным и шоколадным. Оно хорошо подчеркивает стройность ее длинного тела, ее длинных рук. Платья сегодня день ото дня короче. А это подчеркивает еще и стройность ее длинных ног. Говиндер Шах рассматривает ее маленькие груди, обтянутые платьем. Взгляд у него добрый, но Фредерика понимает, что он не находит ее привлекательной. Он убежден, что ей бы хотелось оказаться привлекательной в его глазах, и он так и облизывает ее взглядом из вежливости.
– Я, к сожалению, в живописи не очень разбираюсь, – признается Фредерика. – Но о Ван Гоге знаю много: один мой хороший приятель написал о нем пьесу. Вот литература – это мое.
– Про Ван Гога, кажется, много пьес, – вставляет Пейнаккер. – Им многие интересуются. Набожный и сумасшедший, так по-голландски. За всю жизнь продал только одну картину. Восхищаюсь его упорством: шел вперед, несмотря ни на что. Какой человек в здравом уме написал бы сотни, тысячи картин, которые никто не хотел покупать? Я все гадаю: знал ли он, что на них рано или поздно будет спрос, или случайно так получилось?
– Мало ли кто занимается чем-то невостребованным, – говорит Шах. – Но я согласен: бывают такие несгибаемые подвижники, которые делают свое дело, понимая, что когда-нибудь оно окажется нужным, они опережают свое время. Кое-кого считают безумцем, кто-то и правда безумен. Брат Ван Гога, помнится, торговал картинами. Он, возможно, понимал, что когда-нибудь и на эти картины будет спрос. А может, не понимал. Помнится, он их скупал и хранил. Может, просто по доброте душевной. Может, считал, что это его долг перед членом семьи.
– А в конце жизни тоже сошел с ума, – замечает Пейнаккер. – Голландцы вообще подвержены мрачному помешательству. Все из-за серых дождей у нас на побережье. Потому-то мы и любим путешествовать – чтобы спастись от серых дождей и мрачного помешательства.
– Ну, у нас на Индийском субконтиненте если кому и приходится уезжать подальше, то чтобы спастись от нищеты и безобразий, которые мы развели в повседневной жизни, – говорит Шах. – Мы создали мир, где предпринимательство невозможно, потому что мы народ недисциплинированный, мы ленивы и распущенны. А найдется человек с предпринимательской жилкой, так ему нипочем и ваши серые дожди, и мрачное помешательство, лишь бы добыть хлеб насущный, а если повезет – к нему и масла с джемом, а там, глядишь, и фуа-гра с икрой. Ваши серые туманы и злые промозглые ветры мы терпеть не можем, у себя от солнечного зноя раскисаем – нам бы сновать туда-сюда, но не можем.
Все трое смеются, словно в этом монологе крылось что-то, кроме сказанного.
Шах изрекает:
– Хорошо тому, у кого офис в Роттердаме, офис в Лондоне, дом на холме в Кашмире, вилла в Антибе, яхта в Средиземном и океанский катер в Северном море: свободный человек!
– Винсент Ван Гог не избавился от мрачного помешательства и на юге, – говорит Пейнаккер. – Видно, солнце не помогло. Сам-то я солнце люблю. Люблю отдохнуть неделю-другую в Северной Африке, в Италии, на юге Франции. Глаза и кожу берегу, солнечными ваннами не злоупотребляю.
– Вы, Гейсберт, сразу видно, человек осмотрительный и воздержанный.
– Смотря в чем, Говиндер, в личной жизни – да. Но пойти на риск готов. Без риска что за бизнес?
– Верно. Главное – трезво оценить, чем рискуешь.
Они опять смеются. Фредерики, в ее коричневом наряде, здесь как бы и нет – для них, то есть нету даже этих женских глаз, замечающих их мужскую резвость: для них она не совсем женщина. Для них – но не для Найджела. Он посматривает то на Шаха, то на Пейнаккера, но наблюдает и за ней, то и дело подливает им вина – ей нет. Может, он так неразговорчив из-за мыслей об Алане, Томи и Хью? А может, он всегда так? Даже уйдя в свой телефонный мир, он больше слушает: сидит, склонив голову набок, а на губах и на лбу лежит тень задумчивости.
Трое друзей ужинают в «Красном драконе»: пирог с мясом и почками. Был томатный суп, теперь пирог, очень вкусный. В одном конце зала стойка бара, потолок низкий, с балками, старинными или нет – непонятно. Есть тут камин, в нем горят настоящие дрова. Когда в камине горят дрова – и на душе светлее, замечает Тони.
– Нельзя ей там оставаться, она с ума сойдет.
– Не скажи, – возражает Хью. – Она же сама туда переехала. Может, ей там и правда хорошо. Может, нравится ей сельская жизнь. У меня иногда к ней вкус просыпается.
– Думаешь, ей там хорошо?
– Нет-нет, не думаю.
– Почему она туда переехала? – спрашивает Тони, как будто ожидает, что у кого-то готово рациональное объяснение.
– Как я заметил, – произносит Алан, – люди, бывает, весьма здраво рассуждают о Шекспире, Клоде Лоррене, даже о Гарольде Вильсоне, но вздумается им вступить в брак, они прямо с катушек слетают. Кто из супругов посильнее, подминает более слабого. Женятся на отвлеченных идеалах, которые сами себе придумали. У одной моей знакомой был идеал: мужчина с черными как смоль волосами, нашла такого – и что хорошего? Зануда, каких свет не видывал, держит на чердаке игрушечную железную дорогу. Кто-то, я замечал, женится назло родителям, кто-то – чтобы повторить ошибки или успехи родителей, часто и то и другое. Женятся, чтобы расстаться с матерью, сотни женятся на одной любовнице, чтобы отделаться от другой, и мысли их заняты не той, на которой женятся, а другой, оставленной. Женятся в пику тем, кто не одобряет.
– Или из-за денег, – подсказывает Тони.
– Или из-за денег, – соглашается Алан. – Я бы предположил, что мировоззрение Фредерики такого не допустит, но ведь она могла и взбунтоваться против своего мировоззрения – по крайней мере, на короткое время.
– Она говорила, что вышла замуж из-за смерти сестры, – вспоминает Хью. – То есть не точно так сказала, но дала понять. Говорит, из-за смерти сестры она изменилась, стала совсем другой.
– Не понимаю, – говорит Тони, – каким образом смерть сестры может заставить кого-то превратиться в почтенную помещицу. Странная реакция, мягко выражаясь.
– А может, был такой план, – предполагает Алан. – Начать все сначала, на новом месте, новая жизнь… Нет, не может быть, чтобы Фредерика так понаивничала.
– Она всегда была наивной, – замечает Тони. – Только поэтому ее и можно было терпеть. Наивной и умной одновременно, и всегда, бедняжка, убеждена в своей правоте. Видишь, во что она вляпалась, – испытываешь Schadenfreude[57].
– Нет, – отвечает Хью, – это страшно. И этот удивительный малыш… Так старался, чтобы она не могла с нами и словом перемолвиться. И добился своего.
– Это само дикое, – подхватывает Тони. – Из-за этого ей и не вырваться.
Тони говорит о тягостном положении Фредерики не без удовольствия. Алан и Хью встревожены сильнее, но настроены менее решительно.
– Кто их разберет, конечно, – говорит Хью. – Бывает, супруги несхожи, но получается странная пара, которая на какой-то странный манер счастлива.
– Чего тут разбираться, – отвечает Алан. – Она мучается. Растерялась, мучается, стыдится.
– Так, – произносит Тони. – И что будем делать?
– А что мы вообще можем?
Официантка приносит лимонный торт-безе.
– Не бросить же ее на произвол судьбы, – говорит Алан.
– Похоже, снова повидаться с ней будет теперь нелегко, – говорит Хью.
Мерцает огонь в камине. В пабе уютно. Друзья заказывают кофе и виски и заводят разговор о Гарольде Вильсоне и Руперте Жако. За окнами взметается ветер, принесший дождь.
Фредерика отправляется спать рано, а Найджел уводит Шаха и Пейнаккера к себе в кабинет. Она лежит в постели и читает «Жюстину» Даррелла[58]: выбрала этот роман потому, что даже в ее нынешнем состоянии написано так, что трудно оторваться. Взять бы да уехать в Александрию, думает она, а потом думает, что если кто и поедет в Александрию, то это Пейнаккер, Шах и Найджел Ривер. Доведись им почитать цветастую прозу Даррелла, они бы и пяти минут не выдержали, зато в его мире освоились бы лучше нее… Даррелловская Александрия ей в спальне не нужна, она гасит свет. Но лежать, застыв, в темноте и призывать сон – от этого сотрясается ум и ломит кости. Она снова зажигает свет и берет Рильке. Ради умственной разминки читает «Сонеты к Орфею», держа под рукой перевод. Это помогает лучше. Единоборство с грамматикой успокаивает, и тут она натыкается на строчки, от которых по коже продирает мороз, – надо показать Хью:
И спохватывается: теперь показать что-нибудь Хью будет не так-то просто.
Найджел приходит в спальню поздно, очень поздно; Фредерика притворяется спящей. В темноте он то и дело на что-то натыкается, зажигает свет, солодового виски выпито порядком. Фредерика лежит на краю кровати, вытянувшись, как разъяренная игла. Он поднимается, выключает свет и протягивает к ней тяжелую руку. Она уворачивается. Он тянет ее к себе. В сознании мелькают губы, груди, ягодицы из чемоданчика. Она ужом выскальзывает из постели, хватает Рильке и скрывается в ванной.
– Чего это он тебя за руку держал? – доносится до нее.
Она пытается вспомнить. Дом-крепость. Думает было хлопнуть дверью, но, сдержавшись, закрывает ее тихо и ждет.
Она ожидает взрыва. Взрыва не происходит, Найджел уснул. Виски славный, спится славно, тишина – благодать. Краешки век у Фредерики горят от затаенных слез.
Следующий день – воскресенье. Фредерика завтракает в обществе Пейнаккера и Шаха, и они отбывают в своем «триумфе». Она ловит себя на том, что все ходит и ходит. По лестницам, лестничным площадкам, из комнаты в комнату и обратно. Она думает, что хорошо бы прогуляться, но потом думает, что могут объявиться друзья. И правда: часов около десяти звонит телефон. Трубку снимает Пиппи – она как раз оказалась в прихожей. Фредерика стоит на лестничной площадке.
– Алло. Да-да… Я не знаю, здесь она или нет и какие у нее планы. Сейчас посмотрю.
Фредерика спускается по лестнице. Из гостиной выходит Найджел, кивает Пиппи. Выждав для приличия пару минут, Пиппи снова берет трубку:
– Извините, она, оказывается, все утро занята. К сожалению, ничего не получится.
Из трубки доносится любезный голос. Фредерика продолжает спускаться. Найджел снова кивает Пиппи, и та, сочувственно поцокав языком, говорит:
– Извините, она не может подойти к телефону, она вышла. – И, не успевает Фредерика приблизиться, вешает трубку.
– Пиппи, вы видели, что я никуда не уходила, – произносит Фредерика. – Что это значит?
Пиппи пристально смотрит на нее, быстро опускает глаза и семенит прочь.
– Так теперь мне из дому ни шагу? – обращается Фредерика к Найджелу.
– Не говори глупости.
– Это не глупости. Ты только что солгал моим друзьям, старым друзьям. Я была здесь, а ты сказал, что я вышла.
– Ну извини, – уступает Найджел с подкупающей готовностью. – Это я плохо поступил. Я эту копанию терпеть не могу.
– Ты же их не знаешь.
– Я им не нравлюсь, а они мне. А я твой муж.
Они смотрят друг на друга в упор.
– Вот я сейчас им позвоню и скажу, что я здесь, – объявляет Фредерика.
– А я не хочу. Я хочу, чтобы ты осталась дома, хоть раз, ради меня. Погуляем с Лео. На машине прокатимся. Лео полезно побыть с обоими родителями.
Фредерика подхватывает ключевую фразу:
– «Хоть раз»! Что за «хоть раз»? Я никуда не хожу, ни с кем не вижусь, своей жизни у меня нет, в кои-то веки приезжают мои друзья, и у тебя хватает нахальства просить: «Хоть раз побудь дома»?
– Да пойми же ты, – кипятится Найджел, – не доверяю я тебе. Ты больше не та девушка, к которой я привык. Я ведь тебя тогда побаивался. А сейчас боюсь, что тебе со мной и с Лео станет скучно, захочешь нас бросить или еще чего. Понимаешь?
– Еще бы, – отвечает Фредерика. – Это я понимаю. Но больше я так не могу. Если ты будешь держать меня под замком из боязни, что я уйду, я и правда уйду, неужели не ясно?
– Лео… – произносит Найджел.
– Не смей шантажировать меня сыном! Я не только мать, но я – еще и я. Я хочу повидаться с друзьями.
– Хоть раз… – упрямо начинает Найджел и вдруг смеется судорожным, невеселым смехом. – Слушай, давай-ка начнем все сначала: переедем в Лондон, мы с Пейнаккером свозим тебя в Амстердам, посмотришь эти свои картины… в отпуск… Махнем в Вест-Индию…
– Я не хочу в Вест-Индию. Я хочу туда, где смогу говорить о книгах… где я могу думать. Для меня думать – такая же потребность, как для вас с Пейнаккером и Шахом – то, чем вы там занимаетесь.
– Ну и думала бы себе здесь. Но тебе не думать хочется. Тебе мужчин подавай. И чтоб побольше.
– Нет, Найджел, мне нужно…
– За руку тебя держал…
– И что, это так ужасно?
– Да. Да, ужасно. Для меня ужасно.
– Извини. В этом не было ничего такого. Раз уж даже при Лео. Мы просто друзья.
– Хоть раз… останься со мной. Прости. Останься.
Она остается: если позвонить в «Красный дракон», возникнет чудовищная неловкость, может дойти до насилия. Они катаются на машине – Фредерика, Найджел и Лео – и, что называется, прекрасно проводят время. Родители беседуют с Лео, он тоже с ними болтает. Вопреки опасениям Фредерики, ни Алана, ни Тони, ни Хью он не упоминает. Как будто не приезжали они, как будто их и на свете не было.
Когда они возвращаются домой, Найджел произносит:
– Славно провели время.
Пиппи уносит Лео в спальню. Подает Фредерике и Найджелу ужин. В глаза Фредерике не смотрит. Фредерика устала. Вот и еще день прошел – эта мысль ее утешает, но, когда спадает напряжение и кровь в жилах бежит быстрее, приходят другие мысли: «Еще один день прошел, и еще, и еще – и это жизнь?» – «Большинство так и живет, – шепчет в мозгу какая-то циничная добрая фея. – Так и живет большинство». Фредерика яростно вонзает вилку в морковь. Воскресенье, думает она, всю неделю работали, сегодня, наверно, сидят по домам.
В спальне трещины стягиваются, но тут же разверзаются. Фредерика видит, что Найджел уже сочинил сценарий нынешнего вечера: длительное, вкрадчивое совокупление, ласки и задушевность, восторг, самозабвение и принесенный утомлением сон. Отчасти от усталости, отчасти от почти что отчаяния Фредерика пытается настроить себя на покорность: ему нужно что-то ей дать, ей нужно поспать и забыться, нужно и ради Лео. Она смотрит, как он раздевается – любит спать нагишом, – и думает, что его тело реальнее, чем Алан, Тони и Хью, вместе взятые, – и Александр, и Уилки, и Рафаэль Фабер, добавляет она чуть ли не с яростью. Она сидит на краешке кровати, в ночной рубашке из белого батиста, с длинными рукавами и кокеткой на груди, сидит и размышляет, могли бы женщины прошлых веков хотя бы понять ее отчаяние: она ведь не собирается уходить к Алану, Тони и Хью, чтобы им отдаваться, ей хочется лишь говорить с ними, найти толику свободы хоть в умственной жизни. В спальне темно, Найджел задернул шторы – темно-красные, камчатные, что ли: красные деревья и красные цветы на красной земле. Когда Фредерика остается одна, она отдергивает шторы и видит облака или звезды. Она представляет, как Алан, Тони и Хью сидят в большой белой комнате с голубыми шторами на открытых окнах, а ветер колышет эти шторы и в комнату проникает солнечный свет. Сгорбившись, она рассматривает свои колени. Голый мужчина, ступая мягко, не без важности, как водится у голых мужчин, расхаживает по спальне, заходит в ванную; слышно, как он открывает кран, плюет, спускает воду. Фредерика сидит, ждет, размышляет. Я женщина, думает она, а потом: какая глупая, претенциозная мысль. Наверно, она мне пришла, потому что я из тех женщин, которые не до конца уверены, что они женщины, им то и дело хочется в этом убеждаться. Я недоженщина, смышленая, словолюбивая, не то что считается женщиной у мужчин с животными инстинктами. В Кембридже это на время притушевалось: женщин там было мало, и все относились к нам так, будто мы и есть настоящие женщины, относились как к медсестрам в тюрьмах или секретаршам в казармах.
Пенис расхаживающего мужчины уже не висит, но еще не поднялся, он наливается силой, жизнь в нем только пробуждается.
– Хорошая моя, – говорит мужчина. Приближается к неподвижной женщине и берется за подол ночной рубашки, намереваясь романтическим жестом снять ее через голову.
В уме Фредерики со всей отчетливостью возникает череда образов из запертого чемоданчика: скорченные фигуры, пышные телеса, гладкие, упругие груди, кармин и розы. Извернувшись, она уклоняется и вцепляется в ночную рубашку:
– Ни к чему это. Ни тебе, ни мне. Ты не хуже меня понимаешь, что все кончено, что остаться я не могу, что ничего не получилось. Завтра соберу кое-какие вещи, вызову из Спессендборо такси или что-нибудь такое и уеду как подобает. Тогда мы сможем остаться друзьями, не будет уже этого кошмара.
Это вырвалось неожиданно для нее самой, и она смущенно отмечает, что говорит таким тоном, каким няня отчитывает ребенка. Найджел на миг замирает, но снова идет в наступление. Пенис не опал, он мотается, как бешеная булава. Лицо Найджела налилось кровью, он хватает ее за волосы, опрокидывает на кровать – она, помня его спецназовский захват, не сопротивляется, – задирает подол, овладевает. Старается не причинить боль, но не целует, не ласкает. Налегает не помня себя, извергается, опускается на пол и сидит пошатываясь. Взбешенная, испуганная, Фредерика тихо произносит:
– Это ничего не изменит. Я все равно ухожу, завтра.
– Нет, – говорит Найджел. В глазах его стоят слезы, бегут по щекам.
Фредерика вытирает ноги одеялом и подолом рубашки.
– Ты хочешь не меня, – продолжает она. – Ты хочешь удержать то, что тебе принадлежит, как всякий самец-собственник: самка удирает, он рычит и бросается в погоню. Я здесь ни при чем.
– С чего ты взяла? Ты не знаешь, что я думаю, ты, по-моему, многое не знаешь. Многое не замечаешь. Разве ты знаешь, что я чувствую?
– Что ты чувствуешь, мне, кажется, уже безразлично. Я буду спать там, в другой комнате. Спокойной ночи.
Она идет в свободную спальню и, не зажигая свет, садится на кровать. Дрожит и ждет. Мыслей нет, ей страшно. Ждет. Услышав в коридоре шаги, она подходит к двери. Ее все еще пробирает дрожь. Не потерять бы сознание. Дверь с грохотом распахивается, и он входит в комнату. Пока он медлит, ожидая, чтобы глаза привыкли к темноте, Фредерика выскакивает в дверь, мчится по коридору, вниз по лестнице. Влетает в кухню, оттуда в буфетную, дергает запоры и цепочки и выбегает в сырую безмолвную ночь. Стрелой летит через задний двор к конюшне. Прислушивается. Шума погони не слышно, но тут раздается звук открывающейся двери. И все. Он не буйствует. Идет бесшумно. Фредерика тихо-тихо открывает дверь сбруйной каморки, забирается внутрь, закрывает дверь. Как не хочется оказаться в четырех стенах. Хочется на волю, хочется бежать бегом до самого Лондона, но это глупо, терять голову нельзя. Она пробирается за стойку с седлами, ждет. Когда он откроет дверь – если он откроет дверь, – сразу заметит, как белеет ночная рубашка. Фредерика отыскивает попону, набрасывает на спинку стула и приседает за ней. Куда ни спрячешься, всюду опасно, а убежать невозможно. В висках стучит, сердце колотится. Во рту пересохло. Она сжимается в комок.
Так проходит, как ей кажется, целая вечность, и вдруг дверь со стуком распахивается. Она слышит его дыхание. Видит его босые ноги и штанины его пижамы в синюю и белую полоску. Она еле-еле дышит – так, чтобы только не задохнуться.
– Фредерика, – зовет он.
Она ни звука. Он входит, озирается. Плоть и дыхание – на это у него инстинкт охотничий, думает она, однако он все прислушивается и не подходит.
– Все равно найду, – обещает он, и она по голосу догадывается: он сомневается, здесь ли она, и, несмотря на обуревающую его ярость, понимает, какая нелепость – разговаривать с пустой каморкой.
Он выходит, оставив дверь открытой. Не слышно, чтобы по каменным плитам двора кто-то ходил. Фредерика почти в истерике. Доносится скрип двери – другой двери, в соседнее помещение, в конюшне звякает копыто, ворочается лошадь. Слышно, как вторая дверь закрывается. Потом долгое время стоит тишина. Фредерика в сырой рубашке сидит, скорчившись, в холодной темноте и твердит себе: «Ты же умная, ум во всех случаях жизни помогает, придумай же что-нибудь…» Но ничего не придумывается, разве что вернуться в дом, спрятаться, дождаться утра, а там одеться поприличнее, бежать к шоссе – до него две с половиной мили, дорога малоезжая – и остановить попутку. Вот только Лео… Как убежишь, когда он не спит?
Часа два спустя она выбирается из каморки и расправляет затекшее тело. Тишина. Он, наверно, дожидается дома. Может быть, думает она, все пойдет вразнос: убьет он меня каким-нибудь спецназовским приемом… Нет, не думает она так. Ни один человек, наделенный жизнью и разумом, на самом деле и мысли не допустит, что смерть близка. Только бы спрятаться в доме, думает Фредерика, отсидеться до завтра… до рассвета…
Она огибает конюшню и шаткой походкой, босая, спешит через задний двор к черному ходу. Ночь выдалась промозглая. Небо хмурится. Дверь заперта на замок и на задвижку. Фредерика стоит на ступеньках и решает, как теперь быть. Как ни странно, она испытывает облегчение. Утром ее впустят в дом – встрепанную, продрогшую, но это пустяки. Она глубоко вздыхает.
– Ну и что теперь? – раздается у нее за спиной: из-за угла дома появляется Найджел.
Он в рубашке, на ногах кеды. В руке у него топор. При виде топора Фредерика вскрикивает, на что он и рассчитывал. Небольшой такой топорик, аккуратный, легкий, удобный, сверкающий.
– Перестань ребячиться, – неуверенно произносит Фредерика.
– Ты у меня получишь… – хрипит он и приближается к ней.
Фредерика бросается бежать. Что есть духу мчится через двор, через другой, через сад, выбегает в поле. Он за ней. Бегает он быстро, но сейчас она словно обезумела и летит сломя голову, жадно ловя широко открытым ртом холодный ночной воздух. Она бежит по отлогому полю, он останавливается у верхней кромки, разражается хохотом и бросает в нее топор.
Она старается увернуться, пригибается. Видит она его плохо, поэтому никогда не узнает, старательно ли он прицеливался, старался ли промахнуться. Топор плашмя бьет по ребрам, дыхание перехватывает. Она падает вместе с топором, лезвие вонзается в бедро, задевает икру. Ночная рубашка мгновенно обагряется кровью. Фредерика лежит на боку и, как в забытьи. созерцает траву, кротовину, линию горизонта, хмурое сизо-черное небо. Она задыхается. Глаза болят. Она чувствует кровь, кровь, ее кровь, она плавает в горячей крови. Кровь – это значит бесповоротно… Она смотрит застывшим взглядом.
Он подбегает к ней, бросается на колени. Он вне себя от отчаяния, он плачет, он отрывает лоскут от ее рубашки, перевязывает.
– Я не нарочно… я не нарочно… – твердит он. – Ты же понимаешь, я не нарочно…
– Что такое «нарочно»? – бессвязно бормочет Фредерика и окончательно проваливается в блаженное забытье.
Когда она приходит в себя, он на руках несет ее по отлогому скату наверх, к дому. Можно будет поспать, думает она.
Перевязывает он ее умело. Вытирает кровь, залепляет рану пластырем, обматывает бинтом.
– Это так, царапина, – успокаивает он. – Обойдемся без врача. Я в этом разбираюсь.
– После спецназа.
– Пригодилось. Мне жутко стыдно. Сам не пойму, как это я… Я тебя люблю. Я не хочу, чтобы тебе было больно.
– Не похоже.
– Знаю. Господи, ну виноват. Пойми же ты…
– Понимаю.
– Не нравится мне твой тон.
– Я не старалась, чтобы тебе понравилось.
– Фредерика, ну пожалуйста…
– Уходи. Мне нужно выспаться.
– Да, выспаться нужно…
Он покорно удаляется.
Пиппи Маммотт подает ей завтрак в постель.
– Вы, похоже, ночью упали, – замечает она.
– Что-то вроде этого.
– Я бы на вашем месте была осторожнее.
– Что вы этим хотите сказать, Пиппи?
– Что сказала. Осторожнее надо быть, когда бегаешь туда-сюда по ночам.
Фредерика делает вид, что ей хуже, чем на самом деле. Так она выкраивает себе пространство для маневра, хотя как будет маневрировать, еще не придумала.
Приходит Лео, гладит ее лицо:
– Бедненькая, заболела.
– Оступилась и упала. По глупости.
– Папа говорит, поправишься.
– Мне, Лео, просто надо хорошо выспаться, только и всего. Полежать тихо-тихо. Я на ногах плохо держусь.
– Бедная ты, бедная…
– Не плачь, Лео, я поправлюсь. Честное слово.
Лео плачет и плачет. Она сидит, прижимая его к себе. Скверно эта история на него подействует.
– У тебя все лицо побитое. Ты, наверно, ужасно ушиблась.
– Да, и правда ужасно. Но мне уже лучше, сам видишь. Все обошлось.
– Все обошлось, – повторяет Лео тоненьким голосом. – Обошлось.
Найджел и Лео отправляются на конную прогулку. Оливия и Розалинда уехали к Элис помочь с распространением листовок. Пиппи тоже куда-то пропала – может оказаться где угодно, но Фредерика в отчаянии. Она встает, надевает брюки и свитер и спускается по лестнице. Ходит она свободно, хотя двигаться еще больно. Болит не только рана от топора, но и ушибы от падения. В прихожей она останавливается и задумывается, потом открывает дверь и ступает на гравий. Если Пиппи поблизости и захочет ее удержать, это случится тут же. Но Пиппи нигде не видно. По мосту она переходит ров и идет по дорожке. У нее есть смутная надежда, что, если добраться до шоссе, можно остановить проезжающую машину. Она доходит-таки до конца, присаживается на обломок стены и смотрит на пустое шоссе, очень пустое. Раздается шорох и скрип велосипеда. Она смотрит себе под ноги. И вдруг:
– Фредерика!
Она вскакивает. Издает восклицание. Это Хью Роуз на очень громоздком, очень старом велосипеде. Они смотрят друг на друга.
– Да что такое с тобой случилось?
– Ужасно выгляжу?
– Кошмарно. Синяки, кровоподтеки, желтые пятна.
– Упала.
Хью кладет велосипед на обочину. Утирает лицо платком.
– Как же это ты упала, Фредерика?
– Ну, в общем, – говорит Фредерика, – улаживали супружеские разногласия.
– Дальше.
– Не могу. Разревусь. А мне сейчас не плакать надо, а решать, что делать. А ты почему не уехал?
– Хотел с тобой повидаться. Узнать, все ли в порядке. Мы решили, что своим приездом испортили тебе жизнь еще больше, и что мы не имели права вмешиваться, и что… Беспокоились мы за тебя.
– Благодарю, – торжественно произносит Фредерика; они сидят на стене бок о бок. – А где остальные?
– В лесу: вдруг ты пошла туда. Мы пару раз звонили, тебя не было, нам сказали, что ты не можешь подойти.
– Я была дома.
– Мы так и поняли. Потому и остались. Надежды на эти наши дозоры было мало, но видишь – получилось.
– Получилось. Все-таки встретились. Но за мной каждую минуту могут прийти. Что мне делать?
– Поехали с нами в Лондон.
– Как же я поеду? А Лео?
– Что, если мы ночью оставим «лендровер» в лесу? Сможешь улизнуть из дому? Твои опомниться не успеют, как мы будем в Лондоне. Пешком же ты не уйдешь.
– Я не умею водить машину.
– Это твое упущение. Учись. Нет, правда, давай мы тебя ночью умыкнем. У тебя такой вид, что тебе сам Бог велел умыкнуться, если можно так выразиться. Ты ведь, по-моему, не мазохистка.
– Не мазохистка.
Они долго молчат. Потом Хью произносит:
– Прости. Я, пожалуй, полез не в свое дело. Не будем об этом.
– Нет, все правильно. Кажется, ты прав. Мне надо уходить. Я поломала себе жизнь. Вот только Лео…
– Возьми с собой.
– Как я его возьму? Малышу здесь хорошо – или, может, было бы хорошо, если бы хорошо было мне. У него все есть, его все любят, у него свои привычки… Я не самое… не главное.
– Нет?
– По-моему, нет. Как же я увезу мальчугана, который всего этого не понимает… в глухую ночь…
– Я же не предлагаю уйти навсегда, Фредерика. Мы просто увезем тебя туда, где ты можешь все обдумать. Потом и с Лео разберешься. Как с ним видеться, как быть с ним рядом. Как – ну, не знаю – устроить его получше. Ты же понимаешь: уехать с нами не значит поставить точку на всем.
– Да.
Снова долгое молчание.
– С такой, как ты сейчас, ему хорошо не будет.
И рана может пригодиться. Фредерика объявляет, что ляжет в свободной спальне, пусть ее спальня отдохнет без хозяйки. Спать она уходит рано, раздевается и ложится в постель с книгой. На что решиться, она понятия не имеет: ночное бегство кажется ей безрассудством, нелепостью, романтической выходкой, притом – страшно: ну как она оставит Лео? Но что же, стремиться к самоуничтожению? Чем она будет для Лео, если перестанет быть Фредерикой? Мамочкой. Ненавидит она это слово. Почему у англичан мать по-домашнему ласково именуют тем же словом, что и спеленутый труп?[60] На миг ей вспоминается сестра Стефани: это относится и не относится и к ней, и мамочка, и мумия. Стефани тоже вышла замуж из сексуальных побуждений. Глядя на толстяка Дэниела, в это трудно поверить, но Фредерика знает, что это так. Выходцы из семьи интеллектуалов, изволите видеть, отчаянных либералов: у одной муж церковник, у другой владелец поместья в захолустье. А что причиной? Секс! Стефани, пожалуй, была счастлива. Полного счастья не бывает, но Стефани любила Дэниела, и Уилла любила, и Мэри, в этом сомнений нет. Стефани была в известном смысле предрасположена к самоуничтожению. Фредерике кажется, что она и за Найджела вышла, потому что Стефани вышла за Дэниела и погибла, и сейчас мертва, и останется мертвой. Стефани выломилась из кембриджского кружка с его непрестанными рассуждениями о тонкостях эстетических и нравственных категорий, она потянулась к счастью плотскому. Подобно леди Чаттерли, отправилась в лес на свою погибель, волоча за собой строки цитат из слепца Мильтона, Суинберна с его «бледным галилеянином»[61], Китса с его «строгой весталкой тишины»[62], из шекспировой Прозерпины[63], – волоча их за собой и желая от них избавиться, желая потерять себя и обрести себя телесно, по-весеннему… Был у нас такой миф, мысленно продолжает Фредерика разговор с Хью, что тело – это истина. Леди Чаттерли ненавидела слова, для Найджела они не существуют, я без них не могу.
Я поселилась здесь, потому что смерть Стефани меня уничтожила – по крайней мере, на время, – и я смогла зажить в собственном теле.
И Лео жил – гостил – в моем теле, был его частью. Теперь уже не часть, теперь сам по себе.
Не совсем.
Кто ему важнее: «мамочка» здесь или «Фредерика» там – там, где Фредерика может быть Фредерикой?
Я всегда презирала безропотную покорность своей матери. Разве жизнь у нее была? Было то, чего я не хочу. Не хотела. И получила.
Лео… Лео можно похитить. Но здесь с ним считаются, здесь его любят. Пусть я здесь не живу настоящей жизнью, Лео живет настоящей.
Здесь ему лучше.
Если бы Лео встретил меня, Фредерику, где-то там, где я Фредерика, истина была бы хоть немного очевиднее. Он бы сердился, но мы бы поговорили.
Ты и правда так думаешь?
Нет-нет. Я думаю, что если уйду, то, может быть, никогда его больше не увижу. Я думаю, если я останусь, и ему и мне конец. Я думаю: как мелодраматично звучит. Думаю: пусть мелодрама, зато правда. Случаются в жизни и мелодрамы. То кто-то в кого-то топором метнет. То спецназовским приемом прихватит.
Ты хочешь себя разъярить, Фредерика. Или запугать – чтобы ярость и страх побудили тебя уйти. Уйти – вот чего тебе хочется, уйти, даже если Лео останется, но ты бы предпочла думать, что это не желание, а обязанность, тебе нужно, чтобы позволили.
Не выйдет. Лео твой сын. Или оставайся с ним, или уходи. Надо делать выбор.
В памяти раздается мелодраматически-издевательское: «Ну и что теперь?»
Она встает, одевается. В доме темно, голосов не слышно, двери закрыты. Она идет на преступление. Вещи не собирает: ничего ей из этой жизни не нужно. Спускаясь по лестнице, все еще спорит с собой: надо ли? Но теперь всем распоряжается тело: она бесшумно и ловко, как матерый грабитель, крадется через кухню и выходит из дому.
Ночь заволок густой туман. На конюшенном дворе в свете фонарей колышется серая пелена. Захватив в сбруйном чулане фонарик, Фредерика проворно, опасливо, крадучись, держась в тени конюшни, пробирается туда, откуда она еще недавно бежала что есть духу, в обнесенный стеной сад. Туман весь в движении: течет, клубится, вьется прядями, голые вишни и яблони то вдруг вычерчиваются на нем силуэтами, то вдруг озаряются лунным светом на фоне иссиня-черной небесной прогалины, мерцающей редкими звездами. Ветер не утихает, налетает внезапными порывами. Скрипят и стучат друг о друга ветки. Биение сердца отзывается даже в пятках. Она останавливается в самой темной части сада – у ограды, среди кустов крыжовника и шпалерных персиков и абрикосов. Ей кажется, что за ней кто-то следует: вроде бы глухие шаги; она замирает, прислушивается. Нервы на пределе. Вдруг выскочит кто-нибудь с топором, мечом, пистолетом. Или тот, кто умеет вышибить дух всего лишь быстрым и точным ударом ребра ладони… Луна – она то прячется, то появляется – почти полная. Небо бурлит. Полосы, клочья, клубы тумана мечутся, мечутся, свиваются.
Из кустов доносится другой звук – какая-то возня, Фредерика прижимается спиной к стене, приседает. Может, барсук – в лесу они водятся – снова забрался в сад, человечьи владения между домом и дебрями? Тихий хруст, и все умолкает. Какой-нибудь зверь вышел на охоту…
Она добирается до двери в стене, поворачивает ключ, открывает. За стеной расстилается поле, просторное, темное, волглое. И тут у нее за спиной раздается топот бегущих ног, она в бешенстве оборачивается и направляет слепящий луч фонаря на преследователя. «Ну и что теперь?» – проносится в памяти. Но фонарь никакого лица не высвечивает, что-то шуршит, и поврежденную ногу ее, как змеиные кольца, обвивают крепкие ручонки, в самую рану утыкается чье-то личико.
– Лео, Лео, пусти, мне здесь больно. Пусти, мой хороший.
– Нет!
– Я никуда не денусь. Ну, иди ко мне.
В темноте они неловко обхватывают друг друга. Фредерика поднимает сына, он то там, то сям хватается за нее сухощавыми ручонками и цепкими, совсем как у обезьяны, ногами. Наконец он повисает у нее на шее, уткнувшись в ключицы, и с отчаянной решимостью прижимается к ней всем телом, так что не оторвать. На нем пижама. Ноги босые. Лицо влажно. Зубы стиснуты.
– Лео, Лео…
Говорить он не может. Так они и стоят, потом садятся. Малыш, сжавшись в комок, все не отпускает шею матери.
Пройдет много лет, и где-то на Рио-Негро индеец по имени Насарено принесет Фредерике снятую с дерева самку ленивца. Поросшая серой шерсткой зверушка еле-еле движется, на газоне перед отелем она вообще не может передвигаться. У нее три изогнутых когтя, кривые передние лапы едва шевелятся. Она смотрит круглыми, темными, отсутствующими глазками, в которых нет ни мысли, ни выражения. Фредерике кажется, что на шее у нее опухоль вроде зоба, но выясняется, что она ошиблась: шею зверушки обхватил детеныш и так крепко прижался, что его собственные очертания не различить, мать и детеныш слились в восьмерку, покрытую странной серой шерсткой, – предположительно голова словно вросла в предположительно ключицы. Фредерика смотрит на непонятного зверя и вдруг со всей отчетливостью вспоминает ту минуту у садовой стены, когда сын, вцепившись в нее, пытается втиснуться обратно в ее тело. И ей придет в голову то, что не приходит сейчас, у садовой стены: «Это самая страшная минута в моей жизни. Самая страшная».
Лео с трудом произносит:
– Я. Иду. С.
– Все в порядке. Я отнесу тебя в постель. Пошли домой.
– Нет. Я. Иду.
– Ты не понимаешь…
– Я устал, – говорит Лео. – Устал все время думать и думать, что делать. Устал. Я хочу с тобой. Ты не могла. Ты не можешь. Уйти без. Не можешь.
– Лео, не стискивай меня так. Ты как тот старик, который оседлал Синдбада и чуть не задушил.
– Поехали, – говорит Лео. – Поехали. Это он так сказал, старик.
И Фредерика без дальнейших размышлений снова пускается в путь: она торопливо, прихрамывая, идет через поле, прижимая к груди горячее тельце ребенка, который обвил ее руками и ногами. Она кое-как перебирается через перелаз – малыш ее не отпускает – и бредет лесом, стараясь держаться ближе к дороге, обсаженной можжевельником. Время от времени она робко спрашивает: «Ну как ты? Тебе удобно, родной?» – но он, тяжелый, хмурый, молчит и не шевелится: если бы не цепкая хватка, недолго подумать, что он уснул или умер. Она видит кряжистые стволы, мчащиеся над головой облака, крепкие ветви, в которых шумит ветер; она идет, идет, мучаясь от боли, а воображение рисует ей другую Фредерику, юную, – как она летит словно на крыльях навстречу радостной свободе. Ни одно мужское тело не запомнится ей так, как тельце этого цепкого, сердитого мальчугана, никакие плотские наслаждения, никакая боль не запомнится так, как прикосновение этих рук, запах этих волос, это судорожное подобие дыхания. Мы оба знаем, что я не хотела его брать, думает, ковыляя, Фредерика, и пусть это останется между нами. Она держит его так же крепко, как он хватается за нее, она слышит стук обоих сердец, дыхания их сливаются. И когда навстречу из-за деревьев, освещая ей путь дрожащим лучом фонаря, выходит Алан Мелвилл, ему на миг вспоминается лев на нелепой и прекрасной картине Стаббса: огромная кошка хищно раздирает холку белогривой добычи, на которую она взгромоздилась. Приходит мысль и о демонах, но потом он видит, что она прижимает к себе изнемогающего от усталости малыша. На лицах женщины и ребенка почти нечеловеческий оскал.
– Здравствуй, Лео, – торжественно произносит Алан. – Ты с нами?
Мальчик не в силах выговорить ни слова.
IV
…и около того времени, как завелись пышные празднества в Театре Языков, но не учредились еще обряды в капеллах Богородицы и Невинных Младенцев, госпожа Розария повадилась, ускользнув незаметно из Ла Тур Брюйара, совершать в одиночестве конные прогулки в лесу. Случись кому-нибудь спросить, откуда это увлечение, она не нашлась бы что ответить, потому и уезжала она тайком, дабы избежать подобных вопросов, – а может, и затем, чтобы не пришлось отвечать на них себе самой. Если бы кто-нибудь все же и пристал с расспросами, она бы сказала, что одинокие эти прогулки – ее прихоть, под стать прихотям и фантазиям тех, кто, раскрасневшись, облизываясь и не скупясь на жаркое дыхание, участвует в действах, что разыгрываются в Театре Языков. Но избежать расспросов она жаждала всей душой, ибо на страсть к уединению Кюльвер смотрел косо – по крайности, если замечал ее в других. Они много рассуждали о том, как согласить между собой непримиримые страсти Дамиана, Кюльвера и Розарии. Кюльвер был преисполнен надежды, что согласие будет достигнуто. Госпожа же Розария, напротив, гордилась, что не принадлежит ни одному мужчине. Было это в ту пору, когда замысел их еще расцветал, как вешний сад.
В этих краях как раз наступила или наступала весна. Госпожа Розария выезжала в стеганом жакете, но уже не надевала меховой капор и меховую пелерину, а лишь набрасывала легкий плащ с капюшоном. Она обнаружила множество просторных конских троп, которые, уходя в лес, превращались в извилистые стежки, ведущие к очаровательным полянам, где из зеленой травы уже выглядывали цветы аконита и чемерицы, первоцвет и робкие фиалки. Она спешивалась и в рассеянности бродила меж темных стволов, наблюдая, как из недели в неделю умножается число ярких крохотных почек, и мысленно присваивая себе эти укромные уголки: «А первоцветы мои растут и там, где я их раньше не видела» или «Ишь как мой дрозд в моем орешнике заливается!». Она уже воображала себя дриадой, пестуньей этих деревьев, хотя она всего лишь ходила меж ними, смотрела на них и улыбалась. Осмелев, она уходила все дальше и дальше, расширяла свои владения, упивалась благоуханием поросли и птичьим щебетом в чаще, размышляя порой, как она теперь будет век вековать в Ла Тур Брюйаре, смутно воображая, что сейчас делается там, за долиной, в городах и портах, на дорогах и трактах, на реках и на морях. Дорогу ей перешла фазаниха, за которой тянулся выводок фазанят, и госпожа Розария нагнулась, чтобы взять один мягкий комочек в руки, но птенцы распищались и бросились врассыпную. Тогда она, подобрав юбки и отодвигая колючие ветки, начала пробираться сквозь заросли ежевики вслед за фазанихой, не спуская глаз с медно-рыжего оперения, мелькавшего в жухлом папоротнике. Она шла, шла, и вот перед ней открылась другая поляна. Деревья там были выше, чернее, без почек, но странные плоды висели на них. Поляна была круглая, деревья раскинули свои крепкие черные руки, а на них, поворачиваясь из стороны в сторону, болталось что-то непонятное. Сначала госпожа Розария приняла их не то за огородные пугала в человечьей одежде, не то просто за одежду, но, приглядевшись, она увидала, что это люди и есть: лица почернели, глаза выклевали птицы, чрева вздулись и смердели.
Они поворачивались туда-сюда, деревья стояли неподвижно, слышался стук и скрип веток.
И раздался за спиной госпожи Розарии голос, от которого у нее душа замерла:
– Хороши дары леса, сударыня?
Трепеща от страха и гнева, она обернулась и увидела рядом с собой полковника Грима: он, должно быть, незаметно появился здесь, когда она продиралась сквозь ежевику, и, пока она смотрела на мертвых, подкрадывался все ближе и ближе.
– Et ego in Arcadia[64], не правда ли, сударыня? Извините, если напугал. Позвольте увести вас от этих висюлек и препроводить к вашему пасторальному обиталищу.
– Я не слыхала, как вы подошли.
– Немудрено. Вы были заняты другим предметом, а я бывалый ловец зверей и человеков. Позвольте, я раздвину перед вами ветки.
– Я пришла сюда, чтобы побыть в одиночестве.
– Это ясно как день. Вы и останетесь в одиночестве, однако что бы я был за кавалер, если бы удалился незамедлительно, когда вы пришли в смятение, увидав наших собратьев по роду человеческому в таком виде?
– Кто они?
– Это мне неизвестно. Такие собрания в этих уголках леса, увы, не редкость. Принято считать, что это жертвы кребов – ну да кребам, как и всякому кровожадному племени, приписывают множество злодеяний, в которых повинны не они.
– Я ничего о кребах не знаю, – сказала госпожа Розария, неподвижно стоя спиной к собеседнику: оборачиваться не хотелось, ибо тогда возникла бы какая-то связь с грузным телом полковника Грима.
Как и большинство обитателей Ла Тур Брюйара, если не все, она всегда брезгливо держалась от полковника подальше. Знал он об этом, нет ли, но он взял ее за руку и повел через кустарник на ту поляну, где она была прежде, и предложил присесть на замшелый пень и перевести дух. Во времена революционных войн, от которых госпожа Розария со всей решимостью бежала, ей случалось видеть зрелища и пострашнее, и сейчас она охотнее всего вернулась бы к своему коню, если бы не смутные опасения нажить врага в лице полковника Грима. Поэтому она, поигрывая хлыстом, присела на пень и приняла из рук полковника стопку аквавита из его баклаги.
– Кребы, – начал Грим, – не то народ, не то племя, населяющее или оскверняющее своим присутствием лесные чащобы и горные пещеры. Они приземистые, смуглые, тела их обросли волосами. От них исходит запах, нестерпимый для человека с тонким обонянием, речь их невразумительна, точно они рычат или плюются. Людям они не показываются, выезжают на охоту стаями, в меховом одеянии, с маленькими кожаными щитами на запястьях. Ученые мужи много спорят о том, принадлежат ли они к роду человеческому или нет. Даже мертвецов своих стараются они не оставлять в руках людей, оттого и не удается нам их рассмотреть. Кребов женского пола никто не видел, разве что они неотличимы от мужчин и так же, в меховых одеяниях, сражаются с ними бок о бок. Пленных они не берут, и, если верить молве, всякого, кто их видел, лишают зрения или чаще убивают. Приближаться к местам, где они побывали, опасно – даже разглядывать эти висюльки, сударыня. Я приметил необычные кожаные петли, в которых они висят: работа кребов. Мне, однако ж, известно – положено знать по долгу службы, – что шайки разбойников и беззаконников, которые рыщут в этих лесах, не прочь создать видимость, будто их злодейства – деяние кребов, чтобы чужаки обходили их тайные пристанища стороной.
– Много же вы о них знаете, – заметила госпожа Розария.
– Я, дитя мое, несу дозор на границе Кюльверовой державы, – объяснил старый солдат. – Южные рубежи ненадежнее, чем ему представляется, и оттого, что он отгородился и отвернулся от внешнего мира, он этот мир не отменил. Не ездили бы вы больше по этим полянам, если не хотите, чтобы от вас остались разметанные по траве кости да расклеванный птицами череп.
Он обозрел ее прелестное лицо, пухлые губы, ясные глаза, отливающие жидким блеском, и госпожа Розария почувствовала, что под нежной плотью он прозревает черепной костяк, зияющие глазницы, носовые отверстия, сухую челюсть, жемчужные зубы, выбивающие дробь. Она безмолвно потупилась, а собеседник продолжал:
– Осмелюсь полюбопытствовать: отчего вы так часто выезжаете на прогулку в эти леса и всегда в одиночестве? Люди с нечистым воображением, чего доброго, заподозрят, что вы имеете с кем-то любовные свидания, но я незримо сопровождал вас в этих поездках с самого начала и ручаться готов, что в шашнях с чужаками вас не обвинишь.
Грудь и шею госпожи Розарии как жаром обдало, и она дала давно обдуманный ответ:
– Кюльверу угодно, чтобы мы безраздельно предавались всем человеческим страстям, которые, по его убеждению, сами по себе суть высшая ценность, ибо они человеческие. Я же недавно обнаружила в себе страсть к одиночеству и укромности – одиночеству, укромности и дикой природе, страсть не скажу чтобы редкая, даже заурядная, – вот ей я и предаюсь. Лучше сказать, предавалась, ибо минуту назад вы открыли мне, что одиночество это обманчиво: пренеприятное открытие.
– Я бы мог вам сказать, что боялся, как бы вам не понадобилась защита от кребов, – отвечал Грим, усаживаясь на соседний пень и, как видно, настроившись на долгую беседу. – А мог бы сказать, что боялся от вас измены нашему обществу, – ну да это, признаться, не заслуживает никакого вероятия. А мог бы сказать – и это, сударыня, чистая правда, – что мною владеет стародавняя страсть добывать сведения, за верное узнавать слова и дела людей. Я, сударыня, был в свое время соглядатаем, а это занятие, которое таким, как я, доставляет неизъяснимое наслаждение. Здесь эту страсть можно не таить. Здесь она вреда не принесет. Если вы, вняв моему совету, откажетесь от прогулок в здешних лесах, вам не узнать, от каких ужасных опасностей спасла вас моя нескромная страсть.
Госпожа Розария поджала прелестные губки: она понимала его правоту и вместе с тем ощущала горькую досаду от его слов.
– Сдается мне, рассуждения Кюльвера об удовольствиях, в которые он пускается в собрании, вам удовольствия не доставляют? – заговорил зловещий человек более непринужденным тоном. – Я заметил, вы не частая гостья в этих восхитительных собеседованиях, до которых большинство наших сограждан такие страстные охотники.
– Прискучило мне слышать одно и то же, – отвечала госпожа Розария. – Разговоры их сбивчивы и однообразны, мысли всё повторяются и не идут дальше сказанного в самом начале. Не спорю: сотоварищи наши получают жгучее наслаждение от этих дружественных словопрений, но как нету в моей натуре столь женской склонности к злословию и пересудам, так нету склонности и к таким диспутам, – продолжала она, столь увлекшись мыслями о себе, что позабыла о недоверии к собеседнику. – Именно эта сторона моей натуры, которая побуждает меня удаляться от людей, искать уединения, убегать от забот о делах общественных – дел пустых, а то и опасных, – именно эта сторона натуры моей делает меня исключительно неспособной иметь участие в непрерывной, почти лихорадочной работе, которой занялось наше общество в силу, как видно, естественных причин. Меня восхищает – всегда восхищала до благоговейного трепета – сила Кюльвера, и обаяние, и могучий ум его. Я понимаю разумность его стремлений переменить – или восстановить – человеческую натуру. И все же я не склонна – не готова – не убедилась еще в неопровержимости его рассуждений и поэтому не могу предаться душой всем его начинаниям.
– Помнится, – молвил полковник, – нынче утром предметом беседы должны стать приятность и боль, доставляемые испражнением и мочеиспусканием, а равно и интерес, который питают иные, в том числе из нашего общества, к их отходам, жидким и твердым, а равно и знакомая иным связь между этими отправлениями с сокровенными – даже наедине с самим собой – проявлениями любви и страсти. Верно ли я изложил?
– Почти верно, – отвечала госпожа Розария и обратилась мыслями к собственным маленьким приятностям того же рода.
Но тут она покраснела с головы до ног: если, как говорит полковник, он всегда был ей спутником, то, уж верно, видал, как она присаживается среди кустиков чистотела и, вздыхая с облегчением и наслаждением, орошает струей мшистую почву. Отводил ли он взгляд, наблюдал ли с удовольствием? Юбку она поднимала высоко, и живительный теплый воздух ласкал ей точеные белые ягодицы, сомкнутую теплую щель, которую Кюльвер мечтал явить на сцене восхищенным взорам всего общества… Упивался ли Грим этим зрелищем, а если да, то что это было за упоение? Мысль, что за ней тайком наблюдали, досаждала, дразнила, тревожила, отзывалась в укромных уголках тела – куда сильнее, чем затея Кюльвера выставить ее на общее обозрение.
– Если ему удастся расположить публику к тому, чтобы она почувствовала расположение к этим материям, – невозмутимо продолжал полковник, – он учинит незаметный переворот в укладе общественном и будет на пути к разрешению важной задачи житейского свойства. Нам без равноправной дерьмовозной повинности никак нельзя, друг-сударыня, это дело жизни и смерти. Я наблюдал, какие страшные моровые поветрия открывались в тюрьмах и военных лагерях по причине гниющих отбросов.
Розария не отвечала, она все так же поигрывала хлыстом.
– Он, должно быть, подумал о том, что будет, когда собеседования о высвобождении страстей коснутся до страсти причинять боль ближнему. Я не о тех оказиях, когда кандалы на запястьях тесноваты, не о бичеваниях, когда уд бичуемого блаженно вздымается от обиды: такое еще можно было бы признать полезным как источник наслаждения или средство назидания – на сцене, в спальне, в каземате. Нет, я любопытен узнать, что будет, когда Кюльвер задумается об удовольствии разодетой, как на праздник, толпы, глядящей, как под топором падает с плеч голова или как львиные клыки терзают яремную жилу гладиатора. Готов ли он разыграть на сцене казнь через повешение – но не до смерти? Может, найдется меж нами самоубийца, согласный разок – один-единственный раз – ублажить охотников полюбоваться на корчи человеческие? Ну да больше найдется таких, кому случалось вольно или невольно испытать несказанное блаженство, когда на шее затягивается петля и брызжет семя, – как сказал бы поэт: испустить дух в метафизическом смысле… Вот и с теми горемычными висюльками было такое, только веревку никто вовремя не обрезал. Забава опасная, мадам Розария, да и любители корчей останутся недовольны.
– Угождать одним за счет других – Кюльвер и мысли такой не допустит, – отрезала госпожа Розария, хотя на душе у нее было неспокойно: как-то устроится взаимное угождение у нее, Кюльвера и Дамиана? – Вас же всякого рода зверства, – продолжала она, – занимают потому, что таково ваше кровожадное естество, о котором вы сами, помнится, говорили и от которого отреклись.
– Мои вкусы, – отвечал полковник, – в известной мере следствие занятий военным искусством, которому в нашем укромном, затворническом мире места нету: оно пригодится, если придется этот мирок защищать. Впрочем, мои досужие и, может быть, неосновательные рассуждения, как видно, повергли вас в уныние, а я, право же, не любитель терзать воображение особ слабого и прекрасного пола. Не вернуться ли нам в Ла Тур Брюйар?
– Мне бы не хотелось, – вполне учтиво отвечала госпожа Розария. – Воздух такой благоуханный, цветы и деревья навевают покой, если забыть о страшных плодах на колючих ветвях по соседству. Я бы лучше продолжила путь.
– Настоятельно вам советую от этого удержаться, – сказал полковник. – Места здесь недобрые, для людей простодушных опасные, несмотря на все улыбки весны. Позвольте, мадам, я вам кое-что покажу.
– Только к висюлькам я не пойду, – сказала Розария: она с умыслом употребила словцо полковника, чтобы он не заметил, что при одной мысли о них ее мутит.
– Нужды нет, мадам. Извольте сломить с дерева на этой поляне веточку – молодую, не сухую.
– Для чего?
– Отломите.
Она протянула руку и отломила свежую веточку, унизанную тугими, бодрыми почками. И выдавился из надлома темный сгусток крови, медленно, словно выползающий на волю слизень печеночного цвета, а за ним струей хлынула алая кровь, и мелкие капли забрызгали ее одежды. Она отпрянула, издала крик, принялась стряхивать с юбки кровь, отчего и пальцы ее заалели. Она умоляла полковника растолковать, что сие означает и отчего происходит.
– За верное сказать не могу, – отвечал тот. – Тому представляют разные объяснения, все до одного гадательные, некоторые, можно сказать, метафизические. Вы, дама просвещенная, без сомнения, знаете, что божественный поэт Данте Алигьери в рассказе о своих странствиях по Аду изобразил это явление при описании Леса Самоубийц, и воображение местных жителей упорно относит этот кровавый древесный сок на счет висельников. Есть и проще объяснение: об этих местах рассказывают, что будто столько народу здесь пало от рук кребов, столько земля приняла в себя крови и костяного крошева, что деревья не в силах претворить эту кровь в безобидную сукровицу, или древесину, или сок, но принуждены исторгать ее с ужасом и омерзением. Одна легенда дает объяснение и в обратном смысле: деревья-де эти и почва людей ненавидят – как кребы, которые в известном смысле суть их благоприятели и охранители, – поэтому им в радость поглощать мертвецов и неосторожных путников, прилегших отдохнуть у их корней и под их сенью. Есть поверье вроде тех, какие можно услышать по всему свету, разве что лишь в этих местах его связывают с кровавым соком: будто деревья суть преобращенные мужчины и женщины, вон хоть преобращенные кребы, и, может статься, кребы – деревья, умеющие ходить, или же деревья и кребы связаны меж собой, как гусеница и бабочка. Изобретательность человеческая и человеческое воображение измыслят причину чему угодно, как пчелы выделывают мед, а дерево приносит плоды. Одно скажу неложно: для меня все здесь дышит болью и ненавистью. Я здесь гость нежеланный. Да и вы тоже.
При этих словах госпожа Розария содрогнулась от безотчетного страха и омерзения и позволила наконец отвести себя туда, где стоял ее конь, а полковник сел на своего.
Вдвоем они выехали из леса и направились к Башне, а Розария мысленно обращалась то к одному предмету, то к другому. Мчались по небу тучные облака, точно летучие фрегаты, точно нетвердые на ногах бражники, точно скакуны, обгоняющие ветер. Взметнувшаяся ввысь Башня то одевалась густой тенью, то озарялась золотистым сиянием. С этого места вид у нее был неказистый. Уступы и террасы налезали друг на друга, так что кое-где воображалась то груда мусора, то нагромождение камней, то куча обломков. Но даже издали в лучах солнца было заметно, как по проходам и галереям деловито снуют обитатели Башни, отчего казалось, что жизнь в этой громадине так и кипит, как в муравейнике. И госпожа Розария, неспешно едучи бок о бок с мужем крови, гадала: что это, желанный домашний кров и пристанище или по доброй воле In-pacе[65], сиречь каземат?
– Мы общество защиты Фредерики, – объявляет Тони Уотсон.
– Общество благоустройства существования Фредерики, – поправляет Алан Мелвилл.
Они собрались на квартире Александра Уэддерберна на Грейт-Ормонд-стрит: было решено, что здесь Фредерике будет удобнее всего, а если ее примутся искать, то вряд ли в первую очередь бросятся сюда. Взбудораженный телефонными звонками ни свет ни заря, Александр уступил свою кровать Фредерике и ее сыну: его от матери не оторвать. Кровать просторная, удобная. Пробудившись после беспокойного сна, Фредерика лежала в его кровати, в его рубашке и мрачно размышляла об иронии судьбы: наконец-то она там, куда безнадежно стремилась попасть несколько лет. Она даже оставила в постели в память о себе два-три пятна крови от воспаленной раны на бедре. Сам Александр прекрасно выспался в свободной спальне, но сейчас выглядит озабоченно. Друзья, не скупясь на красочные и зловещие подробности, описали ему буйный и мстительный нрав Найджела, которого Тони не очень удачно, пожалуй, окрестил «Тот С Топором»[66].
Говорить о будущем оказывается адски трудно из-за Лео: малыш сидит на диване с полотняной обивкой рядом с Фредерикой и прижимается к матери так, словно хочет с ней срастись. Вид у Фредерики нездоровый. Тони советует обратиться к врачу. Он уже подумывает о разводе: надо, чтобы рану освидетельствовал врач, и как можно скорее, но заговорить об этом не решается.
– Да рана-то не очень серьезная, – говорит Фредерика.
– Но и не пустяковая, – возражает Тони. – Я же вижу, тебе больно.
Александр наливает всем кофе из голубого кофейника. Из этого же кофейника, вспоминается ему, он наливал кофе Дэниелу Ортону, когда тот бежал из Блесфорда в Лондон. Все обращаются за помощью ко мне, думает Александр, но какой из меня помощник, какой от меня толк? Не душевный я, не отзывчивый.
Наконец Хью Роуз спрашивает Фредерику напрямик:
– Что думаешь делать?
Фредерика одной рукой обхватывает голову Лео: обнимает, но и прикрывает уши.
– Вернуться я не могу. Говорю без колебаний, это вопрос решенный.
Лео поджимает губы. Молчит.
– Мне нужен угол, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Нужна работа. Я должна стать независимой.
Все смотрят на Лео.
– Надо будет все продумать шаг за шагом, – продолжает Фредерика. – А пока нужно устроиться где-нибудь вместе с Лео. Позже… Лео должен решить…
– Я решил, – говорит Лео. – Я хочу с тобой. И ты хочешь со мной, я знаю, что хочешь. Со мной.
– Конечно хочу, – отвечает Фредерика. – Вот только…
Она вспоминает его пони, его привычные маршруты из кухни и с конского выгула, его крошечный мирок. Она думает, каково будет строить карьеру с маленьким беспокойным ребенком на руках.
– Только… – повторяет Лео, по его лицу пробегает дрожь.
– Только – все. Найдем где-нибудь жилье. Какое-нибудь.
– Идея, – произносит Александр. – И кажется, очень недурная. Что ты скажешь о Томасе Пуле? У него квартира в Блумсбери – я как-то там жил, – человек он одинокий, вернее, отец-одиночка. Жена его бросила, ушла к актеру Полу Гринуэю, который в моей пьесе играл Ван Гога. У него два сына-подростка, девочка лет двенадцати и еще малыш Саймон, ему восемь, он покрупнее Лео. Томас руководит Институтом образования для взрослых имени Крэбба Робинсона[67] и почти наверняка пристроит Фредерику преподавать – сейчас многие женщины так подрабатывают. Квартира большая, место найдется. Пул – это выход, у него искать не додумаются.
– Он мне нравился, – замечает Фредерика, вспомнив Пула, коллегу Александра и своего брата по Блесфордской школе. – Он хорошо сыграл Спенсера в твоей пьесе.
И Александр, и Фредерика помнят, но не упоминают романчик Томаса Пула с красавицей Антеей Уорбертон – тогда еще, как и Фредерика, школьницей, – который закончился беременностью, абортом и угрызениями. Больше угрызался, как запомнилось Фредерике, Томас Пул. Впрочем, чужая душа потемки.
– Если ты не прочь подрабатывать преподаванием, – вмешивается Алан Мелвилл, – я тебе хоть сейчас устрою несколько часов в училище Сэмюэла Палмера. Там художники получают степень и должны слушать разные курсы, у них не только творческие дисциплины. Мы им и курс литературы читаем. Очень интересно.
– А я могу попросить Руперта Жако взять тебя корректором и внутренним рецензентом, – добавляет Хью. – Работенка нудная, но можно работать дома. Вот тебе и способ проникнуть туда, в этот мир.
– А телеигра Уилки? – напоминает Тони. – А то попробуй устроиться журнальным рецензентом. Это нелегко, но работа тебе по плечу.
– Работа… – произносит Фредерика. – Работа мне нужна.
– А об остальном подумаем после, – продолжает Тони. – Чем тебе заняться. Всерьез.
– Да, можно так, – соглашается Фредерика.
Александр, Фредерика и Лео отправляются к Томасу Пулу. Квартира его расположена на пятом этаже большого эдвардианского дома в Блумсбери. Александр квартировал здесь в 1950-е, когда писал «Желтый стул». Жена Пула, Элинор, в 1961 году неожиданно бросила мужа и ушла к Полу Гринуэю, игравшему в новой бродвейской постановке «Пигмалиона». Четверым детям Пула, Крису, Джонатану, Лиззи и Саймону, было тогда четырнадцать, двенадцать, девять и пять лет. Сейчас им семнадцать, пятнадцать, двенадцать и восемь. Старшие сыновья учатся в Блесфорд-Райде, где Александр и Томас познакомились: они преподавали под началом отца Фредерики. Александр все еще относится к Крису и Джонатану как к детям, хотя Крис уже готовится поступать в университет. Он расспрашивает о них, когда Пул ведет друзей в гостиную, некогда служившую Александру спальней. Это просторная комната с эркером, из окна которой видна построенная недавно башня Почтамта, напоминающая кольчатый, унизанный дисками и усиками антенн инопланетный корабль.
Обсуждать планы Фредерики при Лео невозможно, и оторвать Лео от Фредерики невозможно по-прежнему. Он сидит рядом с ней на шведском диване бледной расцветки, запустив руку в складки ее юбки. Появляется Вальтраут Рёде, молодая австрийка, невесомая, как птичка, с каштановыми кудрями и лицом лепестковой нежности. На губах играет застенчиво-спокойная улыбка. Она сообщает: Лиззи купается, Саймон у себя в комнате. Говорит Лео, что сейчас принесет ему чай и torte.
– Торте? – не понимает Лео.
– Торт. Я сама готовила. Вкусный.
Фредерика оглядывает комнату. По всем стенам книги, книги, книги. Она украдкой вздыхает. Томас спрашивает ее об отце, она отвечает, что от него никаких известий. Александр рассказывает, что тот с ним несколько раз связывался – по делам комиссии Стирфорта.
– Он в своей стихии, – говорит Александр. – Внуки, дома на пустоши, вечерние занятия. Мы-то беспокоились: как он переживет, что остался не у дел? А он в своей стихии.
Вальтраут возвращается с подносом, на котором стоят чашки с чаем, потом приносит шоколадный торт. Не устояв перед тортом, появляется Саймон Пул, длинноногий паренек с изящной шеей и каштановыми волосами с блестящим отливом, спадающими на лоб. Застенчивый, но вежливый, он здоровается с гостями. Вальтраут говорит Лео, что Саймон хочет показать ему свою железную дорогу. Саймон дружелюбно бормочет что-то в подтверждение. Вальтраут, чей словарный запас разнообразнее, чем можно заподозрить по ее акценту, рассказывает, что железная дорога – это три полотна, поворотный круг, две станции и пульмановский вагон. «Я сейчас еще стрелки по-новому наладил», – добавляет Саймон. То ли малыш убеждается, что Вальтраут и Саймон люди приветливые и безобидные, то ли он устал держаться за мать, то ли шоколад подействовал умиротворяюще, так или иначе он позволяет себя увести. Фредерика замечает, что руки у нее дрожат. Она единым духом выпаливает, что не может говорить при Лео, не может вернуться к его отцу, что ей нужна работа, нужно начать все сначала, что она никак не сообразит, как быть с сыном.
– Вернуться я не могу, оставить с собой не могу, отправить обратно не могу. Я ничего не соображаю! – твердит она, а Томас и Александр смотрят на нее ласково и озабоченно.
Как и надеялся Александр, Томас предлагает пока пожить у него. Места достаточно – по крайней мере, пока старшие мальчики в Блесфорд-Райде. Он, Вальтраут и Фредерика могут присматривать за Лиззи, Саймоном и Лео и заниматься каждый своим делом. Он может устроить Фредерике курс в Институте Крэбба Робинсона: у преподавательницы тяжелая беременность, ей велели посидеть дома. «Развитие романной формы» или что-нибудь такое.
– Насколько я тебя знаю, это по тебе, – говорит Томас Пул и неосторожно добавляет: – Это, надо думать, наследственное.
– Я давала себе слово никогда не преподавать, – признается Фредерика.
– Кто из нас такого слова не давал? – возражает Александр.
– Я ведь только предлагаю, – говорит Пул.
Фредерика обводит взглядом книги.
– Да нет, – говорит она. – Я не отказываюсь. Я как Саймон и Лео, когда увидели шоколадный торт. Жадность обуяла. Жадность, и все.
А былого азарта в лице нет, замечает про себя Александр.
Томас интересуется, как идут дела у Александра в комиссии Стирфорта. Александр рассказывает: работа увлекательная, и это, похоже, общее мнение. Есть опасения, что, если на выборах произойдет смена правительства – а это неизбежно, – комиссию могут распустить. Александр загорелся еще и потому, что ему нравится наблюдать, как по ходу работы складываются отношения между людьми: возникают союзы, вспыхивают споры, то мелкие треволнения, то недоразумения. Копают глубоко: сам Александр уже посетил и будет посещать школы в городах больших и маленьких, процветающих пригородах, в сельской глуши, начальные школы, школы для подростков. Каждый судит об учебе и образовании по своему опыту, вспоминая свои школьные годы, рассуждает он, заглядывая в задумчивое лицо Пула, сосредоточенное лицо Фредерики, словно желая убедиться в их поддержке.
– Нам всем казалось, что жизнь – она не в классе, она где-то там, вот в чем все дело, – говорит он.
Ему вспоминается назойливый дух неизбывной скуки, которую навевал бурый линолеум, пыльные окна, томительно медленное тиканье часов, кляксы и росчерки въедливых чернил. И сквозь эту безбрежную бурую муть и унылый меловой туман вдруг что-то проблеснет: теорема какая-нибудь, последние строки хора у Еврипида, Гамлет, произносящий: «Слова, слова, слова». Это настроение улавливает он и сейчас – в средних школах. А вот в начальных что-то происходит – переворот, ни больше ни меньше: появляются новые представления о том, что такое дети, каковы их способности. Иногда кажется, признается Александр, что он и его коллеги, как Алиса, очутились в мире, где жизнь ярче, вроде Страны чудес или Зазеркалья: какие бумажные леса в убранстве из стихов и нарисованных птиц, какие картонные башни, какая многоцветная целеустремленность, созидательность, жажда пробовать новое!.. Он общается со специалистами по развитию речевой способности и психологии обучения и теперь знает: по части порождения речи ex nihilo[68] маленькие дети творят чудеса, и когда это поймут все, муштровать и натаскивать школьников не придется…
– Да, очень любопытно, – замечает Томас. – Лишь бы эта лихорадочная деятельность кому-нибудь не повредила. Взять хотя бы Саймона, моего сына. Он, по-моему, тихоня по натуре. А говорят, что он не умеет найти с другими детьми общий язык.
– Мне кажется, мальчик умный, – осторожно говорит Александр.
– Я тоже так думаю. Но он, похоже, психологически неблагополучен сильнее, чем я подозреваю. Я пытался сделать так, чтобы он и без матери рос нормально…
У Александра внутри что-то обрывается и летит кувырком. Он почти убежден, что Саймон – Саймон Винсент Пул – не сын Томаса Пула, это его сын. В этом была почти убеждена мать Саймона Элинора и после его рождения не без удовольствия объясняла Александру, на чем именно основана ее почти убежденность. С тех пор мысли о Саймоне не давали Александру покоя. Когда он был еще маленький, а Элинора еще жила с мужем и детьми, малыш вызывал у него тревогу и озабоченность – стараниями Элиноры, которая, то соблазняя, то насмешничая, нарушала его душевное спокойствие. Он опасался за свою дружбу с Томасом, которой он дорожил и которая в конце концов победила. Когда Элинора ушла от мужа, Александр несколько месяцев мучительно пытался ответить на вопрос, в каком положении окажется Саймон: отец ему не отец, мать его бросила. Желания сблизиться с Саймоном не было. Маленьких детей он не любил. Саймон рос вместе с братьями (пусть и сводными братьями), жизнь его устоялась. Как-то нелепо заявить права на сына, когда оснований для этого – разве что память о минутном наслаждении и случайная комбинация генов. Если комбинации генов бывают случайными. И встреч с Саймоном он избегал.
Труднее всего с Томасом. Александр понятия не имеет, известно ли Томасу Пулу об этом хитросплетении, подозревает ли он что-нибудь. Знает, но все-таки смотрит на Александра как на задушевного друга? Не может быть. Не знает, несмотря, похоже, на врожденную склонность Элиноры задевать за живое и играть на нервах? Не может быть. Если бы Томас и подозревал, что Саймон – сын Александра, то, сумей он взять себя в руки, все равно держался бы с другом так, как сейчас. Из-за этого во всех разговорах друзей сквозит двусмысленность: Томас то ли нарочно, то ли исподволь бередит душу Александру постоянными рассказами о том, что с Саймоном неладно и как он, отец мальчика, отец-одиночка, только и думает что о благополучии сына.
Дело приняло другой оборот после создания Стирфортовской комиссии. Александр стал отчетливее понимать душу восьмилетнего человека. Он читал их сочинения, проникся тем, что они думают и чувствуют. Теперь он не прочь побеседовать с Саймоном. Но не решается. Секс – это на минуту, думает он, поглядывая на некогда желанную и желавшую его Фредерику, а последствия – на годы.
Лео и Саймон возвращаются.
– Мы пока поживем тут, – сообщает Фредерика Лео. – У Вальтраут и Саймона. Хорошо?
– Ну, хорошо, – соглашается Лео.
Александр разглядывает Саймона. Нос окончательно еще не вылепился, а вот губы – губы точно…
Томас Пул одной рукой обнимает Саймона и притягивает к себе:
– Как, Саймон, идет?
Саймон лбом утыкается ему в плечо:
– Идет. Я не против.
Тем же вечером, но много позже, Томас Пул и Фредерика сидят по сторонам камина. Пулу вспоминается Фредерика на сцене: нескладная, неистовая, тщеславная. Он записал ее на прием к врачу: видеть ее рану невыносимо. Ей он пока об этом не говорит.
– А Лео мне нравится, – признается он.
Фредерика хмурится, в горле ком.
– Мне самой нравится. Он такой… Я бы его оставила дома. Но он пошел со мной, сам пошел.
– А если бы оставила, вернулась бы?
– Вернулась? Пожалуй, да. Мы с ним как веревочкой связаны, как шнуром, он этот шнур может растягивать и растягивать. Страшно подумать о возвращении. Не только потому, что не заладилось. Потому что этот дом вообще не для меня.
Она оглядывает комнату.
– Там одна комната называется «библиотека», а во всем доме ни одной книги, там не читают – разве что детские книжки, конечно.
– Почему же ты туда уехала? – тихо, бесстрастно спрашивает Томас.
Фредерика обводит взглядом книжные полки:
– У тебя тут как у моих родителей. Тебе дорого то же, что им. А я тогда хотела из этого вырваться. Вон Александр говорил про свои школьные годы, и я вспомнила свое школьное детство, «бурное марево», как он выразился, – так это и ощущалось, задохнуться можно. И я думала: а где-то идет жизнь, по-настоящему, не по школьным прописям. Ну, это одна причина. Другая – Стефани. Из-за нее моя тогдашняя жизнь – мой мир – стала казаться путем к смерти. И тут – Найджел. В нем было больше жизни, чем… чем в милых, умных кембриджцах с их прописями. Мне казалось, он полная противоположность всему этому – этой затасканности, этой… этой говорильне, где дела ни на грош… Но так только казалось. Я была круглая дура. Я, можно сказать, получила жестокий урок, вот только Лео в радость.
– Ребенку без матери никак, – замечает Томас Пул. – Банально, но верно. Знаю по своему горькому опыту.
– У него же есть все, – продолжает Фредерика. – Две заботливые тетушки, и нянька девяносто шестой пробы, и дом-крепость, и конюшни, и земли – и не говори, что это всего лишь житейские блага, это не так: он их любит, это его мир… Его, но не мой: меня он просто заворожил своей непохожестью на то, к чему я привыкла и чего хочу, но Лео… Напрасно я его увезла.
– Ты, как я понял, не увозила. Он сам.
– Откуда ему было знать, какая жизнь нам предстоит? Как бы он смог в полном смысле слова принять решение? Может, он считал, что раз мы вместе, вместе и вернемся.
– Может, и так. Он так не говорил?
Фредерика задумывается.
– Нет. Но дети ведь особенно не откровенничают, правда? Расскажешь о своей мечте, а тебе скажут: «Нет», – и прощай мечта.
– И все-таки он у тебя умница: пошел с тобой. Ребенку без матери никак.
– Одну меня Найджел в конце концов, может, и отпустил бы без бурных сцен. Надо бы о разводе подумать. Я в этом ничего не понимаю. Но Лео не отдал бы ни за что – и правильно сделал бы: ребенок должен расти с обоими родителями. Найджел в нем души не чает.
– Так, может, когда-нибудь модус вивенди…
– Едва ли. Найджел как мой отец: его слово – закон. Нет, если бы я ушла одна, меня потом к Лео и близко бы не подпустили, чует мое сердце. Не хочу я превращать Лео в орудие в этой борьбе за преобладание.
– После твоего рассказа мне и мысль такая не придет. Ты любишь Лео. Лео ушел с тобой. Отнесись к этому спокойно. Интуиция тебя не подвела. Без матери ребенку нельзя. Ума не приложу, почему Элинора ушла вот так. Нет, я понимаю: любовь и все такое, хотела, наверно, поменять образ жизни, это тоже понятно. Но вот так… Я вечером на занятиях, а она просит няньку передать мне записку и уходит, и потом от нее ни звука. Хоть бы фотографию взяла, хоть бы что-то из его школьных сочинений, ничего… Ты что-нибудь понимаешь?
– Кое-что. Наверно, так и надо. Если решила всерьез.
– Неужели она не представляла – не позволила себе представить, – как они будут на другое утро… через месяц… через год…
Томас Пул взволнован. Он заново переживает, что было на другое утро, через месяц, через год.
– Да, не позволила себе представить, – говорит Фредерика.
– Ведь ребенку без матери… – повторяет Томас.
Фредерика разражается слезами, содрогается от хриплых, отчаянных рыданий.
Томас обнимает ее одной рукой. Открывается дверь. Это Лео. Смотрит на Томаса: не он ли виновник этих слез? Поняв, что не он, стремглав бросается к Фредерике и взбирается к ней на колени.
– Не надо, – упрашивает он. – Не надо, не надо…
Фредерика послушно утирает глаза.
– Интересно, что ты про него скажешь, – твердит Хью Роуз, когда они с Фредерикой едут в «Бауэрс энд Иден» к Руперту Жако. – Он не совсем такой, каким кажется.
Жизнь Фредерики понемногу налаживается. Книжные магазины. Овощные отбросы после закрытия рынков. Предвыборные плакаты. Лондон. Жизнь. На Фредерике платье-рубашка чуть выше колен из чего-то вроде рогожки, украшенная у горловины черным бантом. Надо бы подстричься покороче, соображает она, пристально разглядывая прохожих. Поможет ли, придаст ли она мне солидности, прическа?
– В сотый раз повторяешь, – отвечает она Хью. – Можно подумать, он какой-то фокусник. Или аферист.
– Что ты, что ты, я в другом смысле. Напротив. Просто может показаться, он такой типичный-типичный, но это не совсем так. Да ты увидишь.
Сегодня Хью не на занятиях. Взял отгул, чтобы познакомить Фредерику с Жако, который может дать ей какую-нибудь рукопись на рецензию. Со стороны Хью это большое одолжение: он вынужден зарабатывать преподаванием, чтобы писать стихи. Сейчас он одержим Орфеем: читает Рильке, боится, что это банально, бредит образом мертвой головы, продолжающей петь. Мысленно набрасывает:
– Он тебе нравится? – спрашивает Фредерика.
– Жако? Еще как. – Хью раздумывает. – Религиозный такой. Вот это сразу-то и незаметно.
– Это плохо?
– Что тут плохого? Просто удивительно.
Стихотворение пока не очень, вяло. Надо, чтобы было чеканно, но в то же время текуче.
Дом № 2 по Элдерфлауэр-Корт стоит на своем основании неуверенно. Высокое узкое здание повернуто спиной к другим высоким узким зданиям, также от него отвернувшимся, однако соединяется с ними проходами, прокинувшимися над сумрачным двором, которые с обоих концов замыкаются дверьми в стенах домов, явно архитектором не предусмотренными. В крохотной приемной издательства стоит дубовый стол, какие водятся в кабинетах школьных директрис, и два кресла с пыльными мягкими сиденьями и дубовыми подлокотниками. На полках, повернувшись подвыцветшими обложками к посетителям, красуются книги. «В Боге без Бога» и «Наши страсти, страсти Христовы» Адельберта Холли. Обложка «В Боге без Бога» – в духе оп-арта: черно-белая спираль ввинчивается в исчезающую черную дыру, дыра – «о» в «Холли». Такая же спираль, только кроваво-красная с багряно-рыжим, на обложке «Наших страстей». Выглядит изящно, выражает внутреннюю энергию.
В проеме вроде двери в чулан – лифт со скрипучей решетчатой дверью и разболтанным подъемным механизмом, из-за которого лифт стонет и дергается. Фредерика и Хью поднимаются на четвертый этаж и, почти пригибаясь, бредут по пыльным коридорам бутылочно-зеленого цвета, образующим неправильный четырехугольник. После второго поворота кабинет Жако. Во времена Диккенса это, наверно, была мансардная комната для прислуги. Скошенный потолок, стены, по цвету напоминающие луковую шелуху в никотиновых пятнах. На полу груды книг, пыльные книги стоят и на полках, на рабочем столе кипы пыльных бумаг, тут же две фотографии: позирующая невеста в фате и платье со шлейфом и шеренга улыбающихся детишек в костюмчиках с оборчатыми воротничками.
Руперт Жако – приземистый человек с темно-русыми, отдающими в рыжину частыми кудряшками, которые не свалялись в бесформенную копну лишь благодаря усердию в рассуждении ножниц. Та же дисциплинированность заметна в его лице и фигуре. К такому сложению полагались бы пухлые щеки – они и правда пухлые, но не так, чтоб очень. Полагался бы двойной подбородок, но второй подбородок едва заметен. Брюшка, которому полагалось бы иметься под сиреневой сорочкой с фиолетовым галстуком в розовый и серебристый горошек, при всем желании не различить. Губы у него, как и рассказывал Хью, мягкие, круглые, полноватые, но поджаты. Голубые глаза, нос ничем не примечателен. Говорит он нараспев, с интонациями бывшего ученика престижной частной школы, и, если прибавить к этому то ли явные, то ли мнимые признаки дородности, он может показаться увальнем. Но чувствуется в нем живость, энергия, легкость, которые притушеваны в интересах дела.
Хью представляет Фредерику и объясняет, что ей позарез нужна работа. Жако спрашивает про круг ее интересов, и она отвечает, что круг весьма узкий – литература, но она быстро обучается, и, вообще-то, ей интересно все нас свете. Жако сообщает, что у него работает несколько рецензентов, большей частью рецензенток: они за плату проглатывают уйму рукописей, поступающих в издательство самотеком, – каждое утро их приносят десятками.
– Я, как сказал, за эту работу плачу, – продолжает Жако, глядя на Фредерику, – но плачу немного: в средствах мы ограничены, а умных женщин, которые сидят дома с детьми и с отчаяния хватаются за любую работу, полным-полно.
– Я понимаю, – отзывается Фредерика.
– Раньше компания издавала в основном политическую литературу: политика левых в тридцатые годы, фабианские исследования о проведении досуга, все в таком духе. Это я надоумил Гимсона Бауэрса, что можно неплохо зарабатывать на религии. Бауэрс – социалист старой школы: религия вредна, религия вздор, овчинка не стоит выделки. Но я говорил, что, на мой взгляд, ею интересуются, определенно интересуются – государственная Церковь вызывает в своем роде брожение умов: возьмите «Быть честным перед Богом» – непритязательная брошюра незаметного епископа, выпущенная незаметным издательством, а какой фурор! Национальный бестселлер. А бывает кое-что порадикальнее писаний епископа Вулиджского, не такое постное, а скоромное. Именно скоромное: секс. Секс и религия – это ведь и в церкви, и в современной молодежной культуре. Теология смерти Бога[69] – прямо дух захватывает. Харизматическое движение[70]. Работы о харизматичности. Крушение привычного нравственного порядка. Вся эта кутерьма с Кристин Килер, Профьюмо и политической элитой…[71] Всё трещит по швам, все расхожие представления, которыми мы преспокойно жили, даже если в них не верили. Теперь ими жить нельзя, и люди хотят про это читать, хотят разобраться. Мы вступили в эпоху нравственных исканий, переоценки ценностей, созидательного хаоса, и людям хочется понять, что происходит… Я задумал серию под названием «Фарватер современной мысли», как-то так. Вообще точнее было бы назвать «светочи», но сегодня «светоч» для названия не годится, школьной хрестоматией отдает. И потом, светоч – это факел: какое-то Средневековье. Хочется такое, чтобы, так сказать, отражало накал духовной энергии. Пламя? Стрелы?
– «Стрелы страсти»[72], – подсказывает Хью. – Или «выстрелы».
– «Костры полемики», – предлагает Фредерика.
Руперт Жако задумывается.
– Да, почти то, – соглашается он. – «Религия: костры полемики». «Психиатрия: костры полемики». «Социология: костры полемики»… Нет, не очень.
– «Ведьмы: костры полемики», – вставляет Хью.
– Зря ерничаете. Ведовство тема не надуманная. Им увлекаются все больше и больше. Огромный интерес в викке[73], «старой религии». Я, человек христианских убеждений, его не разделяю, но читатели – да. Пишут в издательство. Интерес нешуточный.
Он протягивает Фредерике книгу, где на обложке изображен узник в бумажном дурацком колпаке, сидящий по-восточному на полу камеры, стены которой обиты чем-то мягким.
Элвет гусакс язык мой – смирительная рубашка
Фредерика открывает книгу. В ней только чистые листы.
– Это еще не книга, а рекламный макет, – объясняет Жако. – Но автор бы юмор оценил: открываешь книгу о вреде языка – а там только девственно-чистая белая бумага. Автор – тоже моя находка. Я и каноника Холли нашел. Лично отыскал. А Гусаксу я решил написать, когда услышал его выступление в «Раундхаусе»[74] об антипсихиатрическом движении. Мощная речь: о том, что от психиатрических лечебниц одно зло, что прилепить кому-то ярлык «шизофреник» или «психопат» значит материализовать в нем эти отклонения, что, называя людей сумасшедшими, мы и правда сводим их с ума. Мы издали его первую книгу: «Разве я сторож брату моему?» – вы ее, наверно, видели, она стала поистине succès d’estime[75] и разошлась неплохим тиражом.
Фредерика рассматривает последнюю страницу обложки. Судя по фото, Элвет Гусакс – похожий на гнома человек со впалыми глазами, длинным тонким носом, редковолосый, густо загорелый, – впрочем, может быть, он такой только на снимке. Это поясной портрет, Гусакс явно сидит в троноподобном вольтеровском кресле, при этом на нем рубашка апаш. В аннотации сказано, что «Язык мой – смирительная рубашка» отражает взгляды целого интеллектуального направления, которое оспаривает правомерность ограничений, налагаемых на нас современной цивилизацией, и задается вопросом: обладает ли язык, в особенности печатное слово, хоть какой-нибудь функцией. Тут же цитата из Маршалла Маклюэна:
«Возможно, такое состояние коллективного сознания было довербальным состоянием человека. Язык как технология расширения человека вовне, чью власть разделять и отделять мы очень хорошо знаем, возможно, и был той самой „Вавилонской башней“, с помощью которой люди пытались добраться до высших небесных сфер. Сегодня компьютеры обещают дать нам средства мгновенного перевода любого кода или языка в любой другой код или язык. Короче говоря, компьютер обещает нам достичь с помощью технологии того состояния всеобщего понимания и единения, которое восторжествовало на Пятидесятницу»[76].
«Элвет Гусакс, – заключает автор аннотации, – разделяет исходную посылку Маклюэна о разобщающем влиянии языка, однако ставит под сомнение его надежду на то, что путь к взаимопониманию в духе Пятидесятницы открывает нам технология, или в первую очередь технология. У него есть собственные смелые идеи о том, каким образом можно возродить или реставрировать такие взаимоотношения».
– Любопытно, – произносит Фредерика.
– Вам послушать его надо, – говорит Жако. – Он харизматичный. В полном смысле слова харизматичный.
Смакует он это слово, подмечает Фредерика.
Жако выбирает из груды присланных рукописей четыре и дает Фредерике для рецензирования. Романы. Одна рукопись напечатана аккуратно, с большим интервалом, вторая – небрежно, уголки страниц загнуты, как собачьи уши, третья – экземпляр под копирку, строки через один интервал, четвертая – от руки. Та, что напечатана аккуратно, – «Плавание Серебряного Судна» Ричмонда Блая. С собачьими ушами – «Англичане и бешеные псы» Боба Галли. Под копирку – «Побочный эпизод» Марго Черри. От руки – Филлис К. Прэтт, к ней приложено письмо: «Прошу прощения за то, что рукопись не перепечатана. Пишущая машинка здесь есть, но в таком состоянии, что в напечатанном виде вышло бы еще неразборчивее. Я надеюсь, вы все-таки сможете разобрать, и буду с нетерпением ждать отзыва».
Написать краткие отзывы Фредерика берется. На обратном пути Хью советует:
– А что бы, Фредерика, тебе самой роман не написать?
Фредерика настораживается.
– Знаю. Но у меня никаких замыслов. Образование задавило. Заметил, что за романы берутся те, кто английскую литературу всерьез не изучал? Философию – да, или античность, или вообще историю… или ничего… От одной этой мысли не по себе. Меня хватит разве что на какую-нибудь побрякушку про чувствительную студенточку из Кембриджа. Такого добра начиталась, претит, презираю.
(Разговор о книгах – даже о таких – какое блаженство! Не о домах, не о вещах, не о собственности.)
Фредерика, хромая, во весь опор несется по улице. Хромота заметнее.
– Нога болит? – спрашивает Хью.
– Болит. Все не заживает. Томас записал меня к своему врачу.
Вечером в Блумсбери Фредерика садится за письменный стол – тот самый, за которым Александр писал «Соломенный стул», – и принимается за рукописи. Читает. Потом вместе с Томасом Пулом готовит ужин и вместе с Томасом, Лиззи, Лео и Саймоном угощается блинами с начинкой и фруктовым салатом (Вальтраут сейчас на курсах английского языка). Лео уж не так дичится: добрый Саймон взял его под крылышко. Звонит Алан Мелвилл: он устроил на завтра собеседование Фредерике в училище Сэмюэла Палмера. Можно вести два курса у вечерников: о поэтах-метафизиках или о романе XIX века.
Фредерика с наслаждением пишет отзывы на четыре романа.
Ричмонд Блай. «Плавание серебряного судна»
Сюжет этого произведения, если его можно назвать сюжетом, строится вокруг решительных попыток группы неприкаянных чудаков и волшебных тварей отыскать родину их предков, Элед-Дурад-Ор, населенную, как полагают, древними бессмертными существами, способными общаться без слов и силой мысли изменять материальный мир. Мир, где обитают персонажи (Бонодор), поработил злой чародей (Мильтан), усеявший его уродливыми фабриками (судя по описанию, архитектуры XIX века), громадными дымовыми трубами, крепостями с подъемными мостами, орудиями, которые, работая по принципу шлифовальных станков, мечут снопы искр. На окраинах этой бесплодной промышленной зоны ютятся чахлые леса и текут кое-где черные от сажи реки. Друзья, вняв таинственным призывам, собираются на холме из пепла и пыли. Составить представление о них можно в основном по их прозвищам: Татуированный, Волосатый, Брауни, Дурень, Полулюдь (полукозел), Каменный Дух и Лягушонок. Последнего все время подозревают в том, что он подослан Недругом, однако в конце концов Лягушонок героически жертвует собой: бросившись в дверной проем, он не дает закрыться каменной двери, и только благодаря его мучительной смерти его спутникам удается проникнуть в Элед-Дурад-Ор.
Отличить эти существа друг от друга непросто, поскольку все они изъясняются одинаково высокопарно и по большей части – едва ли не всегда – не находят слов, чтобы выразить свои чувства и впечатления, например:
«И очутился Дурень в ином пределе, где дух его блуждал среди темных корней того мира, точно слепой, тело же собеседовало с неизъяснимыми силами, так что, немилосердно напрягая внимание, он почти лишался чувств».
Герои то и дело пускаются в «приключения». Есть удачная сцена, когда на почти не фантастической, т. е. почти реалистической, пустоши их преследует свора собак с горящими красными глазами, или сцена, когда герои, отыскав место, где пришвартовано Серебряное Судно, пускаются в плавание по Рубежному Морю, но ходу корабля мешают льдины, и на него движется стая, или ватага, или отряд грозных нарвалов, которые, сомкнув ряды и потрясая рогами на лоснящихся головах, готовятся к нападению. Сексуальные мотивы в книге практически отсутствуют. Все женщины (или женщины-духи) – обитательницы или пришелицы из Элед-Дурад-Ора, это высокие серебристые фигуры с красивыми поясами, то и дело воздевающие руки, – кажется, эти занятные жесты походят на упражнения ритмической гимнастики Далькроза, которые в лоуренсовских «Влюбленных женщинах» выполняли на берегу озера Урсула и Гудрун. Но со всеми этими героями ничего, собственно говоря, не происходит. Даже опасности, даже могучий Борг на Ледяной Горе раззыбливаются в какое-нибудь невыразимое видение, по поводу чего большинство персонажей разражаются длинными сотрясательными монологами. Эти монологи, наверно – впрочем, с оговорками, – можно было бы скандировать как верлибры: для внутреннего слуха это неприятно.
Автор притязал на то, чтобы получилось как у Толкина, – хочется думать, по причине искреннего уважения к писателю, а не с целью посостязаться с ним в спросе у читателей. Но в отличие от книг Толкина здесь начисто отсутствует повествовательный темперамент, осязательность обстановки, подлинный запах земли. Нет здесь и беззаботного толкиновского юмора – кто-то сочтет это достоинством, но, право, это не так. Там и сям заметны переклички с «Волшебником страны Оз». Получилась удивительно безжизненная книга, хотя, как ни парадоксально, автором руководило желание создать воображаемый мир и населить его живыми людьми.
Боб Галли. «Англичане и бешеные псы»[77]
Даже не верится, что книги с таким названием еще не было. Если бы мне предложили ее вообразить, я бы представила ее именно такой: мрачной. По жанру это, видимо, плутовской роман о похождениях желчного англичанина по имени Ури Хипп. Ему за двадцать, он путешествует автостопом по югу Франции. За ним неотступно следует горемычная девица из одного с ним города (Престона, графство Ланкашир) по имени Динна. Она носит юбки в пейзанском стиле, у нее волосатые ноги, кожа в пятнах, сальные волосы, попахивает изо рта, а на подбородке бородавка, порицанию которой посвящен один абзац а-ля Джойс. Время от времени Ури Хипп потихоньку таскает из сумочки Динны пачки денег («Она же их не заработала и тратить в свое удовольствие не умеет, ей они ни к чему, а мне без них зарез: я-то умею получить кучу удовольствия даже по дешевке»). Судя по всему, эти кражи у него единственный источник дохода, поскольку он, как видно, никогда не работал и никаких определенных занятий не имеет, а только шатается по свету, перебираясь с места на место автостопом. Кров и пропитание ему предоставляют прекрасные француженки и итальянки, которые останавливают свои спортивные автомобили и рассматривают его, очевидно стараясь по его неприглядной наружности сделать заключение о его дееспособности и размере его «шершавого». Женщины различаются по масти: одни «цвета мерцающей платины», другие «огненно rousse»[78], третьи «аспидно-черные, с шелковистым отливом», но у всех как на подбор круглые груди, роскошные щелки и душистые лобковые волосы. Обычно Ури Хипп их бросает, потому что углядел из окна ресторана или «феррари» на заправке другую, получше.
В романе постоянно упоминается еда: горы кассуле[79], восхитительно лоснящийся соус айоли, «фуагрра» (sic), «бульябес» (sic) и т. п. Эти трапезы, однако, всего лишь прелюдия к неистовому совокуплению, и обилие блюд меркнет перед обилием выпивки, хотя, как ни странно, герой предпочитает темное пиво – и это притом, что вокруг сплошные виноградники. И все же Ури Хипп не обходит вниманием и другие напитки: перно, мартини, белый портвейн, мускат, игристое розовое (faute de mieux)[80], коньяк, арманьяк, мятный ликер, куантро, шартрез и т. п., и все это он при каждом удобном (и неудобном) случае норовит выблевать вместе с пищей.
Точных подсчетов я не производила, но, по-моему, блюет он не реже, чем совокупляется. Если тут скрыта сатира или ирония, то за нездоровой симпатией к Ури Хиппу и его доблестям их не заметить. Диалога мало. («Слова – что в них проку? Я бросился на нее, она открыла мне свою влажность, завязался мерный, напористый диалог тел вразнобой с урчанием и бурчанием моих кишок».)
Внешность Ури Хиппа беспристрастный наблюдатель найдет такой же отталкивающей, какой представляется Хиппу наружность Динни. Он расписывает запах своей промежности, своих подмышек, своих ног, задубевшее от грязи нижнее белье, грязные ботинки, запачканные рубашки, щетину на щеках, как будто это признаки этакой козлистой мужественности, которая в сочетании с прямотой и душевной черствостью делает его неотразимым: женщины летят как мухи на мед (одно из его собственных сравнений).
С географией неладно. Добраться от Канн до Нима за время, указанное в романе, можно разве что на реактивном самолете. От Ванса до Монпелье, насколько я помню, порядочное расстояние, а бóльшая часть природного парка Камарг для въезда закрыта.
Как и следовало ожидать, книга заканчивается так же, как начиналась: Ури Хипп, осоловевший от похмелья и самовлюбленности, стоит, отблевываясь, у ворот крепости Эг-Морт и ждет, когда его подцепят. Всякий (или всякая), у кого есть голова на плечах, побыстрее проедет мимо.
Марго Черри. «Побочный эпизод»[81]
Этот роман – история чувствительной девушки из рабочей семьи по имени Лаура (девушку из рабочей семьи Лаурой бы не назвали, и я подозреваю, что она из низшего слоя среднего класса, но при таком социальном происхождении интереса у читателей она бы не вызвала, хотя очень многие, если не большинство, к этому самому слою и принадлежат). Лаура поступает в Оксфорд, изучает там английскую литературу и влюбляется в молодого человека по имени Себастьян, а он в нее не влюбляется – он, вероятно, вообще влюблен в своего закадычного друга Хью: они вместе учились в школе, вместе служили в армии, вместе с блеском занимаются английской литературой и играют в постановках Драматического общества Оксфордского университета.
Несколько глав Лаура мучается вопросом, не переспать ли с каким-нибудь молодым человеком, и проводит то с тем, то с другим, то с третьим разнообразные nuits blanches[82]. В конце концов невинности ее лишает не Себастьян, а Хью (который, естественно, крепче и коренастее своего грациозного друга и не такой мечтательный). Начинает складываться не лишенный интереса треугольник, но Марго Черри не удается сделать ничего путного, потому что ее интересует лишь диагноз: кто в кого «влюблен». Повествование хоть отчасти можно было бы считать состоявшимся, если бы нам рассказали, вышла ли Лаура замуж за Себастьяна, или за Хью, или за кого-нибудь еще или так и не вышла, но нам не рассказывают: оксфордская пора заканчивается, дальше – сумрак, туман, неопределенность.
Написать такой роман считает себя способной любая студентка Оксфорда, штудирующая англистику, хотя многим [Фредерика честно добавляет «из нас», но из соображений объективности и беспристрастности вычеркивает] не хватит упорства и решимости написать сотни таких вот страниц. Особенно умиляет внимание Марго Черри к мелочам повседневной жизни – притом что ее персонажи выходят шаблонными и картонными. Она описывает ванны в Сомерсет-колледже, струйки воды, бегущие по рукам героини во время прогулки на ялике, сады колледжа, электрические чайники, кафетерии, Бодлеанскую библиотеку – притом так, будто никто этого прежде не видел и не описывал. Это производит на читателя странное действие, ибо на самом деле все это описывали так часто, что эти описания стали мифологемами из области обыденного, энергией которых и питается худосочное повествование Марго Черри, запуская в них свои щупальца. То же относится ко всей эмоциональной атмосфере романа: бессмысленное томление, неуклюжие попытки согласовать любовные влечения. Взвесив все, я бы сказала, что писать Марго Черри умеет, могла бы писать хорошо – если бы нашла о чем.
Но почему бы не Оксфорд, не любовь в молодости, не что-нибудь там из Шекспира? – спрашиваю я себя. Потому что мне такие писания набили оскомину – и, подозреваю, не мне одной. Юность и свежесть здесь – дежавю. Вот почему юным чувствительным особам следует воздержаться от писания чувствительных юных романов об Оксфорде и Кембридже. И все-таки, может, покончив с этим романом, автор попробует что-то еще?
ФИЛЛИС К. ПРЭТТ. «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»
Роман начинается с описания того, как женщина печет хлеб. Как бродят дрожжи, как поднимается тесто, как его осаживают. Как терпеливо дожидаются, когда оно будет готово, как батоны и булочки оправляются в печь.
Героиня этой книги – жена священника из уорикширского городка, у нее тринадцать детей, печь хлеб – ее страсть. Ее зовут Пегги Крамп. Муж ее – преподобный Ивлин Крамп. Они познакомились, когда вместе волонтерствовали в лагере для беженцев, и она обратилась в христианство, убедившись в силе его веры и в благотворности христианства для всего человечества. Его надежды продвинуться по службе не оправдались – нрав у него оказался вспыльчивый, он умеет сдерживать себя только в трудных обстоятельствах, – и они благородным образом почти что бедствуют в провинциальной глуши. После нескольких событий (смерть соседа от лейкемии, столкновение с чванливым епископом, зрелище смертной казни и лицезрение «восхитительной пустоты») Пегги утрачивает веру в Бога, однако Ивлин уговаривает ее жить «как бы» по-прежнему – да ей из-за детей ничего другого и не остается.
Самый драматический эпизод романа – сперва может показаться, что это буря в стакане воды, но это и правда драма, – когда самому Ивлину в минуту беспросветного отчаяния в видении является дьявол и объявляет, что а) он, дьявол, – вымысел, б) христианство – тоже вымысел и что Ивлину надо научиться жить без вымыслов, в мире, где царит смерть.
Ивлин впадает в безнадежный пессимизм, испытывает приступы сомнамбулизма, морит себя голодом, произносит наигранно страстные туманные проповеди, совершает несколько заведомо неудачных попыток самоубийства. Пегги советует ему, как и он ей когда-то, жить «как бы» по-прежнему, и, услышав в ответ, что это позволительно домохозяйкам, но не рукоположенному священнику, она не сгоряча, обдуманно бросается на мужа с хлебным ножом. Море крови.
Этот роман не трагедия, не мелодрама, а оригинально задуманная черная комедия. Здесь есть уморительное описание благотворительного базара (символ вселенского и социального неустройства и нелепости), точно и объективно выписанные образы подростков, обходительный приходской священник, брыкливый осел, зловещий младенец и еще много удачного.
Хлеб – центральный образ книги, и выбор его неслучаен. Хлеб Пегги, пышущий жизнью и бодростью, противопоставлен евхаристическим опреснокам, которые перестали быть облатками, пресуществленными в Тело Господне. Словно бы дрожжевые клетки (почти что, нестрого говоря) и есть истинный Бог, зиждитель всего. Эта метафора пронизывает весь текст и проглядывает то там, то тут: сэндвичи с огурцом, сдобные булочки во дворце епископа, плесень и пенициллин.
Мне кажется, Вам стоит прочесть эту книгу и взять ее на заметку. Читая, я то смеялась, то ужасалась до оторопи. Кроме того, я вновь почувствовала, что английский язык способен выражать многое: глубокое, смешное, сложное, – после первых трех книг я было начала в этом сомневаться.
Покончив с рецензиями, Фредерика испытывает что-то вроде переливчатой радости. Радость играет множеством оттенков: Фредерике нравится писать, нравится следить, как из ручки исторгается речь в виде черных начертаний, и от этого она, Фредерика, снова становится собой, тело обретает реальность, потому что жив еще разум. Притом это все-таки деньги, пусть и небольшой, но заработок, то есть независимость. Да и читать было приятно – не только написанный от руки шедевр Филлис К. Прэтт, но и поделки Блая, Галли и Черри: раз они день изо дня, из ночи в ночь придумывали какие-то миры, будто это кому-нибудь нужно, писательство для них не пустой звук. Тоже приятно, и от этого становятся милее больше не стесняющие ее Олив, Розалинда и Пиппи Маммотт: не будь их, она не смогла бы так остро сопереживать подневольной Пегги Крамп. А вот Лаура, детище Марго Черри, от нее за тридевять земель.
Томас Пул стучится и приглашает ужинать. Ужин готовил он: окорок со шпинатом под соусом бешамель. Фредерика пытается описать ему свое удовольствие от рецензирования.
– Приятно заниматься тем, что умеешь, – рассказывает она. – Приятно, что эти люди выбрали себе такое занятие, хотя писатели они никакие. Глупо, да?
– Почему же? – возражает Пул. – Расходовать энергию вообще приятно, уж я-то знаю. Бывало, задашь в школе сочинение на одну страницу, а какой-нибудь недотепа разражается на двенадцати, и ты видишь: голова у него варит. Понадобилось всего ничего.
– Мне нужно работать, нужно, – твердит Фредерика. – Она меня губит, эта нерастраченная энергия, она мне жизнь отравляет.
На память приходят дрожжи.
– Люблю, когда ты улыбаешься, – признается Пул. И, поколебавшись: – Хорошо, что ты остановилась у нас. Вспоминаю тебя и диву даюсь: была такая задиристая девчонка, такая взбалмошная, родной отец не мог найти подход. И вдруг – женщина, и у нее Лео, и у нас.
Фредерика не без усилия улыбается: слово «женщина» настораживает.
Вдвоем они славно ужинают и беседуют. О Филлис К. Прэтт, об Элвете Гусаксе, о том, почему чувствительным юным особам не стоит писать романы. О Найджеле ни слова. Но скоро придется вспомнить и о нем.
Билл Поттер перерабатывает свою лекцию о «Мэнсфилд-парке»[83]. Он читает эти лекции лет тридцать с небольшими перерывами, но всегда перерабатывает – отчасти из уважения к ученикам, которые заслуживают услышать что-то посвежее затверженного до дыр старья, отчасти потому, что его отношение к этому скрытному и печальному произведению все время медленно меняется, как отношение всякого человека к своим родным. Он размышляет о сэре Томасе Бертране, который недостаточно занимался нравственным воспитанием своих дочерей, но ухитряется найти более достойную замену своей семье: молодые Прайсы, сын и дочери свояченицы. Билл с нежностью думает о живущих с ним внуках.
За окном тишина. Вдали раздается рокот автомобиля, звук нарастает, переходит в рычание и обрывается возле двери. Билл надеется, что Уинифред отопрет, но, оказывается, она ушла. Снова звонок, и он идет отпирать сам.
Он сразу узнает своего зятя Найджела Ривера. Это здоровяк в алой тенниске, брюках из плотной диагонали и твидовой куртке. Найджел видит перед собой старого гнома с кустистыми, рыжими впроседь волосами и острыми бледно-васильковыми глазами.
– Я хочу поговорить с Фредерикой.
– В таком случае вы обратились не по адресу. Ее здесь нет.
– А по-моему, она здесь. Я решил приехать сразу, без звонка, а то по телефону вы сказали бы, что ее нет, или она не захотела бы подойти. Мне надо с ней поговорить.
– Молодой человек, вы напридумывали то, чего нет. Я даже не знал, что она от вас ушла, пока вы не сказали. Если она рассудила так поступить, то жаль, что не приехала ко мне.
– Я вам не верю! – объявляет Найджел. Билл мысленно отмечает, что он «не в себе». – Войду сейчас и посмотрю. Она должна со мной поговорить. И потом, мне нужен Лео.
– Ничем не могу помочь, – отвечает Билл. – А и мог бы, не стал бы. Что за жизнь вы ей устроили!
– Очень удобную жизнь я ей устроил, – огрызается Найджел. – Пропустите, будьте любезны. Пойду поищу жену и сына.
– Я не имею привычки лгать, – говорит Билл. – Их здесь нет.
Он пытается закрыть дверь. Найджел меняется в лице. Он толкает дверь с такой силой, что она ударяет Билла в лицо, он отлетает и ударяется затылком о шершавую стену. Хлещет кровь, оглушенный Билл падает на колени перед Найджелом, а тот, обхватив его, лихорадочно лепечет сумбурные извинения и с дрожью ощупывает рану. Почти что в обнимку они ковыляют в кухню, и Найджел с удивительной расторопностью хватает чистое посудное полотенце и, смочив, обтирает рану тестя.
– Ищите на здоровье, – дрожащим, но пронзительным голосом предлагает Билл. – Где они тут? Есть следы? Раз уж ворвались, обыщите весь дом. Здесь вам их не найти.
Найджел и правда осматривает – даже как будто обнюхивает – кухню в поисках пропажи. Потом вылетает из кухни, и сверху доносится грохот: Найджел распахивает двери, обыскивает, как ему было предложено. Кровь заливает Биллу глаза. Найджел возвращается, в руках у него пышное зеленое платье Фредерики.
– Это ее.
– Ее. Оно у нас с тех пор, как она вышла замуж. Старье. Там такого полный гардероб. Может, вы ее в этом платье видели.
– Я его забираю.
– Сделайте одолжение. Вряд ли она захочет снова его надеть.
– Я вас поранил, извините.
– Когда дело сделано, извиняться легко, – отвечает Билл и осекается. Сколько раз так отвечали ему! Он пристально смотрит на зятя и вытирает кровь со лба грязным носовым платком.
– Не надо… Возьмите мой… Он чистый, – предлагает Найджел.
Он подсаживается за стол поближе к тестю.
– Она сбежала ночью. И Лео с собой взяла. Я с ней обошелся не очень-то любезно. Надо переменить тон. Я, пожалуй, перегнул палку – вы же знаете, как бывает, – добавляет он, сообразив, что тесть и правда знает – теперь по собственному опыту.
Билл не отвечает. Сосредоточенно промокает лоб платком Найджела.
– Я не сомневался, что она здесь. Другие женщины всегда так. Чуть что – сразу к матери. Я еще подождал, а то было совсем взбесился, надо было собраться с мыслями. Все обдумал…
– Фредерике «другие женщины» не указ.
– Где искать ее дружков, ума не приложу. Найду – убью. Всех до одного.
– За это она спасибо не скажет.
– Я же ее люблю. Люблю, она знает. И как она могла забрать Лео? У него было всё. Жил не тужил. Он там совсем запутается, совсем скиснет. Ребенку дом нужен, привычный порядок. Мой дом – вот где ему место! Ну как так можно: среди ночи увести у меня сына? Не предупредить, не поговорить, записки не оставить, не…
– С вами поговоришь, – ворчит Билл.
Найджел обжигает его взглядом:
– Я поеду. – Вид у него беспокойный. – Вы как? Может, посидеть с вами, пока кто-нибудь не придет? Голова не кружится?
– Нет, – отвечает Билл, хотя голова и правда кружится. – Если уедете, буду признателен. И пожалуйста, поскорее.
– Вы мне сообщите, если узнаете… все ли у них в порядке, не нужно ли денег или еще что-нибудь?
– Я поступлю так, как захочет Фредерика, – объявляет Билл. – Надеюсь, вы сами понимаете.
Возвращаясь к обеду, Маркус видит у дома зеленый «астон-мартин», на заднем сиденье кто-то раскладывает пышное зеленое платье, словно усаживает лишившуюся чувств женщину. Автомобиль ловко выруливает на дорогу и что-то уж слишком поспешно мчится прочь из города.
Наконец наступает 15 октября, день выборов. Фредерика и Томас Пул наблюдают оглашение результатов по телевизору, с ними Хью, Алан, у которого телевизора нет, и Александр, который после появления Фредерики и Лео зачастил к Пулу. Пул, человек книжной культуры, обзавелся телевизором не по зову души: он косится на него как на пустую блажь и с пуританской щепетильностью считает, что телевидение ничего не дает ни уму ни сердцу. Уговорили дети: они твердили, что, если в школе не смогут болтать со всеми про «Бэтмена» и «Хит-парад алле!»[84], на них будут пальцами показывать. Тони Уотсон в Хайтоне следит за подсчетом голосов, поданных за Вильсона, пишет серьезную аналитическую статью о влиянии телевидения на выборы и приходит в неистовый восторг от умения Вильсона приноравливать свои появления на телеэкране, внешность, идеи к тому, что узнает из опросов общественного мнения. Лейбористы и тори идут ноздря в ноздрю – только завтра вечером окончательно выяснится, что Лейбористская партия фактически победила: получила в парламенте на пять мест больше. Друзья уплетают чили кон карне, хлещут красное вино. Фредерика нет-нет да и задумывается – но ни с кем не делится – об Оливии, Розалинде и Пиппи Маммотт: как-то они сейчас, затаив дыхание, следят за колебанием чаш весов, от которых зависит судьба «наших». Они – враги, ставшее посмешищем правительство консерваторов так или иначе в ответе за многое: нравственный кризис верхов, неудачи, саморекламные выходки Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис[85], зияющую пропасть между богатыми и бедными, и ложь, и унижения. Когда Фредерика видит, как Вильсон, неожиданно появившийся в переполненном зале, исступленно машет толпе, он ей уже почти нравится. Число голосовавших за него утроилось. Он целует жену перед камерой. За его спиной маячит радостное лицо Оуэна Уильямса.
– Он хотел на мне жениться, – сообщает Фредерика. – Интересно, что получилось бы, если бы я…
– Я так думаю, что-нибудь жуткое, – невозмутимо отвечает Алан. – Его подруга жизни – политика. Тебе бы досталась роль хозяйки на светских приемах, ты бы все на свете прокляла.
– Это все Кембридж, – с несвойственной ему язвительностью замечает Хью. – Там считалось, что кого-нибудь прямо необходимо заарканить. Сколько из-за этого несчастных – по собственному недомыслию несчастных. Женщин было наперечет, и что мы все тогда понимали?
Фредерику коробит. Вильсон смотрит в камеру с маниакально лучезарной улыбкой. В эту минуту его победа еще не окончательна.
– Как бы он не раскассировал мою комиссию, если выиграет, – тревожится Александр. – Я уже начал было думать, что от наших трудов есть польза. Мы, так сказать, сработались. Коллектив. Мне работать интересно, хочется продолжать. Всю следующую неделю объезжаем начальные школы. Этакие выходцы из Бробдингнега[86]. Узнаю новое.
Ни у кого соображений по этому поводу нет. Расходятся под утро, под хмельком и под впечатлением от выборов. Томас и Фредерика провожают гостей до дверей, словно супружеская пара. Томас одной рукой обнимет Фредерику за плечи. Она не сопротивляется, но и не прижимается к нему.
– Как по-твоему, Хью Роуз в тебя влюблен? – спрашивает Томас.
– Нет, – отвечает Фредерика. – Когда-то, кажется, был, но он ведь сам говорит, что тогда все друг в друга влюблялись, особенно женщины. Мы себя считали какими-то незаурядными, а оказалось, нас просто было мало.
– А ты его любила?
– Нет-нет, я любила Рафаэля Фабера. Или его придуманный образ. Такой, знаешь, недостижимый, запретный, учитель, аскет. Чувств было через край, но до дела не дошло. Теперь это далеко-далеко.
– Изменилась ты, – произносит Томас Пул.
Он задумывается, потом привлекает Фредерику к себе и с нежностью целует в макушку. Отпускает.
– Спокойной ночи.
– И тебе. Завтра проснемся, а страна стала горнилом технической революции. Или не стала.
Стала.
На ступеньках Училища изобразительных искусств и ремесел имени Сэмюэла Палмера Фредерике приходит на ум слово «портал»: странное, ощетинившееся, как всякое слово, когда оно, обособившись, отстаивает свою самость. Вход в училище и правда украшен внушительным порталом – ему отведен целый абзац в певзнеровском путеводителе[87] по лондонской архитектуре. Длинное здание училища занимает целую сторону площади Люси-сквер рядом с Куин-сквер за Расселл-сквер и Саутгемптон-роу. По сторонам ведущей к порталу широкой лестницы с приземистыми ступеньками на стене укреплены два барельефа работы Эрика Гилла[88], сам портал – заглубленная каменная арка, где по бокам стоят фигуры Адама и Евы в человеческий рост, также работы Гилла, они держат в руках по яблоку и улыбаются так, словно грехопадение – пустячок без существенных последствий. Свод портала образован сомкнутыми рядами летящих фигур, но кто они такие – ангелы, джинны или феи, – разобрать затруднительно. Ручки на массивных темных дверях – литые медные изображения сфинкса и сирены, медные груди на обеих ручках от частных прикосновений надраены до блеска.
– Портал… – говорит Фредерика Алану Мелвиллу. – Вот уж портал так портал. Чудное слово – «портал».
– «В воображенье красота не вечна, / Портал из паутинных черт, но, / Овеществясь, она бессмертна»[89], – цитирует Алан, положив руку на медную грудь сфинкса.
– Я бы скорее вспомнила, как леди Чаттерли цитирует Суинберна, – замечает Фредерика. – «У двери, у портала стоит она бледна»[90], и леди Чаттерли понимает, что надо войти. И что-то там еще о Прозерпине, поднимающейся из подземного царства.
Внутри здание похоже и не похоже на всякое учебное заведение. Длинные коридоры и лестницы, все основательное, каменное, чтобы без износа, обычный в таких учреждениях душок мастики и чего-то дезинфицирующего. Но коридоры увешаны картинами: яркие абстракционистские полотна, портреты певцов и кинозвезд в духе поп-арта, клубящиеся тела в полете, как на гравюрах Блейка, коллажи из масок. А запах дезинфекции тонет в запахах творчества: масляных красок, скипидара, шпаклевки, горячего металла. Алан рассказывает о кафедре гуманитарных наук.
– А ведь я преподавать зарекалась, – признается Фредерика. – Хотя с тобой поработать приятно.
В кабинете заведующего кафедрой гуманитарных наук стены обшиты деревом, на окнах пестрые льняные занавески (работа студентов-текстильщиков). Он предлагает Фредерике кофе в чашке томатного цвета (работа студентов-гончаров) и просматривает ее послужной список: они с Томасом Пулом составляли его со знанием дела. Заведующий – крупный симпатичный мужчина, мать Фредерики сказала бы про его лицо «миловидное». Ярко-голубые глаза, мягкие улыбчивые губы, ухоженные черные с проседью волосы, расчесанные на прямой пробор. На нем синий вельветовый костюм и вязаный галстук из красного шелка. На стенах кабинета в три ряда висят картины и гравюры с изящно выведенными внизу стихами: все цитаты из Блейка, замечает Фредерика. Беспредметное нагромождение мазков: «В Излишестве Красота»[91]. Детоподобная мордашка на синем фоне, усыпанном звездами: «Кто не способен светить, не станет звездой». Большущий коллаж – дерево: «В одном и том же дереве глупец и мудрец находят не одно и то же». Глаз: «Одною мыслью можно заполнить бескрайность». «Тигры гнева мудрей лошадей поученья». Большая гравюра, навеянная офортами Пиранези, под ней:
Название «Голгонуца» всегда коробило Фредерику. Не словотворчество, а агуканье младенца. Слово ненамеренно комичное. Заведующий продолжает изучать послужной список, бормочет: «Внушительно» – и, подняв голову, замечает, что Фредерика рассматривает картины на стенах.
– Я у нас все обучение построил вокруг Блейка. Величайший английский поэт и величайший английский художник. Выворачивает сознание. Студентов вдохновляет. Эту коллекцию я собирал годами: дань его гению. Стили, как видите, разные, но источник один. Я предпочитаю привлекать к преподаванию людей с творческой жилкой. Вы сами пишете, мисс Поттер?
(Фредерика решила вернуть себе девичью фамилию.)
– Увы, нет. Изучение английской литературы отбивает охоту. Но может, здесь, где все что-то создают, будет по-другому.
– Здесь особая атмосфера. Сам-то я пописываю. Мне кажется, тем, кому вверены души людей творческих, надо и самим хотя бы попробовать творить, правда?
– Да-да.
– Черпаю вдохновение в «Пророческих книгах» Блейка.
Фредерика, неосторожно:
– Я «Пророческие книги» терпеть не могу. Такой корявый язык. Вот «Песни невинности»…
Он снисходительно улыбается:
– Мне кажется, если вчитаться, начинаешь чувствовать красоту этого языка – своеобразную красоту, красоту раскованности, свободную от монотонности регулярных размеров, от оков, как сам он пишет, от рифмы, белого стиха. «Поэзия, заключенная в оковы, накладывает оковы на человечество»[93]. Тут нужен особый слух. Это же визионерство, видение Альбиона, друиды, то же, что основание и истоки иудейской религии.
– Интересный миф, – бросает Фредерика, силясь разобрать дарственную надпись на одной акварели: роза, в сердцевине которой затаился червяк.
– Или истина, или миф об истине, – с улыбкой подхватывает он, а тем временем Фредерика успевает прочитать подпись: «Ричмонду Блаю, который открыл мне беспредельность желаний, – с любовью и восхищением Мэриголд Топпинг».
На миг Фредерика бледнеет: в памяти во всей полноте разворачивается ее ехидная вивисекция «Плавания Серебряного Судна». У нее перехватывает дыхание. Ричмонд Блай ничего не замечает. Он предлагает ей в течение года (испытательный срок) попреподавать у вечерников и обещает кабинет, где она будет проводить консультации и готовиться к лекциям. В кабинет ее проводит Алан.
Вверх, вверх, вверх. Массивная лестница тянется вдоль всей стены училища Сэмюэла Палмера. Лестница просторная: по ней то и дело таскают вверх и вниз что-то громоздкое. Наверху изящная балюстрада с коваными железными перилами. Невысокие ступеньки посредине заметно стерлись: Фредерике вспоминаются входные парадные лестницы в монастырях. На лестнице темно, однако наверху студии со стеклянным потолком залиты солнечным светом. Алан ведет Фредерику через эти студии – мимо крапчатых всполохов, мимо вместилищ света и тьмы, сквозь запах масляных и акриловых красок, скипидара и спиртовых растворителей. Посреди последней, большой студии стоит нечто непонятное, а вокруг толпятся студенты в черных, в обтяжку, одеждах и два человека в джинсах с чем-то вроде проекторов. Это нечто напоминает то ли гигантскую колбу, то ли цистерну, то ли водолазный колокол, увенчано оно воронкой, в которую один проектор направляет цветные лучи. На глазах Фредерики цвет меняется: то золотисто-красный, то бирюзовый, то индиго, то канареечный, то розовый. В матовых черных стенах этой цистерны или бочки разноцветно горят иллюминаторы всевозможных форм и размеров – вспыхивают, испускают трепетные переливчатые лучи. Свет получается густой, влажный. Студенты, вооружась эскизниками и чем-то вроде картонных труб или перископов, заглядывают внутрь, кто откуда может. Кто-то присел на корточки возле нижних иллюминаторов, кто-то взгромоздился на подставку с сиденьем и смотрит в верхние. Распоряжается всем крепыш в запачканном красками полосатом свитере, расползающемся по нитке. С первого взгляда понятно: они с Аланом добрые друзья. Алан знакомит: Десмонд Булл, художник, отвечает за базовый годичный курс.
– А это Фредерика Ривер… то есть Поттер. Будет преподавать литературу.
– Бог в помощь, – желает Десмонд Булл.
– Можно посмотреть, чем вы занимаетесь?
– Милости просим. Поднимайтесь наверх, оттуда лучше видно. Это Мэтью придумал такие огни, вон он. У него цветофильтров полным-полно. Получился такой образовательный хэппенинг на тему колористики. Вы вот по этой лесенке.
Фредерика взбирается наверх и заглядывает внутрь. Водолазный колокол словно залит осязаемым заревом, но это лишь воздух, загустевший от цвета. Свет меняет окраску, играет стайками зеленых, потом золотистых крапинок, изумрудными и алыми волнистыми линиями. Эта игра света, цвета, энергии так завораживает, что Фредерика не сразу замечает в воображаемой глубине извивы, колыхание – не то прядей волос, не то морской травы, не то человеческих конечностей: из-за переливов света – золотистый, зеленый, лазурный – никак не понять, никак не увидеть.
– Там скульптура? – спрашивает она, задыхаясь от восторга, и голос из глубины, гулкий, металлический, отвечает:
– Нет. Живое существо. Человек по образу и подобию Божию. Самый что ни на есть. Что, пошевелился? Обман зрения. Я профессионал.
– Вылезайте, – зовет Десмонд Булл. – Перерыв.
Фредерика отодвигается от цистерны. Тот, кто внутри, хватается за край, подтягивается – пальцы длинные, сероватые, при обычном свете попросту серые – хотя в цвете ли дело, понять трудно. Над краем показывается голова, длинная-длинная, с длинным точеным носом и тонкими губами, глаза смотрят из-под нависших век, волосы, безукоризненно прямые и гладкие, падают на лицо, скрывают плечи и грудь, так что не разберешь, мужчина или женщина. Затем из многоцветного заточения выбирается длинная, серая, жилистая нога, тоже в серых космах, и вот уже странная фигура, сизая при свете дня, взобравшись на край, спрыгивает наземь. Купа волос на длинных сухопарых ногах направляется к Фредерике. Она поглядывает на причинное место: серо-стальные волосы то ли случайно, то ли нарочно раздвинуты, под ними виден член-невеличка.
Существо протягивает Фредерике руку:
– Джуд.
– Фредерика, – отвечает Фредерика, обоняя неприятный душок, вроде запаха рыбы, старых сковородок или прогорклого масла.
– Ну что, запах стародавний, вроде как от рыбы, – отзывается Джуд высоким голосом с интеллигентным выговором.
Фредерику передергивает, но она замечает, что этого-то он и ждал. Убедившись, что добился своего, он отворачивается и идет к складному креслу возле студийного обогревателя: три красные лампы-розы на металлическом стебле-штативе. Подставляет руки под красное сияние, поворачивает штифтик возле розы. Кожа у него на ребрах и на ягодицах в складках – не висит складками, а собрана в складки, как у носорога. Студенты приносят ему кофе в пластиковых стаканчиках, угощают печеньем, но от печенья он отказывается. У его ног рассаживается целая компания.
Алан проводит Фредерику в ее кабинет – выгороженный угол этой самой студии под высоким стеклянным потолком. В кабинете стоит стол – самый обычный, не письменный – с удобной офисной лампой на струбцине, розовое кресло из литого пластика: подлокотники в виде рук, ножки – человеческие ноги, подголовник – мордочка микроцефала, глаза с длинными ресницами зажмурены, губки сложены для поцелуя.
– Что это был за субъект? – спрашивает Фредерика.
– Джуд. Джуд Мейсон. Подозреваю, что имя не настоящее. Личность загадочная, не без позерства. Откуда взялся, где живет, никому не известно. Говорит мало, но иногда принимается просвещать студентов насчет Ницше. Они его любят. Слушают во все уши. Появляется время от времени, устраивается натурщиком, потом исчезает, потом опять появляется. Натурщиков днем с огнем не найти, а на него всегда можно рассчитывать.
– Он похож на Голлума. Или на блейковского Навуходоносора[94], только поджарее.
– Ну, Блейком-то он не очень увлекается. Вечно спорит с блейковской кликой – или клакой – Ричмонда Блая. Предпочитает Ницше.
– Кстати, о Блейке. Тут такая скверная история вышла. – И Фредерика рассказывает о «Плавании Серебряного Судна». Не удержавшись, сбивается на шутливый тон. Но происшествие и правда смешное – смешное и грустное. – До меня дошло, когда я увидела эту его Голгонуцу. Ты его имя-фамилию называл, но я как-то пропустила мимо ушей – наверно, просто слышать их не могла. И как теперь быть?
– Помалкивать, – советует Алан. – Никому ни слова, как бы ни подмывало рассказать: ты, мать моя, всегда была чересчур разговорчива и теперь, слава богу, становишься прежней, но – сдержанность, сдержанность. Забудь про Серебряное Судно и его пассажиров.
– Зато из тебя, бывало, слова не вытянешь, – вспоминает Фредерика, обращаясь мыслями к своим друзьям.
В Кембридже она не раз задавала себе, а то и ему вопрос: кого он любит, что он любит? Ответа не получала ни разу. Он собранный, порядочный, добрый, он несомненно надежный друг и несомненно полная загадка. И ей такое положение вещей нравится.
– Ну и как тут? – спрашивает она, завороженная обстановкой, зазеркальным миром по эту сторону портала. – Каково это – преподавать историю искусства художникам?
– Ужасно, – вздыхает Алан. – Они считают, что мертвые – это мертвечина, к их исканиям никакого отношения не имеют и даже хуже: мешают проявлять оригинальность. Не то чтобы все так думали. Но – большинство. Сама увидишь. Для преподавателя это сущее испытание. Поневоле задумаешься: дался тебе этот Рафаэль. Или Джотто, или Пьеро делла Франческа. Но студенты обыкновенно голосуют ногами, так что удовольствие спорить с ними на эти темы имеешь не так часто. Это одна беда. Есть и другие. Такие заведения держатся только благодаря массовому энтузиазму вечерников, штучная работа, больших доходов не приносит. Не будь их – не будет ни учебных групп, ни курсов, ни денег.
– И все равно, – говорит Фредерика. – Здесь жизнь.
V
Опасения Александра, что новое правительство лейбористов расформирует Стирфортовскую комиссию, оказались напрасными. В нее лишь ввели еще двух членов, для большей демократичности. В комиссию, как заведено, входили именитые администраторы от образования из вековечного списка госслужащих на сей предмет, благоразумно уравновешенные настоящими профессионалами. Сначала состав был такой:

Новое правительство пополнило список:

К комиссии приставлены два сановитых чиновника: Обри Уэйс, секретарь комиссии, и Агата Монд, его заместительница.
В напутственном послании комиссии говорится, что ее задача – разработать рекомендации по преподаванию английского языка в начальной и средней школе. Подчеркивается, что комиссия должна обратить внимание на те вопросы, из-за которых постоянно возникают мелкие распри: что первично при обучении – звук или графика, пользу или вред приносит изучение грамматики, поощрять ли свободу выражения или приучать к соблюдению речевых норм и правил. Обращаясь к членам комиссии, которые сидели, скованные робостью, за длинным столом в Министерстве образования, Филип Стирфорт говорил:
– Язык, дети – в нашей культурной традиции эти два предмета считались такими простыми, что вопросов не вызывали. Мы показали, что с ними все не так просто, и всерьез занялись их исследованием. В нашей комиссии сосредоточены мощные силы, обладающие знаниями и талантами в обеих областях: в области детского развития и образования и в исследовании природы языка и речевого поведения. Мы должны добиваться, чтобы теоретическая база нашей работы была безукоризненна, а результаты в полном смысле слова практическими, иначе работа растянется еще лет на двадцать – ведь изучение этих предметов дело новое, находится в становлении, и выводы, к которым мы придем, должны быть полезными, но надеяться, что они будут окончательными, не стоит. Притом не будем забывать, что мы – многие из нас – являемся родителями, так давайте будем руководствоваться еще и надеждами, страхами и пониманием, почерпнутыми из этого обстоятельства.
Работа комиссии идет по двум направлениям: сбор материалов и консультации с учителями, а также обсуждения в министерстве. Материалы приходят и сами – их доставляют мешками: пламенные призывы сохранить грамматику, отменить грамматику, побуждать школьников учить стихи наизусть, покончить с зубрежкой по всем дисциплинам, ввести звуковой метод обучения чтению, ввести «метод целых слов», ввести отдельные занятия для отстающих, для одаренных, для неанглоговорящих, набирать классы независимо от уровня подготовки учеников. В какую-то минуту Александр окидывает это клокотание бумажных страстей холодным взглядом, как бесстрастный наблюдатель: скоро и ему придется втянуться в эту кутерьму, выйти на поле боя, участвовать в баталиях.
Почему он откликнулся на предложение войти в комиссию, он и сам не разберет. Отчасти потому, что приглашение польстило. Отчасти из интереса к языку – материи, из которой он творит. Отчасти потому, что творится ему сейчас плохо. Хочется писать иначе, а как – непонятно. Театр сейчас живет новой жизнью, в ней нет места лирической яркости, которая окрашивала одну из самых известных его пьес, стихотворную драму «Астрея», написанную в 1953 году. Театр усвоил принципы «театра жестокости» Арто[95]. Долой размеренные стихотворные строки, даешь «разбитый вдребезги язык, разбивающий вдребезги жизнь». Это театр, где льется кровь, стоит крик, неистовствует телесность. Кокетничанье иконоборством. Гленда Джексон[96] в роли Кристин Килер на сцене раздевалась донага, залезала в ванну и появлялась оттуда в тюремной форме, при этом, как при ритуальном действе, звучали отрывки из судебных слушаний по делу Килер. Вслед за тем под то же звуковое сопровождение она представала в образе Жаклин Кеннеди, собирающейся на похороны президента. А потом постановка «Преследования и убийства Жан-Поля Марата, представленные артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада». Александр видел эту постановку[97]. Он млел и ужасался, когда актеры, изображающие сумасшедших, корчились, стонали, молитвенно бились головой об пол, когда ораторствовали художник-маркиз и страдающий революционер, каждый о своем, когда невообразимо соблазнительная Шарлотта Корде – та же Гленда Джексон – хлестала де Сада своими длинными волосами. Но Александра не оставляла мысль, что превращать разгул жестокости в представление – это что-то нездоровое. И к тому же ребяческое, добавляет он наедине с собой. Но что такое ребячество? Сегодня полагается думать, что ребенок мудрее взрослого. Стар он стал, отстал от жизни, привык ставить превыше всего рефлексию, звон стихотворных строк, мысль, додуманную до конца, а сегодня вместо них – реки крови и вопли. Сказать, что он вошел в комиссию, чтобы наблюдать драму борьбы группировок, – звучит, может, и пошловато, но так оно и есть: не наведет ли на какой-нибудь замысел.
Консультации с учителями ведутся в самых разных местах. Комиссии в полном составе в одном классе или учительской не поместиться, и она разделилась на несколько отрядов, совершающих вылазки и на север, и на юг, и на восток, и на запад – в школы Уэльса и Линкольншира, Камберленда и Дамфрисшира, Девона и Белфаста. Александр устроился в группу, которой предстоит провести три дня в Йорке и посетить несколько начальных школ в Лидсе и Фрейгарте и средние и общеобразовательные школы в Калверли и Норталлертоне: хочется побывать в начальных школах, где учатся внуки Билла Поттера, – по совету Александра их посетят в первую очередь. Другая причина: эту группу организует и сопровождает Агата Монд, молодая сотрудница Министерства образования.
Кроме нее, в группу входят профессор Вейннобел, Ганс Рихтер, Луи Руссель, Ориол Уорт и два новых члена: Микки Бессик и Роджер Магог.
По пути из Лондона в Йорк Александру удается в поезде устроиться рядом с Агатой Монд. Это смуглая красавица лет, похоже, тридцати. Малообщительна, не поднимает головы от лежащих перед ней бумаг. Длинные прямые волосы, небрежно забранные на затылке в пучок. Ресницы тоже длинные, черные. Красивые руки. Немного худосочна, пожалуй, и вид, пожалуй, немного меланхолический и отчужденный. Женщина в его вкусе, она перед ним как на ладони: независимая, но не по своей воле, под внешне холодной оболочкой тревога или страх. Все, кого он любил, были такие: смышленые, смуглые, способные воспламеняться. Кроме Фредерики. Как она недолгое время домогалась его любви, лучше не вспоминать. Он сидит напротив Агаты Монд и наблюдает, как она перебирает бумаги, а за окнами проносятся пригороды Лондона, первые пейзажи Херефордшира. Он приносит ей чашку кофе и замечает, что, когда встанешь рано, работается с трудом. Она живет далеко от вокзала?
– В Кеннингтоне. Довольно удобно. А то у меня в метро клаустрофобия.
– А я совсем рядом. Повезло. Дохожу пешком. Живу один.
– Я с дочерью, – отвечает Агата на подразумеваемый вопрос. – Ей четыре года. Еду в какую-нибудь командировку вроде этой – куда-нибудь пристраиваю. Беспокоюсь, конечно. Она только-только пошла в детский сад.
– А отец? – спрашивает Александр и замечает, что обручального кольца у нее нет.
– Отца у нее нет, – отвечает Агата Монд. В подробности не вдается. Помолчав, добавляет: – Женщинам с карьерными устремлениями в Англии приходится туго. Но для госслужащих есть одно странное, более-менее гуманное послабление: если женщина ждет даже внебрачного ребенка, ей предоставляется отпуск по беременности. До трех раз, никаких вопросов не задают. Неожиданно. И удобно.
– Да, верно. И все-таки трудно вам, наверно, приходится?
– Нелегко. Но жить можно. С работой мне повезло.
Они продолжают путь в дружелюбном молчании. Его прерывает Александр:
– А что за люди эти наши новобранцы?
– Это уж вы сам составите представление. Микки Бессик учился в Ливерпульском университете, но степень не получил, бросил. Выступает в клубе «Пещера»[98]. Ученики и учителя его ждут не дождутся. Попросят почитать стихи. По-моему, вреда не будет.
– А Магог?
– Не спрашивайте. Недели не проходит, чтобы он не прислал в министерство новое предложение по части образования. Когда эта комиссия только планировалась, предложил свою кандидатуру так, будто это само собой разумеется. Может, он и толковый человек. Только усердием ошарашивает. Но было сочтено, что мы не можем – на данном этапе – оспаривать распоряжения нового министра. Было принято решение включить его в комитет.
– Ишь как вы стали официально выражаться.
– Люблю безличность. «Было сочтено». Удобно.
– Изящно и чопорно.
– Вот-вот.
– А вы чопорной не кажетесь.
– Приходится быть. Приходится. Но мне нравится.
Когда подъезжают к Донкастеру, он говорит:
– Вам, должно быть, интересно, чем мы занимаемся: у вас у самой четырехлетний ребенок.
– Я с ней болтаю без умолку. Наслушалась, как важно с детьми разговаривать, как именно нужно разговаривать. Я ее уморила болтовней. – Она смеется и тут же хмурится. – Я так ее люблю, потому что я одна. Стараюсь поменьше о ней рассказывать, а сама только о ней и думаю.
Он думает было признаться: «А у меня есть сын, который считает отцом другого». Но передумывает. Такой, как она, я бы рассказать решился, размышляет он. Как-нибудь в другой раз. Может, сейчас она считает меня старой калошей: был конь, да изъездился. Может, она сейчас со мной так из жалости. Раньше его такие вещи не волновали.
Поезд уже подходит к Йорку, когда она сообщает:
– Все хотела вам рассказать. Я как-то играла в «Астрее». В постановке Оксфордского драматического общества. Я там проводила исследования. Играла Бесс Трокмортон. Вышла замуж за Уолтера Рейли. Мне понравилось.
– Когда «Астрею» ставили впервые, – говорит Александр, – Бесс Трокмортон играла девушка, которую я любил.
Тоже была в его вкусе: смуглая, порывистая, себе на уме.
– Я-то влюбилась в Эдмунда Спенсера, – продолжает Агата. – Но ничего не вышло. Мимолетная радость, сон в летнюю ночь.
Вот и Йорк. Они покидают вокзал. Александр берет у Агаты саквояж. Когда они садятся в такси, он спрашивает:
– Как зовут вашу дочь?
– Саския. Имя неподходящее, на жену Рембрандта не похожа. Но мне кажется, Саския – какой-то законченный образ. Это имя принесет ей счастье.
Они почти подружились, чувствует Александр. Он оживает. Да, оживает.
Первое место назначения – начальная школа «Звезда» в пригороде Лидса. Их везут туда из отеля «Дин-Корт» в Йорке. Сесть рядом с Агатой Александру не удается: она на переднем сиденье деловито обсуждает с профессором Вейннобелом присланные материалы о преподавании грамматики. Долговязому Вейннобелу в микроавтобусе неудобно: он скорчился и озабоченно потупился. Рядом с Александром оказывается Ганс Рихтер – один из немногих коллег, с которым он общается охотно. На Рихтере деловой костюм, аккуратно подстриженные волосы подернуты сединой, ухоженное непримечательное лицо, очки. Луи Руссель сидит позади, подальше от своего идейного противника Вейннобела. Это невысокий смуглый человечек птичьих статей, энергичный и вспыльчивый. Два новых члена сидят в разных концах, сторонясь остальных, как водится у новичков. Роджер Магог с подозрением осматривает коллег, стараясь их оценить, раскусить, пытается угадать, как они относятся к нему, и одновременно смутно надеется, что не привлечет внимания к своей любопытствующей особе. Александр сам себе удивляется: как это он прочел его мысли? На Магоге застиранная белая водолазка и бесформенная твидовая куртка – одеяние, выдающее некоторую старомодность. У него редкие бледно-рыжие волосы и пухлая курчавая бородка бурого цвета.
Ливерпульский поэт – красавчик с копной кудряшек канареечного цвета, милыми пухлыми губами и невинными голубыми глазищами. Одет он в куртку без воротника, ярко-синюю рубашку, оттеняющую глаза. Пока он со всеми любезен: подсаживает женщин в автобус, пропускает вперед пожилых. Вторая женщина в группе, директор школы Ориол Уорт одета так, как и подобает директрисе: добротный синий костюм и белая блузка. Лицо значительное, взгляд цепкий. Директор школы в таком чистом виде, что больше о ней и сказать нечего. Когда они дожидаются автобуса, она, кивнув на поэта, говорит Александру:
– Учись он у меня в школе, я бы с него глаз не спускала.
Начальная школа «Звезда» получила название за свою новаторскую архитектуру. Члены комиссии отправляются туда, потому что школа новая и там можно увидеть кое-что интересное. Построена она в форме звезды, все стены – стеклянные панели. Классных комнат там нет: дети, прихватив свои игрушки, пластиковые стулья и столики, собираются маленькими, как бы стихийно возникшими группами в том или ином луче звезды. Группы складываются не по возрасту, не по учебным дисциплинам, а по тому, какой род занятий они сами выберут. Одни, закручивая спиралью глиняные колбаски, сооружают из них цветочные горшки. Кто постарше, помогает тем, кто помладше. Кто-то отмеряет и переливает воду из одних пластиковых сосудов в другие и с серьезным видом записывает высоту уровня. Младшие наливают. Старшие измеряют. Самые старшие строят из этих измерений графики. В другом луче звезды дети рассматривают улиток на стенках аквариума и зарисовывают рожки, подошву, ротовое отверстие. Ребятня деловито и шумно мечется в пространстве, не разгороженном стенами, слышатся крики: «Нам экстренно нужна деревянная ложка!», «Мадди опять начала!». В одном луче девочка играет на блокфлейте, рядом кто-то бьет в барабан. Поскольку стен нет, работы учеников красуются на мольбертах и напольных стендах посредине. Выставка портретов «Моя семья», на столе – еженедельные газеты, которые выпускают ученики. Есть книжный уголок: круглая этажерка, а вокруг множество подушек и небрежные стопки книг. В помещении шумно. Это шум азартный, звонкий, разноголосый, неугомонный, деловой, но громкий. Александр, как и многие из его коллег старшего поколения, затаив дыхание, сравнивает увиденное с обстановкой, в которой прошли его школьные годы. Не похожи эти раскованные детишки в ярких костюмчиках на забитого, покорного, вечно настороженного мальчугана, каким он себе вспоминается. У всех членов комиссии – кроме тех, кто сам преподает, – даже у Александра, который преподавал прежде, здание школы вызывает трепет, застарелый ледяной страх, воспоминания о власти, всесилии взрослых, возмездии за проступки. В таких заведениях, как это, – ничего похожего. Вот подходит девчушка с вязаньем:
– Простите, я, кажется, петлю спустила, тут все разъехалось, дырки какие-то, как будто моль проела. Вы не знаете, как исправить?
Александр берет спицу, помогает. И ведь как просит: как человек в своем праве. И сравнение: «Как будто моль проела».
От шума начинает болеть голова. Где уголок, в котором мальчонке вроде Александра в детстве можно уединиться, затаиться, почитать? Нету укромных мест. Все на виду, все в коллективе.
Ориол Уорт беседует с увлеченным молодым директором – молодым для директора, – и он толково отвечает на ее вопросы о степени самостоятельности учеников в выборе задания, степени его участия в этом выборе, степени сложности заданий – но при этом, сохраняя связность ответов, еще и перебрасывается фразами с оказавшимися поблизости учениками и учителями: так жонглер подбрасывает зеленые и оранжевые мячики и ловит их так, что они не смешиваются.
– По-моему, Силла, глина тебе уже надоела. По-моему, тебе стоит перейти в группу мистера Морриса: они там говорят и пишут про амфибий. Всем кажется, что лепка – самое интересное, но ведь за день надо столько дел переделать… Ничего, Хетер, наверно, мистеру Динсдейлу просто показалось, что ты мешаешь остальным. Приходи на переменке ко мне, я покажу, как измерять квадраты. Перестанешь думать, что на тебя никто не обращает внимания… Мы стараемся, мисс Уорт, чтобы они сами задавали темп работы и выбор того, что интересно, но, конечно, следим, чтобы задание оказалось достаточно сложным и могло привлечь и увлечь самых способных.
– А если они равняются на тех, кого сложность не привлекает?
– Ну, тут мы пускаемся на хитрость. Сложность маскируем.
– Значит, стремление к первенству вы им не прививаете?
– Дух конкуренции не поощряем. Предпочитаем развивать дух сотрудничества. У каждого свои способности, их-то мы и стараемся раскрыть.
– Вы, наверно за день так выкладываетесь, что после еле ноги таскаете?
– Есть такое дело, – смеется он. – Но ведь стóит же.
Роджер Магог рассматривает выставку «Моя семья». Мимо проходит Руссель.
– Вот что характерно: мамаши на всех портретах сердитые, – замечает Магог. – «Моя мама кричит», «Мама меня ругает». Все дети изображают матерей так: тело – палочка, большой открытый рот. Вот что у матери главное – кричащая пасть.
– Самые маленькие вообще рисуют человеческое тело очень упрощенно, – возражает Руссель. – Это уж потом они учатся изображать тела, руки, лица. Те, что старше, рисуют и тела.
– «У папы большая палка», – читает Магог. – «У Папы есть Большой мяч. Он сильно бросил большой мяч в меня. Было больно».
– Очень может быть, – соглашается Руссель.
– Папы, палки и мячи, – размышляет Магог. – Как откровенно, как простодушно, как наглядно! Современная семья, изволите видеть. Грустно.
– Не всякая же.
– Насилие. «Мама сказала иди спать. Я сказал ни хочу ни хочу. Мама сказала иди ни минуты покоя с тобой. Ненавижу спать. Хочу всю ноч сидеть».
– Любопытно, – произносит за спиной Магога Вейннобел. – «Не» и «ни» он еще путает, но частицу от приставки отличает.
Александр ищет группу, где занимаются тем же, чем, вероятно, занимается сейчас Саймон Пул. И находит: в одном луче дети под руководством молодой учительницы осваивают чтение и письмо. В полотняных сумках – парт в помещении нет – «тетрадки для нового» и словари, которые они составляют сами. Они разговаривают, записывают, показывают свою работу учительнице, а та подсказывает трудные слова для словаря. Александр интересуется, что они читают, и ему показывают яркие карточки с крупными картинками и подписями в пару строк.
– Я им еще стихи читаю, – рассказывает учительница. – Спайка Миллигана[99] и, конечно, «Вредные стихи для непослушных» Микки Бессика, им нравится. Очень хорошо, что он с вами приехал.
– А наизусть они стихи учат?
– Что вы! Так они никакого удовольствия не получат. От заучивания наизусть один вред, мы же теперь знаем. Они должны сами все открывать. Некоторые узнают что-то и случайно, а мы их никогда не заставляем. Даже зубрить таблицу умножения, вместо нее – методика числовых квадратов, закономерности они открывают сами. Так лучше запоминается.
– Но алфавит же они учат? – спрашивает Александр, поглядывая на словари.
– Ну нет. Не так, как принято. Не зубрят. Они его как бы ассимилируют.
– Как же они находят в своих словарях нужное?
– Я им помогаю. Пока не разберутся.
– А я любил декламировать алфавит наизусть. Даже в обратном порядке. И таблицу умножения. И французские глаголы. Своего рода удовольствие. Как танцы.
Молодую учительницу так и передергивает.
Микки Бессика просят почитать свои стихи. К нему стекаются дети изо всех лучей звезды. Он велит двум ученикам принести несколько больших ящиков: будет читать, стоя на них, так всем будет видно. Эстрадник до мозга костей.
Начинает он так:
– Детям всегда приказывают: иди сюда, ступай туда, делай то, делай сё. Дети, понятно, подчиняются, что им еще остается? Зачем это нужно, они не понимают. У них и свои желания есть, но командиры про них знать не знают и знать не хотят, правда? Им лишь бы устроить мир так, чтобы самим было легко, а дети чтоб сидели тише воды ниже травы и слушались. А я вот написал стишки для непослушных детей. Один сейчас прочитаю: как несколько ребятишек попало в заповедную страну, где нет никаких толкателей-помыкателей, а живут разные диковинные твари, и они решают помочь детям жить, как им вздумается. Стихотворение такое…
Стихотворение оказывается длинным. Завершает его мощный апофеоз:
– Ну, это гардеробчик заношенный, – ворчит Ориол Уорт.
Дети разражаются оглушительными аплодисментами. Бессик выстраивает их парами, и они, приплясывая и скандируя, движутся извилистой вереницей по всему помещению вслед за своим Гамельнским Крысоловом, который, по-видимому, сохраняет бодрость тела и духа. Правда, один или два малыша спотыкаются и хнычут. Наконец Агата тянет Бессика за рукав и говорит, что им пора: впереди еще несколько школ. Поэт останавливается не сразу, и ей приходится семенить рядом, объясняя на ходу. Миловидная мордашка Бессика морщится. Он обращается к детям:
– Ну как, продолжаем?
В ответ раздается дружное «Да!», в котором тонет несколько «Нет!».
– А они хотят продолжать.
– Нельзя, – цедит сквозь зубы Агата.
Большинство коллег ее поддерживают.
На прощание Микки Бессик снова обращается к детям:
– Видите? Чего вы хотите, им и дела нет! Не дают вам пожить в свое удовольствие! А еще говорят, что вы вправе выбирать! Болтовня!
В ответ – нестройный одобрительный рев, как на концерте поп-звезды.
Единая средняя школа имени Анайрина Бевана[100] в Калверли – не новое, с иголочки, учебное заведение вроде «Звезды». Она возникла вследствие объединения классической школы епископа Темпла и средней современной школы на Лидс-роуд и расположена на двух площадках. Старая классическая – сумрачные, гулкие помещения, обшитые деревом. Средняя современная – нескладное квадратное здание с уныло-типовыми классами и спортивной площадкой. В санитарном отношении внутри, судя по запаху, не все благополучно, трубы отопительной системы покрыты не то каким-то редкостным грибком, похожим на соль, не то сыпью химического происхождения. В школе не утихают бурные споры о достоинствах и недостатках системы выравнивания, когда классы формируются независимо от уровня способностей учащихся. Членов комиссии приглашают на представление старшеклассников: тема – конфликт между женами, которые готовят воскресный ужин для всей семьи, и мужьями, которые норовят улизнуть в паб и на футбол. Представление разыгрывается экспромтом, роли поручаются самым косноязычным, чтобы немного развязать им язык. Не без успеха: одна исполнительница вдруг выпаливает в зал:
– Что за жизнь такая! Вечно одно и то же: бегаешь по магазинам, стряпаешь, а пока тебя дождешься, все простынет! И так из недели в неделю. Потом еще посуду мыть. А ты приходишь вонючий, поддатый, поддатый, вонючий, а я делай вид, что так и надо! Это жизнь называется?
От этой пламенной рацеи она сама краснеет до ушей, а ее партнеры на сцене смущенно бормочут: «Да ладно тебе», «Уж будто все так плохо», «Ох уж эти бабы». Магог в восторге, он хвалит учителя за то, что он помог ученице выявить ее внутренний конфликт. Учитель сообщает: девочка – дочь священника, убежденного трезвенника, просто она дала волю фантазии. Александру скучно. Ну да школа вообще на девяносто процентов тоска зеленая, вспоминает он. И для примерных учеников, и для отстающих. Отрочество вообще скучная пора, просто об этом вслух не говорят.
Директор школы Анайрина Бевана тоже новатор и экспериментатор. Он учредил школьный совет и регулярно устраивает в зале старой классической школы дискуссии. Устроил он дискуссию и в честь гостей: «Мы считаем, что преподавание грамматики в школе не имеет смысла».
У директора, преподавателя географии, с грамматикой свои счеты: учеником он воспринимал занятия по родному языку – разбор членов предложения, определение типов придаточных – как невыносимую пытку, решение задач головоломных и никчемных. Главное его возражение: учебная неделя короткая, учебный год короткий, времени на занятия отпущено всего ничего и тратить его на анализ придаточных – безбожное расточительство. Может, и коллеги его того же мнения. Может, в большинстве своем и ученики. Даже завзятому книгочею изучение грамматики покажется делом попросту нудным, каким-то извращением.
Директор представляет членов комиссии школьникам и учителям:
– Мы имеем честь принимать у себя видных деятелей, посвятивших себя изучению вопроса, который станет предметом нашей дискуссии. Я приветствую выдающегося грамматиста профессора Вейннобела, у нас в гостях драматург Александр Уэддерберн, чарующий нас богатством своего языка, и известный молодой поэт Микки Бессик. Среди наших гостей – ученый-естественник, психолог, автор ряда исследований по педагогике, и все они внесут ценный вклад в нашу дискуссию. Мне бы хотелось, чтобы они убедились, что ученики нашей школы относятся к предмету нынешней дискуссии вдумчиво. Мне также хотелось бы, чтобы они увидели, что у нас есть навык ведения дискуссий по насущным вопросам, что мы четко формулируем точки зрения, согласны мы с ними или нет, и умеем выслушивать других.
Дискуссия идет оживленно. Докладчик, розовощекий черноволосый старшеклассник-симпатяга, утверждает, что мы овладеваем грамотной речью без всяких уроков грамматики, что мы понимаем стихи, газетные статьи, речи политиков, друг друга, не вспоминая всякий раз, что такое глагол, существительное, а уж тем более придаточное дополнительное и сослагательное наклонение. Другое дело, когда мы учим иностранный язык: тут что-нибудь из грамматических терминов и пригодится – но только тут.
Главное возражение его оппонентки, серьезной пухлой девчушки, состоит в том, что грамматические термины – это как названия химических элементов или частей тела. Мы ведь должны понимать, что такое кровообращение, сердечные клапаны. А язык – часть нас самих: понятно, что хочется в нем разобраться.
Следующий докладчик отбивает эти доводы. Если бы никто ничего не знал про кровь и про сердце, люди бы умирали. А если не знаешь, что такое глагол и существительное, все равно можешь разговаривать.
Второй оппонент, потупясь и нервничая, возражает: если не умеешь говорить и писать грамотно, ни экзамена не сдашь, ни на работу не устроишься. Правила придуманы для того, чтобы лучше жилось. Кому-то правила не нравятся, но и жить без них не понравится. Знание правил дает всем равные возможности.
Хорошая получается дискуссия. От желающих выступить нет отбоя. Все основательно подготовились, держат в руках карточки и читают записанные на них тезисы. Какую сторону поддерживают школьники, совершенно ясно. Примеры из жизни подобраны так, что подтверждают только ее правоту, звучат жалобы на бессмысленность, несправедливость, на нелепость отдельных грамматических заданий, на пустую трату времени. Защитники грамматики держатся как положено и добросовестно стоят на своем, – возможно, их назначили и проинструктировали учителя. «Грамматика помогает писать интереснее». «Грамматика помогает яснее понимать собственные мысли».
Против грамматики голосует подавляющее большинство. Вейннобел поздравляет директора: речь у школьников поставлена прекрасно. И тут Микки Бессик, который всю дискуссию ерзал в кресле, иногда закидывая ноги на спинку кресла перед ним (место Ганса Рихтера), дергает директора за рукав:
– Можно я вашим школьникам кое-что скажу? Я их слушал, пусть и они меня послушают. Вы не против?
– Я же говорила, – шепчет Ориол Уорт Александру, – что, будь он моим школьником, я бы с него глаз не спускала.
– Может, нам его унять?
– Можно бы, но мы, слава богу, не у себя.
– Пожалуйста, – отвечает Бессику директор.
– Вот что, ребятки. Меня зовут Микки Бессик. Поэт я. Вот слушал я, как вы тут выступали: кое-что правильно, точняк, но, по-хорошему, всех вас просто выдрессировали говорить по струнке: «Господин председатель», «Леди и джентльмены» и всякая такая фигня, и вам кажется, что получается очень по-умному. Послушайте меня: вы пудрить себе мозги не давайте. Послушайте меня: мыслите свободно, мыслите творчески, мыслите с размахом. Вас тут заставляют про Эйнштейна учить, про относительность. Да на кой вам это! Был один великий человек, так он все это понимал: Уильям Блейк. Вот послушайте, это ж с ума сойти! «Вам, людям, не узнать, что в каждой птице на лету безмерный мир восторга, недоступный вашим чувствам!»[101] Или это: «Одною мыслью можно заполнить бескрайность». Или вот: «Жизнь – это Действие и происходит от тела, а Мысль привязана к Действию и служит ему оболочкой». «Обуздать желание можно, если желание слабо: тогда мысль вытесняет желание и правит противно чувству»… Вот о чем вам думать надо – как употребить жизненные силы, как научиться созерцать бесконечность, не о какой-то ерунде, которой вас тут пичкают. Когда я учился в школе, мне про это никто не рассказывал. А я вот вам рассказываю.
Кто-то улыбается. Кто-то фыркает. Кто-то смущенно шаркает ногами. Единодушия не наблюдается. Выступавшие только и ждут, чтобы их похвалили. Молодые вечно боятся показаться смешными. В другое время и в другом месте Микки Бессик этот страх молодых обуздал бы, подчинил себе и использовал, но сейчас его принимают без особых восторгов. Это ясно и Микки, и директору школы. Директор дежурно благодарит Бессика за «соображения, которыми вы решили с нами поделиться», и тот, насупившись, садится на место.
– Что это они так грамматику невзлюбили? – спрашивает Александр Вейннобела.
– Это мы и должны выяснить. Изучить это явление. Конечно, та грамматика, на которую они жалуются, безнадежно устарела: она вся из латыни и с современным мышлением ничего общего. И все же главная причина, по-моему, не в этом. Причина, возможно, в нерасположенности рассудка к самонаблюдениям.
Сначала Александру кажется, что последняя фраза не имеет никакого отношения к анализу сложноподчиненных предложений. Но мысль интересная.
Вечером на ужине в отеле «Дин-Корт» Бессик не появляется. Отсутствует и Вейннобел: он вернулся к себе в университет. Магог спрашивает Агату, нельзя ли как-нибудь призвать Микки Бессика к порядку. Профессиональный «анфан террибль», он не переносит террибльские выкрутасы других, особенно если они моложе. Агата дипломатично отвечает, что председатель или секретарь, без сомнения, объяснят Бессику, как подобает держать себя члену комиссии. Она по собственному опыту знает: либо возмутители спокойствия соглашаются вести себя как положено, либо уходят. Темно-красное платье до колен ей очень идет, в нем она просто красавица. Ноги у нее длинные и стройные. Она принадлежит, пожалуй, к десяти процентам женщин, на которых такие короткие юбки сидят так, что просто загляденье. И все же, размышляет Александр, поднимаясь за ней по лестнице, непривычно, когда чиновница министерства носит такое платье, под которым различимо колыхание зада и видны голые икры, как у школьницы или капитанши космического корабля из комиксов.
– Так вы думаете, наш диссидент подчинится или уйдет?
– Уйдет, наверно. Ему надоест. Я думаю, уйдет. А у меня нет никакого желания допекать начальство жалобами. Он все-таки вносит разнообразие. Ему надоест, не беспокойтесь. Скажу больше, – добавляет она, – в коллективе такие баламуты даже полезны: они как инородное тело, из которого образуется жемчужина. Из-за них остальные сплотятся и будут работать дружнее.
Александр едва удерживается от соблазна по-отечески обнять ее за плечи.
На другой день комиссия уже во Фрейгарте. Утром, улучив минуту, Александр отправляется к Биллу Поттеру, тот его ждет. К своему удивлению, он замечает на лице Билла синяки и спрашивает, не упал ли он.
– Нет. Не упал. Не такая уж я старая развалина, на ногах еще стою твердо. Это один сердитый молодчик дверью припечатал. Зять. Искал Фредерику. Говорю, что ее тут нет, – не верит. Говорю, что не знаю, где она, – не верит. Она, как видно, сбежала, вместе с мальчиком. Жду продолжения. Скучать не приходится. Знать бы, куда она подалась. Ей нужна защита.
Подумав, Александр признается:
– Я знаю, где она. О ней есть кому позаботиться. Люди благоразумные.
– Если увидите, – говорит Билл, – попросите, чтобы дала о себе знать, буду рад. Передайте, что мне жить недолго осталось. Дочь есть дочь. Когда-нибудь она поймет. Передайте… даже не знаю, что передать. Где она, вы мне не говорите. А то еще заявится эта скотина и вздумает вырвать у меня признание под пыткой. С него станется. А потом будет глядеть на дело рук своих и лить слезы. Насчет мокрых платков он быстро распорядился, но нрав у него бешеный.
– Я передам. Она затаилась.
– Хоть тут ума хватило. Хотя, будь у нее ума побольше, она бы в такую передрягу не попала. Ей бы кого-нибудь вроде Дэниела.
– Дэниела вы на порог не пускали.
– Что было, то было. Но я образумился. Мне ведь не Дэниел не нравился, а его христианство, но я пришел к убеждению, что он такой же христианин, как и я.
– Вы законченный проповедник-пуританин старой школы, всегда таким были.
Билл улыбается:
– Один из очень немногих плюсов старости: знаешь, кто остался другом до конца, с кем разделять воспоминания. Мы друг друга насквозь видим.
– Это точно, – соглашается Александр.
Билл в этом разговоре дважды упомянул свою старость. Да, постарел он. Ссадины заживают плохо, кожа тонкая, как луковая шелуха. Кровоподтеки черные, обширные. Он улыбается, но улыбка выходит жуткая. Александр отвечает ласковой улыбкой.
Александр воссоединяется с коллегами во фрейгартской школе. Они слушают, как директор школы мисс Годден рассказывает в классе, где учатся дети семи-восьми лет, сказку «Зеленый Червь-Великан». Школа – большое бесхитростное здание из серого камня местного происхождения, построенное в 1930-х, пространство внутри разделяется двумя передвижными перегородками. В классе стоят длинные ряды столов, младшие сидят впереди, старшие сзади. Гости расположились позади всех. Сидеть неудобно. Те, у кого седалище посубтильнее, – Агата Монд, поэт, Руссель, даже Ганс Рихтер в своем костюме – поместились на детских стульчиках. Вейннобел восседает в высоком кресле за ветхим преподавательским столом. Мисс Уорт и мистер Магог сидят на скамеечке из спортивного зала. Потеснившись, они дают место и Александру.
– Червь издал протяжное шипение (это змеи так вздыхают) и, ничего не отвечая, бросился в воду. «Какое гадкое чудище, – сказала себе принцесса. – Зеленоватые крылья, тело все время меняет цвет, клыки точно из слоновой кости, уродливое хохлище, вроде папоротниковых листьев. Лучше умереть, чем знать, что обязана жизнью этакой твари».
Рассказывает мисс Годден негромко. Особенно занятные слова произносит нараспев: «чудище», «хохлище», «папоротниковых». Дети как воды в рот набрали. Слушают. Ногами не шаркают. Она так хочет – они и слушаются. Она выписывает на доске синонимы: «змея», «змей», «дракон», «червь» – и предлагает детям вспомнить другие известные им слова: «гадюка», «питон», «уж», «медяница» («Это, ребята, не змея, а безногая ящерица: она было отрастила себе лапки, а потом решила обойтись без них»), «удав», «кобра», «Наг» (один ученик читал «Рикки-Тикки-Тави»), «полоз», «черная мамба», «гремучая змея». На этих примерах коротко объясняется различие синонимов и научных названий, позволяющих отличить друг от друга биологические виды. Обсуждают, как слова различаются по «наружности», почему «червь» («Толстое слово, пухлое, медленное», – замечает рыжеволосая девочка) не похож на «змею» («Быстрое такое, скользкое, но резкое», – говорит она же) и на «змея» («Это что-то из сказки или демон из Библии», – она же). Рассуждают, почему люди не любят змей, а в сказках часто в них превращаются. Александр рассматривает девчушку. Мягкие рыжие, с золотистым отливом, волосы, большие темные глаза, веснушки – мучнистые бледные крупинки растворимого кофе, просыпанные в сливки. Широкий лоб, мягкие губы. Александр знает ее: на лице, на губах, на коже, даже во внимательных поворотах головы – всюду генетические свидетельства ее происхождения. Это Мэри, дочь Стефани – но и дочь Дэниела: тут и вихрастая рыжина Билла, и степенно тусклое золото волос Уинифред, сметливость, как у Фредерики (да и у покойной Стефани), и тягучий, задушевный взгляд отца. Она родилась за несколько дней до рождения Саймона Винсента Пула. Александр обращается мыслями к мальчику. Тот – сам по себе человек, целая жизнь впереди, собственная. Так ли уж важно, чьи у него гены, Томаса Пула или мои? Но Александру важно. Он хочет Саймона понимать. Он смотрит на девочку. Вспоминает Саскию Агаты Монд: «Отца у нее нет»…
– В конце урока, – рассказывает мисс Годден, – мы всегда читаем страницу из словаря, где стоит сегодняшнее слово, сегодня это «червь» или «змея». Мэри Ортон, ты хорошо во всем разобралась, ты и выбирай какое. Читаем и смотрим, нет ли там незнакомых – даже мне незнакомых – слов. Задумаемся о том, как много существует разных слов и как много можно ими выразить.
Вейннобел кивает. Поэт витийствовать не рвется: он видит, что аудиторию уже покорила не первой молодости толстушка-сказочница, учительница, а кроме того, сказка и словесные игры его заинтересовали.
Он решается отвести душу только за обедом. Школьники обедают за длинными столами из составленных в ряд парт, еду в алюминиевых баках разносят подавальщицы в комбинезонах. Членов комиссии за преподавательским столом потчуют чем-то вроде тушеной баранины с расклякнувшим зеленым горошком и серым картофельным пюре, в котором попадаются комочки крахмала.
Микки Бессик громогласно заявляет:
– Вот хлебово-то! Как можно таким хлебовом людей кормить? Эту баланду детям есть нельзя и нам нельзя, я точно не буду.
Его умысел Александру понятен: хочет подбить учеников, чтобы они повыбрасывали еду или хотя бы демонстративно от нее отказались. Но одни едят как ни в чем не бывало, другие вяло ковыряются в тарелке: и правда, не очень аппетитно, но не так чтобы несъедобно. Александр есть бы не стал, однако ему так стыдно за поведение поэта, что он отваживается попробовать. Поэт встает, выгребает еду из тарелки и вываливает в бак с горячей водой, где отмокают ложки и вилки.
– Тут, наверно, где-нибудь паб имеется, – говорит он. – Кто хочет сэндвич?
Молчание. Поэт удаляется. Агата права: остальные члены комиссии теперь держатся друг с другом подчеркнуто дружелюбно.
* * *
Группы возвращаются из поездок. Комиссия в полном составе собирается за длинным столом в невзрачном кабинете Министерства образования, которое скоро преобразуют в «Департамент образования и науки». Рассаживаются по роду занятий: преподаватели университетов с преподавателями университетов, учителя с учителями, писатели и журналисты тоже нехотя сбиваются в одну компанию, только смазливый поэт сидит в одиночестве и рисует в блокноте карикатуры. Потом эти группы разобьются на фракции, которые объединятся в другие группы. Александр занимает место напротив председателя Филипа Стирфорта, секретариата и других университетских, Вейннобела, Наоми Лурие, Артура Бивера. Не для того, чтобы торчать перед глазами у председателя, просто отсюда лучше видно Агату Монд. Себя он ни к какой группе не относит, он сам по себе, сторонний наблюдатель, сюда попал почти по недоразумению. С ним вечно так: его считают мягким, отзывчивым, видят в нем связующую силу. По сторонам от него усаживаются Ориол Уорт и Роджер Магог.
Агата написала вразумительный отчет о каждом визите. Артур Бивер, который ни в одной школе не побывал, утверждает, что школа «Звезда» и школа во Фрейгарте воплощают полярные взгляды на начальное образование. Он интересуется, что посетившая их группа считает достоинством каждой.
Ганс Рихтер замечает, что сейчас осень. Это к тому, что в «Звезде» сейчас много света и воздуха, но летом будет сплошной дискомфорт: ученики и учителя будут изнемогать от духоты. Архитекторы часто с людьми не считаются.
Александр говорит, что в «Звезде» негде уединиться.
Магог возражает, что и в большинстве школ негде уединиться. Спрашивает, не надо ли понимать замечание Рихтера в переносном смысле.
Нет, отвечает Рихтер, в самом прямом: речь о материальных условиях. Но материальные условия влияют и на умственную деятельность: когда дети задыхаются от жары, им не до учебы.
Стирфорт призывает членов комиссии вернуться от архитектуры к преподаванию английского языка.
Ориол Уорт одобрительно отзывается об обеих начальных школах: дети знания усваивают, учатся с удовольствием. Увы, в обоих случаях это, кажется, зависит от личности учителя. Директор «Звезды» – внимательный, расторопный, талантливый организатор. У другого на его месте при такой же постановке дела вышла бы полная неразбериха. Мисс Годден умеет удержать внимание детей разного возраста и уровня подготовки и заставить их мыслить. Но у менее талантливого и изобретательного учителя такого контакта с детьми не будет.
Артур Бивер считает, что в отчет о работе комиссии необходимо включить раздел о работе учителей: при изучении родного языка педагогические способности и мировоззрение учителя играют большую роль.
Магог говорит, что его поразила неприязнь к грамматике, проявившаяся в дискуссиях в единой средней школе. Пожалуй, тут и самый талантливый учитель, сколько ни бейся, не победит отвращение, с каким огромное большинство учеников – а похоже, и учителей – смотрит на грамматику. Когда он сам учился в школе…
(Во время обсуждения каждый член комиссии – каждый со своей интонацией – рассказывает, что было, когда он или она учились в школе. По пыльному казенному кабинету проплывают то пышные, то сморщенные облака воспоминаний о былом. Александр наблюдает. Ему представляется Магог-школьник: толстенький, с пухлыми коленками, кучерявый, хмурый, ершистый, по всем предметам один из лучших, но ни по одному не первый.)
…когда он учился в школе, грамматика казалась ему этаким способом уличить его в невежестве – вроде дверок в лабиринте для подопытных крыс, – орудием учителей для суда и расправы, препятствием свободному полету вдохновения – словом, тиранией.
С тех пор, продолжает он, в его отношении мало что изменилось. Он вполне солидарен с гонителями грамматики. Школьник, участвовавший в дискуссии, прав. Мы говорим грамматически правильно и без знания грамматики.
Наоми Лурие возражает: без знания грамматики школьники запутаются в синтаксисе Мильтона или Донна.
Уолтер Бишоп замечает, что Мильтона и Донна читает не так уж много детишек. Зачем же остальным из-за этих избранных мучиться – разбирать предложение по составу, знать типы придаточных? Им надо правильно писать заявления о приеме на работу и уметь правильно заполнять официальные бланки.
Гай Крум говорит, что, хотим мы или не хотим, правила человеку необходимы. Условие существования всякого общества – кое-какие нехитрые правила, по которым оно занимается своим делом. Он не одобряет новый педагогический подход, когда ученик вместо того, чтобы знакомиться с фактами, должен что-то открывать. Детям морочат голову: почему бы им просто не выучить то, что нужно, а уж потом открывать что-то поинтереснее? С правилами легче. Правила – это порядок, а без порядка нет творчества. Бедные малыши, не зная алфавита, часами роются в словарях, ищут наугад. Учить правила, приведенные в систему, – одно удовольствие, но сегодня эта метода не в чести. Он убежден: тому, кто не усвоил элементарные правила математики, в этом мире не прожить. Он убежден: без правил и футбол, и теннис, и карточные игры были бы скука смертная. Поиграйте в карты с ребенком, который по ходу дела придумывает новые правила игры, и вы поймете, как скучна бессистемность, а следовать правилам – свойство человеческой натуры.
– Это фашисты так говорили, – вмешивается поэт. – Заставьте кого-нибудь учить стихи старых поэтов: он их возненавидит. Надо, чтобы читатель их разыскивал. Надо их запретить, изъять из употребления. Вот тогда на них набросятся.
Председатель спрашивает Вейннобела, что думает о правилах он.
Вейннобел отвечает, что было бы ошибочно ставить в один ряд законы, предназначенные для политического и социального контроля в какой-то группе, и языковые структуры, которые можно обнаружить в речи любого общества и описать. Тщательно подбирая выражения, он говорит, что приветствует изучение языковых структур, ибо, не имея слов для описания устройства нашей мысли, мы не сможем ни анализировать ее природу, ни указать пределы ее возможностей. Ницше утверждал, что западная философия рассматривает разные варианты одних и тех же проблем, возвращаясь к ним снова и снова, потому что наши идеи подчинены «бессознательной власти и руководству одинаковых грамматических функций»[102], которые в конечном счете, как отмечает тот же Ницше, явление физиологическое. Этот взгляд не равнозначен утверждению, будто философская проблематика – это «вопрос языка». Это значит, что то, что мы способны помыслить, – производное от нашей языковой компетенции. Он, Вейннобел, в отличие от некоторых присутствующих, полагает, что грамматические формы и структуры, которые мы используем, – нечто врожденное, часть устройства нашего мозга и передается генетически, отсюда изощренность и обширность нашего сознания, но в то же время его ограниченность, стремление снова и снова возвращаться к неразрешимым «проблемам». Он также считает, что изучение этих врожденных представлений о строе языка – задача трудная, а всматривание в них вызывает у многих неприятие. Но если мы не будем учить словам для описания структуры языка, пропадет возможность анализировать структуру мышления. Разумеется, добавляет он, это сказано не в защиту заумных экзерсисов на основе заимствованных из латыни грамматических категорий: от их засилия в школах пора избавиться.
Магог соглашается, согласен он и с тем, что грамматические правила, за которые ратует мистер Крум, часто превращаются даже в ничтожные поводы для репрессий и отдаляют ученика от учителя. Их отношения сегодня строятся неправильно. Когда он работал в школе, он создавал в классе атмосферу доверительности, побуждал учеников писать все откровеннее, все эмоциональнее о конфликтах в семье, о своих мечтах и надеждах – все это включено в его книгу «Жизнь как она есть» (почтенному собранию, разумеется, не надо объяснять, что это заглавие – иронический кивок в сторону журналов, где печатают ответы на письма читателей с жалобами на житейские невзгоды), «и благодаря этой искренности обогащался словарный запас школьников, мысль делалась глубже, появлялась живинка, господин председатель, живинка».
– А потом? – спрашивает Ориол Уорт. – Я вашу книгу читала, но что было, когда вы закончили с ними работать, что стало с этими детьми, которых вы научили так выражаться, так откровенничать? Долго еще вы были в контакте с теми, кого побуждали писать о жестокости, злобе, сварах?
– Я проработал там один учебный год. Пока… пока не нашел издателя для книги. Осознавая конфликты, они закалялись.
– Учитель не психоаналитик.
– Такие, как вы, вечно мне разносы устраивают. Сами о своих подопечных не очень заботитесь, а критиканствуете.
– Я учу, мистер Магог. Учу читать, писать, думать. Учу видеть в мире что-то, кроме себя. Я свою позицию уважаю. И свою, и их.
– Просто вы сторонница авторитарности.
– Сегодня всякий авторитет называют авторитарностью, – грустно роняет мисс Уорт.
Артур Бивер говорит, что этот оживленный обмен мнениями прекрасно иллюстрирует некоторые проблемы дидактики, которые он предлагает вниманию комиссии. Как утверждает Мартин Бубер, в прошлом учитель обладал признанным авторитетом в силу своей принадлежности к определенной культуре. По прекрасному выражению Бубера, он был «посланником истории, отправленным к чужакам, детям». Но у такого положения дел был изъян, который стал проявляться все сильнее по мере того, как культурный авторитет ослабевал и терял непререкаемость: это «воля к власти», которая с размыванием личностного начала подчас оборачивалась жестокостью и деспотизмом. Изъян противоположного свойства Бубер назвал «Эросом»: перерождение авторитета в обоюдную привязанность и идеализацию равенства, подмена профессиональных отношений личными. Но поддерживать такие отношения между учителем и учеником удается не всем: тут многое зависит от личной ответственности и прочности отношений, между тем учителя не бывают искренне привязаны к ученикам, а их родительские попечения сохраняются не дальше конца учебного года, когда они расстаются. Это скорее похоже на отношения случайных дружков-приятелей, которые многие считают составляющей антропоцентрической модели обучения.
– Мне ваша мысль ясна, – говорит Магог, – но, уверяю вас, каждого ребенка в своем классе я любил по-настоящему. По-настоящему.
Он обводит собравшихся огненным взглядом. И Александр ему верит. Он знает: среди учителей бывают такие притягательные личности, что их любовь окрыляет.
– Два полугодия, – уточняет Ориол Уортон язвительным директрисинским тоном. – Любили по-настоящему два полугодия. А потом отдали свою любовь в печать и выставили их боль напоказ.
– Я приложил все силы, чтобы…
– Ну конечно. Чтобы читатели остались довольны, а законы не нарушены.
Водораздел проведен, нужные слова найдены. Одни собираются под знаменем Эроса, другие под знаменем Wille zur Macht[103], у одних пароль «друг-приятель», у других – «отец и командир». Александр млеет.
После заседания членам комиссии предлагают выпить хереса. Александр пристраивается к Агате Монд и помогает ей разносить бокалы. Ганс Рихтер, естественник, трогает за плечо профессора Вейннобела:
– Хорошо вы говорили, мне понравилось. Насчет врожденных представлений. Насчет структуры мышления. Если мы этим и занимаемся, дело принимает другой оборот. Мне-то казалось, моя забота – язык учителей естественных наук: как сделать, чтобы они яснее объясняли, грамотнее выражались. Но после ваших слов все иначе. Тонко это было замечено, насчет ограниченности мышления. Я убежден, – продолжает он бесстрастно, словно речь идет о структуре солей, – что во Вселенной существуют и другие формы разума, наш – только одна мелкая разновидность.
Вейннобел потрясен. В воображении на миг возникают исполинские головы ангелов, заслоняющие небосвод, плотные ряды крыльев, пернатых, и в то же время стеклянистых, органических, и в то же время строго геометрических. Он опускает свою большую голову, поглаживает усы.
– Не представляю, – отвечает он, – как это возможно проверить. Не может же двумерный человек на листе бумаги увидеть трехмерного, из плоти, и с ним общаться.
– Может догадываться интуитивно. Мы же находим решение задач при помощи интуиции.
– Или не находим.
– Интуитивно и неудачи можно предвидеть.
– Но уж язык носителей этих видов разума мы точно представить не можем.
– Что ж, будем набираться ума-разума по части собственного языка. Это, оказывается, интереснее, чем я думал.
– Несомненно, – соглашается Вейннобел.
VI
На обратном пути, сидя в казенной машине, Вейннобел думает о языке. О порядке и беспорядке, о форме и хаосе. Он размышляет об этом всю жизнь, и его не оставляет чувство, что он взялся за невыполнимую задачу. Собственные мысли представляются ему в виде красивого круга света, а в нем качается на темных морских волнах ладно сбитый дощатый плот, за пределами же этого круга мгла, где ничего не имеет очертаний или просто неразличимо, и куда плыть, непонятно. Он как тот человек на бумаге, о котором говорил Ганс Рихтер, двумерный воздушный змей, несомый ветром, силой, которую он ни описать, ни познать не в состоянии.
Он родился и вырос в Лейдене, отец его был протестантский богослов, кальвинист, который изо дня в день бился над мучительным вопросом: как согласовать добродетель, предопределение и букву Великой Книги? В жилах его течет не только кровь голландских кальвинистов: его дед по материнской линии был наполовину евреем, сыном талмудиста и голландской католички, которая пришла к убеждению, что христианская церковь, ложно трактуя Писание и некстати им руководствуясь, оказалась повинна в жестоких гонениях на евреев. В свою очередь, дед Герарда Вейннобела до беспамятства увлекся языком Писания. Он предпринял безрассудную попытку, черпая сведения и в мистических, и в исторических, и в экзегетических источниках, обнаружить следы праязыка, первоначального языка Бога, на котором говорили Адам и Ева, да и сам Бог, обнаружить Слово, которым Господь, лишь произнеся его, сотворил из хаоса мироздание. Во времена довавилонские – до того как человечество вздумало возвести ввинчивающуюся в небосвод башню, а Бог покарал его за самонадеянность, разделив и смешав его языки, – в те времена, согласно оккультным учениям, слова были вещами, а вещи словами, они были одно, как, возможно, человек и тень его или разум и мозг. Позже, после падения башни, слово и вещь разделились, язык каждого племени сделался глухой тайной, окутался непроницаемой пеленой непостижимой своеобычности. После падения дерзновенной башни (согласно почти всем системам мифологии) первозданный, божественный, единый язык, как хрустальный шар, разлетелся на семьдесят два осколка – или число осколков, кратное семидесяти двум. Разные слова или буквы можно трактовать как осколки первозданного шара – каждую букву иврита, каждое слово, каждую грамматическую форму. Адепты каббалы и герметизма, хасидские знатоки Торы и Талмуда пытались по этим осколкам восстановить Древний Язык, Ursprache[104]. Дед Герарда Вейннобела дни напролет нащупывал строй этого древнего языка, время от времени пускаясь с суровым зятем-кальвинистом в рассуждения о событиях Пятидесятницы: когда на апостолов, собравшихся в верхней горнице, снизошли языки огненные и они заговорили на неведомых им языках[105], не было ли в их числе какой-то разновидности, хотя бы остатков первозданного языка? Хотя Кес Вейннобел и считал, что Йоахиму Стену после Страшного суда предстоит гореть в неугасимом огне, лингвистические взгляды Стена его заинтересовали. Кес Вейннобел сомневался, что первозданным языком был иврит. Он скорее был более естественным, более соприродным вещам: слова, обозначавшие льва, агнца, яблоко, змея, дерево, добро, зло, полностью заключали в себе силу и сущность того, к чему они относились, были тождественны предмету. Слово «слон» выражало сущность слона, «уховертка» – сущность уховертки.
Юный Герард Вейннобел слушал и наблюдал. Слушал, наблюдал, содрогался – и взбунтовался. Библейские выкладки отца и – несмотря на эстетическую привлекательность – рассуждения деда со всей ясностью показали ему, что люди готовы тратить на чепуху всю свою жизнь. И еще он усвоил, что в самой природе языка есть нечто такое – подвох, соблазн, извилина, что будоражит людей, побуждает тратить всю жизнь на чепуху. Он открыл для себя Ницше, ополчившегося на христианство во всех его проявлениях с восхитительно бешеной страстью исступленного христианского проповедника, сменившего веру, а Ницше утверждал: «Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику». «Бого-словие», язык Бога, и грамматика – своего рода богословие.
Герард Вейннобел стал математиком. Он стал математиком, чтобы отложиться от сумбура, царящего в языке, и созерцать порядок. Он принялся за изучение чисел Фибоначчи – последовательности чисел, лежащей в основе структуры завитка внутреннего уха, формы бараньего рога, аммонитов, раковин некоторых улиток, расположения ветвей вокруг ствола дерева. Он удалился в мир чистой формы, – но это были уже не формы света, как прежде, формы, которые Вермеер вообразил и запечатлел в виде витражного окна и удлиненного, плотного тела женщины, размышляющей, читающей, наливающей молоко, – теперь он видел соотношения четырехугольников, размеров, основных цветов с картин Мондриана.
Во время войны Вейннобел перебрался в Англию, и, по-видимому, из-за того, что теперь ему пришлось говорить, преподавать, а позже и думать на английском языке – английским он владел основательно, но язык все же был не родной, – Вейннобел образца сороковых-пятидесятых годов от формы в точных науках вернулся к форме в языке. Он увлекся теорией Романа Якобсона[106] о «дифференциальных признаках» во всех языках, идеями де Соссюра[107], который уподоблял язык шахматной игре, где слова – произвольные знаки, которым приписывают формальные функции, а в последнее время заинтересовался идеями Наума Хомского[108], утверждавшего, что выявил универсальную глубинную структуру языка, универсальную грамматику, впечатанную в мозг человека от рождения, учить которой не нужно: владение ею так же непроизвольно, как биение сердца или фокусировка зрения. На нее не влияют ни социальные условия, ни личный опыт, это принадлежность биологического индивида, нечто такое, что способно порождать гулкую разноголосицу множества языков и присущие им ментальные структуры. Как бобер от рождения наделен умением строить плотины, паук – плести сети, так и люди рождаются с умением говорить и думать при помощи грамматических форм. Порождающая грамматика Хомского, его трансформационная методика в 1964 году направление еще новое и бескомпромиссное, а в смысле строгости близкое к точным наукам: чтобы его понять, необходимо оперировать математическими структурами и алгоритмами. Рассудок говорит Вейннобелу, что Хомский прав: способность порождать и трансформировать язык – врожденное свойство мозга, язык не вливается в него, как в пустое ведро, не записывается на нем, как на чистом листе, язык – он там, в складках мозга, в дендритах, синапсах, аксонах нейронов. До сих пор наука – педагогика и лингвистика – изучала, как формируется сознание, делая упор на влияние среды, обучения, отдельных событий. Допустить, что языковая способность – свойство врожденное и неизменное, – это попахивает детерминизмом, догматом о предопределении, а то и кое-чем похуже: допущением, что различия между людьми обусловлены не средой, а наследственностью. Вейннобел знает немало тех, кто считает, что такое допущение противно нравственному чувству, как были когда-то Вейннобелу противны взгляды отца. В его мирке о языке рассуждают много, о нем говорят то как о жесткой кристаллической структуре, то как о порядке, рожденном из хаоса, то как о структуре мятущейся, словно пламя, меняющей очертания под порывами ветра в окружающей среде. С эстетической точки зрения язык-пламя Герарду Вейннобелу близок, он готов поверить, что язык – зыбкая, неустойчивая, переменчивая форма. Рассудок твердит, что надо верить в кристалл. То же подсказывает интуиция. Способность человека конструировать язык соответствует его, Вейннобела, самоощущению.
А еще он верит, что когда-нибудь в отдаленном будущем нейробиологи, генетики, исследователи сознания разыщут языковые формы в чащах дендритов, узелках синапсов. Гены – апериодические кристаллы – задают подвластному им материалу структуры, формы, химический состав. Когда-нибудь эту неизменную форму удастся познать и таким образом познать сеть грамматических категорий и неизменную глубинную структуру грамматики. По крайней мере, Вейннобел в это верит. Но решить задачу, стоящую перед комиссией, – чему учить маленьких и не очень маленьких детей – эти соображения не очень-то помогают.
VII
Томас Пул отправляет Фредерику к своему врачу, бодрому толстячку, который принимает на Блумсбери-сквер. За два месяца совместной жизни их отношения стали кое в чем напоминать супружеские: они вместе решают, что купить в магазине, делятся тем, что на душе, обсуждают дружбу Лиззи, Саймона и Лео, говорят о книгах, выбирают романы для нового курса Фредерики в школе под названием Школа Богородицы Скорбящей, решают, как ей лучше совместить эту работу с преподаванием в художественном училище. Лео спокоен. Иногда он спрашивает, когда они вернутся – «домой» не добавляет: дети умеют выражаться очень обдуманно. «Они будут обо мне скучать, – говорит он и уточняет: – Уголек будет скучать». И заглядывает в лицо Фредерике, надеясь прочитать в нем ее намерения, а она старается держаться как ни в чем не бывало, словно у нее никаких сомнений, старается хоть на время внушить ему доверие, успокоить.
Рана у Фредерики все не заживает: гноится, открывается, по краям нехороший розовый глянец.
Она собирается к врачу. На прощание Томас Пул кладет ей руку на плечо.
– Не унывай, – говорит он. – Заживет, ты только потерпи.
Она поворачивается к нему. Он вот-вот ее поцелует: в такую минуту это ничего. В дверях появляется Лео. Фредерика внутренне съеживается и вскидывает руку, словно отводя воображаемый удар.
– Извини, – преспокойно произносит Томас Пул.
– Извиняться не за что, – отвечает Фредерика.
Толстячок-доктор по фамилии Лимасс осматривает, ощупывает, перевязывает рану.
– Скверная штука, запущенная штука, надо же так рассадить, – по обыкновению жизнерадостно приговаривает он.
– У меня еще кое-что… – отваживается Фредерика.
– Ну-с?
– Что-то не в порядке с… с влагалищем и вокруг него. Очень болит. Там – вы их, кажется, называете пустулы. И что-то вроде коросты.
Произносит, не обинуясь. Ей стыдно. Ей больно.
Улыбки как не бывало, врач наскоро ее осматривает, выписывает счет и советует обратиться в венерологическую клинику Мидлсекса. Фредерика подавлена: в свое время ее любовные связи были чреваты такими последствиями, но обходилось. Какой позор.
– Когда вы последний раз имели половые сношения? – спрашивает врач.
– С мужем. После свадьбы я ни с кем, кроме него, не спала.
Факт говорит сам за себя, и угрызения совести сменяются яростью. В памяти мелькает содержание чемоданчика из гардероба. Она неловко сдвигает ляжки и чувствует боль, раздражение, неудобство, все по отдельности – сейчас при ходьбе всегда так.
– Понятно, – произносит врач. – Похоже, с мужем не повезло.
Хотя Фредерика так и кипит, ее охватывает противоестественное желание защитить Найджела от этого легковесного обвинения. А может, защитить себя, сделавшую неудачный выбор.
– Бывает, надежды не оправдываются, – отвечает она.
– Бывает. А теперь живо в клинику, пока хуже не стало. И никакого секса.
– Чтобы я когда-нибудь еще о нем… об этом подумала!
– Как же, как же, – усмехается врач с лучезарным недоверием.
– Алло, – гудит знакомый голос, приветливый и неприятный. – Мое почтение, Дэниел, мужчина священного чина, Дэниел, духовный пластырь, Дэниел, уполномоченный мертвого проповедины. Как поживаете?
– Очень вас это заботит. Хорошо поживаю. А вы?
– На мне, друг мой, живого места нет, истекаю кровью там, где не видно. Вчера отправился возвестить людям истину – я вменил себе это в обязанность: каждому нужно придумать себе хорошенькую химерочку в виде обязанности, чтобы иной раз пообретаться в человеческом обществе. Вот я и решил: не навестить ли малую толику человеческого общества, не усладиться ли медом человеческого общения? Да, любезный Дэниел, Дэниел-невидимка, я томился желанием, о духовный пластырь, вразумить хоть одного человека. И пошел я попроповедовать малым делом в ближайший паб. И сказал я им: «Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их! Так говорил однажды мне дьявол: „Даже у Бога есть свой ад – это любовь его к людям“. И недавно я слышал, как говорил он такие слова: „Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог“. Итак, я предостерегаю вас от сострадания: оттуда приближается к людям тяжелая туча! Поистине, я знаю толк в приметах грозы! Запомните также и эти слова: всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет – создать! „Себя самого приношу я в жертву любви своей и ближнего своего, подобно себе“ – так надо говорить всем созидающим. Но все созидающие тверды. Так говорил Заратустра»…[109] По-немецки это сильнее, но ваша учебная программа едва ли включала язык бывшего противника, о мужчина священного чина, хорошего знакомства с великой европейской культурой я в вас не замечал… Вот так я в ближайшем пабе метал бисер перед ближними своими, а они ухватили меня за волосы и штаны пониже спины и пустили в ход оружие ближнего боя – велосипедные цепи, любезный мой Дэниел, велосипедные цепи и разбитые пивные кружки, пинали меня ногами. Вы бы рыдали от этого зрелища, будь вы человек, в чем я нередко сомневаюсь, ибо вы так нелюбезны, так медлите уврачевать мои язвы по заветам вашего господина – я ведь стражду, о мужчина священного чина, и, если не ошибаюсь, вы обязаны мною заниматься, нравлюсь я вам или нет… Йоркширец, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?[110]
– Я не сплю. Я бодрствую вместе с вами. Вам бы лучше поговорить с каноником Холли. Ницше он читал. И теология смерти Бога по его части. Мне кажется, с каноником Холли вы подискутируете в свое удовольствие. Жаль, конечно, что вас побили. Но, похоже, вы, если можно так выразиться, сами напросились. По правде сказать, мне самому частенько хочется вас отлупить, вот только встречаться не доводилось.
– О любезный друг мой, о Даниил, о мудрый судия![111] Вот он, миг прозрения: наконец наши души открылись друг другу – я неустанно старался приблизить эту минуту, едва мой голос начал проникать в твои неподатливые и не готовые к этим истинам ушные отверстия. Я всем сердцем жажду, о ненадолго возлюбленный мой, чтобы меня, как ты выразился, отлупили, истолкли в пыль, стерли в порошок, разложили на атомы, мокрого места не оставили, и, если ты согласен меня удовольствовать, я объявлюсь. В переулках Смитфилда искал я тебя и не нашел тебя[112], в чаще ножей и тесаков не увидел я тебя, отвернул я алые ризы правосудия и узрел леденящие душу орудия пытки, но любезного Дэниела, истязателя моего в стихаре и сутане, я не увидел, хотя истомились по нему мои коленные чашечки, и слепая моя кишка, и трепещущий язык мой…
– Слушайте, вы! Не собираюсь я вас истязать. Ни вас, никого. Ни стихаря, ни сутаны я не ношу – если вам так интересно, на мне банальные вельветовые брюки и джемпер, так что с этим не ко мне. Позвать вам каноника Холли? Будете говорить с ним о Ницше и смерти Бога?
– О подобных материях куда приятнее говорить с тем, кто о них и слышать не хочет: тут прозелитствующему пророку нужна и сноровка, и способность сломить сопротивление. А беседовать с вашим каноником все равно что проповедовать уже обращенному: скучно узоры разводить, никакого кайфа.
На спиральной лестнице раздается шум. Кто-то уверенной, твердой, стремительной поступью спускается в подземную часовню. Джинни Гринхилл вскакивает и, словно обороняясь, выставляет перед собой вязальные спицы.
Голос – низкий, гулкий, аристократический:
– Кто тут Дэниел Ортон? Мне сказали, он здесь.
– Он занят. И вообще мы тут клиентов не принимаем, наверху есть гостиная, там можно чая попить.
– Да не клиент я, вот бестолочь. Он мне нужен по срочному делу. Личному.
– Ну, не знаю…
– Там какой-то крик, – доносится из трубки тремоло Железного. – Вам не до меня. Что ж, забьюсь в щель и буду, бедолага, зализывать раны. Представляете, как я зализываю раны, друг мой поневоле? Кровь на кончике языка, представляете?
– Будить чужое воображение тем, что его не будит, последнее дело, – отвечает Дэниел.
– Ага, задело, по голосу слышу. Какой же вы христианин, если вас не возбуждают потоки крови, вкус крови, мой друг поневоле?
– Это он Дэниел Ортон?
– Видите – он разговаривает.
– Мистер Ортон, можно вас на два слова?
– Как интересно! – восклицает Железный.
Дэниел вешает трубку. Оборачивается и рассматривает посетителя. Смуглый, крепкого сложения, одного с Дэниелом роста, пиджак, шелковый галстук, синеватая бородка. Тяжелые брови, тяжелый взгляд.
– Чем могу?
– Вы, по-моему, прячете от меня мою жену. Я ее разыскиваю, и, кажется, скрываете ее вы. Я хочу вернуть ее домой.
– Мы не нарушаем конфиденциальности клиентов…
– Вы меня не знаете. Мы с вами родственники, не кровное родство, но все-таки. Я Найджел Ривер. Моя жена – Фредерика. Мы с вами не встречались, но я про вас слышал. Вы ведь были мужем ее сестры, покойной. Мне кажется, Фредерика отправилась к вам. Два месяца ее ищу, я и вас с трудом отыскал. Я все передумал, – конечно, она у вас. Вы ей писали, я читал это письмо. Я ни вам, ни ей зла не желаю, я только хочу, чтобы она вернулась. И сын должен быть при мне. Вся его жизнь – на моих глазах. Прошу вас, скажите, где она. Я не делаю ей зла, я хочу, чтобы она вернулась.
– Не знаю я, где она. Я даже не знал, что она ушла.
– Не верю. Должны знать.
– Не знаю, – повторяет Дэниел и опрометчиво добавляет: – И кажется, хорошо, что не знаю.
Найджел Ривер отшатывается и бьет его в лицо. Дэниел, едва устояв на ногах, поднимает руку, защищаясь от нового удара. Джинни Гринхилл нажимает кнопку сигнала тревоги, наверху, в здании церкви раздается громкий сердитый звон. Клиенты часто нападают на сотрудников, но, как обнаружилось, и звона бывает достаточно, чтобы их утихомирить. Местные полицейские знают: сигнал тревоги означает, что надо просто зайти и убедиться, что все в порядке. Но на этот раз звон приводит нападающего в бешенство. Найджел снова набрасывается на Дэниела и наносит удар в ухо. Слышно, как трещит подкладка его дорогого пиджака. На миг Дэниелу вспоминается Железный: вот кто порадовался бы хрусту костей, потоку липкой алой крови. Дэниел старается быть в своем роде пацифистом, но спускать тому, кто причиняет боль другим, нельзя. Он подступает к свояку и хватает его за узел галстука:
– Слушайте, вы. Я врать не привык. Сказал: «Не знаю» – значит не знаю. Чем скорее вы это поймете, тем лучше.
Его так и подмывает причинить боль Найджелу. Из расквашенного носа на красивую сорочку Найджела капает кровь. Найджел задумывается. Потом с размаху отвечает затрещиной по другому уху. Это все, на что он сейчас способен, догадывается Дэниел. Это от безысходности. Нервы на пределе. Звонок все надрывается. На верху лестницы появляется полицейский. Дэниел, слегка запыхавшийся, успокаивает его: ничего страшного, спасибо, это недоразумение.
– Вам виднее, мистер Ортон, – отвечает полицейский.
– Чистое недоразумение, – заверяет Дэниел.
Найджел и Дэниел испепеляют друг друга взглядами. Найджел делает шаг к примирению:
– Я знаю про вашу жену. Знаю, как вы переживали. А моя ушла и сына забрала. Хочу вернуть…
Дэниел видит перед собой мертвое лицо – врасплох, неожиданно. Сознание заволакивает багровое марево. Он подскакивает к Найджелу и бьет его в зубы. Снова брызжет и капает кровь.
– Фу, черт, – хрипит Найджел. – Я не то хотел сказать. Какая-то чепуха получается. Может, сядем?
– Если вы настаиваете…
– Я же извинился. Я понимаю: ляпнул, не подумав… Я хотел… я хотел, чтобы… ну вы понимаете… а вышло только хуже. Послушайте: это же я Фредерику утешал. Обнял ее, она плакала… Не бейте, я только хочу сказать, вы и я… мы друг друга и не знаем, и знаем… Я понимаю: это личное… Она у меня плакала на руках, Фредерика. Я хочу, чтобы она вернулась…
Клонит к тому, что женился на Фредерике из-за Стефани, шепчет багровое сознание. Дэниел сидит, уставившись в пол. Хмурится. Хмурится и Найджел. Джинни Гринхилл мимоходом подмечает: чем-то смуглые брюнеты похожи на черных быков.
– Хочу поправить дело, а получается только хуже, – вздыхает Найджел. – Возьмите мой платок. У меня есть еще. Чистый.
Дэниел вытирает кровь.
– Ну ладно. Верю: вы не знаете, где она. Но куда она подалась? Мне бы надо разыскать этих гадов на «лендровере», ее дружков, но я не помню, как их зовут, гадов этих. Хотел, чтобы они убрались из моего дома, и они убрались. А теперь ищи-свищи. С чего начать, ума не приложу. Мне бы вернуть моего мальчугана. Мой сын, моя кровь. Я его люблю. Что тут особенного: отец любит сына, отец должен быть рядом с сыном – а сын с отцом. Ведь так?
Дэниел сидит, понурившись. Его сын в Йоркшире. А сын Найджела у Фредерики, материнским чувствам которой Дэниел – даже Дэниел – по здравом размышлении не доверяет. Кое-что в ней всегда ему не нравилось. В глубине души ему было неприятно, что она так убивалась по Стефани. Стефани принадлежит ему. Принадлежала.
– Каждый день жду, что она даст о себе знать, – продолжает Найджел. Но нет как нет.
– Я порасспрашиваю. Не обещаю, что найду, – я тоже не знаю, с чего начать. Найду – передам. Чтобы она с вами связалась. А там пусть решает сама.
– Я и в Йоркшир ездил. Разбил старику голову дверью. Не нарочно. Психанул. Так получилось.
Дэниел смеется.
– Что тут смешного?
– Это он всегда так. Выкинет что-нибудь и – «Так получилось». Очень вам советую: постарайтесь вернуть ее по-доброму.
– Я ее люблю.
– Люблю… – повторяет Дэниел.
Род его занятий таков, что это слово внушает ужас.
– По вашей милости я теперь профессионально непригоден, – жалуется он Найджелу, когда они поднимаются по лестнице. – Оба уха пострадали. Слышу только звон, треск, шумы какие-то. А моя работа – слушать.
– Вот ведь работенка. Мучаетесь, наверно. Люди плачутся, а помочь нечем.
– Да, бывает. Бывает и нелегко.
– Да, среднему классу трудновато, – говорит Найджел, выбравшись из часовни и протягивая Дэниелу визитную карточку. – Если что-нибудь о ней услышите…
– Я же сказал: вы меня слуха лишили.
Они расходятся.
– Наш великий Прожектер, – поведал полковник Грим своему почти закадычному другу Турдусу Кантору, – вознамерился устремить свои попечения на молодую поросль нашу, на детей, чей милый лепет оживляет пространство наших сумрачных коридоров и приятным образом отвлекает от размышлений.
– Сам он детей не имеет, – заметил Турдус Кантор. – О его отцовстве ни он, ни кто другой не объявлял.
– Разве это помешает человеку увлеченному высказываться на сей счет? Притом, друг мой Турдус, прими в рассуждение, что все мы когда-то были детьми и об этом возрасте имеем достаточное понятие.
– И то, что мы предлагаем другим, черпаем мы из собственных страхов и упований того далекого времени. Таков уж род человеческий.
– Однако Кюльвер, помогай ему Бог, задался целью создать человечество иного рода – нового рода детей, а там и взрослых.
– Может, что доброе у него и получится. Все его любят, и мужчины и женщины. Готовы слушать часами. Ни тебя, ни меня так слушать не станут. И слушаться.
– В былое, невозвратное время меня слушались.
– Однако, любезный Грим, недоброе старое время и правда уже не вернется.
– И если обещанное благоденствие долго не наступает, обещавший его навлекает на себя общий гнев.
– Если он прежде наставит людей на ум, его поймут.
– Известны тебе такие примеры?
– Нет, однако есть у нас такая приятная слабость – льститься надеждой. Но поспешим узнать, каким манером собирается наш Прожектер приобщать грудных младенцев к свободе.
Театр Языков наполнился желающими послушать, что будет говорить Кюльвер касательно воспитания детей. Сами дети, коих в Башне было душ пятьдесят или шестьдесят, при этой речи не присутствовали, ибо некоторые дамы по доброй воле взяли на себя труд учить их кое-чему из того, что было в обычае при прежнем порядке, сиречь читать, писать, считать, говорить на разных языках, живых и мертвых, шить простые и затейливые вещицы, рисовать, петь, танцевать, играть на флейте, скрипке, тамбурине, глокеншпиле[113], выделывать из бумаги цветы, выпекать пирожки, наблюдать немудрящих тварей, таких как пауки, тараканы, мухи, мыши, ящерицы, земляные черви, а также следить, как прорастают бобы и горчичные зерна. Должно признать, что занятия эти проводились когда и как попало, зато при этом не было слышно детских криков и детишки имели случай удовлетворить свою неуемную и ненасытную любознательность, а их жажда деятельности получала, как считалось, полезное и невинное употребление. Было, однако ж, известно, что Кюльвер имеет предложить для их занятий долгими днями нечто более разумное, более глубокое, более побуждающее к пытливости. Кто не помнит, какими длинными, длинными кажутся дни в детстве, – говорил Кюльвер, – как медленно, медленно протекают минуты, как дни и часы, словно плотный шуршащий бархат, обвисают тяжелыми складками, до следующего месяца – как до дальних планет, как до звезд в черной бездне, и рассыпана темная пыль меж настоящим и настающим – если что-то вообще настанет.
Не стану приводить речь Кюльвера in toto[114]: хотя говорил он с величайшим чувством, так что риторические периоды и отступления производили на слушающих такое же действие, какое производит взгляд кобры на розовоглазых крыс или слова вдохновенного проповедника на верных учеников у ног его, однако – как часто бывает – стоит перенести эту речь на бумагу, как волшебная сила ее уничтожится, а зажигательное одушевление расточится в ряби чернильных начертаний. Да и то сказать, над этой речью бился он ночь напролет, а Дамиан и Розария доставляли ему сиропы и возбуждающее, соли и сладости, отчего мысль его и выражения так часто сворачивали в сторону, что стали сбиваться в густые комки, подобно тому как бывает при чрезмерном возбуждении кишечника, когда в нем образуются завороты с досадительными гниющими комьями. Были там мысли об играх, мысли про обучение речи и чтению, презанятные мысли об устроении потаенной чувственной жизни, каковой, по его убеждению, надлежит не таиться, а протекать на глазах у всех, мысли о наказаниях (ах, эти мысли о наказаниях, так тонко подобранные, так умело расставленные, так ослепительно-яркие!), мысли о жизни в обществе, мысли об одиночестве, мысли о развращенности и прочая и прочая. Мысли об упорствовании и мысли о готовности удовольствовать – приводить весь реестр значило бы испытывать терпение всякого в этом растленном и суетном мире. Поэтому, чтобы ускорить течение рассказа, чтобы он не топтался на месте, я приведу лишь грубый очерк сказанного. Правду сказать, чистота и красота этих помыслов отчасти нарушились при последующем их воплощении, однако, по мнению моему, они проступают и в воплотившемся. Он хотел добра, Кюльвер, он хотел добра, и многие ли из нас достойны такой похвалы?
Поскольку детей в зале не было, не пришли и некоторые женщины, кои, по собственному убеждению, взяли над детьми «попечение». Но Мавис, мать Флориана, Флоризеля и малютки Фелиситы, все же пришла: она души не чаяла в своих детях и тревожилась, как бы Кюльверу не вздумалось их у нее отнять.
Были тут и Розария с Дамианом, они держались вместе и непрестанно осязали тела друг друга. Кюльвер надивиться не мог на успех своей театральной затеи, когда Розария из добрых побуждений согласилась в Театре Масок при всем обществе изображать страстное влечение к Дамианову телу, что сходствовало с его, Дамиана, желанием и чего в обычной жизни она не испытывала. И вот, как я рассказывал, надевши маску с умильной улыбкой и взлохмаченный парик, она прилюдно уступала его жарким домогательствам, Дамиан же, выбравший для представления маску воина, суровую маску героя, утолял свое желание, а публика криками подбадривала его и сладострастно ликовала. Только стала госпожа Розария с той поры вожделеть Дамиановой плоти, и он отвечал ей тем же, хоть и не с таким жаром, и, покуда Кюльвер писал, они сходились у него в спальне, разлучаясь лишь на короткое время затем, чтобы отнести ему кушанья.
Кюльвер посчитал, что замысел его счастливо исполнился.
Ему стало казаться, что кожа на груди у Розарии не такая уж гладкая, что ягодицы у Дамиана глупые и самодовольные.
Он доказал, что показные проявления чувств способны пробудить чувства непритворные.
Не замечал он прежде, как фальшива улыбка Розарии.
Но, живописуя вчуже сладострастный союз Розарии и Дамиана, я, чего доброго, отвлекусь от краткого изложения речи Кюльвера. Примемся за главное блюдо, а историю про союз оставим на сладкое.
Дитя, говорил Кюльвер, рождается от Женщины, но зачатие его, как известно, происходит не без участия некоего Мужчины – которого именно, хотелось бы знать многим, но узнать за верное не так-то просто.
В растленном мире, из коего мы бежали, продолжал он, ребенок воспитывается в семье, состоящей из Мужчины, Женщины и тех, кто имеет к этой семье принадлежность: братьев, сводных братьев, детей женского пола. Части устроения общества, из которого они бежали, сиречь монархии, церковь, просветительные заведения и прочая, созданы по образцу семьи. Они распоряжаются властью, подвергают гонениям, требуют преданности только себе, устанавливают лестницу званий, делают то, что благосклонность и выгоды достаются лишь избранным, и все это порождает угнетения, противусмысленность, собственнические наклонности и алчность.
В новом мире, в Башне, все люди будут равны и станут радеть обо всех в равной степени. Здесь не будет ни брака, ни семьи и каждый ребенок будет ребенком всех членов общества. Через это упразднятся зависть и фаворитизм. Кормящие матери станут питать своим молоком всех младенцев без различия, и от этого все будут или не будут сыты одинаково и никто не будет в обиде.
С этой целью все дети обитателей Башни будут переведены в новые дортуары, которые по его распоряжению сооружались несколько последних недель (хотя на этот случай пришлось нанимать работников на стороне: лишь бы скорее покончить с семьей и учредить новый порядок). Под дортуары эти было отведено одно крыло здания, обставлены они были по начертанию Кюльвера. Имелись тут кровати для маленьких и для тех, кто постарше, просторные и узкие, покрывала, подушки и занавеси густых и ярких цветов, ибо Кюльвер приметил, что разнообразие цветов и осязательных впечатлений идет детям на пользу. Устроил он и светильники, которые должны гореть всю ночь, ибо Кюльвер приметил, что дети боятся темноты. Их расположили так, что в иные уголки свет не достигал, ибо Кюльвер приметил, что пугаться причудливых теней детям бывает приятно, иные же места освещались в заботе о тех, кому бояться вредно. Еще он приметил, что одним нравится спать, как кутята, вповалку, другие же, сторонящиеся общества, охотнее спят отдельно, и при устройстве дортуаров он позаботился о нуждах и тех и других.
– А если кто-нибудь пожелает спать вповалку с другим, а тот желает уединиться, что тогда? – спросил Турдус Кантор.
Дети сами научатся управлять жизнью своего общества, объяснил Кюльвер. Научатся почтительно относиться к чужим желаниям и друг друга удовольствовать. Как скоро в нашем обществе начнет устанавливаться общее согласие, это сделается их природным свойством. Произвол и глумление – порождение Семьи и Государства. Им на смену придут возникшие по разным причинам союзы, основанием коих станут признанные всеми желания их членов.
Далее он говорил об учении детей. Дети, сказал он, станут учиться так быстро, как захотят, учиться чему захотят и как захотят. Нельзя, ухватив детский разум в клещи, искривлять его и выкручивать, заставляя ребенка слепо и бездумно выучивать стихи и цифры, узнавать законы перспективы и затверживать нравоучительные изречения и пословицы. Ребенок должен все открывать сам, пусть он находит ответ на вопрос тогда, когда имеет в том нужду, и никак иначе. Пусть у него будет множество книг – какого рода книги, решать всему обществу, – и каждый взрослый пусть будет готов объяснить дитяте и как читать, и как разуметь прочитанное. Ибо ребенок, говорил Кюльвер, может охотно читать пятнадцать часов кряду, а после неделю-другую к книге не прикасаться, но я убежден, что эти пятнадцать часов будут ему полезнее, чем если бы он месяц читал по принуждению.
А еще, сказал он (не забывайте: я лишь излагаю его речь вкратце), я глубоко убежден, что нам, называющим себя взрослыми, старшими, рассудительными, не грех кое-чему поучиться у малых детей. Приглядитесь: сколько в них упоенной неугомонности и пытливости, а мы, косные и узколобые, подавляем эти чувства: заушаем детей, поджимаем губы, стращаем, как бы они не сделались скопцами, не остались на всю жизнь карликами, как бы не потеряли зрение, грозим геенной огненной. Ребенок – порождение природы, он вырывается из материнской утробы, полный сил, которыми наградила его природа, мы же эти силы подавляем и направляем в дурную сторону. Вспомните, что маленькие девочки в силу естества расположены задирать подолы и показывать мужчинам и женщинам круглые свои животики и задочки. Что бы нам, умилившись, не приласкать те места, которые они в своей невинности нам показывают? Вспомните, что дети обоего пола в силу естества расположены искать наслаждений, источники которых кроются в разных уголках их телесного состава: в пухлых гузках, в укромных сладостных бугорках плоти. Чем, как нынче, изводить и пугать их бранью и криками, что бы нам на это не улыбнуться и не поиграть с ними? Если не препятствовать их простодушным играм, кем они только не станут, чему только не научатся, чему только в свой черед научат нас в рассуждении утонченности наслаждений, буйства чувственных впечатлений, обходительности и несказанной взаимной приятности.
И тут он пустился рисовать такие смелые картины, что те из его приверженцев, кому недоставало широты души и живости воображения, просто оторопели. Он завел речь о пользе нового рода театра (школа, театр и еще церковь, по его разумению, дополняли друг друга) или даже обряда, где мужчины и женщины станут усваивать новое через подражание младенцам, где все они, сияя невинной наготой, соберутся на сцене и станут невинным образом исследовать все телеса, и кряжистые, и цветущие, и млечной спелости, исследовать все отверстия, все уста, все зубы, все впадины, все органы, причастные струению молока, крови, пота, слюны, порождению губных и шипящих звуков, ибо наш картавый лепет во младенчестве, который мы слышим теперь от наших младенцев-учителей, – не есть ли это начало речи более теплой, более созидательной, чем убогое мычание и кряканье, хихи да ахи, в которые выродилась речь в устах у нас, падших? Исступленный вздох пронесся по залу, и Кюльвер вскричал: «О, если бы мы могли вернуть себе телесные чувства, какими они были при рождении, и учиться всему сызнова! Но подобно тому, как в будущем мы образуем себе новые, ничем не стесненные чувствилища и откроем новые, невиданные возможности проявлять участие и наслаждаться, создадим мы и новый язык, подлинный язык любви, и забав, и истины, свободный от несовершенств, недомолвок, невнятности, язык-меч, вольный, как победная песнь семени, брызжущего из члена, – новый всеобщий язык, который еще не знает, что такое стыд, и не знается с чахлой конфузливостью».
Еще, продолжал Кюльвер, приметил он, что дети не питают отвращения к испражнениям человеческим, какое заметно у более брезгливых взрослых, из-за чего отхожие места в Башне не приносят ту пользу, какую могли бы. Возможно, это извращенное следствие чувствительности, которую вкореняет в нас близорукое воспитание, но, может статься, и природное свойство. Он рассудил, что влечение детей к грязи и нечистотам должно употребить на благо, и положил учредить из них выгребные команды: под звуки рожков и свирелей они станут на тележках и тачках бойко вывозить из Башни чаны с этой скверностью. Он придумал им мундиры из светло-оливковой рогожи с алыми галунами где только можно – образцы он показал собравшимся и был награжден любезными рукоплесканиями.
Говорил он и о наказаниях, но, хотя его мысли на сей счет будут важны в дальнейшем рассказе, здесь он изложил их впервые не весьма связно, поэтому я опишу обсуждение их в свое время. Он был бы рад объявить, признался он, что в мире, где правит разум и страсти, карам и гонениям места нет, однако время не приспело: золотой век еще не наступил… В целом же, добавил он, родителям лучше удерживать себя от наказания детей: проступки их ничтожны, пусть их шутливо и дружелюбно наставляют на ум их же маленькие приятели.
Тут спросила разрешения говорить госпожа Мавис. Кюльвер уже приметил, что эта дама всегда ему перечит. Рослая, с каштановыми волосами, неторопливая в речах, она обыкновенно говорила вместе с Фабианом, своим компаньоном – ибо супругами они теперь не были, – и разноречий меж ними почти не бывало, словно они договаривались друг с другом без слов, мысленно. Такие двуединые союзы наподобие двух сросшихся стволов в прежнем мире, до Революции, пользовались доброй славой, теперь же обитатели Башни косились на госпожу Мавис как на особу, которая, как видно, их образ мысли не разделяет. И хотя многие уже пользовались новообретенными свободами и, еженощно собираясь впятером, вдесятером, вдвадцатером в приделах храма или склепах, предавались сладострастным оргиям, хотя все больше было охотников разыгрывать свои желания в Театре Языков и Театре Боли, однако же Фабиану и Мавис такое не предлагали. В первое время после бегства те держались с прочими обходительно и расточали улыбки, госпожа Мавис устраивала для детей и взрослых веселые fêtes champêtres[115], для коих своими руками готовила лакомые печенья и булочки, сладкий лимонад и ячменный отвар, фруктовые пудинги, украшенные вишенками и засахаренными стеблями дягиля. Но теперь, когда большинство открыло для себя более свирепые и буйные утехи, эти бесхитростные пиршества если кого и привлекали, то разве что очень старых и очень юных. И не играла уже на устах госпожи Мавис приветливая улыбка, но широкое чело ее затуманилось. Раз вечером, сидя в своей каменной палате, они с Фабианом завели речь о том, не начать ли и им ублажать других в любовных игрищах.
– Может статься, тебя это развлечет, – сказала госпожа Мавис, на что Фабиан ответствовал:
– Если, зажмурившись, я воображу, что вместо румяной Пастореллы или матоволикой Хлорис я обнимаю тебя, родная, твое гибкое тело, в котором знаком мне каждый шрамик, каждая морщинка у рта, каждая укромная складка, тогда я, быть может, не оплошаю, хотя, правду сказать, не уверен. Но искать разнообразия из страха заслужить осуждение общества противно свободе страстей. Ведь от гнета подобных условностей мы и бежали, и если мы питаем страсть лишь друг к другу, к тому, кого знаем и кому доверяем, отчего бы не счесть это свободой?
– Как бы он не заставил нас представлять эту страсть на сцене, – заметила госпожа Мавис.
– Не думаю, – сказал Фабиан. – У нас не монархия, и он не король. Все мы вольны делать что хотим. Представляют пусть те, кто через такое представление открывают себя самих.
– А мы, скажет он, себя самих не знаем, – возразила Мавис.
– А мы покажем, что знаем, – ответствовал Фабиан.
Возненавидит он нас, подумала дама, но вслух произнести не отважилась. Однако Фабиан услышал ее мысли, и по лицу его пробежала тень.
Кюльвер долго разбирал главенствующие страсти человеческие, разнося их по двум таблицам, сходства и противоположности, соединял их множеством стрелок и помечал знаками: галочки и черточки, мечи, и кресты, и разверстые рты. Начерно подведя итог, он заключил, что для истинной гармонии число граждан Башни должно быть раз в пять больше: тогда здесь могут водвориться и утоляться все мыслимые страсти. Но коль скоро новых обитателей с их новыми страстями Башня не вместит, придется нынешним, с позволения сказать, поднатужиться и «примерить на себя» другие страсти сверх дарованных природой. Если некто имеет страсть отколупывать струпья на чужом теле, а охотников предоставить ему свои струпья не найдется, кто-нибудь может изобразить такого охотника в Театре Боли, и, как знать, не пристрастится ли он к этому занятию.
В госпоже Мавис угадал он пример натуры бесхитростной: женщина, которая видит свое предназначение единственно в том, чтобы вскармливать младенцев. Женщина, заключил он, вся чувственность коей сосредоточена в крупных бурых сосках с темными обводами, которая испытывает наслаждение лишь тогда, когда из груди в детский ротик струится молоко, грудь мерно посасывают крохотные губы и нежно пощипывают беззубые десны, а крохотные пальчики месят пухлые округлости. С самого первого дня в Ла Тур Брюйаре она при всяком удобном случае без стеснения распускала шнуровку и, обнажив тугую круглую грудь, подносила ее ко рту ребенка – что без стеснения, это, конечно, хорошо: стыд здесь осуждался. Вдумчивый читатель, верно, предположит, что Прожектер поставит такую особу кормилицей в какой-нибудь младенческий дортуар, посчитав, что там ей и место. Но, правду сказать, самый вид этих грудей, капли молока, сбегавшие из переполненного ротика, вызывали у него омерзение. Наблюдая, как она безмятежно кормит дитя, он испытывал желание броситься на нее, может, даже вооружившись, исколоть, пронзить эти дерзкие выпуклости, чтобы бледное молоко перемешалось с жаркой кровью, искромсать, отрубить… Проницательный знаток страстей человеческих задумался бы, что причиной этого желания причинить боль госпоже Мавис, что ему от этого за радость, однако Кюльвер еще недостаточно искусился в науке постигать природные свойства души, побуждающие людей причинять боль, наносить увечья, ранить, пронзать, разить, душить. Нет, не прозрел еще Кюльвер, и, чем зря досадовать на омерзительные млекопиталища госпожи Мавис, попытался он рассуждать, обдумать, как употребить ее на благо общества. Для доставления новообретенных наслаждений она, дама эта, не годилась, ибо вожделения к ней, как видно, не испытывал никто – всех, должно быть, отвращало ее закоренелое чадолюбие. Кюльвер считал за нужное приохотить ее к общим телесным утехам, затейливым и многообразным, чтобы сделать их многолюднее. В глубине души он вынашивал замысел, как заставить эту чинную особу переменить свой нрав и раскрыться. Но замысел еще не вполне созрел, и сейчас он не без досады позволил ей говорить. Гадливость проникла в его душу: он заранее знал, о чем она будет вести речь и как надо возражать.
Госпожа Мавис, прижимая к груди маленького Флоризеля, поднялась с места и млечным своим голосом объявила, что отлучать ребенка от матери, давшей ему жизнь, есть мера, о разумности которой можно поспорить. Дитя известное время растет в теле матери, и даже когда связующая их пуповина перерезана, ребенок от матери по-прежнему неотделим: год-другой он не может без ее помощи ни стоять, ни ходить, удовлетворение его жизненных потребностей и телесное благополучие зависят от материнского молока и материнской заботы о том, чтобы наделять его некоторыми умениями и защитить от опасностей.
– Я не утверждаю, что мы созданы такими по замыслу и произволению какого-то божества, – говорила госпожа Мавис. – Я утверждаю, что такими создала нас Природа, ибо повсюду в природе находим мы такую избирательную близость и такую избирательную заботу. Прежде верили, что самки аллигаторов – выродки среди матерей и даже имеют обыкновение пожирать своих чад, однако же обнаружилось, что их чудовищные зубастые пасти на самом деле служат убежищем для их детенышей, которые в минуту опасности мигом укрываются за страшными зубами. Притом не всем беззащитным мягкотелым земноводным дает приют аллигаторша, но лишь собственным отпрыскам, вышедшим из отложенных ею яиц, – тем, кого она знает.
– А коли так, – подхватил Кюльвер со снисходительным презрением, – не ясно ли из этого, какое зло заключает в себе такое лицеприятие, этот рассадник несправедливости и эгоизма, обитель докучливой любви, мешающей резвому ребенку исследовать полный приключений мир за пределами детской. Как сходствует это со злосчастными оказиями, когда матери во сне, повернувшись неловко, наваливаются всем телом на личико беззащитного младенца, отчего тот задыхается насмерть! О нет! Мы при помощи сдержек и противовесов, побуждений и тонких движений чувств приведем дело к тому, чтобы эти порывы и жар «материнской» нежности передавались от каждого всем, чтобы все возлюбили всех, и тогда станет в мире больше согласия, ибо не будут люди соперничать за то, что дается каждому, не будет осиротевший младенец плакать по материнской груди, а заласканный отпрыск вырываться из душных объятий матери: один будет всеми, все – одним. И все вдоволь испытают на себе эту страсть материнствовать – и мужчины, и женщины, и дети, и скопцы, и никому не придется проявлять ее или вкушать сверх меры.
И все вскричали, что Кюльвер прав, что если детей Мавис освободить от исключительно ее попечений, они ничего не утратят, но даже еще приобретут.
Покуда общество осматривало новые дортуары, которые открыла, перерезав ножницами розовую ленточку, госпожа Пиония, полковник Грим и Турдус Кантор поднялись на крепостную стену и обозревали долину. И общество стало восхищаться причудливыми ложами – просторными, круглыми, со множеством подушек и нарядных покрывал, на которых вышиты агнцы, мирно резвящиеся в полях со львятами и пятнистыми леопардами. И сказал полковник Грим Турдусу Кантору:
– Вижу, едет сюда отряд всадников.
И отвечал Турдус Кантор:
– Глаз у тебя поострее моего, я ничего не вижу. А караульные-то есть ли у нас? Исправлять эту должность не хочет ни один из наших сотоварищей, ведь никто к нам не наезжает.
И общество восхищалось прелестными шкафами для игрушек, и ночными вазами, и платьем, расписанным бабочками и улыбчивыми ящерками.
И сказал полковник Грим:
– Вижу стяг, а на нем кровоточащее дерево. Кребы в долине среди бела дня! Не имеют они обыкновения разъезжать днем. Поспешил бы ты предупредить Кюльвера и прочих: чего доброго, вздумается им напасть на нас. Теперь, когда мост на севере уничтожен, тем путем из долины не уйти.
Вооруженной стражи не имелось в Башне никакой, и для ее обороны ничего не делалось, ибо после разрушения моста достаточно затворить огромные ворота – и даже большому войску в замок не ворваться. Однако при известии о приближении кребов замок засуетился, как потревоженный муравейник, люди похватали все, что пришлось по руке, – мечи, пистолеты, мушкеты, вертела, вилы, мясницкие тесаки: кребы идут! Зоркий полковник Грим их хорошо рассмотрел: да, это кребы, мчится во весь опор ватага бешеных всадников, дружно что-то выпевая на неведомом языке.
Кони их, приземистые, корявые, с черными жестковолосыми хвостами и куцыми гривами, мчались, вздымая пыль и стелясь по земле, с невиданной быстротой. На всадниках были кожаные шлемы, лица их скрывали маски с выступом там, где нос. Еще были на них черные кожаные колеты, начищенные, не стесняющие движения, местами глянцевые, местами матовые, и черные кожаные штаны, и казалось – не сборище это, а черная тень несется, распевает, а над ней искрится рой мерзостных мошек: серебряные наконечники черных копий. Широкоплечие, длиннорукие, эти люди имели кряжистые тела и узкие талии, кривые короткие ноги почти смыкались под конскими брюхами.
Население Башни – мужчины, женщины, иные из детей – толпилось под крепостной стеной, потрясая жалким своим оружием. Госпожа Пиония сокрушалась, что нету времени вскипятить масло, но госпожа Целия возразила, что лишнего масла у них немного и, если кребы вздумают разбить у стен лагерь и осадить замок, пополнить запасы будет непросто. И вот подъехали кребы к Башне, и вострубили в огромные рога, и принялись кружить близ затворенных ворот.
Тогда, взобравшись на стену, Кюльвер прокричал:
– С миром ли вы пришли?
И высокий надтреснутый голос с хрипотцой и непривычным для жителей Башни выговором ответил:
– Ни с миром, ни с войной. Мы привезли гостинец.
– Это уловка, – сказал Нарцисс. – Хотят, чтобы мы отворили.
– А взамен хотим и от вас гостинцев. Вина, муки и сахара для пиршества. Нынче у нас пир.
– Покажите свой гостинец, – крикнул Кюльвер.
– Спустись – и увидишь, – отвечали кребы.
– Это уловка, – твердил Нарцисс.
– Не думаю, – возразил полковник Грим. – Такие изрядные пиршества и правда у них в обычае, и они не прочь, кроме своего кислого пива и пирогов с кореньями, полакомиться нашей снедью, более изысканной. Давай, Кюльвер, сойдем вниз и посмотрим, что у них за гостинец. Фабиан же встанет с мушкетом на стене над подъемным мостом, а с ним Нарцисс, и они будут защищать нас во время этой вылазки, а мы посмотрим их приношение.
– Для себя у нас муки и вина достанет, но лишнего нет, – сказала госпожа Пиония.
– Надолго ли нам хватит, если кребы, осердившись, встанут тут лагерем и будут голодом принуждать нас сдаться? – отвечал полковник Грим.
И подошли Кюльвер с полковником Гримом к арке над мостом, и велели кребам показать, что принесли они для обмена.
И кребы притащили большой кожаный куль, завязанный кожаными тороками.
– Откройте, – сказал полковник Грим. – Может, и сговоримся.
И кребы развязали куль, и двое несколько раз пнули его своими остроконечными сапожками.
И выполз из куля человек. Двигался он с трудом, длинные седые волосы его слиплись от крови, лицо словно кровавая маска, руки и ноги связаны, и поэтому мог он только ползать. Рот был заткнут кожаным кляпом.
– Он твой приятель, – сказали кребы. – Назвался твоим приятелем, когда мы его захватили.
Говоря, они подняли головы, толстые лица их оказались покрыты темными волосами, так что губ под ними не разглядеть, только черные глазки сверкали из этих зарослей.
– Он весь в крови, никак не разберем, – сказал Кюльвер. – Дайте его рассмотреть.
– Он говорит, что он твой приятель, – повторили кребы. – Не признáешь – убьем его как соглядатая. Твоя воля. Выкупом же за него станут ваши обозы с провизией: нам ведомо, где они и когда прибудут. А вино нам нужно немедля: пир наш скоро начнется.
– Поставьте его на ноги и развяжите, – велел Кюльвер.
Кребы распустили кожаные путы на ногах пленника и рывком поставили на ноги, только руки остались связаны.
То был рослый человек в длинном плаще. Глаза на залитом кровью лице горели темным огнем.
– Узнаешь ты меня, Кюльвер? – спросил он. – Узнаешь в образе Иова на гноище? Сам бы ты меня в дар не пожелал, но сделай милость, прими этот дар, ибо иначе выйдет нехорошо.
Голос его дрожал от боли, но говорил он сухо и внятно.
И рассмеялся Кюльвер.
– Твоя правда, – отвечал он, – ты и впрямь не подарок: мы с тобой не придем к согласию до скончания века. Но что поделаешь: придется принять тебя в дар, старый недруг, а то кровь твоя будет на мне.
И никто, кроме Кюльвера, об этом человеке ничего не знал. И в Башне нашлось довольно питья и провизии, чтобы отдарить кребов за приношение, и незнакомец, хоть и шаткой от боли походкой, но высоко неся голову, прошествовал по мосту в Башню.
И Кюльвер объявил собравшимся:
– Хочу познакомить вас со своим давним приятелем в детских забавах и однокашником по имени Самсон Ориген. Вот он стоит, окровавленный, запыленный, и я при нем скажу вам, что в нашем раю быть ему змием, ибо свет не видывал такого завзятого отрицателя: ни о каком предмете не можем мы с ним прийти к согласию. Нет человека более чуждого нашим замыслам, более противосмысленного нашим намерениям, а значит, должны мы приветить его, обезоружить приятной рассудительностью, прельстить благоразумными утехами, иначе его стараниями все мы будем терзаться и трепетать по монашеским кельям, и не потому, что нам это наша сокровенная услада, а потому, что нету усладам места под луной. Не изобразил ли я, старый мой недруг, твои мысли превратно?
– Я пока помолчу, – отвечал Самсон Ориген. – До поры до времени.
И он, как подкошенный, рухнул без чувств на каменные плиты, и философский диспут пришлось отложить.
Фредерика стоит на небольшом возвышении в конце просторной студии под отвесным освещением. На ней короткое черное шерстяное платье и вязаный черный жакет той же длины. Длинные волосы распущены: шторы, а между ними острое лицо. Студенты сидят на стульях с подставками для письма, мужчины в темных джинсах, женщины в блузках и платьях все больше сочных темных цветов с ядовитым оттенком. Бледные губы, глаза с длинными ресницами подведены, как у зловещих кукол: ни дать ни взять синяки. Распустехи-профессионалки. Кто-то записывает, кто-то рисует каракули. Фредерика взволнованно рассказывает о бумажных фонариках на сумрачном озере, о примулах, о румяном море, где водятся крабы, о белых аистах и бирюзовом небе, о жуткой большой каракатице, которая «пялилась из фонаря»[116]. У Лоуренса каждая деталь наделена смыслом, говорит она. Описывает разбитое отражение луны. Говорит о белых цветах зла, fleurs du mal[117], плывущих по морю смерти. Десятинедельный курс «Современный роман». Студенты-художники читают через силу, подберите им что-нибудь покороче, посоветовал Ричмонд Блай. Она выбрала «Смерть в Венеции», «Тошноту», «Замок»[118], но это после. Начала она с Лоуренса и Форстера – последнее, чем она занималась в Кембридже. «Роман – ярчайшая книга жизни»[119], – писал Лоуренс, и Фредерике тогда казалось, что на пути романа к совершенству Лоуренс дошел до конца. Мужчины спрашивали ее: может, она «лоуренсовская женщина»? Но шестидесятые входят в силу, а в шестидесятые Лоуренс смелым новатором уже не считается: после суда над «Леди Чаттерли» в 1961 году[120] он уже почтенный классик. Смелое новаторство – это «Завтрак нагишом»[121], это Аллен Гинзберг, это Арто. Фредерика чувствует, что по старой памяти вживется во «Влюбленных женщин» – роман, который вызывает у нее донельзя двойственное чувство (книга мощная, несуразная, глубокая, нарочито причудливая). Это она отчасти настроила взгляд Фредерики на мир. Фредерике важно, чтобы студенты увидели эту книгу ее глазами.
Студентов она знает еще не очень хорошо. Это потом она разберется: гончары замечают не то, что художники по тканям, живописцы выражаются цветистее и небрежнее, чем графики, скульпторы или молчаливы, или речисты, промышленные дизайнеры презирают книжную культуру, ювелиры – с вычурами, театральные декораторы читают так, словно книга – набросок структуры образа. Знакомство только-только состоялось, и она их побаивается. Она выступает перед ними как литературный критик, а они художники. Безотчетно она избегает категорий из арсенала критиков и нравственных оценок. Она старается исподволь внушить им, что книга – это сложная формальная структура. Они ведь большей частью книги не любят. Яркость впечатлений и смысл они находят где угодно: в студии, в пабе, в постели – только не в книгах.
Роман – например, «Влюбленные женщины», – объясняет она, это как будто вязание из длинной словесной нити: где-то вязка плотнее, где-то ажурнее. Он создается в уме автора и воссоздается в умах читателей, у каждого на свой лад. Материал романа – люди, чьи судьбы автору интереснее судеб друзей и любимых, – хотя, возможно, он их затем и придумал, чтобы понять своих друзей и любимых. Материал для изображения людей – язык, но это еще не все. Роман – это еще и идеи, которые ставят людей в определенные отношения: это еще один слой вязки, сплетенный с первым. «Влюбленные женщины» – роман об упадке, о любви к смерти, о танатосе в противоположность эросу. Материал для выражения идей – язык, но это еще не все. Этот роман – еще и зрительные образы: фонарики, луна, белые цветы. Вы, наверно, подумали, что это как образы на полотне, однако это не так: они должны быть зрительными, но незримыми, в этом их сила. Материал для этих образов – язык, но это еще не все. Мы должны вообразить эту разбитую луну, и Фредерика призывает на подмогу наши воображения со всем, что их сближает и разделяет. Она пытается показать художникам и скульпторам, что роман – произведение искусства, но не такое, как картина. Она пытается и для себя в чем-то разобраться. Какая-то молодая женщина ей улыбается, молодой человек в очках хищно записывает. Слушают. Группа слушает. Зацепила она их, связала невод и уловила.
В другом конце студии, на другом возвышении расположилась еще одна группа студентов, они устроились более непринужденно: кто-то лежит, кто-то сидит на корточках. Они окружают натурщика Джуда Мейсона, и тот, раскрыв нечто вроде гроссбуха в кроваво-красной обложке, что-то им читает. Он одет лишь наполовину, худосочные ляжки и все, что ниже, не прикрыто. Он сидит на краю возвышения, задрав колени так, что они задернуты длинными сивыми патлами, а мошонка лежит в пыли между грязных ступней. На нем замызганная бархатная куртка линяло-василькового цвета – вроде бы камзол, какие носили на рубеже XVII–XVIII веков, с широкими полами, замусоленными кружевными манжетами, и не то жабо, не то шейный платок. Камзол и платок надеты на голое тело, сухощавое, словно из темного металла. Скрежещущим голосом он выкрикивает:
– Вы бы им про Ницше рассказали! Про пловца на бурных волнах майи, иллюзии, которого поддерживает principium individuationis![122]
Фредерика возмущена. Нить, связующая ее с группой, оборвана. Что ни ответь, получится, что она третирует его, как школьная училка. Смолчать – то же самое.
– Я читаю о Лоуренсе, – напоминает она.
– Знаю. Слышал. Есть занятные мыслишки. Насчет вязания – очень даже неглупо. У сочинительства и правда есть что-то общее с этим унижаемым искусством. Вы продолжайте. Может, мы к вам присоединимся.
Фредерика сверкает глазами. В голову приходят возможные возражения, но все до единого вздорные. На изможденном, жилистом лице натурщика мелькает самодовольная, понимающая улыбка.
– Кстати, о вязании. Мне бы не хотелось, чтобы вы обрывали нить моих рассуждений.
– Рассуждения, значит? Блажен, кто добывает хлеб насущный рассуждениями, а не тем, что представляет свою плоть и кровь для эскизов. Послушаем ваши рассуждения.
Тоже ловко придумано: теперь она вынуждена либо пригласить его присоединиться к своим студентам, либо говорить громче, чтобы он мог слышать и встревать, либо заговорщицки понизить голос, чтобы до него ничего не доносилось. Лучше всего пригласить. Не хочется. В нем все неприятно: наружность, запах, скрежещущий голос. Не человек, а сплошной наперекор. Но она решает продолжать. Воспротивиться. Она старается вновь завладеть вниманием студентов, а то сидящие с краю уже оглядываются на Джуда: что он выкинет?
– В центре «Влюбленных женщин» – загадка, пустота, обе героини прекрасны – и как реальные женщины, решающие для себя вопросы любви, секса, выбирающие свой путь, и как мифологические персонажи, распоряжающиеся жизнью и смертью. Но что сказать о Биркине, во многом автопортрете Лоуренса, во многом том, через чье восприятие показаны события романа? О нем сообщается факт, который чаще всего забывают: Биркин – инспектор школ. Да, в романе есть сцена, где он инспектирует школу: это когда они с Урсулой обсуждают женские и мужские цветки орешника. Но в остальном не верится как-то в его инспекторство. Он вхож и в хорошее общество Ноттингемшира, и в богемные круги Лондона. Что-то тут не вяжется. Что-то не так.
– Мэтью Арнольд тоже был школьным инспектором, – раздается дребезжащий голос.
– И написал множество книг и стихов, – подхватывает Фредерика: на сей раз замечание Джуда приходится кстати. – И принадлежал к целой династии деятелей культуры и образования. Я собиралась сказать, что если Биркин и не альтер эго Лоуренса (хотя он выглядит выигрышнее всего, когда самым смехотворным образом старается выказать себя настоящим мужчиной, причем Лоуренс умно и тонко над ним подтрунивает), – так вот, если Биркин и не альтер эго Лоуренса, именно через него в книге чувствуется присутствие автора. И «Влюбленные женщины» – не «Портрет художника в юности»: автор изо всех сил старается этого избежать. Пусть Лоуренс и утверждал, что «роман – наивысшая форма выразительности в человеческом обществе»[123], – и кому, как не вам, в этом усомниться, – но мне кажется, он считал, что писать роман о писании романа о писании романа – это что-то нездоровое.
– «Tout existe pour aboutir à un livre»[124], – гремит античный Хор.
Скрывая гнев, Фредерика в ответ театрально кивает и продолжает:
– Лоуренс держался традиции реализма, как Джордж Элиот, когда она писала о злоключениях Лидгейта и душевном надломе Доротеи[125]. Эстетом он не был, эстетство ему претило. Но все толкало его на этот путь. Роман писался в годы Первой мировой: война, окопы, но прямо они в книге не изображены, это книга о формах восприятия и формах мышления.
– И о сексе еще.
– И о сексе. В связи с искусством. Но Биркин не художник: Лоуренсу претило писать, уткнувшись носом в собственный пуп. Он хотел написать о смерти, о Европе. И пустота, зыбкость контуров – это потому что, по нашим ощущениям, Биркин как будто пишет книгу, тогда как на самом деле он ее не пишет. Но такая же пустота – разочарование – возникала бы и в том случае, если бы он только и занимался тем, что писал книгу: ведь Лоуренс хочет говорить не о книгах, а обо всем на свете, обо всей жизни.
Фредерика обводит аудиторию пылающим взглядом. Студенты смотрят во все глаза. Все слушают. Получилось на этот раз объяснить как следует? Ей эта тема не дает покоя: иллюзорность Биркина, школьного инспектора, который смотрит на мир как на книгу, которую он не пишет.
– Вспомните, что говорил Ницше, – отзывается Джуд. – Он говорил: «Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности». Он говорил, что все мы произведения искусства, сотворенные «действительным создателем», «хотя, конечно, наше сознание об этом своем значении едва ли чем отличается от того, которое написанные на полотне воины имеют о представленной на нем битве»[126].
– Уводите разговор в сторону. Я не верю в этого вашего «действительного создателя».
– Ну и не верьте. А может, ваш Дэвид Герберт верит или верил. А может, его Биркин верит, или верил, или поверит. Не стреножены ли вы своим близоруким утилитаризмом?
Фредерика хочет огрызнуться, но в другом конце студии заметно движение. Входят двое, первый – Десмонд Булл – объявляет:
– Вот она. Лекция кончилась или кончается. А молодежь пойдет на другое занятие.
За Десмондом Буллом следует Дэниел Ортон. Лицо у него в живописном беспорядке: оба глаза подбиты и смотрят словно из темных нор, губы рассечены, нос густо багровеет.
– Пришел предупредить: тебя ищет муж, – говорит Дэниел.
Фредерика неловко слезает с возвышения и обнимает его. Студенты начинают собирать вещи.
– Меня он нашел, – продолжает Дэниел, почти наслаждаясь драматическим эффектом, который произвела его внешность. – Надеюсь, тебя не найдет.
Десмонд приносит стул. Дэниел и Фредерика усаживаются. В уме у обоих проносится: «Стефани… Уильям… Мэри… Лео…»
– Он и к твоему отцу наведался.
Фредерика смеется:
– Ну его-то, надеюсь, он так не изувечил.
– Зря смеешься, – ворчит Дэниел. – Изувечил. Ушиб голову дверью. Твой отец и глазом не моргнул, я бы так не смог. Отпустил его с миром и позволил унести твое платье.
– Мое платье?
– Говорит, выходное.
Обидно. Билл пострадал. Билл оказался беззащитен.
– Дэниел, помоги. – Фредерика трогает его за рукав.
За спиной раздается душок прогорклого масла, прокисшего пота, рыбы.
– Ба, Даниил, мудрый судия! – восклицает Джуд. – Наконец-то я вижу тебя во плоти, радость моя, свет очей моих, во плоти восхитительно дородной и отменно изобильной, всесовершенство коей я и вообразить не мог! Узнаешь ли ты исчадье тьмы, невидимый мой повелитель?
– …Твою мать! Железный! – Дэниел так встревожен, что забывает о приличиях. – Твою мать! – повторяет он.
– Железный? – интересуется Джуд. – Ругательство такое?
– Это мы вас так называем в журнале регистрации, когда слышим ваш ехидный голос, – объясняет Дэниел. – Так сказать, описательно.
– Это что же, комплимент? Мне льстят? В общем-то, да. Недурно. Псевдоним – какая-никакая слава. Железный… Нет, как-то не очень. Меня зовут Джуд Мейсон. Раньше так не звали, а теперь зовут. Произошел от самого себя. По собственному усмотрению. Ну что, пропала прелесть загадки?
– Пожалуй, – говорит Дэниел. – Теперь звоните кому-нибудь другому. А сейчас мне надо поговорить с Фредерикой. Разговор серьезный.
– Еще встретимся. Рад был на вас посмотреть. Вы, о духовный пластырь, как ни странно, человек симпатичный, самодовольством не сияете, но какой-то свет в вас теплится. Надеюсь, моя наружность вас не очень разочаровала?
Дэниел рассматривает его исподлобья. Замечает непромытый пупок, взгляд опускается ниже: обвисший серый член, тощие коленки.
– Несет от вас, как от бездомного кота, – вздыхает он.
– Знавал я их. Ох и находчивые ребята, друг мой. Знаете, – обращается Джуд к Фредерике, – а ведь я эфирно присутствовал при том, как уши и щеки вашего приятеля превращали в отбивную.
– Уходите, пожалуйста, – просит Фредерика. – Мне надо кое-что обдумать. С Дэниелом можете поговорить после.
– Не сможет. Времени в обрез. Пойдем посидим где-нибудь, поговорим, а потом я убегаю.
* * *
Фредерика и Дэниел беседуют в кофейне. Эта кофейня словно устроена для разговоров по душам: кабинки с пластиковыми столиками, из динамиков льется ненавязчивая музыка. Фредерика, которая сторонилась Дэниела, избегала встреч, не ответила на его письмо, сейчас вне себя от радости, потому что видит его перед собой живьем, осязаемого. На глаза наворачиваются слезы, катятся по щекам. Она кладет руку на стол в кофейных потеках, Дэниел ее пожимает.
– Да нет, в твоем письме не было ничего такого. Просто мне не хватило сил. Я сделала глупость, и теперь мне страшно. Я бы так не боялась, если бы не Лео. И ничего не могу сделать, чтобы ему было хорошо.
– Расскажи.
Она рассказывает. Всю свою жалкую историю: завороженность необычным, поместье-западня, паническая боязнь стать «образцовой женой» («Думала, смогу остаться самою собой, и не смогла»), рождение Лео – ошибка и радость, – угрызения, угрызения, агитаторы-консерваторы, приезд друзей, ярость, кровь, топор. Не рассказывает только про гардероб Синей Бороды и посещение венеролога.
Дэниел слушает умело. Это его работа, да и Фредерику он знает. Фредерика вся на нервах, она говорит ему, что он настоящий, с ее острого носа капают слезы.
– Он рассказывал, что после ее гибели тебя утешал, – говорит Дэниел.
– Да. Это правда.
Смотрят друг на друга в упор.
– Так бывает, – говорит Дэниел: он про горечь потери и воспоминания. – На каждом шагу. Но дело не упрощается.
Спасибо, что он готов хоть как-то разделить ее боль. Она пожимает ему руку, лежащую на столе.
– Что теперь? – спрашивает он. – Развод?
– Надо. Но Лео… Будет нелегко.
– Тебе бы адвоката хорошего. Я знаю одного-двух: по работе приходится обращаться. Фамилии и телефоны дам. Не откладывай: надо тебе в конце концов пожить в покое. Где ты остановилась?
– У Томаса Пула. Устроились прекрасно. У него гувернантка, мы с ней по очереди с детьми нянчимся. Ну да Лео уже в таком возрасте, что ему нянька не нужна. Приезжай как-нибудь, посмотришь на него.
– Хотелось бы. Работа отнимает кучу времени, но хотелось бы. Я вот что думаю: не съездить ли нам на Рождество в Йоркшир? Тебе будут рады – ты знаешь почему, дело не только в ребенке и твоей беде. А я хочу, чтобы Лео познакомился с Мэри и Уиллом. Плохо, что они незнакомы. Родная кровь все-таки.
– Сегодня этим не так уж дорожат. Я подумаю. Страшно. Хочется зализать раны, а там пойдут расспросы, начнут обсуждать мои дурацкие промахи.
– А ты не отвечай. Я буду рядом.
Мимоходом заговаривают о Джуде. Дэниел рассказывает про его глумливые звонки. Фредерика признается, что он ей противен. Дэниелу тоже.
– Он хочет, чтобы мы его невзлюбили, – говорит Дэниел.
– Давай невзлюбим, раз хочет, – соглашается Фредерика. – Со страшной силой.
Занятия Фредерикиных вечерников в Институте Крэбба Робинсона проходят не в корпусах института, а в старой католической начальной школе в Ислингтоне, неказистом красном здании со столовой в подвальном этаже, где подают булочки с сыром и ветчиной, пончики и картофельные чипсы, жиденький кофе и насыщенный танином чай. Это заведение носит звучное и загадочное название Школа Богородицы Скорбящей. В Школе Богородицы Скорбящей Фредерика ведет курс, с пролетарской прямотой названный «Послевоенная британская беллетристика». На этот счет есть лишь одно крупное исследование: автор его, американка, объявляет, что главная тема послевоенной британской беллетристики – самоутверждение молодых провинциальных бунтарей из рабочей среды и обретение ими своего голоса там, где они до сих пор немотствовали. Это, считает автор, тема совершенно новая. Фредерика не согласна: неужели автор этого труда не читала Лоуренса, не читала Арнольда Беннета? Фредерика штудирует дальше и получает некоторое эстетическое удовольствие от попыток критика вызвать интерес к материалу, заведомо неинтересному (по сравнению с Лоуренсом и Беннетом), – впрочем, обнадеживает она себя, если взяться за что-то всерьез, то и интерес появится, вот я и заинтересуюсь Эмисом, и Уэйном, и Брейном[127] и тому подобными. А еще буду рассказывать о «Повелителе мух» и Айрис Мердок. Я ведь и сама провинциалка, выработавшая собственное самосознание, но в мире таких романов мне неуютно. Лоуренс стремился к знаниям, жаждал учиться, его привлекали и естественная история, и история культуры, он не хотел, чтобы обитатели шахтерских городков без толку прозябали дома. А эти на такие устремления только фыркают. Им лишь бы махать кулаками. Я объясню, почему эти книги повергают меня в уныние.
Первое занятие в институте смахивает на пьесу Ионеско. «Если на твой курс запишется меньше семи студентов, его могут отменить, – предупреждал Томас Пул. – Сколько человек выберет чей-то курс – кому как повезет, особенно в твоей области. Дослушают ли курс до конца, тоже в некоторой степени зависит от везения. Если разбегутся, курс прикроют».
Для занятий отведен класс на верхнем этаже, куда надо подниматься по крутой лестнице из четырех маршей с красными ступенями и бесхитростными металлическими перилами. Когда Фредерика входит в класс, зажав в руке конспект вводной лекции «Некоторые тенденции в современной британской литературе», ей представляется такая картина: десятка полтора взрослых сидят кружком, с грехом пополам устроившись на лилипутских стульчиках, которые годятся разве что для детей габаритов Лео. Тут два моложавых мужчины в темных костюмах, чета средних лет, миловидная девушка, женщина с лицом, туго обтянутым кожей, сохранившая остатки былой красоты, человечек в опрятным джемпере цвета незабудки, под которым, как удавка, затянут зеленый галстук, дамочка свирепого вида, полнотелая добродушная женщина, пожилой господин в твидовой куртке, монахиня. Фредерика озадаченно рассматривает это пестрое, с бору по сосенке, собрание.
– И вас заставляют вот так сидеть? – спрашивает она.
– Нам не привыкать, – отвечает монахиня. – Иногда только такие стульчики и остаются. Помню, одна женщина села, а встать и распрямиться уже не могла – так ее и унесли в сложенном виде; не повезло.
– У нас в кабинете астрономии есть более-менее приличные стулья, – сообщает пожилой.
– По-моему, мисс Поттер, – предлагает голубой джемпер, – надо совершить налет на другие классы, и так: раз-два – и готово.
Лица, непохожие взрослые лица – ничего общего с однородной аудиторией в художественном училище – смотрят на нее снизу вверх: ее оценивают, оценивают ситуацию. У одной женщины невероятно синие с серебром веки. Один мужчина носит пенсне.
– А вы знаете, куда совершить налет? – спрашивает Фредерика у голубого джемпера.
– Двумя этажами ниже, аудитория для сдвоенных классов – там мебель основательная.
– Ох и попадет нам, – беспокоится полнотелая.
– Мы взрослые люди, – отвечает Фредерика.
За дело берутся организованно. Находят безлюдный класс, где стоят стулья для школьников – не так чтобы большие, но сидеть можно. Один пиджак передает стулья другому, тот – дальше по цепочке, выстроившейся на лестнице. Десять минут спустя студенты сидят на новых стульях – прежние, ясельные, аккуратно сложены в дальнем углу. Фредерика читает лекцию. Ей неспокойно: она понятия не имеет, кто перед ней, зачем они здесь, эти незнакомцы, собравшиеся с разных улиц Лондона после рабочего дня или дня хлопот по хозяйству, – незнакомцы, которым хочется узнать о послевоенной британской беллетристике, потому что, быть может, они и сами хотят писать, или, быть может, ищут тему для застольных бесед, или, возможно, отчаянно ищут встречи с кем-то, хоть с кем-нибудь, и разговор о послевоенной британской беллетристике представляется им достойным звуковым сопровождением, или, возможно, для них это случай вырваться из домашнего заточения, или, быть может, так они надеются изменить себя, стать кем-нибудь или кем-то другим…
На первой лекции учебная группа никакая не группа: если бы Фредерика с самого начала знала имена студентов и выяснила о них побольше, она пришла бы к выводу, что при такой пестроте группа из них не получится. Она берет список студентов.
Розмари Белл (миловидная, смуглая, худощавая, ведает выдачей социальных пособий в бухгалтерии больницы).
Дороти Бриттен (полнотелая, секретарь редакции журнала «Женский уголок»).
Аманда Харвилл (загорелая подтянутая красотка, порядком за сорок, без определенных занятий).
Хамфри Меггс (мужчина в голубом джемпере, который оказался чиновником Министерства социального обеспечения).
Годфри и Одри Мортимер (супруги, на пенсии).
Рональд Мокстон (водитель такси).
Джордж Мерфи (брокер).
Ибрагим Мустафа (аспирант).
Лина Ниссбаум (безработная секретарша).
Джон Оттокар (компьютерный программист).
Сестра Перпетуя (монахиня и учительница).
Элис Саммервил (бывшая сотрудница госадминистрации).
Гислен Тодд (молодая женщина-психоаналитик).
Уна Уинтерсон (домохозяйка, мать четырех детей).
Преподавание для Фредерики дело новое, но хоть она и зарекалась преподавать, это занятие у нее в крови. Она читает лекцию, а сама оглядывает ряд за рядом. Двое в деловых костюмах вместе сидят позади (позже будут сидеть порознь). Один брюнет, другой блондин. Брюнет смотрит ей в глаза с задиристой ухмылкой. Блондин разглядывает свои колени. Супруги одобрительно улыбаются. Полнотелая слушает лучше всех, видно, что она улавливает композиционный ритм рассуждений Фредерики. Раскрашенные веки Аманды Харвилл поднимаются и опускаются, поднимаются и опускаются, у нее взгляд заинтересованной слушательницы, но слушает ли она в самом деле, не понять. Рональд Мокстон и Лина Ниссбаум все время ерзают. Сильнее всего ерзает Лина Ниссбаум, особа с копной кудряшек, крашенных хной, она то и дело издает губами хлопающий звук. Сестра Перпетуя и Хамфри Меггс, прирожденные слушатели, неподвижно сидят бок о бок с видом благодарным и задумчивым. Фредерика старательно подмечает признаки интереса или неприятия. Увлеченность каждого – нить для сети, которую она сплетает: при упоминании Кафки Гислен Тодд на миг оживляется, снова про Кафку – и Фредерика ловит на себе ее взгляд. Шаг за шагом, и – если не считать выхлопов Лины Ниссбаум и потупленных глаз блондина Джона Оттокара – увлеченности переплетены. Хоть и не сразу, но следуют вопросы: дружелюбный вопрос Одри Мортимер, профессиональный вопрос Хамфри Меггса, который явно прочитал все предусмотренные курсом послевоенные британские романы, каверзный вопрос Дороти Бриттен, заданный с целью наэлектризовать обстановку, не лишенный ехидства вопрос Джорджа Мерфи, уловившего противоречие в кратком отступлении Фредерики о государстве всеобщего благоденствия. Говорят с ней, не друг с другом. Она переадресует осторожное замечание Розмари Белл колючему мистеру Мерфи, и те обмениваются зачатками мыслей о влиянии государства всеобщего благоденствия на британцев и послевоенную британскую беллетристику. Узелки завязаны. Студенты отправляются в столовую, едят, пьют, присматриваются друг к другу, задают вопросы: «А чем вы занимаетесь?», «Что вы думаете о Чарльзе Сноу?», «Вы смотрели „Марат/Сад“?». Только с монахиней никто не заговаривает, но она попивает себе чай и нисколько этим не обескуражена. Фредерика возбужденно оглядывает их и словно глазам не верит. Вспоминаются и Оливия, и Розалинда, и Пиппи Маммотт, и фруктовый сад, и дом-крепость. Сидящая рядом Уна Уинтерсон, тихая, симпатичная, завязывает с Фредерикой светский разговор: замужем ли она, есть ли дети? Это Фредерика ни с кем обсуждать не собирается, она раздраженно поворачивается к собеседнице и видит округлое, покривившееся от волнения лицо.
– У меня четверо, все время на них уходит, сегодня в первый раз за тринадцать лет выбралась из дому одна. Я раньше училась в университете, писала выпускную работу по классической литературе, но не закончила: вышла замуж, и Майк – мой муж – сказал, что это ни к чему. Я так надеюсь, что не разучилась думать. А иногда страшно: вдруг разучилась? Иногда, знаете, кажется, что ни за что не решусь высказывать свои мысли на занятиях, так что эти посиделки в столовой очень кстати. Жаль, кофе не очень.
Со временем в классе, как во всяком коллективе, возникают свои симпатии и антипатии, свои компании и козлы отпущения, точки схождения и линии раздела, где будут бушевать яростные споры. Фредерика с таким еще не сталкивалась, она чувствует, что группу надо сплотить, и это в некоторой степени зависит от нее – той, кто в течение часа читает им лекцию, а после перерыва, проведенного с ними в столовой, слушает их и старается убедиться, что они все усвоили.
Взрослые вечерники не похожи на молодых студентов дневных отделений. Они на «ты» с тем, что у них называется реальностью, с жизнью, где у них, в первую очередь, есть работа и притом имеется опыт по части других событий: брак, рождение ребенка, смерть, успехи, неудачи – для молодых это фантазии, о которых они судят по книгам. Взрослые имеют обыкновение поверять книги жизнью и находят в них недостатки. «Я уржался, – говорит таксист о сцене с прожженным одеялом в „Везунчике Джиме“[128]. – За каким чертом мне мурыжить этот бред?» Брокер Джордж Мерфи с шутливым возмущением вопрошает, почему темы романов касаются столь немногих сторон жизни: «кухня, извините за выражение, „массмедиа“, университетская братия, шуры-муры».
– Вы только вдумайтесь! – восклицает он. – Посмотрите, что на свете делается: многонациональные корпорации, открытие ДНК, во Вьетнаме людей убивают совершенно новыми способами, человек в космос полетел, а в романах про это, похоже, ни слова. Сдались они мне!
– Но ведь сдались зачем-то. Вы же на курс ходите.
Он улыбается:
– Я сюда поступил, чтобы научиться ремонтировать свой мотоцикл. Еще за десять шиллингов можно было записаться и на другой курс. Вот я этот и выбрал.
– А почему не уходите?
– Да люблю, знаете, поразмышлять о жизни, о смерти, о сексе. Надеюсь, и о них речь зайдет.
Примерно в половине семестра Фредерика читает лекцию «Ностальгия по Толстому». Материалы – тексты Айрис Мердок и Дорис Лессинг, которые резко критикуют фрагментарность современной прозы и вызванную ею ограниченность и примитивность авторской моральной позиции. Воспользовавшись случаем, взрослые, которые охотнее рассуждают о персонажах так, будто это реальные личности, наседают на Фредерику: почему бы им не заняться Толстым? Почему бы, спрашивает Дороти Бриттен, не читать Толстого и Достоевского, Джордж Элиот и Томаса Манна, «Госпожу Бовари» и Пруста? Договариваются, что в следующем семестре так и будет. Фредерика еще не знает, чем это решение обернется.
Фредерика сидит в комнате для отдыха преподавателей в училище Сэмюэла Палмера со своим добрым другом Аланом Мелвиллом. Рассказывает о занятиях в Институте Крэбба Робинсона, о «Ностальгии по Толстому».
– Любопытно, что трения во всех группах имеют, между прочим, и сексуальную подоплеку, – замечает она.
Смерив ее взглядом, Алан не без удовольствия произносит со своим шотландским выговором:
– То-то у тебя, кажется, дело заладилось. Ты все больше похожа на прежнюю Фредерику. Они там все в тебя не повлюблялись?
– Есть там один писаный красавец, но он все время молчит.
– Я же не спрашиваю, влюблена ли ты в кого-то из них. Это уж последнее дело. Имей в виду: они все поголовно в тебя влюбятся, в группах это закон природы, но ты это близко к сердцу не принимай.
– Мы и после занятий теперь группой собираемся, в пабе. Сначала – несколько человек, своей компанией, потом пригласили меня, а я стараюсь затащить всех, не только самых компанейских и самых серьезных.
– Вот это интуиция! Ты педагог от Бога.
– Ну уж. Это так, подработка. Снова строю грандиозные планы, хотя и не знаю зачем. Таких дел понаделаю…
Смеются. Как же это здорово, думает Фредерика, когда у тебя есть друг-мужчина. Она разглядывает его красивое, ладно слепленное лицо: обаятельный, сексуально привлекательный, но у нее хватает ума не терять голову – она догадывается, не догадываясь, откуда пришла догадка, что как друг Алан долго будет ей в радость, но Алан-любовник – беда. Как она поняла, что беда, по каким безотчетным подозрениям, по каким умолчаниям и унылым паузам?
– Как я тебя люблю, Алан, – произносит она.
– Мне и нужно, чтобы меня любили. Приходи ко мне на лекцию о Вермеере, после кофе. Отличная лекция получилась. Приходи, буду рад.
Сзади подходит художник Десмонд Булл. Он тоже шотландец, крепкий, кряжистый, с рыжими бровями вроде мохнатых гусениц, тяжелой щетинистой челюстью и цепкими голубыми глазами, в редких золотисто-огненных волосах проступает, не говоря худого слова, тонзура. Рубаха на груди распахнута, под ней пламенеют густые курчавые волосы. На нем свалявшийся, расползающийся жакет, когда-то, видимо, синий, но вылинявший до невразумительности.
– Приду, Алан, приду посмотреть твои слайды с Вермеером. Обязательно приду.
– Я вот думаю, не устроиться ли на постоянную работу в «Сотбис», – говорит Алан вроде бы ни с того ни с сего. – Разбогатею. И никаких тебе ритуалов в классе.
– Ритуалов? – недоумевает Фредерика
– Хеппенингов. Хеппенинги в старинном вкусе, затея Блая. Заклинание духов. Как у «Золотой Зари»[129], только пожиже… А вот и он.
Подходит улыбающийся Блай, в руках у него керамическая чашка в японском стиле с чем-то, напоминающим травяной чай. Преподавательская – ни дать ни взять запасник для всякого рода работ студентов: полосатый, как зебра, диван, скамья из алого пластика, очень удобные стальные стулья а-ля баухаус с кожаными сиденьями и спинками. Стены увешаны картинами, в выборе которых нашлось место всем предпочтениям нынешних студентов: две прекрасные абстрактные композиции из цветных ячеек, выполненные акриловыми красками, большое абстрактное полотно с вихрящейся серой дымкой, сумрачный зеленый парк с человеческими фигурами из палочек: что-то от Сёра, что-то от Нольде, мистическое изображение летящих людей в остроконечных шляпах. Здесь же репродукция линнелловского портрета Сэмюэла Палмера[130], несколько смахивающего на фермера, две репродукции картин самого Палмера: овцы, облака, сумерки, свет, деревья, отчетливость линий и загадочность растворяющегося за ними пространства. Кофейники разные: один – работы студентов-ювелиров, серебряный, ручной чеканки, с крышкой, увенчанной причудливой шишечкой из розового агата; другой – стальной, строгий, без вычур, работа промышленных дизайнеров, льется из него плохо. Чашки тоже разные: одни тяжелые, керамические, другие – из тончайшего фарфора, по форме – то комичные обезьяны, то кривобокие кочаны капусты, то шары, покрытые красной глазурью.
– Хвалят ваши занятия, – сообщает Блай Фредерике. – Студентам нравится.
– Приятно слышать.
– Вы, говорят, в издательстве работаете?
– Да, вечерами рукописи рецензирую. В основном чепуха.
– Мне нужен издатель. Я тут книгу написал. Книгу, смею думать, необычную – такие, увы, пристраивать дело хлопотное. Вы бы не согласились почитать?
Фредерика отвечает, что почтет за честь, и добавляет, что в издательском деле не очень разбирается – ну просто ничего не понимает, так что ее мнение не так уж и важно.
– Но ведь какое-то представление о том, что происходит в коммерческом мире, вы имеете. Вы ведь знаете историю Толкина. Издательство не хотело печатать «Властелина колец», сбросились и издали на акционерных началах – порадовать профессора, – а теперь профессор в деньгах купается. Коммерсантам невдомек, как читатели обожают истории о романтическом и загадочном.
– Да-да, согласна, – кивает Фредерика, наблюдая сквозь стеклянную столешницу, как Блай в порыве энтузиазма сучит ногами.
– У меня через десять минут лекция, – говорит Алан. – Пойду разберусь со слайдами.
– И не забудьте захватить журнал посещаемости, – напоминает Блай. – Не будут ходить на лекции по истории искусства – не получат диплом. Такое правило.
– Знаю, – бросает Алан.
В лекционном зале он раскладывает слайды по порядку. Десмонд Булл и Фредерика сидят рядом под самым диапроектором. Подходит время начинать, приходит, проходит – студентов нет. Десять минут спустя дверь отворяется и впускает Джуда Мейсона в полном облачении: на нем тот же грязный голубой камзол и темно-синие штаны в обтяжку. Ни на кого не глядя, ни к кому не обращаясь, он садится подальше от Алана, Десмонда Булла и Фредерики, в первом ряду, поправляет полы камзола, подается вперед, складывает руки и склоняет голову, словно в церкви.
– Так я и думал, – буркает Алан.
– Ну мы-то здесь, – говорит Булл. – Даешь Вермеера.
– Я в Кембридже на лекции в одиннадцать никогда не ходила, – рассудительно замечает Фредерика. – Из-за них утром не поработаешь.
– Вот и я так делал, – говорит Алан, педантично отмечая в журнале отсутствующих.
– Есть у них такой пунктик, – объясняет Булл. – Дескать, прошлое штука опасная, просто-таки гибель. Дескать, из-за него прости-прощай собственная оригинальность. Дескать, всякие теоретические выкладки во вред искусству. Главное – порвать с прошлым, совершить переворот, создать новый мир.
– Уж Вермеер-то, по-моему, на душителя свободы творчества никак не похож, – возражает Фредерика.
– Наверно, душитель я, – говорит Алан. – Я им показываю, что он на краешке картины решал технические задачи, ради которых они замахиваются на грандиозные полотна с претензией, а он решит задачу и переходит к другой, к третьей, к четвертой…
– От размера тоже кое-что зависит, – напоминает Булл.
– Что я, не понимаю? Прекрасно понимаю. Но мне это не очень интересно.
– И чего мы ждем? – скрежещет голос в первом ряду.
И на экране расцветают картины – нет, светлые призраки картин, тонкие цветные оболочки, пронизанные и напоенные светом. На освещенном фоне женщина с кувшином, из которого нескончаемой струйкой льется густое молоко, другая женщина, взвешивающая золотой песок, люди с сосредоточенными лицами, погруженные в размышления, – люди, знающие, думает Фредерика, что этот миг сосредоточенности растянется до бесконечности, по крайней мере за пределы человеческого времени. Геометрия географических карт, ковров, стекол в приоткрытых окнах, опосредующая свет, опосредованная светом. «Вид Дельфта»: желтая прогалина крыши, идеально круглые отблески на каплях-бусинках, усеявших борта баркасов. Взгляд пытливый, спокойный, пристальный, ни тени гнева, обиды, враждебности. Алан показывает, как в создании некоторых световых эффектов помогала камера-обскура. При помощи собственного светового луча и собственных линз он показывает Фредерике и Десмонду Буллу такое, что не видел и сам Вермеер: румянец, готовые раскрыться губы, волосы, отблеск на глазном яблоке при таком увеличении, что они предстают почти как зримые движения несохранившейся кисти, запечатленные в красках. Потом – общий план, и вот уже это женщина в комнате играет на спинете, женщина взвешивает золото, женщина наливает молоко.
Алан заканчивает, раздается скрежещущий голос:
– Пустим слезу, что ли?
К чему сказано, непонятно. Поэтому вопрос повисает в воздухе.
– Вот художники ропщут, – говорит Булл, – искусствоведы ропщут, что сегодня люди только диапозитивы и смотрят, поэтому видят не пигменты, а цветной свет. Мол, видят не то, а потому и понимают не так. Но я убежден: это новое, это реальность, мы видим этот свет, можем что-то из этого извлечь, можем научиться изображать красками прозрачность.
– Они призывают искромсать вермееров и рембрандтов, а то молодые художники в загоне, – говорит Алан. – Столько злости…
– Да просто эдипов комплекс. Скорее всего, – вставляет Фредерика.
– Эдипа мучила совесть, радость моя. А эти мнят, что ведут священную войну. Молодое против старого, отжившего.
– Но ведь они и сами состарятся, – говорит Фредерика.
Наблюдая, как крепчает дух молодости в атмосфере шестидесятых, она удивляется: как эти молодые не уразумеют, что молодость дается не навек.
– Как знать, – дребезжит голос. – Они создают магические средства останавливать время. Они изобретают мгновения вне времени, обращают его вспять.
Женщина льет молоко из кувшина. Никогда не отпустит кувшин. Никогда не распрямится заботливая рука.
– Вы думаете, – продолжает Джуд Мейсон, – лет через тысячу… ладно, буду скромнее: через двести… что через двести лет мои сухощавые конечности и неумытая физия будут сиять на экранах кинотеатров будущего?
– К вашему сведению, – парирует Булл, – все ваши изображения созданы из материалов, обреченных на устаревание.
– Литература надежнее, – говорит Джуд Мейсон. – Хотите увековечиться – пишите книгу. Я пишу.
– Кто их сегодня не пишет! – замечает Фредерика, с душевным стоном вспомнив о Ричмонде Блае.
Фредерике ясно: Булл к ней неравнодушен. Но гордиться особенно нечем: он явно неравнодушен и к доброй половине студенток, не говоря уж о некоторых преподавательницах. И все же из-за этого в сегодняшнем раздается эхо вчерашнего: своего рода готовность ко всякому. Он заглядывает в ее кабинетик-выгородку в студии, где студенты все еще колдуют над серым телом Джуда в цветоперегонном кубе.
– Хочешь как-нибудь в обед съездить посмотреть мои работы? У меня студия в Клеркенвелле, я отвезу.
– Мне надо домой, к сыну. Стараюсь обедать дома.
– Ненадолго. Тебе понравится. Сыну ты и так всю жизнь посвящаешь.
– Нельзя мне.
– Нельзя, а поедешь.
И она едет. Он покупает французский батон, салями, бутылку вальполичеллы, и они садятся в его автофургон. Ясно, что он так частенько. Только женщины разные. Ну и пусть. Булл ей нравится, нравится, как он, задумываясь, морщит лоб. Сидя с ним в машине, где душок чеснока спорит с крепким запахом выхлопных газов и еще более крепкими запахами скипидара и растворителя для красок, исходящими от Булла, Фредерика с неудовольствием размышляет о том, что в смысле феромонов живописцы народ неавантажный. Улыбка Булла, сильное его тело, проворные руки такие славные, но пахнет от него… Она сидит рядом с ним, приосанившись. Разговаривают о Джуде Мейсоне.
– Где он живет, никому не известно, – рассказывает Булл. – Почту ему посылают куда-то в Сохо, до востребования. Ты, наверно, думаешь: какое убожество, – хотя грязь и все такое его стиль, тут он в своем праве. Но дело не так просто: у него есть своего рода принципы. Блай считает, что он ненормальный
– А по-моему, это Блай ненормальный.
Фредерику подмывает рассказать про «Серебряное Судно» – нет, не стоит.
– Что есть, то есть. Почище Блейка. Малохольный какой-то.
Студия Булла – две большие комнаты над складом, куда надо подниматься по железной лестнице. Запах растворителя здесь такой нестерпимый, что отбивает у Фредерики всякий аппетит. При всей просторности помещения жилого места тут мало: вдоль стен в несколько рядов расставлены холсты на подрамниках. Посреди каждой комнаты – двуспальный матрас, на нем смятые подушки и яркие одеяла со скандинавским орнаментом. В одной комнате стоит кухонная плита, на полу электрический чайник. В другой – крошечный холодильник.
– Садись, располагайся. Тут только самое необходимое. Хочешь – вечеринки устраивай, хочешь – занимайся интимными обжиманцами. Я это помещение называю «Душевный Разлад Десмонда Булла». Налево – живопись современная, постраушенберговская[131], направо – работы европейца шотландского происхождения, угрызаемого хранителя художественных устоев. Где тебе больше нравится?
– Откуда я знаю? Картины стоят лицом к стене.
– Перевернуть?
– Я же и пришла посмотреть, правда?
Десмонд Булл откупоривает бутылку, наливает красного вина в пластиковый стакан, протягивает Фредерике. Вино так себе. Кисловато. Одной рукой он обнимает ее за плечи:
– Ну, как говорится, «Заходите, барышня, посмотреть картинки». Давай посидим, поболтаем, то да сё, выпьем, а потом подумаем о работе.
Он кладет ей руку на грудь. Она дружески прикрывает его руку своей. Тело ее готово отозваться. Но обожженное нутро противится вспышками боли и стыда. Пропахший скипидаром Десмонд Булл нежно целует ее.
– Мне сейчас не до этого, – отмахивается Фредерика. – Именно сейчас, это от нас не уйдет. Я хочу посмотреть твои работы. За тем и пришла.
Булл на мгновение теряется. Фредерика мысленно посмеивается: предстать перед Фредерикой нагишом ему было бы не так конфузно, как показать сокровенные изображения. И еще: при мысли о сексе, о самой его возможности она в собственных глазах превратилась в девочку, ту самую девочку (в подобную минуту), а когда они просто беседуют, она взрослая личность.
– Ну-с, с чего начнем? – спрашивает Булл и добавляет: – У меня к этому делу отношение такое… личное, что ли. Пишу на продажу, но работаю наедине с собой, работаю как бешеный. Пишу сам для себя, а потом их увезут, выставят напоказ, будут смотреть… У меня что-то вроде раздвоения личности. Комплекс.
Это слово сегодня в моде. Но когда он переворачивает картины, Фредерика понимает, что он имеет в виду.
Картины в левой комнате писал человек, считающий, что искусство – это все и все на свете может считаться искусством. Взгляд на искусство как на свалку всякой всячины. На одном холсте скручиваются кольцами электрические провода, выведенные густо, густо до рельефности, оголенные и цветные: толстые красные сплетаются с толстыми черными, вьются пухлые синие кабели, оранжевые, коричневые, ядовито-желтые, свиваются в гнезда, спутываются то в виде заграждений из колючей проволоки, то в виде роз в плакатном стиле. Другое полотно – ряды камешков.
– По одному из каждого сада при каждом доме на улице, где живет моя мать. Каждый камешек – какой-нибудь сад в нашей округе. Этот крупный, зеленый. Вон тот чахлый, бурый, в красноту отдает. Расположены как сады, где их подобрали.
Помолчав, продолжает:
– Тот – серый, неказистый: хозяйка дома вечно ходит в бигуди, у нее рак. Тот, что вроде кварца, – сексапильная блондиночка, то и дело выскакивает на улицу в ночной рубашке.
– И как, по-твоему, я должна это разглядеть?
– Никак. Но я рассказал, и ты знаешь, ведь так? И никуда тебе от этого знания не деться. Но ты полюбуйся, какие камешки, какие тонкие оттенки, какое разнообразие цветов… Мне нравится вот этот, кроваво-красный, с синими крапинками: эта дамочка носит убожеские разбитые желтые туфли на высоком каблуке, ковыляет и щеголяет. У каждого камешка свой номер – номер дома.
– Какой из них твоя мать?
– Лучше спроси так: выделил ли я ее в этом ряду камней, – который моя мать?
– Номер сорок два – сухое дынное семечко. Остальное камни. Вывод: твоя мать – номер сорок два.
– У нее еще и рак. Рак яичников. Жухнет, сохнет. Я же говорю: это все личное.
– Но это все равно только камешки, – стоит на своем Фредерика. – Если бы ты не сказал, как бы я догадалась?
Десмонд Булл поворачивает и поворачивает полотна, студию заполняют новые и новые цвета, формы, предметы, становится еще теснее. Вот аляповатый, но, как ни странно, приятный коллаж из рубашек в цветочек, распластанных по холсту: желтые маргаритки на голубом, красные маки на розовом, пурпурный гибискус на рыжем.
– С ума сойти от такой цветовой гаммы, – говорит он. – Вырвиглаз, как на витрине, правда?
Еще полотна, еще, еще. Черные, белые, одни глянцевитые, монохромные, другие разноцветные, но замазанные черным или белым, лишь кое-где проглядывает багровое крыло бабочки, притушеванный бок аппетитного зеленого яблока, покажется из-под черного желтизна охры, проступит сквозь дымку индиго.
– Раушенберг уничтожил картины де Кунинга[132], закрашивал их. На том основании, что искусства на свете полно, талантов полно, твори что вздумается, так, как ты в эту минуту видишь. Это все мои уничтоженные работы. Мои прошлые картины, мятущиеся под черным и белым. Кое-какие помню. Вон недурной кубистический автопортрет, это, по-моему, сад в духе Боннара, вид из окна – не удалось изгнать подражательность… Ну да, видишь: под черным ветка цветущей яблони.
– Ты уничтожил, потому что нравились или не нравились?
– И то и другое. И то и другое… Одними прямо гордился, другие терпеть не мог.
– Очень уж это умозрительно.
– Да. Но здесь не только ум, но и сердце. Вот почему меня это затягивает, почему я этим занимаюсь… Это воплощение идеи, что искусство – это все и все на свете – искусство… Немного похоже на действие ЛСД: мир то взрывается миллионами искорок-смыслов, то стягивается в одну точку… А от постели ты напрасно отказалась. Помогает снять напряжение.
– Хорошенький повод для секса.
Фредерика сама удивляется, почему ей не дают покоя загадочные-заурядные камешки.
– Эти камешки: дело в том, что, если я не загляну к тебе в голову, они мне ни к чему. Могу разве что выложить собственный ряд. Обойтись так с чем угодно. С рубашками, или сделать коллаж из шоколадных оберток, понимаешь?
– Мои камешки ты не забудешь.
– Не забуду, – подтверждает Фредерика не без раздражения. – Уж конечно не забуду.
И не забывает.
– Камешки из чужих рук не годятся. И другие предметы тоже, – объясняет Булл. – Мне одна подружка сумками таскала рубашки, подбирала по моему вкусу. Вот я из ее приношений и соорудил коллаж – взял по рубашке за каждый перепихон, но получилось не бог весть что.
Бутылка опустела, откупоривают другую – завалялась в постельном белье, – и Десмонд Булл переходит во вторую комнату. На этот раз он больше молчит, расхаживает от стены к стене и, кряхтя, переставляет подрамники; пояснения сводятся к короткому: «Маски. Еще маски. Еще маски. Горящие маски».
Молчит и Фредерика. Она не так хорошо разбирается в живописи, и рассуждать об этих картинах, даже мысленно их оценить ей не под силу. За время работы в училище она убедилась: высказываться на эту тему – за это ей лучше не браться, хотя фигуры в масках на это так и напрашиваются. Вид у них жутковатый: сочлененные скелеты или шарнирные манекены в масках – модели для художников, – явственно выражающие ужас, восторг, старческий распад, зазывно улыбающиеся, перекошенные в эротическом пароксизме, но – изображения плоскостные, узор из умело наложенных мазков, скопление сопряженных поверхностей или поток летучих семян, которые при ином освещении – свете на картине, изображенном красками, – предстают зияющими глазницами. Цвета где сдержанные, где безудержные: красный, пламенный, золотой, синий, как у Веронезе. А где-то иссиня-розовый на мелово-белом, цвет свечного воска, местами тронутый кровянисто-розовым, там желтая рука, тут небесной голубизны нога…
– Это о невозможности фигуративной живописи, – объясняет Булл.
– О том, каково человеческому телу оказаться в беспредметном мире, – догадывается Фредерика, уловив его мысль.
– Я для себя формулировал немного иначе. Но хорошо сказано. Выпей еще.
– Красивые оттенки розового.
– Это от Энсора[133]. Розовый цвет у него потрясающий. Ты, может, скажешь, что и маски от Энсора, но они и мои: я пишу не энсоровский кровожадный карнавал, у меня это от греческой трагедии: выявление скрытого.
– Как если бы закрашенные картины подали голос, – увлеченно подхватывает Фредерика.
Булл смотрит на нее пристально:
– Что-то в этом роде. Ты умница… Приходи как-нибудь, когда тебе будет «до этого», – перепихнемся так, знаешь, по-приятельски.
Шальная мысль: можно ли перепихиваться с закрашенной картиной? А резвящийся нагишом попрыгунчик – не маска ли, скрывающая пытливый-пытливый взгляд и ум, старающийся разобраться?
– Мне пора к сыну, – говорит она. – Рада была посмотреть твои работы.
В Блумсбери Фредерика застает Лео в дружеской компании с Томасом Пулом и Саймоном. Навстречу ей он не бросается – так он ее наказывает, – отводит глаза, во взгляде читается тревога и карающий гнев. Пул поглядывает на нее так, словно вожделеет.
– Звонил мистер Жако, – докладывает он. – И Хью Роуз. Ты нарасхват. А еще Тони Уотсон. Кажется, ему удалось устроить тебя рецензентом в «Нью стейтсмен».
– Это хорошо… Устала я.
– Сейчас дам кофе. Сиди, я принесу.
Он поднимается. Фредерику мучает совесть. Она должна была вернуться пару часов назад. Томас Пул уходит на кухню, мимоходом погладив ее по голове.
– Я некоторых людей прямо ненавижу, – ворчит Лео.
– Каких? Кого ты ненавидишь?
Лео не отвечает. Помолчав, объясняет:
– Мне не нравится, когда я не знаю, кто где. Я люблю, когда все там, где я знаю. В Брэн-Хаусе я всегда знал, кто где.
– Я же ухожу ненадолго. И всегда возвращаюсь. Нам ведь надо на что-то жить, вот я и зарабатываю.
– Раньше было на что.
Что тут ответишь? Он подвигается к ней и обхватывает за талию.
– Ничего, – отвечает он за нее.
Она прижимается лбом к его голове. Вдыхает запах его волос. Выбора нет. Ей вдруг вспоминается фильм, где собака с хорошим чутьем, не то полагаясь на нюх, не то по силовым линиям магнитного поля, пробегает сотни миль и находит-таки то, что ей знакомо и дорого. Даже в комнате, где таких головок полным-полно, Фредерика различит запах этих волос. Услышит эту ноту среди множества звуков. Он для нее все. Может, она сделала бы другой выбор, но что сделано, то сделано. Теперь это истина непреложнее всякой другой. Любовь такая бешеная, что не отличить от противоположного чувства.
– Мы ненавидим тех, кого любим, – говорит Фредерика. – Такое бывает.
VIII
На Рождество Фредерика, Лео и Дэниел отправляются на север к своим. Они сидят в переполненном поезде, со стороны – муж, жена и ребенок. Томас Пул обиделся, что Фредерика и Лео не остались в Блумсбери, чтобы встретить Рождество по-семейному. Ну да что за Рождество без обид. Фредерика и Дэниел со страхом возвращаются в семью, где нет Стефани. К тому же Фредерика понимает, что обошлась с родителями скверно, Лео они ни разу не видели. В Калверли их встречает Маркус и везет во Фрейгарт. Сейчас он вопреки обыкновению немногословен. Они едут по широкому шоссе через пустоши, и сердце у Фредерики замирает: хмурая местность, сумерки, равнины, открытые всем ветрам, – вот он, север, ее родина.
Новый дом поражает Фредерику своей красотой. На крыльце их встречает не Билл, а Уинифред. Она непритворно рада, улыбается, всхлипывает:
– Фредерика, Лео… – Она нежно гладит их обоих: в прежнее время она бы крепилась, держалась бесстрастно.
Из-за спины Уинифред выскакивает Мэри и мчится навстречу Дэниелу, тот хватает ее и поднимает в воздух. Позади Уинифред стоит Билл. Он кажется теперь ниже ростом, бледнее, воинственности поубавилось; он ждет, как поведет себя Фредерика. Та подбегает, целует и его. Маркус разносит багаж по хорошеньким спальням с видом на пустошь. Все смутно понимают, что приезд Фредерики после долгой обиды или просто нежелания видеться с родителями – это и возвращение дочери в лоно семьи, и все же не возвращение. Стефани не вернется. Уинифред обнимает Дэниела. Билл жмет ему руку. С радостными восклицаниями, задыхаясь от возбуждения, все переходят в гостиную, где в сумраке зимнего вечера сияет разноцветными огнями – зелеными, красными, белыми, синими, золотистыми – высокая рождественская елка, которую Мэри и Уинифред украсили шестиугольниками и многогранниками из золоченой проволоки: одиннадцать лет назад их смастерил Маркус для елки Стефани.
Возле елки стоит сын Дэниела Уилл, десятилетний мальчуган с темными, как у отца, волосами и темными испытующими глазами. На отца смотрит настороженно, исподлобья. Дэниел хочет его обнять и поцеловать, но Уилл уклоняется. Дэниел отходит от него.
– Уилл, ты меня помнишь? – спрашивает Фредерика.
– Более-менее, – отвечает Уилл; у него получается до смешного похоже на Дэниела.
Уинифред привозит сервировочный столик с угощением. Тут чай в серебряном чайнике, подаренном ей на свадьбу, и сэндвичи с мясным паштетом, яйцом и кресс-салатом, и горячие сладкие пирожки, и огромный рождественский пирог.
– Мы вместе делали, – рассказывает Мэри Дэниелу. – Бабушка, Уилл и я. Месили, месили, а потом оставили на несколько месяцев, чтобы пропитался как следует: там много бренди и всяких вкусных пряностей. Всех ждали сегодня и вчера покрыли глазурью и украсили. Нарисовали по краям первые буквы наших имен: Б, и У, и Ф, и М, и Д и снова У, и М, и Л – это Лео, – и вокруг каждой буквы серебряные шарики, а на буквах розочки, а посредине пустошь в снегу, и Файлингдейлская система раннего оповещения – это Уилл выдумал, чуднó… И деревья в снегу, и озера подо льдом, а там ручей и утесы… Жаклин сказала, файлингдейлские шары не нужны, а Маркус сказал: пускай, там ведь они есть… Они из глазури, славные, можно скушать.
Дэниел говорит, что пирог красивый, и это правда. Уинифред некстати замечает, что в пироге ничего религиозного. Но Мэри спешит сообщить, что в канун Рождества они все пойдут в деревенскую церковь.
– Не на всенощную, а на вечернюю службу, на нее всей семьей приходят, и школьные учителя тоже. Мы там рождественские песни поем – я пою хорошо, – все пойдут. Кроме дедушки, понятно.
К чаю приезжает Жаклин Уинуор, привозит всем подарки под елку. Ее сопровождает доктор Лук Люсгор-Павлинс, генетик, вместе с которым она наблюдает за популяцией улиток, полудатчанин-полуйоркширец, человек с торчащей вперед квадратной бородкой и золотисто-рыжими волосами, из-под нависших бровей смотрят темно-синие глаза. На Жаклин, юную приятельницу Маркуса, Фредерика раньше особо внимания не обращала, она мыслилась только в паре с другой его приятельницей, Руфью: Руфь и Жаклин, блондинка и шатенка, набожные девицы из числа Юных христиан Гидеона Фаррара. Жаклин помнилась ей миловидной длинноногой девушкой с длинными прядями волос, в больших круглых очках. Теперь пред ней сухопарая женщина лет двадцати шести: быстрые и точные движения, овальное лицо внимательно, сосредоточенно, шапка блестящих темно-русых волос отливает всеми оттенками. За очками в черной оправе ясный взгляд темно-карих глаз. К ней походит Уилл. Мэри целует ее, Уинифред тоже. Маркус с неподдельным удовольствием произносит: «Джекки…» – рад он видеть и Лука Люсгор-Павлинса. Дэниел расспрашивает про улиток, Лук отвечает, что сейчас у них спячка. Все сидят и непринужденно беседуют, Фредерика наблюдает. Вот Жаклин смотрит на Маркуса, вот Лук Люсгор-Павлинс смотрит на Жаклин, смотрят с особым интересом, но не интересом обладателя – «мое», – а просто более живым, более глубоким. Уинифред хлопотливо потчует Жаклин чаем, пирогом, просвещает насчет рождественских песен. А матери бы хотелось, чтобы Жаклин стала ее дочерью, думает Фредерика. Но Маркус выбрал другую, думает она, особу куда более заурядную и скучную. Медсестра, вспоминает она, вот что ему в ней понравилось. Она смотрит на брата. Тот беседует с Луком Люсгор-Павлинсом. «Энграмма»[134], слышит она, «молекулярная память», слышит какие-то имена: Скроуп, Лайон Боумен, Калдер-Фласс.
– Насчет эксперимента с планариями[135] есть сомнения, – говорит Жаклин. – Кажется, память передается не так.
– Можем повторить, – отвечает Люсгор-Павлинс.
– С улитками бы поработать, – говорит Жаклин. – У них нейроны крупнее. Какой-нибудь эксперимент, чтобы разобраться в химических механизмах памяти…
Фредерика наблюдает за Маркусом. Нет, влечения к этой умнице с темно-русыми волосами он не испытывает. По крайней мере, не заметно – ну да желания Маркуса вообще дело темное. А вот Жаклин нет-нет да и бросит взгляд в его сторону. А Лук Люсгор-Павлинс внимательно поглядывает на Жаклин. Фредерика погружена в размышления о сексе, и ей невдомек, что она слышит первый разговор о том, что окажется крупным вкладом в науку, важном научном эксперименте.
Семьи собираются и разлетаются, думает она. Вот люди, которые так похожи на меня и друг на друга, и так хорошо мне с ними, так радостно. А к концу нам всем станет душно, тесно, тяжело от чужого присутствия.
Раздается шуршание шин и визг тормозов. В дверь звонят. Уинифред открывает и застывает в изумлении. На пороге, решительно приосанясь, стоит Найджел, в темно-синем пальто.
– Я надеюсь, моя жена и сын у вас, – произносит он. – Я им подарки привез, думал, может, не откажутся хотя бы поговорить, как-никак Рождество.
– Да вы проходите, – в замешательстве приглашает Уинифред.
И правда ведь Рождество, а он все-таки муж и отец, и как не пустить гостя. С Найджелом она незнакома и о происшедшем понятия не имеет.
– Я сейчас. – И Найджел приносит из машины две большие картонные коробки в подарочной упаковке: бумага в темно-синюю и серебряную полоску, розетки из бумажных глянцевых лент, синих и серебристых.
Фредерика поднимается, идет к двери и преграждает ему путь в гостиную, где сидит компания, озаренная огнями елки. Он ставит коробки на пол и смотрит на нее в упор, спокойный, готовый действовать, что бы ни произошло. Вот лицо настоящего Найджела, тяжелый-тяжелый взгляд, железная воля, которая разжигает в ней страсть.
– Я решил, нам имеет смысл поговорить, просто поговорить, – объявляет он. – Думаю, ты можешь мне объяснить, что случилось? Думаю, я имею право поздравить сына с Рождеством, ведь так?
Во всем виновата я, напоминает себе Фредерика. И замуж вышла не по большой любви, и ужиться с ним не смогла. При этой мысли она теряется и робеет.
– Не знаю… – отвечает она, все так же его не впуская. – Ни к чему это. Ни к чему.
– Если я тебе не нужен, навязываться не стану, – продолжает Найджел. – Я ненадолго, хотя ехал издалека. У меня две цели: повидаться с сыном и сделать ему подарок, а заодно здраво обсудить с тобой, как нам быть дальше, – хотя бы договориться, где и когда мы сможем это решить. И все. Уж на это я, по-моему, право имею. Да, имею.
Рядом с Фредерикой вырастает Лео. Он бледен, смотрит во все глаза. То на нее, то на него. Найджел протягивает к нему руки, Лео косится на мать, та кивает – утвердительно? Сочувственно? Оставив мать, он подходит к отцу. Тот подхватывает его на руки. Подхватывает и утыкается носом в яркие волосы, запах которых для Фредерики – всё. Слезы стоят в глазах Найджела.
– Как же я по тебе скучал, – говорит он.
Лео обнимает отца за шею и запускает руку под его воротник. Оглядывается на Фредерику: она видит свое бледное, угловатое лицо, а на нем черные глаза Найджела. Она вот-вот потеряет сознание. Умрет.
– Снимай пальто, – говорит Лео.
– Заходи, – с трудом переставляя каменные ноги, Фредерика отступает от двери. – Заходи, знакомься с моими. Раз Рождество… Моего отца ты знаешь. Это моя мать, – представляет она, – мой брат Маркус, Дэниел, шурин, это Уилл, Мэри, это наш приятель доктор Лук Люсгор-Павлинс, это Жаклин, приятельница.
– Я пойду, – говорит Лук Люсгор-Павлинс.
– Не уходите, – говорит Фредерика. – С чего так рано расходиться? Найджел только подарки привез, он не задержится, не надо никому уходить.
Тон у нее такой резкий, что всем и уйти хочется, и уступить ее просьбе. Все остаются. Лук Люсгор-Павлинс и Жаклин не трогаются с места. Уинифред берет у Найджела пальто, подает ему чай и пирог. Лео сидит у него на коленке, одной рукой обхватив за шею. Билл и Найджел, глядя друг на друга с любопытством, обмениваются учтивыми кивками, кивает Найджел и Дэниелу, тот в ответ одновременно улыбается и хмурится. Все молчат, тогда Найджел сообщает:
– У меня тут подарки для Фредерики и Лео. Может, они посмотрят, а то мне скоро ехать.
И, глядя на Уилла, просит:
– Там в коридоре две коробки, ты не принесешь?
Уилл выполняет просьбу. Найджел предлагает Лео открыть коробку. Тем же истошно задушевным голосом он велит Уиллу помочь Лео. Уилл помогает. Коробка открыта. Из нее извлекается электрическая модель железной дороги фирмы «Хорнби», игрушка – загляденье: паровоз «Летучий Шотландец», вагончики, товарные платформы, поворотный круг, вокзал, семафоры, стрелки.
– Он еще маленький, – говорит Уилл. На Найджела он смотрит почти сердито.
– Нет! – Лео прижимает паровоз к себе. – Это мое!
– Ты ведь ему поможешь собрать, объяснишь, что к чему? – обращается Найджел к Уиллу. – Он уже в таком возрасте, что, если ему помочь, объяснить, показать, он справится.
Он улыбается Уиллу своей ласковой полуулыбкой:
– Будь другом. Я бы и сам не прочь – на Рождество отцы обожают играть с детьми в железные дороги, – но к Рождеству меня уже здесь не будет. А ты будешь.
Худо-бедно клочок территории отвоеван. Найджел обращается к Фредерике:
– Может, и ты свою коробку откроешь?
– Положу под елку с другими подарками. Придет Рождество – открою.
– Нет, сейчас, – настаивает Найджел. – Вдруг тебе не понравится и придется увезти. Я же должен знать, нужно тебе это или нет.
«Не нужно! – Фредерика чуть не плачет. – Ничего мне не нужно!»
– Открой, – пристает Лео. – Я хочу посмотреть. Ну открой.
Уилл подносит коробку Фредерике. Она машинально теребит розетки, возится с упаковкой. Лео слезает с колена отца и приходит на помощь. Шуршит глянцевая бумага. Коробка большая, из прочного картона, внутри прокладка из серебряной с розовым папиросной бумаги. Под ней платье. Платье цвета антрацита с высоким воротником-стойкой и высокими узкими манжетами на длинных рукавах. Манжеты украшены красной шелковой тесьмой, переплетающейся с вышивкой. Рисунок очень простой, но роскошный. И само платье: длинная прямая туника и из-под нее чуть расклешенная юбка. Похоже… да, так и есть: от Куррежа! Как все рыжеволосые женщины, Фредерика не носит красного, но есть один оттенок – чистая темная киноварь, – от которого рыжие волосы горят пламенем, а россыпь веснушек отливает золотом. Отделка платья именно такого цвета.
От растерянности все онемели. Уинифред сидит в плотной зеленой трикотажной кофточке с отложным воротником и твидовой юбке, Жаклин – в темно-коричневом джемпере в английскую резинку и вельветовых штанах. На самой Фредерике джинсы и клетчатая байковая рубаха.
– Надень, – велит Лео.
– Если что, я обменяю или отдам что-нибудь переделать, – предлагает Найджел.
– Надень! Ну надень! – твердит Лео. – Сейчас же надень, слышишь?
И Фредерика, которая все еще держит крышку, намереваясь закрыть коробку, откладывает ее в сторону, берет платье и выходит переодеться.
– Здесь поблизости, наверно, есть какой-нибудь паб? – спрашивает Найджел Уинифред. – Я бы там заночевал.
– У нас все спальни заняты, – некстати сообщает Уинифред.
– Все до единой, – подтверждает Билл. – Как в Библии: «Нет места в гостинице»[136]. Увы, ни одного.
Возвращается Фредерика в новом платье. В честь его она надела черные колготки и забрала волосы в высокий пучок. Она прекрасна. Красавицей она никогда не была, разве что, оживляясь, излучала обаяние, но сейчас, в наряде от Куррежа, она поистине красавица. Платье сидит как влитое: маленькие высокие груди в своем изысканном вместилище обрисовываются со всей ясностью, ткань с подкладкой из тонкого шелка, обливая тонкие запястья, узкую талию, стройные ляжки, подчеркивает их красоту, создает впечатление их цельности и соразмерности. Фасон необычный – строгий, без вычур, в мужском стиле, юбка кончается выше колен: казалось бы, такая короткая юбка – девчачье что-то, школьный сарафанчик, куклин гардероб, но нет – короткое платье открывает длинные ноги, будь оно хоть на дюйм длиннее, нарушились бы пропорции.
Фредерика стоит неподвижно.
– Красиво, – говорит Лук Люсгор-Павлинс; Найджел посматривает на него настороженно.
– Я не могу это принять, – произносит Фредерика.
Каждый шаг этого ладно скроенного наряда кричит о телесной близости, о том, что Найджел не сомневается: уж он это тело знает до тонкости – как оно устроено, как движется, в чем его естество.
– А еще говорят, мужчины не умеют выбирать вещи для женщин, – рассуждает Найджел, пропустив ее слова мимо ушей. – Если возьмутся с умом, сумеют. Я как увидел эту красную отделку, так сразу и понял: то, что надо. Может, думаю, не подойдет, но рискну. И не промахнулся. Признайся, Фредерика, ты в этом платье немного другая. Я хочу, чтобы ты его носила, – я без всяких… что бы ты ни… о чем бы мы ни договорились. Носи. Это твое. Кто еще сможет так его носить? Вон и Лео нравится, правда?
– Нравится, – говорит Лео.
Уинифред заваривает для зятя, с которым толком не познакомилась, еще чая. Лео сидит у него на колене. Фредерика, прекрасная и нелепая в этой обстановке, не двигается с места. В этом наряде она как в целлофановой упаковке: отдельно ото всех. Она наблюдает за Найджелом с невольным восхищением: кое-что у него получается ловко. Вот он обсуждает с Уинифред, в каком пабе остановиться. Лук Люсгор-Павлинс думает предложить «Великан» в Барроуби, но, покосившись на Фредерику, помалкивает.
– Ты, наверно, можешь и у нас поспать, – предлагает Лео. – Можешь, наверно.
– Ну, это вряд ли, – отвечает Найджел с той же приличной случаю непринужденностью. – На этот раз едва ли.
Из городка доносится бой часов.
– Нам пора, – спохватывается Мэри, – а то на службу опоздаем.
– Без меня, – бросает Билл.
– Да мы знаем, – отмахивается Мэри. – А папа пойдет, и бабушка, и Уилл, и Жаклин, и доктор Люсгор-Павлинс… Вы ведь пойдете?
– Отчего же не пойти? – взгляд на Жаклин.
– Ну, значит, и Маркус. А вы? – Мэри неуверенно смотрит на Фредерику, на Лео, на Найджела.
– Мы в прошлом году петь в церковь ходили, – вспоминает Лео.
– Было дело, – говорит Найджел. – В Спессендборо. Здорово было, правда? Я рождественские песни люблю. Чувствуешь связь с предками. Мои похоронены в Спессендборо.
– Мы не предками держимся, – говорит Билл.
– Предки есть у всех, – замечает Лук Люсгор-Павлинс и изучает лица присутствующих взглядом генетика.
– Пойдем петь, – зовет Лео Найджела. Потом оглядывается на мать, по-прежнему стоящую в новом наряде. – Пойдем с нами.
– Только переоденусь.
– Нет, иди так.
Фредерика все-таки переодевается.
* * *
Все, кроме Билла, надевают пальто и идут через весь Фрейгарт в церковь Святого Кутберта. Здесь они при свечах поют старинные святочные канты: «Придите, правоверные», «Се Младенец нам родился», «Спи-усни, мой славный», «Мы три царя», «Был голос среди ночи ясной», «Плющ и остролист». Лео стоит между родителями, время от времени берет их за руки, разделяет и соединяет. Дэниел стоит между Уиллом и Мэри. Поют так себе, но в пространстве, заключенном в камень, выделяются один-два высоких сладкозвучных голоса, а у Лука Люсгор-Павлинса неробкий, приятный чистый баритон. Изо всех Поттеров хорошо поет только Мэри, у нее светлый маленький голос. Фредерика вспоминает, что от пения в школе было не уйти; теперь ей – взрослой, самостоятельной – не уйти от себя, от последствий своих поступков и решений.
Уинифред плачет: вспомнила дочь, Стефани.
Уилл по матери не плачет: не может.
Найджел со своим басом порой фальшивит, но как подголосок в общем хоре его гудение звучит неплохо.
Дэниел думает о Младенце на соломе. Думает о своем сыне, живущем на свете так недолго, о сыне Марии, бесчеловечно умерщвленном в давние времена. Думает о мертвом лице, о котором обычно не думает, и, вовремя опомнившись, сосредотачивается на пении. «Приносит древо остролист, как кровь, багряный плод. Мария Сына принесла – Он грешных нас спасет».
После возвращения из церкви все как сговорились оставить Найджела и Фредерику потолковать наедине. Фредерика не хочет, но Лук и Жаклин уехали, а домашние разбрелись кто куда: Билл у себя в кабинете, Маркус и Уинифред заворачивают подарки, Дэниел с детьми на кухне моет посуду. Найджел, Фредерика и Лео сидят в сумеречной гостиной. В камине горят дрова.
– Никогда мы не жили в красивом доме, – размышляет Фредерика.
– Слушай, поехали к нам, – предлагает Найджел. – Не в самое Рождество: в Рождество ты, понятно, здесь. Но приезжай в гости – скажем, в День Подарков[137] или на другой день… Как раз охотники съедутся, шествие будет… Поговорим, разберемся. Уголек без Лео истосковался, и Пиппи тоже, и тетя Оливия, и тетя Розалинда. Прямо места себе не находят: Рождество – праздник семейный, а Лео дома нет.
– Здесь мои…
– Я и нашел-то тебя, потому что не сомневался, что ты здесь, потому что семья – это святое. Я теперь понимаю, что ты это понимаешь, я понимаю, что ты понимаешь: Лео надо повидаться со своей семьей.
– Я хочу повидаться с Угольком, – подает голос Лео. – Хочу каждый день с ним видаться. Мама, давай вернемся и повидаем его.
– Не могу, – отвечает Фредерика.
– Ну, на пару дней. Потерпи нас день-другой.
– Не могу. Нельзя. Не могу я вернуться.
Как тут закричишь при Лео, что она сама не рада, что это была чудовищная ошибка, что напрасно она вышла замуж, и теперь все терзаются из-за этого.
– Ладно, – уступает Найджел. – Тогда отпусти к нам Лео. Отвезу его к Пиппи, к Угольку, к теткам. Мы его любим, он наш, и дом этот будет его домом. Имею же я право побыть с сыном.
Фредерика опускает голову. Сомнений нет: если Лео увезут обратно в Брэн-Хаус, больше она его не увидит, разве что сама вернется. А возвращаться страшно, противится и душа и тело. Нет, не может она. Найджел хочет, чтобы сын был у него на глазах, хочет им заниматься, – что тут возразишь? Она и сама считает, что ребенку нужны двое родителей, и они, цивилизованные люди, вполне в состоянии договориться, как им обоим устроить общение с ребенком, не мешая друг другу. В каком-то измятом, надорванном уголке души гнездится страх: а вдруг в Брэн-Хаусе Лео было бы лучше – там жизнь течет таким порядком, к которому он привык с рождения, который унаследован от предков отца. И тут вспоминается: придет время – и ее малыша, как Найджела, ушлют в какой-нибудь пансион. Как прижималось к ней это тельце, когда они пробирались через лес!
– Ничего, по-моему, из этого не выйдет, – произносит она слабым голосом.
Может, у нее просто истерика? Ну поживет там Лео пару недель, потом вернется. Возможно, вернется…
Нет, говорит ей внутренний голос, не вернется.
– Ну как, Лео? – спрашивает Найджел. – Поехали?
– Это нечестно! – возмущается Фредерика. – Как ты можешь заставлять его выбирать?
– Это из-за тебя ему приходится выбирать! – взрывается Найджел. – Это ты его увезла против воли моей и его, втихаря увезла, ты и твоя шайка-лейка!
– Он сам…
– Ах вот как? Сам, значит? А ты, значит, была бы не прочь его оставить? Вот пусть он и остается в Брэн-Хаусе: это его дом. Ну, Лео, поедем?
– Без мамы не поеду.
– На недельку-другую, хоть с мамой, хоть без, а? Уговоришь ее – прекрасно, если нет…
– Нельзя так с Лео. Пусть пойдет к бабушке, мы вдвоем разберемся.
– Так что, Лео? Поедем? Поедем домой-то?
– Послушай, Найджел, я вернуться не смогу, никогда. Мне вообще не следовало к вам переезжать, так что в этом смысле виновата я. Одна я, и больше никто. По-моему, нам надо тихо-мирно развестись, а потом все спокойно обдумать. А Лео – он сам решил уйти со мной, поэтому со мной и останется. После, когда мы официально…
– Не будет тебе никаких «официально»! О разводе размечталась? Еще чего! Ты мне жена, мать моего сына. Как скажу, так и будет.
– Не вернусь я. Ты же сам это понимаешь.
– Лео, поехали. Сейчас же. Собирай свою железную дорогу, едем.
– Лео, пойди поищи бабушку. Я постараюсь объяснить… твоему отцу…
– У, стерва! – Найджел бросается на Фредерику, хватает за плечи; та вырывается, отбивается. – Стерва! Вздумала его к рукам прибрать? – Он хлопает ее ладонью по лицу. – Ты эти штучки брось! – ревет он.
Лео поднимает крик. Кричит не умолкая. Сбегаются домашние. Дэниел подходит к Фредерике, Найджел ее отпускает. Лео бросается к Уинифред.
– По-моему, вам самое время уехать, – говорит Билл.
– Это так, пустяки, – отмахивается Найджел.
– Это не пустяки! – выкрикивает Фредерика.
– Пойдем. – Дэниел берет Фредерику и Лео за руки и уводит.
Билл продолжает испепелять второго зятя взглядом:
– Я ничего не знаю, поэтому не берусь судить, кто прав, кто виноват, – тем более правых во всем не бывает. Скажу одно: уезжайте сейчас же. Повидаетесь с Фредерикой, когда она сама захочет. Мы с ней одна плоть и кровь.
– Мы с Лео тоже одна плоть и кровь.
– Ну, это понятно. Время сейчас неподходящее. Уезжайте, пожалуйста. Говорят, по статистике в Рождество больше браков распадается, чем сохраняется, на несколько тысяч больше. Вы лучше потом как-нибудь. Уезжайте, пожалуйста.
Найджел порывается огрызнуться, но, заметив на лице Билла шрам, след своего прошлого визита, осекается и выходит, хлопнув дверью.
Похоже, посещение Найджела сплотило домочадцев, и Рождество в семейном кругу они встречают с особым удовольствием. Стараниями Уинифред и Мэри дом стал такой нарядный, каким никогда не бывал дом на Учительской улочке. На столе красуется все, чем славен рождественский стол, приготовлено все на славу. Индейка поджарена отменно, соус с хлебными крошками в меру и пресный и пряный, в начинке чувствуются душистые травы и кулинарная выдумка. Фредерика увлеченно бедует с Биллом о своем курсе английского романа в новом семестре. Рассказывает отцу, каково преподавать взрослым, читать им лекции о «Влюбленных женщинах» и касаться неясности образа Биркина: не писатель, а учитель.
– Лоуренс иногда просто бесит, – признается Билл. – Дочитаешь – нелепый он, напыщенный, где-то даже порочный, а откроешь книгу еще раз – язык, картины горят как жар, дышат убедительностью, как ее ни понимай.
– А насчет преподавания я заблуждалась. Думала, это сушь невозможная. Оказалось, нет. Благодаря ему все на свете делается реальнее, словно бы возникает другой мир – другой, но все-таки наш, и в нашем тот, другой, реальнее… Я, наверно, зарапортовалась…
– Вот этого, Фредерика, и недостает старине Биркину. Он своим преподаванием такого чувства вызвать не сумеет.
– В следующем семестре, – продолжает Фредерика, – возьмемся за «Госпожу Бовари», «Идиота», «Мидлмарч», «Замок», «Анну Каренину», пожалуй, «Мэнсфилд-парк», может, еще «Тошноту».
Это жизнь, хочется ей добавить, хотя говорит она о книгах, а ее жизнь – свирепый супруг со своим гардеробом Синей Бороды, набитым тугими розовыми телесами, супруг, обученный приемам бесшумного убийства, – капля по капле вытомляется всяческой суетой. Она улыбается отцу, его жизнь представляется ей иначе: класс в Скарборо, с которым он проходит «Холодный дом», класс в Калверли, постигающий тонкости «Потерянного рая». Ей представляется, как он живописует динозавров, шествующих по туманным улицам Лондона, и лучезарных ангелов, сквозящих вдали сквозь кроны деревьев райского сада.
Вечером она помогает Лео и Уиллу собирать железную дорогу. Втроем работается легко: Фредерика помогает Лео неназойливо, он чувствует, что на его игрушку не посягают, и все собирает правильно, так что Уиллу не приходится нетерпеливо вырывать у него детали. При этом она советуется с Уиллом, и он отвечает. Дэниел наблюдает. Он вызывается было помочь, но Уилл выхватывает у него деталь и сует куда-то не туда. И все равно, размышляет Дэниел, нету во Фредерике ничего материнского: худая, дерганая, торопливая, мальчики относятся к ней и как ко взрослой, и как к сверстнице, для них она что-то межеумочное. Лео ею почти помыкает, как рабыней: если она слишком вмешивается, он властной ручонкой ее оттаскивает. Дэниел вспоминает слова Стефани: детство у них прошло почти без игр, и сейчас, играя, Фредерика действует с вымученной обдуманностью.
Сын никогда его не простит, думает он. В отца пошел – такой же однодум. Сам Дэниел любил только одного человека, этой любимой больше нет, и, чтобы жить дальше, ему лучше всего вообще запретить себе чувствовать. Уилл ощущает этот запрет, считает, что отец от него отвернулся, и не простит никогда. Рано или поздно, думает Дэниел, им с сыном придется пожалеть, что они так замкнулись в себе, – может, и правда будет поздно, и все же иначе он не может. Не может он распахнуть перед Уиллом душу, такие уж они люди. А вот Мэри его любовь нужна, она ее ждет, видит ее даже в том, что, казалось бы, никак на любовь не похоже. И Дэниел уходит к Мэри.
– Ты бы поговорил с отцом, – советует Фредерика Уиллу.
– Не хочется.
– А может, и не хочется и хочется. С отцами у многих так.
– Ну, мне-то больше не хочется. Вот так просто взял и уехал. И пускай, мне и без него хорошо.
– Он от горя истерзался, – объясняет Фредерика как взрослому. – Вконец истерзался, не выдержал, роднее ее у него никого не было, для него это был удар сильнее, чем для многих. Постарайся его понять. Вы так с ним похожи. Прислушайся к себе – поймешь его.
– Что я там пойму, не важно, – отвечает Уилл. – Какой уж есть, меня не переделать. Я тогда тоже истерзался, вы же знаете.
– Знаю.
Лео, вскарабкавшись к Фредерике на колени, цепко обхватывает ее шею, словно в тиски зажимает. Уилл наблюдает. Фредерика порывается было его оторвать, но вместо этого крепко прижимает к себе.
– Я уж и так стараюсь, – бормочет Уилл.
– Я вижу, – произносит Фредерика, взъерошивая дыханием волосы Лео.
Уилл вставляет последний участок железнодорожного полотна, сборка закончена.
– Теперь только аккумулятор присоединить и прицепить паровоз, – говорит он. – Ну что, поедет? Стрелки работают?
– Пускай Лео запустит.
– Лео, давай.
Оживленный электричеством, поезд срывается с места, мчится по миниатюрной местности, ныряет в тоннель, летит мимо вокзала, перрона. Лео включает – выключает, включает – выключает.
– Ты осторожнее: сломаешь, – остерегает Уилл. – Попробуй поворотный круг.
Две головы склонись над рельсами. Возвращается Дэниел.
– Мой отец был машинистом, – говорит он Уиллу. – Твой дедушка.
Фредерика замечает, что Уилл подумывает встать и уйти. Но вместо этого переводит стрелки, и поезд укатывается за диван.
– Замечательная дорога у Уилла получилась! – восхищается Фредерика.
Маленький поезд напористо мчится по кругу, по кругу, по кругу.
Разлитое в воздухе благодушие сохраняется и в День Подарков. Кое-кого из домашних пригласили вечером на коктейль к Мэтью Кроу в Лонг-Ройстон, елизаветинский особняк, отошедший к Северо-Йоркширскому университету, – Кроу занимает в нем лишь одно крыло. На Рождество у Кроу гостит Александр Уэддерберн, он тоже будет на коктейле. Путь от Фрейгарта неблизкий, но Фредерика, Билл и Маркус едут в машине Билла, Маркус за рулем. Дэниел остается дома со своими детьми, Уинифред и Лео.
В кабинете, обшитом деревом, под картиной, изображающей Марсия, с которого содрали кожу, Кроу угощает гостей шампанским. Он подряхлел, усох, волосы поредели, в лице, горящем старческим румянцем, добавилось суетливости. Фредерика приехала в наряде от Куррежа: она мысленно оправдывалась тем, что ничего более подходящего не захватила, к тому же есть надежда, что, если постараться, платье приносится, сделается родным и перестанет напоминать о Найджеле. Сегодня она тоже красавица.
Гостей в кабинете множество. Попадаются знакомые лица. Вот Александр беседует с вице-канцлером Герардом Вейннобелом. Вот Эдмунд Уилки, смуглый, подвижный, располневший, беседует с философом Винсентом Ходжкиссом и субтильным брюнетом, который, обернувшись, оказывается Рафаэлем Фабером. Неожиданная встреча с некогда любимым, некогда любовником – всегда легкое потрясение, испытывает его и Фредерика. Он бросает на нее взгляд и тут же отводит глаза. Наверно, он остановился у Ходжкисса, своего старого приятеля. Кроу уводит Билла туда, где Вейннобел и Александр обсуждают работу комиссии Стирфорта и преподавание английского языка. Фредерика следует за ними: встретиться лицом к лицу с Рафаэлем она не готова. Александр одной рукой обнимает ее за плечи, спрашивает, как жизнь. Прерванный было разговор продолжается. Как можно понять, комиссия разделилась на два лагеря, но разногласия касаются не столько преподавания английского, сколько педагогических приемов. Александр называет эти лагеря так, как их обозначил Артур Бивер: сторонники Эроса и сторонники Wille zur Macht. Поборники любви и свободы и те, кто стоит за правила и послушание. Грамматику, считает Вейннобел, примешали сюда по недоразумению: спутали правила, установленные свыше, с правилами или законами, открытыми, можно сказать, при изучении природы. Старый спор в новой редакции. Держится Вейннобел непринужденно – в той мере, в какой ему это дано. Билл объявляет, что залог успеха учителя в том, чтобы знать своих учеников и болеть за свой предмет. Фредерика вдруг вспоминает, как Джуд Мейсон прервал ее лекцию о Лоуренсе цитатой из Ницше: «Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности». И она делится случаем из собственной практики:
– Я тут читала лекцию о Лоуренсе студентам-художникам, которые думают, что знать прошлое ни к чему, не обязаны они его знать, а меня все время перебивал один натурщик, этакий голый андрогин с серой кожей, сивыми патлами и скрежещущим голосом: все сыпал цитатами из Ницше…
Общий смех. Разговор о преподавании продолжается.
Маркус замечает кое-кого из коллег. Вот сэр Абрахам Калдер-Фласс, профессор, человечек с белыми космами и ухоженными белыми усиками. Изучает синтез белка в мозговых клетках голубей и проявляет осторожный интерес к новым направлениям в неврологии. Рядом Джейкоб Скроуп, специалист по искусственному интеллекту, и Лайон Боумен, физиолог, занимающийся тонкой работой: исследует структуру клеток мозга, дендриты, синапсы, аксоны, глии. Скроуп хорош собой, короткая стрижка и тонкой лепки черты удлиненного, изборожденного морщинами лица делают его похожим на средневекового монаха. Боумен коренастее, красногубый, темнокудрый. Исследованием Маркуса под условным названием «Компьютер как модель деятельности мозга» руководит Скроуп, который конструирует простые компьютеры с разными алгоритмами, имитирующими процессы восприятия и обучения. Скроупа Маркус недолюбливает. А Боумен ему нравится, его материалы – гистологические срезы тканей мозга, окрашенные по методу Гольджи, – и чаруют, и вызывают отвращение: хитросплетения ветвей в дебрях нейронов, за которыми пустота. Математическими расчетами Маркус занимается охотно и умело, но увлекает ли его само исследование, он сам не поймет. Уилки интересуют компьютерные модели Скроупа: они имеют отношение к его исследованию механизмов восприятия и распознавания форм. Он пытается установить, какой объем информации нужен глазу, чтобы он определил: это дерево, это лицо. Изучает он и иллюзии: мозг пытается заполнить пробелы в цельной картине какими-то элементами, из которых она состоит, чтобы получился цельный узор, как на скатерти, и выходит воображаемая, гипотетическая скатерть.
Ученые рассуждают о памяти, о химических механизмах мышления, физиологии зрения.
Учителя рассуждают о политической подоплеке выбора, должно ли быть заучивание стихов, таблицы умножения, алфавита обязательной частью программы.
Мэтью Кроу уводит Фредерику из компании педагогов и знакомит ее с деканом лингвистического факультета профессором Юргеном Мюллером и профессором английской литературы шотландцем Коллином Ренни, чья специальность – романы Вальтера Скотта. Они примыкают к группе собеседников, среди которых Ходжкисс и Рафаэль Фабер.
– Я изо всех сил хлопочу об университете, которым обрастаю, – рассказывает Кроу Фредерике. – Пытаюсь воплотить ренессансный идеал Герарда Вейннобела: чтобы на некоторые вопросы образования и философии взглянули глазами одновременно ученого и художника. Но видите, какой разлад: разбились на группы по интересам. А вон еще преподавательница социологии Бренда Пинчер и профессорские жены, у них своя компания, и все разговоры, конечно, о своем, о женском. Но уж наверно, не о туалетах, одеты они одна другой кошмарнее. А вот от вас глаз не оторвать. Хоть это и бесцеремонность, осмелюсь спросить: как это вам хватило средств на такой наряд? Вы, говорят, замужем и, судя по платью, составили прекрасную партию.
– Чудовищную партию, не брак, а катастрофа, я в отчаянии. А платье это – дар, чтобы умилосердить. Мне и надевать его не стоило – не умилосердило, – но ничего более пристойного не нашлось, а может, я просто не устояла. Удовлетворены?
– Нет. Я хочу узнать все. Но не сейчас. Взгляните в окно. Видите башни, которые вторглись в мой елизаветинский парадиз? Башня Языков, Башня Эволюции, Башня Математики, Башня не то Обществоведения, не то Обществознания – они пока препираются насчет названия, эта еще не достроена. Их потом соединят многоярусными проходами. Сущий улей получится.
Разговаривать с Фредерикой Мюллер и Ренни не расположены. Они ведут дружеский спор о мнении Лукача[138], что Вальтер Скотт относится к крупнейшим европейским романистам из числа британских писателей. Мюллер пишет о Ницше, Фрейде, Манне и конце европейской преемственности. Ренни – о Скотте, Гёте, Бальзаке и Джордж Элиот. Тяжеловесы. Что им молодая особа в туалете от Куррежа? Они сходятся ближе и физически от нее отгораживаются. Фредерику приветствует Рафаэль, спрашивает, помнит ли она Ходжкисса. Внешность у Ходжкисса незапоминающаяся, при каждой встрече – другой человек. Фредерика улыбается ему.
– Как тебе супружеская жизнь? – спрашивает Рафаэль. – Вид у тебя цветущий.
«Цветущий» в устах такого скупого на эмоции и точного в выражениях человека звучит подозрительно. Чуть ли не как выпад, неуместный и незаслуженный.
– Супружеская жизнь не задалась, – отвечает Фредерика. – В этом деле я не сильна.
– Понятно.
Молчат. Фредерика думает о Рафаэле: как она ходила на его лекции, как ловила каждое слово, как любила, и был в этой любви и Эрос, и Wille zur Macht. Подобно Кроу, он словно стал меньше, но по другой причине, не осталось в нем прежнего света. Как страшно, когда понимаешь, что больше не любишь, кого любила и желала до беспамятства. Это как смерть, но приходит и облегчение: теперь свободна. Это лицо, пытливое это лицо – теперь оно просто лицо.
– А мы говорили про картину с Марсием, – рассказывает Ходжкисс. – Рафаэль недоумевает: как можно жить рядом с такой картиной? Считает, что наш хозяин должен ее сжечь. В торжественной обстановке.
Дух противоречия толкает Фредерику заступиться за картину: от нее сначала мурашки бегут по спине, тошнота подступает, а потом – не оторваться. Фавн привязан к дереву, у ног его содранная кожа, губы раздернуты в острозубом оскале, багрово лоснящееся тело испещрено струйками крови, которая вот-вот хлынет ручьем. Анатомические подробности переданы с любовной точностью, бугрятся окровавленные мышцы у ключиц, на животе…
– Это про искусство. И про боль.
– Да знаю я, – отмахивается Рафаэль, будто презирает ее простодушие. – Так нельзя. Это мерзко.
– Очень современно, – замечает Ходжкисс. – Видели «Марата/Сада»? Вопли сумасшедших, жертв, палачей, а за ними новая жизнь, новые истины…
– Глупости, – обрывает Рафаэль с тем же презрением. – Мерзость – она и есть мерзость. Признал, что за тобой водится Schadenfreude, – и прочь его. Я не говорю, что на это надо закрывать глаза, но смаковать непотребное зрелище – да ни за что.
– Но картина-то сильная, – упорствует Фредерика.
Рафаэль мило улыбается:
– Нельзя такое выставлять. Нельзя – и все. Пойду лучше полюбуюсь славными абстрактами за окном.
Уходит. Ходжкисс, потоптавшись, бредет к Вейннобелу, который перешел к ученым, тем самым установив связь между научным и педагогическим сообществом. Они обсуждают поиски неуловимой энграммы, следа увиденного, услышанного, прикосновения, мысли, следа, до поры до времени затаившегося… где? В теле. В настоящее время «молекула памяти» у биохимиков и творцов искусственного интеллекта – тема животрепещущая. Абрахам Калдер-Фласс поясняет несведущему Ходжкиссу:
– Суть в том, что, по-видимому, усвоенная информация, подобно информации генетического кода, сохраняется в крупных молекулах, вроде ДНК и РНК, и способна передаваться. И эта мысль подкрепляется иммунологическими исследованиями белков: антитела распознают вторгшихся в организм пришельцев, запоминают их, каким-то образом кодируют информацию и готовы отразить вторжения в дальнейшем. И мы, в свою очередь, задаемся вопросом: не коренятся ли в этих поразительных макромолекулах наши воспоминания, структура нашего сознания?
Вейннобел интересуется, какие в этой области необходимы исследования. Лайон Боумен рассказывает про эксперимент Джеймса Макконелла, редактора журнала «Дайджест червоведов»[139], который приучил червей-планарий, простейшие организмы, избегать яркого света, потому что он ассоциировался у них с ударами электрическим током.
– Потом он разрезает обученных козявок на куски и скармливает неопытным, и те усваивают их молекулы, а с ними, как он утверждает, заложенный в них опыт, потому что козявки-каннибалы тоже сторонятся света, а контрольные группы неопытных так к нему и тянутся. Что-то не верится. Представляю, как я после всех съеденных бифштексов и почек шарахался бы от мясников и рвался на пастбище.
– Вопрос в том, – уточняет Ходжкисс, – что в каждом случае понимать под информацией – в иммунологических исследованиях, в ДНК, в конструировании компьютеров. Если есть различия, проводить аналогии опасно. Но сам я ответить не смогу: в естественных науках дилетант.
Маркус бросает на него быстрый взгляд: ему самому кажется, что без учета лингвистической составляющей этой дискуссии чего-то не хватает.
– По мере роста мозга, – сообщает Боумен, – происходят некоторые физиологические изменения. Происходят быстро и позднее прекращаются. Вот на что стоило бы обратить внимание.
В сознании Маркуса промельком возникают очертания того, до чего ему хочется дознаться. Зыбкий абрис, зародыш мысли, невыразимой ни словом, ни даже графически, хотя она так на это и напрашивается, такая вот мысль немысленная. Откуда он вообще знает о ее присутствии? И еще: хотя чаемое нечто рисуется еще неясно, уж ясно, что оно относится к изысканиям не Боумена, а Скроупа. И когда это нечто для него, Маркуса, обнаружится, это будет не познание нового – не рисунок на чистой белой поверхности tabula rasa, – а распознание известного. Он представляет собственный мозг: длинные пышные перья, свернутые и уложенные слой за слоем в полости черепа. Бессловесное же мышление – это когда оперение приглаживается, охорашивается, пока не уляжется стержень к стержню, пушинка к пушинке и не зальется глянцем. Удачная аналогия, или обманчивая, или то и другое вместе? Он в науке не новичок и знает, что такие метафоры и аналогии двигают науку вперед, но безрассудно доверять им нельзя. Интересно бы поговорить с Ходжкиссом. Тот все так же стоит, молчит и, похоже, внимательно слушает. Калдер-Фласс рассказывает, как в сороковых годах Шредингера осенило, что гены – это кристаллы, «что двойные спирали ДНК – апериодические кристаллы. Отсюда, по мнению Шредингера, следует, что жизнь, органическую жизнь обеспечивают и порядок – апериодические кристаллы, и беспорядок – произвольные колебания и столкновения атомов. И тогда мы можем предположить, что вся Вселенная – информационная система: сообщения передаются кристаллами сквозь посторонние шумы, а человеческая мысль представляется способом распространения во Вселенной порядка, способом передавать информацию…».
Эти размышления прерваны оглушительным посторонним шумом и беспорядочным гвалтом из того угла кабинета, где дамы – жены, – согласно гипотезе Кроу, мирно обсуждали стиральные машины и наряды. В это общество, к которому присоединилась и Фредерика, входят миссис Боумен, импозантная брюнетка в платье из узорчатого шелка, миссис Скроуп, блеклая блондинка в маленьком черном платье, миссис Ренни, дама крупная, миссис Мюллер, дама нескладная, леди Калдер-Фласс, щуплая, с цепким, колючим взглядом, и еще одна дама рослая, плечистая, в коктейльном платье из тафты-шанжан бордового цвета с глубоким квадратным вырезом. Это леди Вейннобел. Волосы у нее темные, прямые, каре с челкой, глаза большие, какого-то переменчивого цвета, а еще золотой браслет, сигарета и бокал апельсинового сока. Ее появление здесь не удивило только Фредерику. Все прочие знают, что у Вейннобела есть жена, но она нигде не показывается. По смутным слухам, она «человек нездоровый», и ее, понятно, не приглашают. Поговаривают, что она вроде Берты Рочестер[140] – не в своем уме, и ее держат взаперти. И вот она собственной персоной: в разговор не вступает, только стоит, уставившись в ковер или изредка на Марсия, и слегка покачивается, словно эти туфли на высоких каблуках ей неудобны.
Беседуют женщины не о нарядах, не о стиральных машинах – о депрессиях. О том, как страшно просыпаться по утрам, как быстро пролетают длинные-длинные дни, как они тянутся и тянутся, как выматывает душу ход часов, радио, стирка. Обсуждают врача из Калверли: пропишет лекарство или не пропишет, помогает оно или нет, надо вообще что-то принимать или не надо, рассуждают о том, как нехорошо срывать злость на детях. Сходятся на том, что дети – ненасытные бутузы, которым отдаешь всю жизнь, что это шустрые электровозы, и они, женщины, питают их своей энергией, которая полностью не восстановится, это плотоядные крепыши (с улыбкой произносит Флер Боумен), которые вместе с молочной лапшой и мюсли уплетают материнскую плоть – радостно уплетают, как ни в чем не бывало. Вспоминают, как осуждали своих матерей за депрессию, а теперь вот и сами в депрессии. Бренда Пинчер спрашивает, почему бы им не устроиться на работу, и дамы пускаются наперебой живописать, как они пробовали и что получилось: одна подрабатывала машинисткой, миссис Ренни преподавала, но приглашенная сидеть с детьми няня так и не объявилась, леди Калдер-Фласс неожиданно признается, что хотела вернуться в науку, писать диссертацию, но муж отсоветовал.
Бренда Пинчер, социолог, внимательно слушает эту беседу, или дискуссию, или душевные излияния, но сама не высказывается. На ней что-то недостаточно нарядное, шерстяное, бурого цвета, белесые волосы распущены. Она подает голос, только чтобы спросить Фредерику, кто она и чем занимается. Фредерика рассказывает, что с мужем она разошлась и старается зарабатывать преподаванием и рецензированием в издательстве, а может, и еще работа найдется. Растить сына и работать нелегко, признается она.
– Пусть вас муж обеспечивает, тогда и работать не придется, – изрекает леди Вейннобел.
– Я его деньги брать не хочу, для себя по крайней мере. А работать мне нравится, я не могу не работать, не могу не размышлять.
– Вы и до рождения сына так к работе относились? – интересуется социолог.
– Если нет дела до ребенка, нечего было рожать, – объявляет леди Вейннобел.
Она не говорит, а рычит, лицо ее пылает.
– Что ему моя забота, если я не буду самой собой.
– Вы не для того на свет появились, чтобы заботиться о себе самой, – огрызается леди Вейннобел, вперившись в ковер и покачиваясь. – «Кто потеряет душу свою, тот обретет ее»[141].
Тут Фредерика выходит из себя:
– Вы меня почти не знаете, а беретесь судить, как мне жить!
– Скверная, я вижу, вы женщина! – громогласно выпаливает леди Вейннобел.
Фредерика, держа руку в кармане, чувствует, как ее пальцы дружно пытаются сбросить обручальное кольцо. Она озирается: дамы потупились, у всех на губах застыла унылая улыбка – у всех, кроме Бренды Пинчер.
– Из чего вы заключили, что она скверная женщина, леди Вейннобел? – бесстрастно осведомляется она.
– Я вижу огненный венец зломыслия у нее над головой. Она задумала погубить мужа и сына, – с железной уверенностью отчеканивает леди Вейннобел. – Кто способен такое видеть, увидит.
– Прошу прощения, – говорит Фредерика, – я пойду.
– Никуда ты не пойдешь! – заявляет леди Вейннобел. – Стой и слушай!
Она поднимает руку и надвигается на Фредерику: вот-вот ухватит, вцепится, исцарапает. Камилла Скроуп подбегает к вице-канцлеру и дергает его за рукав.
– Ева! – окликает Герард Вейннобел.
– Я должна сказать, что думаю!
– Нет, голубушка, не должна. Ты должна извиниться и ехать домой. Ну же, Ева, извинись.
Он обнимает жену и уводит.
– Так я и знала, что не надо говорить о депрессиях, – вздыхает миссис Ренни. – Я слышала, она наблюдалась у психиатра. Знала, что надо этот разговор прекратить, но ничего другого в голову не приходило.
– Она, по-моему, выпила лишнего, – замечает миссис Мюллер.
– Пила она много, – соглашается леди Калдер-Фласс. – Я видела. Ах, как нехорошо получилось.
К Фредерике не обращаются, – конечно, Ева Вейннобел была не в себе, но «скверная женщина»…
Ей наконец удается стянуть с пальца кольцо, вспоминается, как Фродо Бэггинс пытался избавиться от кольца невидимости.
Бренда Пинчер отводит ее в сторону:
– Что вы при этом чувствовали?
– Ох, по инерции – угрызения совести. Скверная я женщина. Она это заметила. А вы как бы такое приняли?
– Пожалуй, примерно так же.
Бренда Пинчер удаляется. Фредерика задумывается: Пинчер ведь из числа сотрудников университета, ей место в кругу коллег – и вдруг скатывается в общество их благоверных, дражайших половин, светских причиндалов своих мужей. Между прочим, интересно, над чем она работает? Но тут ее отыскивает Александр, и о Бренде Пинчер она забывает.
Бренда Пинчер уединяется в обшитой деревом уборной Мэтью Кроу и достает из сумочки диктофон, чтобы поменять пленку. Сейчас она занимается интересным исследованием о жизни профессорских жен и тематике их бытовых разговоров – она надеется развернуть его и написать о семейной жизни женщин с высшим образованием, включая их отношения с детьми. Она подмечает их манеру вести беседу, речевые обороты, их жалобы, надежды, мучительные паузы, кружение мысли на месте – собирает их, приводит в систему, как Лайон Боумен образцы своих дендритов и глий. В начале 1970-х она напишет книгу «Между нами, девочками», которая будет иметь шумный успех и круто повернет жизни многих, в том числе ее собственную. Сейчас она размышляет, этично ли будет выбросить вспышку леди Вейннобел. Этично-то этично, и все же рука не поднимается: в этом эмоциональном перехлесте, этом приступе праведного гнева есть эстетические достоинства. Нет, Бренда Пинчер вовсе не симпатизирует это рыжей расфуфыренной богачке. Самоуверенность так и прет. Бог знает кем себя воображает, думает Бренда Пинчер с бесприцельной неприязнью и заправляет в диктофон новую пленку.
IX
Дыхание зимы, все более заметное в горах окрест Ла Тур Брюйара, понемногу навевало истому и доставляло неудовольствия обитателям замка. Студеные сквозняки гуляли по извилистым коридорам и просторным залам, колыхали занавеси, пробивались из-под дверей в каменные покои, сбегали по головокружительным лестницам башен и подвалов. Люди кутались в шерсть и меха, и новоизобретенные утехи плоти уже не так манили и прельщали. Лицо госпожи Розарии сделалось фарфорово-бледным, красные губки подернула просизь: не сладостно-розовые лепестки гвоздики, но лиловатые лепестки цикламена. Общество по-прежнему, что ни день, собиралось послушать очередную страстную исповедь, измыслить игривое наказание или изысканное воздаяние за причиненную или перенесенную боль, однако и в эти собрания уже пробрался промозглый холод, и многим уже хотелось не воспарять духом, а почивать в постели или перенестись на юг, к солнцу, к лучезарному океану.
Кюльвер заимел обычай обходить замок и осматривать каждое помещение. То и дело обнаруживал он двери, за которые прежде не заглядывал, чуланы с неизвестным содержимым, дышащие затхлостью отверстия, посредством коих совокуплялись обитатели смежных покоев, чердаки, где с потолка свисали нетопыри и космы густой паутины.
Он ходил из часовни в часовню и составлял в уме реестр образов, среди которых протекала здесь жизнь: смутно обозначенные человеческие конечности и выпученные бельмы в стенных росписях и на створках алтарей, корчи, запечатленные в резьбе, пустые взгляды ангелов. В первый раз, как он попал сюда, преисполненный горячей веры в силу человеческого разума и могущества страстей человеческих, многие такого рода молитвенные принадлежности были по его распоряжению убраны прочь с тем, чтобы стены были расписаны более отрадными картинами, прославляющими красоту телесную, свободу в исполнении желаний, радость соития и приятность безудержного трапезничания – истины, которые, как говорил он обитателям замка, заступят место поработительной лжи и гнетущих изображений. Но приближение зимы и первые приметы сомнений и скуки заставили его задуматься, отчего эти изображения здесь оказались, какая потребность вызвала их к жизни, каким нездоровым струнам души она созвучна.
– Наш Прожектер спознался с религией, – сказал Турдус Кантор полковнику Гриму, когда они в меховых плащах наблюдали с балкона, как их сотоварищ в одиночестве прохаживается внизу.
– В годы кипучей юности он крепко против нее ратовал, – отвечал полковник Грим. – Попы, говаривал он, суть отравители, они отравляют умы, вытравливают ростки душевных побуждений юношества.
– Бывает, страсть, дойдя до края, переходит в свою противоположность, – вмешался Самсон Ориген, стоявший поодаль, скрыв лицо под капюшоном. – Ненависть может смениться любовью. Лишь закоренелое безразличие способно оставаться неизменным.
– Стало быть, ждать перемен? – спросил Турдус Кантор.
– Наш Прожектер, снедаемый любопытством, подвигся расчленить человеческую природу и оживить ее искусственным образом, – сказал полковник Грим. – Религия же от человеческой природы неотделима.
– Я много странствовал, – молвил Самсон Ориген, – и нигде не встречал я общества без религии.
– А сам ты, – спросил полковник Грим, – исповедуешь ли какую-нибудь веру, совершаешь ли какие обряды, молишься ли какому богу?
– Нет. Человеческое естество побуждает обманываться, баснословить, измышлять высшие силы. Я иду против естества: я вперяюсь во мрак и гоню прочь воображение. Это путь пагубный и неблагодарный. Но на него толкает меня мое естество.
Меж тем Кюльвер, перейдя из часовни Девы Марии в пустовавший храм Богородицы Скорбящей, со свечой в руке разбирал изображения остановок Иисуса на крестном пути – художники были разные, и писали они по-разному: кто незатейливо, грубовато, кто пронзительно, кто в манере рококо. Кюльвер почитал себя человеком рассудительным, взыскующим знаний о счастье, небессострадательным испытателем человеческой природы. По его глубокому убеждению, истории из священных книг – не более как выдумки, коими толстые властолюбивые попы, епископы и кардиналы морочат легковерных, и Кюльверу казалось, что он угадал причины этого желания властвовать, желания повелевать людскими желаниями и сердцами людскими. В пору мятежной юности он увлекался озорными и беспутными похождениями греческих божеств, похотливых, жестоких, блажных, и говаривал, что их вздорный нрав не идет ни в какое сравнение со вздорностью гневливого Божества, которое способно долгие мучения одного человека – притом своего Сына, каким-то непостижимым образом части Его самого – безрассудно зачесть как воздаяние за мучения, коим испокон века подвергались люди всех родов и племен. Но сейчас, в эту унылую пору, Кюльвер усомнился в этом своем убеждении и уже почитал его легковесным и по-мальчишески резким. Он переходил от одного зрелища бичевания к другому, от одной обнаженной, истекающей кровью фигуры в узах к другой и спрашивал себя, какие поползновения человеческой натуры отражают эти картины. Он не верил, что за этим стоит желание выменять вину на видимость невинности, выкупить ценою пролития крови ребяческую свободу воли, – чересчур это просто. Нет-нет, думал он, мы жаждем созерцать боль, дабы постичь ее тайну, и собраться с духом, и укрепиться, готовясь рано или поздно испытать ее въявь. Впрочем, думал он, и это объяснение чересчур легковесно. Ибо, правду сказать, созерцание боли нас возбуждает: любо нам видеть, как нож раздирает ноздри, режет вены на руке, кромсает седалище, вонзается в нежную заднюю скважину, как тяжелое лезвие рассекает кожу и волосы, хрящи, сухожилия, мышцы и красную плоть, как хлещет кровь, белеют жемчужно кости, сочится бурый костный мозг… Впрочем, думал он, дело не только в этом, ибо еще нам любо предвкушать и воображать, как вскипают кровью наши свежие раны, как она горячим потоком заливает наши ключицы и ноги, как трепещут неистово обрывки нервов, муки, страдания, – любо нам это, сказать по чести. Мы завидуем этому смиреннику с перебитыми голенями и обагренным кровью ликом: он испытал, а мы нет.
Он смотрел и смотрел, выводя из мелких наблюдений общие заключения. Вот на старых рассохшихся досках германские страстотерпцы: перекошенный болью оскал, слипшиеся от черной крови спутанные волосы ощетинились терновыми иглами, грудная клетка иссечена в кровь, на сухощавых икрах, иссохших коленях, впалых ягодицах набухли темные полосы. Контрастом – изящные итальянские праведники: снег, полотно, слоновая кость, а на них расцветает алое: ручьи и струйки на коже, по умиротворенным ликам – словно яркие ленты. Вот их сотоварищи во вкусе барокко: исступленные, они воздевают горящие взоры к небу, пособнику сих злодеяний, задыхаются, вывалив красные языки, подмышки и чресла их распахнуты, как морские раковины, открыты взорам и бичам истязателей, а те – хмурые и отрешенные ли, алчные и тучные ли, троллеподобные и беззубые ли, оскалистые и свирепые ли, тупоумные ли, зверообразные ли – все как один упиваются кровопролитием и выполненной на славу работой. Так и художник, говорил себе Кюльвер, плотнее запахиваясь в меховой плащ, млея и содрогаясь от этого зрелища, – так и художник упивается свободой на разные лады изображать алые уста ран, нежно взбухший след бича. Что же это, спрашивал себя испытатель натуры человеческой, поклонение Смерти или поклонение Красоте и Наслаждению? И отвечал себе, довольный ответом: они суть одно. И какой-то кромешный восторг пробирал все его существо, жаркая дрожь, палящая и леденящая.
Двинулся он дальше, размышляя о жестокости религии или религии жестокости, и добрался до винтовой лестницы, от которой тянуло духом гнили и старых влажных камней. Лестница уводила под землю, все глубже, глубже, крýгом, крýгом, в сумраке пламя свечи колыхалось, склонялось, источало смрад. У подножия лестницы имелась в каменной стене круглая дверь, а в ней замок с преогромным ключом, и, хотя замок имел заброшенный вид, внутри он был смазан маслом и открывался без труда. За дверью располагалась часовня Богородицы, которая даже здесь, в недрах земных, была освещена: неровный свет проникал сквозь витраж, изображавший женщину на престоле в богатом лазурном облачении и золотом венце. Женщина ласково улыбалась, в сердце ее по кругу вонзились семь пребольших мечей, кровь заливала ей грудь и колена, будто передник их одевал, сбегала по лазурному подолу, лизала алыми языками испестренный цветами луг. На левой стене имелась пребольшая роспись, представлявшая женщину с застывшим взглядом, бледную, как алебастр, на коленях у нее покоилось истерзанное, изувеченное тело ее сына, являвшее собой тяжелое зрелище: рот раскрыт, ребра иссечены бичами, ноги и вывихнутые в плечах руки, прободенные, жалко висели, как плети. Фигуры эти были заключены в рамку из красных роз, белых лилий, синих ирисов – только и было цвета в картине что эта окаемка, прочее – тени и бледный камень с серыми прожилками. На правой же стене была с любовью выписана юная дева, склонившаяся над туго спеленутым новорожденным младенцем, которого она прижимала к обнаженной груди; под зажмуренными глазами младенца темнели круги, кожа синюшная, крапчатая, словно бы липкая, какая бывает у новорожденных или новопреставленных.
И перед этими женщинами, тремя этими женщинами, этими Матерями-Страдалицами, горели, выстроившись ряд над рядом, бестрепетные огоньки в маленьких плошках – приглядевшись, Кюльвер различил, что это закрученные, как бараний рог, раковины улиток, наполненные маслом, и в каждой фитилек.
Церковные скамьи, уложенные друг на друга, громоздились у стен вперемешку с прелой соломой, ибо теперь часовня эта отведена была для хранения соломы, тюками которой были обложены стены, посреди же пред алтарем сидела на трехногом табурете старуха, сучившая нить при свете трех толстых свечей в нарядных подсвечниках из церковной утвари. Лицом она была как деревянный щелкун для орехов: безумные слезящиеся глаза-бусинки, под ними – провал с кожаной нашлепкой, шамкающий, запавший рот, пальцы узловатые, корявые, словно сучки, на концах воспаленные, будто набухли на них яркие почки. И хотя Кюльвер повелел (лучше сказать, предложил, ибо замысел был таков, что обитатели замка вольны были не подчиниться), чтобы в ознаменование нового уклада все носили платье ярких простых цветов, на этой карге был черный платок и черное платье из домотканого полотна, какие в детстве Кюльвера носили крестьянки, и в детстве отца его, и в детстве деда. И сучила она нить, в которой затейливо сплеталось белое и багровое.
– Здрав будь, хозяин, – приветствовала она Кюльвера запросто.
– Здравствуй, – отвечал озадаченный Кюльвер.
– Ты меня не знаешь, – продолжала старуха. – Впору обидеться: ведь я была твоей кормилицей, а прежде того я присутствовала при твоем появлении на свет и при этой оказии начальствовала как sage femme[142] – это я, повитуха, сберегла тебя, вытащив окровавленного, брыкливого из кровоточащей манды твоей матушки, и шлепком пробудила в тебе жизнь, а ты лежал у меня на руке, дрыгал ножками, визжал и мяукал.
И поскольку по виду Кюльвера нельзя было заключить, что он ее узнал, она не без досады добавила:
– Грева меня зовут.
И тут показалось ему, что он вспомнил сладостный запах ее свежестираной исподницы в погожий день, но правда ли было такое, поручиться он не мог. Желая чем-нибудь ее подарить, он порылся в кармане, но нашел лишь сморщенное яблочко и уставился на него в растерянности; старуха же взяла яблочко, промолвила: «Благодарствую» – и впилась в него так жадно, что сок побежал по подбородку.
– Что же привело тебя в утробу Башни? – спросила она, жуя беззубыми челюстями.
Кюльвер опустился на край скамьи среди пыльной соломы.
– Я задумался о религии и ее назначении, – сказал он. – О потребности людей исполнять ее предначертания. Но что-то никак не уразумею.
– Разум, голубчик, при таком взгляде на вещи помощник плохой, – молвила старуха. – Какой, выкормыш мой, подсказал он тебе предмет для размышления?
– Урочные действа, обряды, – отвечал Кюльвер. – Он предложил мне вопрос: в чем причина? И вопрос поосновательнее: в чем истинная причина? Ибо, как я заметил, все народы имеют обыкновение торжественно справлять некие события – примерно сказать, смену одного года другим, поминовение усопших, возвращение к жизни и прочая. Помню я благословение полей, красивый обряд, помню, как теплились и мигали свечи за упокой умерших.
– Порассказала бы я тебе, какие карнавалы устраивали в этих чертогах во время оно, – молвила старуха. – Какие бывали танцы, какие задавались пиры, какие затевались представления и справлялись обряды.
– Расскажи, – попросил Кюльвер. – Ведь это и есть, чего я взыскую. И вот случай свел меня с тобой и твоими воспоминаниями.
– Случай, а то и что-то другое, столь же могущественное, известное под другим именем, сестра случая, – сказала старуха.
Так сидели они при свечах в зимних сумерках, пахнущих воском, и старуха рассказывала Кюльверу, как в стародавние времена на исходе года устраивали в Старом Зале Праздник Бесчинств. Выбирали из числа конюших или лакеев Повелителя Бесчинств, прозываемого Бабу.
– Какого-нибудь такого, у которого, как говорится, чердак без верха, или спесивца, выскочку, вальяжного зазнайку, надутого индюка. Дурак обыкновенно отдавал вздорные приказы: умывать дам винным отстоем, или живьем запечь в пироге дроздов, или убрать зал бычьими удами и свиными мочевыми пузырями, но что ни прикажет, все надлежит исполнять, ибо он повелитель – на день, на один-единственный день. Но чванливые господчики, коим скоро предстояла расплата, – те пощады не знали, ибо им, выкормыш мой, было ведомо, что ожидает их, и они старались наперед воздать за свои муки – так сказать, расквитаться за свое избрание. И вот по приказу Повелителя На День других молодых людей опаляли огнем, бичевали и шлепали, стащивши с них панталоны, изощрялись в наказаниях еще пуще. Их вешали, вдергивали на дыбу, оплевывали, кололи остриями… Хоть месяц могу рассказывать.
– С удовольствием послушаю, – сказал Кюльвер.
– Послушаешь, друг милый, послушаешь. Но кого бы ни произвели в Повелители На День – дурака, негодяя ли, – исход был так же неотвратим, как ночь после дня или смерть после жизни. И исход был – рождение нового Солнца из жирных телес Бабу, закормленного бобами и прочей снедью, от которой пучит. Все же прочие принимались переворотничать: мужчины отплясывали в корсажах и юбках, женщины были вольны расхаживать в панталонах и егерских куртках, а под конец все, надевши маски, танцевали и бегали друг за другом по чертогам и лестницам, и продолжалось это с вечерней зари самого короткого дня до утренней зари самой долгой ночи, и приходил Новый Год в образе окровавленного младенца под подолом Бабу… И приносили святочное полено, год напролет тлевшее в глубине очага, а с ним несли источавшую жир голову дикого вепря с яблоком, сдобренным пряностями, в пасти, а с ним отменный Великий Пирог с улитками и свиными хвостами и вылепленной на корке спиральной башней с птичкой на маковке. И возжигали в очаге от старого полена новое, и плясали в отсветах пламени, и еще больше улиток жарили в больших железных чанах, и капали в раковины горячее масло, отчего эти зверушки елозили, шуршали и пищали что есть силы. А знаешь ли, выкормок мой, крестьяне имеют обычай в исходе года и кошек живьем поджаривать, сваливши их грудой, но в Башне такого не бывало: дамам претило. А в поздние годы и улиток-то стали выделывать из каштановой муки да марципанов, но это всего лишь сладкая подделка под настоящую вещь, ибо марципаны – безучастное вещество, улитки же заключают в себе дух жизни.
– Отчего улитки, старуха? – спросил Кюльвер.
Не то чтобы он надеялся, что старуха знает ответ, но он полагал, что у обычаев нынешних крестьян было разумное начало, забывшееся за древностью лет. Может статься, думал он, эти косные люди, влачащие докучное существование, сберегли крупицы земной мудрости и души их хоть несколько созвучны голосу первозданной Природы, которой сопричастны и человек, и зверь, и растение и познать которую под силу пытливому уму. И он начал утверждаться в мысли, что, переняв эти обычаи, задуманное им общество получит приток свежей крови, жизнь его сделается более многокрасочной и глубокой, чем если бы она следовала лишь подсказке холодного разума.
– Отчего улитки заключают в себе дух жизни? – спросил он старую Греву, склоняясь к ней в сумерках и погружаясь в запах нечистого платья и жеваного яблока.
– Сказывают люди, что они посредствуют между нами и теми, кто спит под землей. Непрестанно плачут они по усопшим, и блестящий след их – пролитые слезы, ходят же они на чреве своем, подобно Тому, кто навлек на себя кару в райском Саду, но они не злые, они странствователи на пути между этим миром и миром иным. Которые пожирнее, обитают на кладбищах – их мы не трогаем, только скверные мальчишки их тайком собирают. Живут они на фенхеле, растении мертвых, и на вкус им отдают, если потушить или изжарить. Они суть твари ночные: пролагают при свете звезд лунную дорожку, но и солнце им не чужое, ибо зимою, когда уходит оно на покой, они забираются в свои завитые скорлупки и закрываются роговыми ставенками. Когда же снова выходит солнце, стряхивают они мертвый сон и выползают, озябшие, на пригрев. Они посредствуют, дружок, посредствуют между землею и небом, между огнем и водой, могут являть собой и короля и королеву, чада же их подобны стеклянному бисеру. И когда мы высосем их из раковин, то употребляем их безжизненные убежища как светильники, ибо они обитают во тьме и вылезают на свет; при жизни они – серебристый свет своих слезных следов, по смерти – язычки жаркого пламени; они суть ни рыба ни мясо и обладают волшебной силой, как и все, что колеблется на распутье, ибо естество его не устоялось.
– В нынешнем году учиним в Башне и мы карнавал, – решил Кюльвер. – Сделаем себе нарядные платья и диковинные маски, справим обряд во сретенье нового Солнца – приветствие новому солнцу у нас к крови, – и будет у нас и Бабу, и Жена, Облеченная в Солнце[143]. И пошлю я людей собрать улиток, а ты, старуха, наставишь наших кухарок, как приготовить Великий Пирог.
– Даром, что ли, сучу я нить из багряной и белой шерсти для твоего одеяния? – сказала старуха.
– Да как ты прознала, что я сам буду Женой, Облеченной в Солнце?
– Да уж прознала, – ответствовала старуха, тряся головой: от болезни, от злорадства ли, от горя – не разобрать. – Я и то знаю, что, если ты будешь и дальше поигрывать моим веретеном, уколешь палец.
– Пустое, – сказал Кюльвер, крутя в руках веретено и спутывая нить. – Я любопытен знать, как устроено все, что ни есть на свете.
И тут, как пророчила старуха, уколол он палец веретеном.
И старуха взяла его кровоточащий палец в рот, и обхватили его плоть старые, бурые, сморщенные губы, и язык ее ласкал его грубую кожу и усладительно слизывал кровь его. И когда смешалась она с жидкой слюной и яблочным соком, вспомнилось ему все: как он тыкался носом в ее теплую, пухлую грудь, как духовито пахло ее молоко, как кулачками месил он ее телеса, словно сдобное тесто, как просунулся между ног горячий свивальник. И потекли по щекам его слезы: оттого, что невозвратен бег времени, что дряхлеет плоть, убывает кровь, что человек в единственности своей томится в узилище из собственной кожи, а время вытягивает мозг из костей его.
– Дивлюсь я, что в платьях или одеяниях, которые шьются к грядущему карнавалу, первенствует багрянец, – сказал полковник Грим. – Имя нашего почтенного вождя знаменует нечто вечнозеленое[144], а на уме у него цвет крови и пламени.
– Кому бы дивиться, только не тебе, – отвечал Турдус Кантор. – Солдаты всегда любили щеголять в ярких мундирах – ты, верно, и сам носил багровый мундир и багровый плащ с золочеными пуговицами.
– Я слыхал, будто мундиры делают красными, чтобы при ранении кровь была незаметна, – сказал полковник Грим. – Но этому я особо веры не даю, ибо панталоны у нас белы как снег, а есть и такие, кто носит мундиры зеленые, как остролист, и черные, чтобы ночью таиться во мраке. Нет, мы одевались в красное, чтобы устрашить врагов своею свирепостью, а медь на нашей одежде слепила, как жаркое солнце. Как любили мы наши мундиры и как холили то, что под ними!
– И у судей багровые мантии, – припомнил Турдус Кантор, – и кардиналы присвоили этот пышный цвет.
– И блудница вавилонская, – добавил Турдус Кантор. – Жена, облеченная в багряницу на звере багряном, поглотителе звезд[145].
– «Если будут грехи ваши, как багряное, – убелятся они кровью агнца»[146], – чье руно тоже бело от очистительной крови. Презанятное животное!
– Тот, что в мундире, и тот, что в мантии, – а они суть одно – не люди: они знаки, должности, ходячие понятия, – молвил Турдус Кантор. – Это платья движутся и говорят за них. А кто под одеждами – как знать, кто там и каковы дела его.
Захваченный новым замыслом, Кюльвер созвал ближайших единомышленников и умолял их соучаствовать в будущем Действе, или Обряде, в честь Нового Года, когда наступит самый короткий день. Полковник Грим пусть будет sage femme Нового Года, сиречь Знахарка, сиречь Повитуха его, он наденет особую золоченую маску и большой чепец. Турдусу Кантору надлежит стать Новому Году Крестной Матерью и нарядиться старой каргой в черной маске и белом курчавом парике. Крестным Отцом же будет госпожа Розария, и зваться они будут Логос и Ананке[147], рождение совершится под их сладостное пение.
– Куда уж мне распевать сладостные песни, – возразил Турдус Кантор. – Голос мой надселся от старости.
– Тогда ты будешь играть на сиринге[148], – молвил Кюльвер. – А еще будут у нас гонги, и кимвалы, и звонкие колокольцы, и цитры, и флейты.
– Что ж полагаешь ты всем этим произвести? – спросил Турдус Кантор.
И Кюльвер поведал ему, что полагает привести струение крови людской в лад с вращением Земли и возжечь в сердцах новое Солнце. И пожелал Кюльвер, чтобы Самсон Ориген соучаствовал в этом обряде в образе Пифии в двойной маске, глядящей вперед и вспять. И отвечал Самсон Ориген, что лицедействовать он не согласен: не желает он иметь в этом соучастие, не станет ни петь, ни плясать, ни говорить, ни кривляться в пантомиме.
– Я буду наблюдать, – сказал он и прибавил: – Как скоро есть кому наблюдать, затея эта – искусство, и она, не в пример религии, разумна и ужасна.
– Не желаю я, чтобы ты наблюдал, – сказал Кюльвер.
Взгляды их скрестились.
– Как ты можешь желать, чтобы я поступал вопреки собственной воле? – спросил Самсон Ориген. – Я хочу наблюдать, нет для меня ничего приятнее наблюдения. Ты же знаешь, Кюльвер, я верю в непричастность, в силу отложившегося ото всех разума. Что же до плясок в честь нового Солнца, их я видал у кребов: никакой красоты, ничего достойного подражания.
– Расскажи, как они пляшут, – велел Кюльвер, и глаза его загорелись.
И Самсон Ориген ровным голосом, в безыскусных и точных выражениях, попивая горячее вино с корицей, пустился рассказывать трем своим сотоварищам о празднествах, которые устраивают кребы при смене года: как зажигают они преогромные костры, как связывают пленных, как варят питье из забродившего молока, скисшего ячменного солода и поросячьей крови, как женщины бьют в барабаны и завывают, пряча взоры, как ревут большие рога и разносятся звуки бубнов, кимвалов, гонгов, кастаньет, погремушек из бычьего пузыря, как пляшут они, выстроившись в затылок друг другу, змеясь длинной цепочкой, в лад притопывают плоскостопыми лапами, в лад поигрывают маслянистыми ягодицами, все быстрее, быстрее; как в круг, посредине коего пылает костер, затаскивают животных, и все неторопливо разрывают их живьем на куски: раздирают круп за крупом, отдирают ребро за ребром, выдирают кишку за кишкой, пока не оденутся в кровавые шкуры и не увенчаются окровавленными рогами или головами волка или рыси, медвежонка или лани, онагра или мангуста. А костер разгорается ярче и ярче, и брызжет жир от жарящейся дичи – но вот приводят пленных, и они разделяют участь животных: их разрывают и поджаривают. Рассказал он и об избрании Короля На Час: как кребы при свете костра носят его, восседающего на деревянном престоле, на своих смуглых плечах, коронуют алмазным венцом, угощают вином и медом, одевают в багровые и золотые шелка, лобызают руки и ноги, всячески раболепствуют. Когда же из-за черных холмов на краю равнины покажется солнце, короля этого бьют плетьми, поджаривают, разрывают в клочья и пожирают. Самсон Ориген бесстрастно рассказывал, расставляя события по важности и видя перед собой горящие, влажные глаза Кюльвера, старческие, гноящиеся глаза Турдуса Кантора. Только глаза полковника Грима были так же сухи, как у него, а жилки на шее и на висках бились все так же ровно.
– А есть ли у кребов бог, во имя которого они поджаривают и пожирают этих бедняг? – спросил Кюльвер.
– Бог у них есть, – отвечал Самсон Ориген, – но произносить его имя не смеют под страхом смерти, и оно мне неведомо. Однако ж у масок, под коими он скрывается, имен превеликое множество: и конь вороной, и огонь палящий, и червь-великан, и белый козленок, и в разное время кребы пляшут в честь их, нарядившись сообразно случаю.
– И ты это видел своими глазами? – спросил Кюльвер.
– Довелось, – отвечал Самсон Ориген. – Но, наблюдая, я старался побороть страх и душевное волнение.
– А видел ли ты лицо Короля На День? Не выражало ли оно страх?
– По лицу его гуляла отсутствующая улыбка, но было то следствие смертельного страха или его опоили каким-то зельем, я не разобрал.
– Может быть, он ликовал, оттого что причастен тайне…
– Не думаю. Хочешь тешиться этой мыслью – тешься. Но я так не думаю.
…Пение и пирование, забавы и пляски делались все живее, все кипучее, все бравурнее. Вереницы пляшущих тянулись по лестницам, по коридорам, извивались, словно угри из человеческих тел – но не совсем человеческих: тут отплясывали кабаны и медведи, рогатые козлища и глупые овцы, лукавые кошки и хитрые лисы, хищные волки и вороны в капюшонах, мелькали потные человечьи ноги, там и тут мотались хвосты, на иных одеяние было скудное, на иных его вовсе не было. На женщинах были гульфики с засунутой в них тыквой-горлянкой, на мужчинах – шуршащие юбки и лифы, набитые яблоками. И по всему замку бестрепетным светом горели улиточьи лампады. В Бабу никого не выбирали, но во главе стола восседал Кюльвер в багровом облачении жрицы, с длинными светлыми волосами, красными губами и крашеными перстами. Рядом помещался то ли Жрец, то ли Папа, то ли Епископ в митре и золоченой маске, наряженный старухой полковник Грим, а также Розария и Турдус Кантор, сиречь Логос и Ананке, она в чинном черном камзоле и серебряной маске в виде головы ястреба, он – в пестром женском наряде и маске змеи, зеленой с золотом. Когда же Самая Долгая Ночь подошла к преполовению, зажгли с великим торжеством Святочное Полено и водрузили на него пребольшие подносы с улитками, и капало в устья раковин кипящее масло, так что сотни бескостных телец обваривались, ежились, извивались. Перед самым рассветом начался на большом возвышении обряд. Был он долгим и утомительным, ибо Кюльвер еще не весьма наторел в этом искусстве и не понимал, что людскую толпу должно вовлечь в действие, заставить дружно волноваться, ликовать, а коль скоро понадобится, то и страдать, и кричать – лишь тогда она сольется воедино. Он же, их Прожектер, желал быть всем без изъятия: и Козлом Отпущения, и Блудницей, и Матерью, и Отцом, и Жизнью, и Смертью, и Жертвой, и Палачом, и люди не имели случая соучаствовать в его лицедействовании и мучениях – не обошлось и без того, что сопутствует нынешним сатурналиям и губительнейшим образом действует на впечатление от религиозного обряда: озадаченного смеха.
В действе, которое придумал Кюльвер, ему завязали глаза, раздернули сзади полы его одеяния, и начальствующий Жрец, или Папа, или Епископ что есть силы стегал его по седалищу, для чего Папе вручалась связка ивовых прутьев с белыми катышками и давался наказ непритворно их обагрить, ибо в новом мире должна пролиться не поддельная, но подлинная кровь. Папскую же митру с рогами, закрученными как языки пламени, носила не кто иная, как госпожа Мавис, которая, подобно Самсону Оригену, не желала соучаствовать в карнавальном обряде, но сдалась перед упорством Кюльвера и его убежденностью в собственной правоте. Он победил ее нежелание и сопротивление, обвинив ее в том, что она не готова поступиться собственной прихотью для общего блага. Когда же она возразила, что по уговору всякий должен не подчиняться воле общества, а искать с ним согласия, он обвинил ее в увертливости и лукавстве. Сразу видно, объявил он, что ей милее старые порядки, буржуазная косность и раболепство слуг, лицемерие, благообразие и мелочные приличия, которым нет места в мире истины и прямодушия. И не менее ясно, что она по-прежнему подвержена порокам, рассадником коих является такое отупляющее и калечащее душу установление, как семья. Право же, сказал Кюльвер госпоже Мавис, сдается ему, что ей лучше удалиться из замка восвояси. И госпожа Мавис припомнила выжженные и засолоненные поля своей родины, припомнила виселицы и казематы для смертников, рыщущие шайки голодной солдатни – припомнила и горько заплакала. Припомнила она и свои fêtes champêtres, и шляпы в лентах под сению дерев и заплакала еще горше. Страх обуял ее, и, как она знала по опыту, страх не напрасный, и она отвечала, что согласна сыграть небольшую роль. Пусть и дитя ее, малютка Фелисита, играет с ней, не отставал Кюльвер, она будет Новым Годом, знаменованием Нового Солнца, свечой, которая озарит всем путь к новой, более яркой жизни. Рад он был наблюдать ужас госпожи Мавис, ибо до сей поры она на него смотрела с доброй, снисходительной укоризной, будто думала: он еще образумится. Радовался он и мысли, что сделал ее исполнительницей наказания над собою, ибо сечение было ей ненавистно, кого бы и за что бы ни секли, однако ж в глубине души она была бы не прочь посечь его за такое с ней обращение и ненавидела себя за такой порыв.
И это оказалось правдой, ибо рука, стегавшая белое (хоть и прыщавое) седалище Блудницы, отчаянно дрожала, и удары выходили легкими.
– Крепче, – процедил сквозь зубы Кюльвер, – не то плохо тебе придется…
– Крепче, – сказал полковник Грим, изображавший sage femme. – Хлещите от души, не то не бывать вам свободной. Чем вам не случай, сударыня, ублажить и себя и его?
– Крепче! – смеялась под маской ястреба госпожа Розария. – Пусть узнает, какой фурией бывает женщина, если разжечь в ней праведный гнев!
Поначалу Папа хлестал слегка, неохотно, но, когда показалась кровь, он вошел в раж и принялся стегать, не помня себя, покрывая седалище Кюльвера сетью из красных рубцов, и не унимался даже тогда, когда обессилевший Кюльвер со вздохом дошел до последнего предела боли и наслаждения. Разуму и Ананке пришлось оттаскивать Папу от своей жертвы, и он, повесив увенчанную митрой голову, опустился на подмостки и завыл, как побитый ребенок. Тут Разум и Ананке принесли чан с красным винным отстоем и окатили багровое седалище Кюльвера, так что разлилось по подмосткам море вина и крови. И в эту кровавую жижу выползло из-под престола нагое дитя со свечой, малютка Фелисита, которая доселе ежилась там в грязи и задыхалась от смрада, – красная от крови девчушка, которая, как ей было велено, воздевала свечу, но рыдала без удержу. Ропот пошел по толпе: вид у Папы и Нового Года был прежалкий, обе рыдали. И поднялся Кюльвер в своем одеянии, вдруг угасший, только взгляд его метал молнии. И лишь Самсон Ориген негромко раз-другой хлопнул в ладоши. А стража на стене замка увидела, как над лесом вдали красной полоской занялся восход нового солнца: время Кюльвер рассчитал безупречно.
Выше в этом повествовании уже упоминались сомнительные и без сомнения непристойные обычаи обитателей дортуаров, устроенных по начертанию Кюльвера. Похоже, сей мудрый муж имел, увы, изрядно прекраснодушные понятия о детском возрасте как о поре райской невинности, и маленькие создания, спящие под сводами своих опочивален, представлялись ему полными сил лучами света, существами из теплой, чистой, безгрешной плоти, склонными к чуткой доброте, простодушному озорству, хитрыми на выдумки, и только взрослые своими губительными запретами да попреками, порождением больного общества, подавляющего страсти, удушают, извращают, выхолащивают эти свойства детей. Спора нет, озорство, простота и хитроумие клозетмейстеров – так именовали начальников выгребных команд – процветали среди кроваток и кушеток детского гарема пышным цветом. «Как взыскивать с юных поборников свободы за шалости, небрежение и нерешительность, общество должно оставить на усмотрение их ровне, – учил Кюльвер. – Те лучше рассудят, как поступить и как назначить соразмерное проступку наказание, которое может быть совсем пустяковым: оставить на короткое время без шоколада или принудить к исполнению какой-то услуги – скажем, вычистить кому-то башмаки».
О наказаниях, какие придумывали в ночные часы клозетмейстеры, ходило немало рассказов, и не все у меня повернется язык повторить. Жожо, Адольф, Капо и Злорад недаром славились искусством премило издеваться, умением держать кого надо в томительном ожидании и восхитительно произвольничать, так что мальчики и девочки ни днем ни ночью не ведали, когда их подвергнут веселым надругательствам или объявят их вину, отчего наказанием становился уже нестерпимый страх и неодолимый трепет. Эти ловкие отроки умели повелевать биением детских сердечек и вторгаться в серое вещество юных мозгов с той же легкостью, с какой вторгались в постели, рты и зады спящих. На другой вечер после обряда Солнцестояния они объявили маленькой Фелисите, что недовольны ее поступками, чему есть две причины. Первое: она приняла на себя наиважнейшую роль в обряде из желания пустить пыль в глаза, она подличала и унижалась, дабы иметь случай покрасоваться нагишом со своей дурацкой свечкой. Второе: нащеголявшсь своим тщедушным тельцем, она разревелась как ребенок, чем испортила веселое торжество: она их всех опозорила.
И поставили малютку посреди дортуара, и стянули с нее ночную рубашку, и потешались над ее наготой. И все надели красивые маски, в которых резвились на карнавале: совы и кошечки, тритоны и головастики, зубастые кролики, и тупоносые медведи, и своевольные барашки, и приплясывали вокруг нее, и тыкали пальцами, и поносили ее животик, и ляжки, и дрожащие коленки. А Жожо объявил, что накажут ее не сейчас: сперва пусть хорошенько подумает о своих проступках, а приспеет время – придут судьи и обойдутся с ней по-свойски, как – он не скажет.
И все от нее отвернулись и, собравшись в кружок, принялись зубоскалить, а малютка надела ночную рубашку и побрела к кроватке в углу, где она часто лежала, свернувшись калачиком, как горемычная улитка. Но Жожо подскочил к ней и сорвал с нее одежду, примолвив: хотела выставляться голышом, пусть голышом и ходит. И она заползла под одеяло, и зубы ее стучали, как вязальные спицы, и стук этот досаждал Адольфу, и тот, ухвативши ее за подбородок, принялся что есть мочи клацать челюстью о челюсть, и все смеялись.
И было слышно в ночи, как Фелисита плачет и стонет, хотя эти звуки и приглушались подушкой и одеялом. Но Жожо, и Адольф, и Капо объявили, что этот несносный шум мешает им спать, стащили девочку с кроватки, запихнули вниз головой в чулан для метел и заперли. Повой-ка теперь вверх тормашками, сказали они, но она отвечать не могла.
Наутро, когда все, смеясь и болтая, ушли на завтрак, Флориан, брат Фелиситы, отпер чулан, и она выпала оттуда, одеревеневшая и холодная, как камень. Флориан прижался щекой к ее сизым губам и обнаружил, что она дышит: ощутил ее слабое дыхание своей теплой кожей. Он завернул ее в одеяло, и качал ее, и успокаивал, и через несколько времени ее пробрала дрожь, и кровь заструилась в ручках, и она встала на ноги. И вымолвила она: «Б-б-б-б…» и «К-к-к-к…» – но больше ни слова. И больше она никогда ни слова не произнесла, только безмолвно блуждала по Башне, хоронясь от взоров людей и пластаясь по стенам, ибо ноги ее почти не держали, и струйка слюны бежала у ней изо рта.
А Флориан все думал и думал, не рассказать ли кому-нибудь, что случилось с его сестрицей, но рассудил, что лучше молчать от греха подальше. Но однажды, увидев, как мать убивается над онемевшей дочуркой, не стерпел и рассказал все, как было, – все до конца. И зарыдала госпожа Мавис, и не могла придумать, как ей теперь быть. Хотела было обратиться к Совету общества и, не обинуясь, все рассказать и добиваться возмездия. Но, поразмыслив, она почла за лучшее промолчать: это же дети, которых она с опасностью для жизни спасла от солдат Революции, притом дети и есть дети – они, верно, сами не поняли, что натворили. И она призвала к себе Жожо, и Капо, и Адольфа, и сказала, что обвинения и расправы дело негодное, что, по ее суждению, нельзя в гневе или из холодной мстительности лишать человека ни ока, ни зуба. Нам должно любить друг друга, как это ни трудно, говорила она удрученным, исполненным кротости отрокам. Те же отвечали, что это истинная правда, но что это они причинили зло ее дочурке, так несдержанно игравшей роль Нового Года, в этом нет ни правды, ни истины. Их оговорили, наплели небылицы, но, как признает сама госпожа Мавис, в обществе, основанном на любви, должен царить дух милосердия, а посему они прощают клеветникам.
На другой день за завтраком хватились Флориана, но его нигде не было. Часов двенадцать спустя, когда общество посчитало, что впору встревожиться, учинили розыски, но Башня была так обширна, колодцев и ям, тайных ходов и укромных покоев такое множество, стены так высоки, а ров так глубок, что маленький сумасброд как в воду канул: ни волоска, ни косточки, ни капли крови, ни тени доброй улыбки.
После исчезновения Флориана и тщетных розысков госпожа Мавис сделалась молчалива и нелюдима, а между тем продолжала исполнять общеполезную работу: чистила картофель, чинила одежду, пекла пироги и готовила мирлитоны – трубочки с пряным кремом, которые у нее получались лучше, чем у прочих. Она лишь просила освободить ее от обязанностей в детских покоях, и многие посчитали эту просьбу естественной и достойной, хотя детские покои были учреждены вследствие общего желания истребить материнскую привязанность лишь к собственным чадам.
Спустя несколько времени члены общества получили изящные записочки с приглашением на пиршество, затеваемое на верхней площадке Белой, или Истыканной, башни (башня имела два названия оттого, что одно относилось к цвету камня, из коего она слагалась, другое – к своеобычности ее архитектуры: множеству стрельчатых и ланцетовидных окон). В изящных записочках гостей созывали на fête champêtre, и название это было не так ложно, как может показаться, ибо площадка на вершине башни, окруженная ветшающими зубчатыми стенами, давно заросла дикой травой-самосейкой, цепкими бесплодными смоковницами, ярким крестовником, львиным зевом и одуванчиками. И хотя, по общему мнению, fêtes champêtres госпожи Мавис были, по нынешним временам, несколько пресными, несколько passée, все соболезновали несчастной, и в назначенный час немало гостей пустилось взбираться по растрескавшимся ступеням, хохоча, толкаясь на поворотах и втайне с жадностью предвкушая знатное угощение.
Было видно, что госпожа Мавис готовилась к своему скромному празднику со тщанием. Под раскинутым между ветхими стенами небольшим навесом из черного и красного шелка стоял длинный стол, покрытый парчой и уставленный лакомствами и кувшинами с красным игристым вином, а меж ними лежали гирлянды из остролиста с колкими, словно иглы, листочками и красными, словно кровь, ягодами. И на госпоже Мавис была багровая накидка поверх белоснежного одеяния, а в волосах глянцевел остролистовый венок.
Гости приметили, что блюда расставлены с изрядной выдумкой, так что из них получалась человеческая фигура, мужчина ли, женщина – не разобрать, ибо госпожа Мавис со своей старомодной стыдливостью укрыла причинное место венком из того же остролиста, из-под которого проглядывали засахаренные смоквы, а груди, как мы дальше узнаем, имели двусмысленный вид. На первый взгляд это человекоподобное угощение походило на вымахавшего до исполинских размеров Пряничного Человечка, каким ведьма заманивала Гензеля и Гретель в свой домик. Большое тело было составлено из мелких предметов: мармелада, конфет и печенья с изюмом, из мирлитонов и мильфеев[149], из плошек с муссами и силлабабом[150], с бланманже, дариолем[151] и гоголь-моголем, из открытых пирогов и тарталеток. Голову украшал венец из тарталеток и петушиных гребней, а тело с отчетливыми формами испещряли жилки и ямочки: там ломтики айвы, тут черничные вены и черносмородиновый румянец. Лицо – взбитые сливки с безе, щеки – пирожные с розовым кремом; пухлые губы – красные яблоки в пенке от клюквенного варенья – окружали открытый овальный пирог с печеными языками жаворонков и зубами из миндаля в сахаре. Глаза были устроены так: зрачки – тарталетки с терновым джемом, радужная оболочка – желе из слив-венгерок с крапинками ванили и обводом из белого силлабаба, опушенного ресницами: нитями жженого сахара. На руках и ногах этого Сладкого Человека блестели длинные красные ногти: заостренные с одного конца пирожные с глазированным желе багрового цвета, а от них, словно капли крови, тянулись пирожные поменьше, тоже с багряной глазурью. Грудями этого Кондитерского Существа были две невысокие горки марципанов, на вершине которых, словно замки, темнели соски из шоколадного трюфеля: груди не то юной девы, не то мужалого юноши, сладостные и на вид, и на вкус. Пупком был глубокий пирог в окружении персиков в сливках, а в нем – завиток из заварного крема. Лакомое тело это, с позволения сказать, блистало наготой, если не считать ожерелья из тарталеток со смородиной в багровом желе, а еще ряд таких тарталеток тянулся от подбородка до паха, точно пуговицы на камзоле Панталоне, и пересекался с таким же рядом на талии, отчего казалось, что тело не то стянуто блестящими пунцовыми узами, не то рассечено на четыре части.
– Как мухи, утопшие в крови, – сказал Жожо Адольфу, указывая на эти тарталетки и облизываясь.
Между грудями этого Съедобного Человека было выложено щитообразное сердце из крошечных кроваво-красных пирожных в виде сердечек. В глубокий треугольный разрез в этом пухлом сердце вонзился, как лезвие, треугольный кусок пирога, покрытый, как видно, сажей.
Госпожа Мавис с улыбкою наблюдала, как восторженная ватага раздирает на части и пожирает Человека Из Снеди. С улыбкой напомнила она Кюльверу, как в самом начале, когда они замышляли побег, и в недобрую пору, когда им грозила опасность и приходилось таиться, полагаясь лишь друг на друга, мечтали они о таком обществе, где всякому пришельцу будет готово сколько угодно сладостей, где всякий сможет вволю полакомиться пирогами и пряными тарталетками. Сластена Кюльвер, кусая мирлитон, в ответ тоже вспомнил, как он мечтал, что, установив новый порядок, они вместо войн станут вести гастрософские[152] диспуты и устраивать кулинарные ристалища, где будут, не жалея сил, состязаться в умении стряпать пироги, и песочные печенья, и волованы, и франжипани[153], и суккоташи[154], и безе.
И вот, когда Человек-Угощение был расчленен и растерзан, когда опустел его сладостный пуп и растаяли на языках шоколадные соски, когда его сердце и лик обезобразились зияющими провалами, госпожа Мавис взошла по лестнице, ведущей к вершине стены, и встала так, что фигура ее темнела против ясного неба, а зимний ветер взметал край шелкового навеса подле нее и развевал ее немного небрежно уложенные волосы.
– Прежде чем вы продолжите вкушать, попивать и жевать угощение, которое, смею надеяться, пришлось вам по вкусу, – сказала она, – да будет мне позволено ненадолго отвлечь вас от этого важного занятия и произнести несколько слов. И слова эти будут вопросом, и если я не услышу ответ, то скажу, что думаю.
– Ни дать ни взять школьная учительница, отчитывающая неслухов, – сказал Жожо Адольфу. – Только мы люди свободные, нету у нас ни учеников, ни учительниц, а послушание вздор.
А госпожа Мавис продолжала:
– Вопрос этот, на который, боюсь, ответа не получу, таков: где мой сын Флориан? Я не верю, что никому не известно, что с ним сталось. Я верю, что есть среди вас такие, кто при желании откроет всю правду. И если он жив, я хочу придти к нему на помощь, освободить его, приласкать, если он мертв – оплакать его и похоронить как подобает.
Госпожа Розария, охваченная состраданием, молвила:
– Ты же знаешь: мы искали повсюду, не день и не два. С таким усердием не искали бы и родное дитя – да он и был нам родным, ибо все мы друг другу родные. Заглянули в каждую щель, осушили ров, весь лес обошли.
– Обыскали каждый чулан, – добавил с видом величайшей озабоченности Жожо. – Думали, может быть, он там заперт. Кладовые, чуланы, угольные подвалы – все обыскали.
– Он был малыш своевольный, – сказал Альфонс. – Никогда никого не слушал. Может, забрел в свинарник или на скотобойню или в колодец свалился, или волк его утащил. Мне сдается, мы больше его не увидим.
– Надежду терять нельзя, – возразил Кюльвер не слишком уверенно.
– В прежнее время я знал, как правду добыть, – сказал полковник Грим. – Но в новом мире моим приемам едва ли найдется место.
– Туда им и дорога, – презрительно отозвалась госпожа Пиония. – Сколько невинных у тебя на дыбе возвели на себя напраслину?
– Вот-вот, – отвечал полковник Грим. – И я убежден, что всю правду мы никогда не узнаем.
– Я тоже пришла к этой мысли, – сказала госпожа Мавис. – Но сейчас я хочу говорить о другом.
Она подошла к столу и вынула из сладкого сердца Кондитерского Создания замаранный сажей треугольный кусок пирога, к которому никто не притрагивался. Она откусила от него и вернулась на прежнее место у вершины стены, чувствуя на языке черный вкус и вкушая овеществленный в нем мрак.
– От знатоков старины нам известно, – начала она, – что на вершине зиккуратов Древнего Вавилона имелась палата, отведенная для бога Ваала: там он проводил ночи со жрицами, порой соучаствовал в пирах за огромным каменным столом, а в иные времена – времена тяжелые – требовал, чтобы ему приносили там жертвы. Какие – рассказывают об этом много: и искусно изжаренные человечьи сердца, и детей человеческих, первенцев, которых связывали и бросали в огонь алтаря. Рассказывают, что для пиршеств испекали огромный пирог, разрезали на малые доли и одну покрывали сажей от неугасимого алтарного пламени. И каждый с завязанными глазами брал себе одну долю, и кому доставался черный квадратец, считался избранным, посвященным богу. Несколько времени Посвященного питали и откармливали, доставляли ему все утехи плоти: сладости и вино, утолителей похоти и дурманящие курения. В урочное время улыбающегося Посвященного вели к алтарю, и бог, умилосердясь, во весь год не воздвигал на людей свой гнев и гонения, и были их жито и виноградники преизобильны, и дети рождались тучные и здоровые. Рассказывают, кребы и посейчас зажигают в лесах праздничные костры и приходят к ним с приношением: приводят не то пленника, не то козла, не то дурака, не то любимого сына – говорят разное. Да и по учению религии, от которой мы отреклись, Богочеловек пресуществил себя в хлеб и вино, испил горькую чашу и отдал себя на растерзание, дабы избавить людей от страданий. Принес себя в жертву себе, как нас учили.
Мы не боги, но просто разумные существа, взыскующие счастья. Нету у нас богов, которые бы нас судили и утешали, доставляли и облегчали страдания. Мы – это мы, и больше никто, и в недавнее время мы открыли в себе закоренелую страсть причинять и испытывать боль, вековечный позыв приносить кровавые и бескровные жертвы. Я эти недели много об этом думала, о страсти к мучительству. Бывает, на птичьем дворе стоит матерому кочету или молодому петушку приметить, что кто-то из птиц истекает кровью, ходит с перебитым крылом или хромает, как они остервенело бросаются щипать и клевать ее. Заклевывают до смерти, общипывают грудку до лиловой пупырчатой кожи, долбят до крови, до кости. Но это понятно: что взять с несмышленых пернатых тварей?
Я не верю, что жертва какому-то богу поможет мне вернуть сына. Я не признаю мщения: оно пережиток былого уклада, от коего мы отрицаемся. Не хочу я, чтобы чей-то сын оком ли, зубом ли заплатил за милое око моего мальчугана и его неокрепший зуб, что бы с мальчиком ни случилось. Наказывать можно только себя, и общипанная смешная наседка, будь у нее хоть толика разума, поспешила бы приблизить свой конец. Я знаю: если мне верится, что гибель моя поможет заклясть дух жестокости, который меж вас поселился, это всего лишь прекраснодушные мечтания. У меня есть надежда, – с этими словами она поднялась еще выше, а ветер, взметавший ее волосы и одеяние, все крепчал, – у меня есть надежда, что я унесу с собой закваску свирепства и злобности, которая делает свое дело, что я соберу в себе ее бродильную силу и своею смертью ее уничтожу. Потому что я ухожу по доброй воле, и в смерти моей никто не повинен. Я убиваю себя и этим словно бы воскрешаю невинность нашего начинания. Я хочу, чтобы со мной ушла вся боль и на время вернулась невинность сладостям и цветам.
И она поднялась еще на ступеньку и окинула взглядом толпу. И тут раздался меж дамских подолов странный сдавленный звук, и Фелисита, выпроставшись из них, в три прыжка оказалась у лестницы, взбежала по ней и вцепилась в юбку матери, натужно мыча, как все бессловесные. Госпожа Мавис взяла ее на руки, обняла, расцеловала, а по щекам у нее бежали слезы.
– Дитя спасло мать! – воскликнула госпожа Розария.
Но госпожа Мавис поднялась на самую верхушку стены, замерла там на миг, что-то шепча и воркуя дочке у нее на руках, и так, шепча и воркуя, ступила в бездну.
Все бросились к стене. Все, кроме Кюльвера: он кинулся вниз в надежде подхватить давнишнюю соратницу своими крепкими руками.
– Напоследок решила сама превратиться в желе, – сказал Жожо Адольфу. – Ну да она легкая.
Она и правда была невесома, башня была высока, а тут еще просторные юбки. Они удерживали ее в воздухе, и она порхала, кружилась, как тополиный пух, как воздушный змей. Продолжала ли она напевать, было не слышно, но все услыхали крик ребенка, надсадный, пронзительный: девочка поняла, что в конце этого медленного падения – смерть.
Замок снова сыграл со своим владельцем злую шутку: коридоры были предлинные и коварные. Кюльвер мчался, падал, вставал и бежал дальше, обнаруживал, что кружит: поднимается там, где только что спускался; навалился плечом на дверь, но замок и петли заржавели, бросился к другой, распахнул – и чуть сам не свалился в бездну.
А госпожа Мавис все опускалась, словно большая птица, покачиваясь на юбках под хриплый детский крик и собственное пение. Но когда она заприметила верхушки деревьев, где полет ее мог прерваться или она могла присесть, как птица, на ветку, она неуклюже извернулась, перекувыркнулась и полетела стремглав, утопая лицом в юбках и болтая стройными ножками в кружевных панталонах. И ударилась она головой о камень, как улитка, брошенная дроздом, и расселась ее голова. Только и успел Кюльвер, подбежавший по боковому мосту через ров, что взять из судорожных материнских объятий крошку Фелиситу, целую и невредимую, и отереть с ее лица капли крови и мозга.
– Если она полагала, что лиходеи ее сына от ужаса вразумятся, она просчиталась, – сказал Турдус Кантор.
– Она лишь прилакомила их к крови, – отвечал полковник Грим. – И к зрелищам. Как бывало в старом свете.
– Она впала в старое заблуждение, будто, наказуя себя, пристыжаешь злых, – сказал Самсон Ориген. – Много есть женщин, которые думают своею болью уязвить обидчиков, тогда как те упиваются ею.
– А какого ты мнения о ее речах касательно жертвы? – спросил Турдус Кантор. – Мне сдается, ее суждения на сей предмет изрядно ложны и сбивчивы.
– Все суждения на сей предмет ложны и сбивчивы, – отвечал полковник Грим. – Но решимость солдат и судей, королей и священства малая толика крови укрепляет чудесным образом. Она освящает их право носить это звание.
– Что необходимо, то неотвратимо, – сказал Самсон Ориген. – У этой машины завод никогда не кончится. Наша кровь – что смазка для ее шестеренок, добровольно ли мы ее проливаем, нет ли. Наши желания в уважение не берутся. А с другой стороны, без этой дамы в нашем мирке поубавится причин для раздражения и гонений. Жар в крови поутихнет. Или станут жарче ненавидеть тех, кто не так беззащитен. Кровь как вода: то прибывает, то убывает, пока не найдет свою меру.
Фредерика размышляет о приемных и недоумевает, с чего бы это: ведь она сидит не в приемной, а в кабинете Арнольда Бегби напротив самого Арнольда Бегби, оба – в хромированных креслах с обивкой из дубленой шкуры. Бегби – совладелец конторы «Бегби, Мерл и Шлосс». Кабинет помещается на первом этаже георгианского здания на Сандерленд-сквер – опять-таки в Блумсбери. Бóльшую часть помещения занимает обширный дубовый стол Бегби. В окно, забранное причудливой стальной сеткой, потоком льется солнечный свет. За окном, как острия пик, щерятся навершия железной ограды вокруг садика для жильцов. Слышно, как в садике играют дети: бегают, окликают друг друга.
Фредерика одета наподобие подруги Робин Гуда Девы Мариан, как ее изображают на детских утренниках: короткое платье из зеленой замши, колготки в сеточку, замшевые сапоги выше колен, с мятыми голенищами. На Арнольде Бегби темный костюм, галстук в кроваво-красную крапинку. Волосы кудрявые, артистически растрепанные. Темные глаза, золотисто-смуглое костистое лицо: скулы, нос, подбородок так и выпирают. Говорит негромко, с шотландским акцентом. Он пишет и бормочет:
– Так вы твердо решили развестись?
На странице его блокнота узорится тень от сетки.
– А зачем бы еще я к вам обратилась?
– Вам лучше знать.
– Я не хотела вас обидеть.
– Вы не обидели. Просто ко мне часто обращаются насчет развода, хотя многие развестись и не хотели бы. Расскажите о себе, миссис Ривер, и о своем супруге.
Фредерика коротко, бесстрастно рассказывает о своей семейной жизни. Она заранее решила, о чем расскажет, о чем умолчит. Она сообщает, что муж надолго оставлял ее одну, что он не позволял ей устраиваться на работу. Что она ни с кем не виделась, а когда однажды ее навестили друзья, муж без всякой причины разбушевался. Дошло до рукоприкладства, сдержанно добавляет она. Напал на нее. Причинил ей боль. Когда она пыталась бежать, он бросил в нее топор и нанес ей ранение. Она говорит ровным, спокойным, протокольным голосом и гордится собой за это. Бегби записывает.
– Это все? – спрашивает он.
– Мы психологически несовместимы.
«Несовместимы»: глупое слово. Что им выразишь?
– Я сама виновата. Мне не надо было за него выходить. Не надо, я понимаю.
Она твердит себе это каждый день. Бегби постукивает ручкой по крепким зубам. Психологическая несовместимость и ошибка, сообщает он профессионально участливым голосом, не являются основаниями для расторжения брака. Основаниями являются уход из семьи, жестокое обращение, супружеская неверность, психическое заболевание и некоторые скрытые и недопустимые деяния, вдаваться в которые сейчас, конечно же, нет нужды. Фредерика может потребовать развода на основании жестокого обращения. Невнимание к партнеру, нежелание прислушаться тоже может в некоторых случаях квалифицироваться как жестокое обращение. Физическое насилие, разумеется, к жестокому обращению относится, однако судьи, оценивая последствия единичного акта насилия, принимают в расчет личные качества партнеров и обстоятельства происшедшего. Надо думать, она не привыкла, чтобы ее били или бросали в нее какими-либо предметами? Нет? Отлично. Обращалась ли она в связи со своей раной к врачу?
– Ну да, – отвечает Фредерика. – Мы сказали, что я споткнулась и упала на колючую проволоку.
– Жаль. Думаете, он поверил?
– Не знаю. Он наложил шов. А перевязывал врач в Лондоне. Ему я рассказала все.
– Увы, не годится: после ранения прошло слишком много времени. Впрочем, он может хотя бы засвидетельствовать, что подобные раны – не след колючей проволоки. Суды косо смотрят на жалобы о физическом насилии, не подтвержденные свидетелями. Кто-нибудь еще видел вашу рану?
– Несколько человек. Но им рассказывать не имело смысла.
Арнольд Бегби оставляет эту тему и спрашивает, не станет ли супруг Фредерики чинить препятствия, если она подаст на развод. Фредерика отвечает, что станет: при их последней встрече он настаивал, чтобы она вернулась и вернула сына. Он терпеть не может, если ему не подчиняются или перечат. И добавляет: ей ясно, что, если позволить сыну навестить отца, сына она больше не увидит. Адвокат обращает ее внимание на то, что у суда может быть свое мнение касательно прав отца в отношении ребенка. Фредерика говорит, что она и сама считает, мол, разлучать сына с отцом нельзя, она постарается, чтобы они общались, но она нутром чувствует: отпустит сына в гости к отцу – потеряет его навсегда. Для суда, объясняет Арнольд Бегби, свидетельство ее нутра потребуется подкрепить доказательством. В воображении возникает ее нутро, скрытое упругой плотью и замшей, ссохшееся от делового и тусклого юридического языка. Нутро не свидетель.
Арнольд Бегби переходит к вопросу о супружеской неверности. Миссис Ривер не упоминала, подозревает ли она супруга в изменах. Она говорит, что он надолго отлучался из дома. Были ли у нее подозрения, что в это время он встречался с другими женщинами?
Фредерика отвечает, что не знает, не задумывалась. Муж ее, кажется, любит, а что касается интимной жизни, добавляет она, чуть зардевшись, тут у них все в порядке, никакой несовместимости. Опять это глупое слово. Она мнется. Бегби замечает ее колебания.
– Вы, кажется, что-то вспомнили, – подсказывает он.
– Не совсем, – отвечает Фредерика. – Просто у меня… венерическая болезнь.
Точное, неприятное слово произнесено, и она гордится собой за это. Но Фредерика есть Фредерика: заставив себя его выговорить, она вызывает в уме рой не идущих к делу ассоциаций: пылкая Венера Шекспира, домогающаяся любви Адониса[155], скрытая покрывалом Венера Спенсера[156], Венера средневековая, царственная особа на колеснице, запряженной голубками в сопровождении крылатого сына с колчаном пламенеющих стрел… Фредерика ерзает в кресле:
– Больше я никак ее подцепить не могла.
– Больше никого не было?
– Я же говорю.
– Инфекционное венерическое заболевание – доказательство супружеской неверности. Можете предоставить справку?
– Могу.
Разговор продолжается. Фредерика роется в памяти. Договариваются: Арнольд Бегби письменно уведомляет Найджела Ривера о том, что его супруга намерена подать заявление о расторжении брака на основании жестокого обращения, а дальнейшее будет зависеть от его реакции. Тем временем Фредерика вернется домой и составит доскональнейшее описание их семейной жизни, приводя примеры всех поступков супруга, которые можно трактовать как проявление жестокости, и перечисляя все вспомнившееся ей факты, которые могут служить свидетельством супружеской неверности. Арнольд Бегби интересуется, как миссис Ривер смотрит на дружескую встречу сторон в присутствии ее адвоката касательно развода, содержания ребенка, заботы о нем и опеки над ним.
– Я не хочу, чтобы муж знал, где я живу.
– Скрыть это будет непросто. А где вы живете?
Фредерика рассказывает.
– Этот мистер Пул, у которого вы проживаете: вы намерены после развода выйти за него замуж?
– Нет, – говорит Фредерика. И помолчав: – Просто мы там на время устроились… Это не то, что вы думаете… Только чтобы было кому за детьми ухаживать… Это…
Верит ли он или нет, непонятно.
– Если вы подаете на развод, – объясняет он, – то в случае измены с вашей стороны вы должны обратиться к суду с просьбой не разглашать подробности этого факта. Ваш адвокат обязан довести это до вашего сведения.
– Да не было никакой измены! – Фредерика уязвлена до глубины души. – Во-первых, я заразная, я же говорила…
Он смущенно запинается:
– А если бы не это, вы бы не прочь?
– Я не это имею в виду. И мне кажется…
– Вам кажется, это не мое дело. Мое, миссис Ривер, мое. Учитывая, что ваш супруг может воспрепятствовать разводу, я не советовал бы вам жить в одной квартире с мужчиной, с которым у вас нет родственных отношений, хотя бы в этой же квартире жила еще прислуга и несколько детей.
– Если я буду одна сидеть с ребенком, я же не смогу зарабатывать.
– Обратитесь к мужу, чтобы он обеспечил и вас, и ребенка.
– Ни за что! Я хочу жить своим трудом.
– Я бы на вашем месте на это не упирал – если вы хотите, чтобы суд назначил опеку над ребенком вам.
– Но мы устроились так, что…
– Что это производит невыгодное впечатление. Мой совет: съезжайте. Если только вы и правда не намерены выйти за мистера Пула. У него-то такое желание есть, как по-вашему?
Фредерика, вспомнив свои путаные опасения на этот счет, не отвечает.
– Подумайте насчет этого, миссис Ривер, – говорит Арнольд Бегби. И улыбается. – Ну вот, загрустили. Не падайте духом.
– Чувствую, попала я в переплет.
– Ничего, выкрутимся.
Так Фредерика впервые попробовала себя в юридическом жанре. Формальное изложение сюжета, предназначенное для небеспристрастного должностного лица. Фредерика отобрала элементы повествования, Арнольд Бегби их систематизировал, оценил, поменял местами, дополнил. Это только начало, будет еще. И еще, и еще.
Выйдя от Бегби на озаренную зимним солнцем площадь, Фредерика останавливается и сквозь прутья ограды наблюдает, как в саду возле газона гоняют по гравию на трехколесных велосипедах двое светловолосых детишек: постарше девочка, помладше мальчик. Спиной к ней на скамейке сидят две женщины. Фредерика слышит их разговор.
– Они все такие. Я своему говорю: «Вот ты огрызаешься: „Хватит меня распекать!“ – а я бы не распекала, если бы ты слушал и помнил, что я говорю». Куда там: это ниже его достоинства, я, видите ли, болтаю о пустяках, а он мировые проблемы решает. Говорю: «Мне поневоле приходится забивать голову тем, что ты не хочешь ни слышать, ни обсуждать, я бы тоже не прочь порешать мировые проблемы, а приходится вместо тебя помнить о пустяках». Чем я там забиваю голову, ему и дела нет, у него мысли чистые, как первый снег, стерильно, так сказать, чистые.
– По-моему, они боятся, – отвечает вторая. – Мой на меня смотрит как на заполошную наседку или собственную мамашу, которая запрещает сладкое, хлопает по рукам, твердит, что чего можно взрослым, детям нельзя. Какая я ему мамаша? Я ничьей мамашей быть не хочу – в смысле хлопать по рукам и запрещать. Но ничего не поделаешь: надо же кому-то кормить его, обстирывать. А заговоришь о хозяйственных делах, усмехнется этак снисходительно – как малый ребенок – и отправляется в паб. А если я тайком сделаю что-то такое, что ему не по вкусу, рвет и мечет.
– И вечно: «Где у нас то? Есть у нас это?» Когда бы ни пришел: «Есть в этом доме еда? А где у нас хлеб?» – и стоит. Нет чтобы самому поискать. «Где у нас масло? Где у нас спички?» Бывает, сам видит где. А я беги и принеси. Не может без этого.
– Зачем же вы приносите?
– Так быстрее. Да и спокойнее.
– А если откажетесь – если мы все откажемся?
– Стукнет еще. Или из дома уйдет.
– Вы и правда так думаете?
– Да.
Смешок.
– Вот и я тоже.
Это единый голос хора. Говорящих не видно, только большие вязаные шапки, черная и белая, и шубки из искусственного меха, оранжевая и ярко-розовая. Голоса приятные, с шутливыми интонациями, выговор как у дикторов Би-би-си. Мужья их друг от друга неотличимы: некий «Он», и в этом контексте неотличимы и женские голоса. Тоже сюжет: женские разговоры, женщины присматривают за детьми и беседуют. Судьба ли так распорядилась, или характер такой, но Фредерике никогда не случалось участвовать в женских междусобойчиках. В школе ее терпеть не могли, в Кембридже она сошлась только с мужчинами, с Розалиндой, Оливией и Пиппи общих тем для разговора не находилось. Но архетипический образ беседы анонимных женщин она распознает сразу и вдруг задается вопросом: как скажется эта беседа на отношении к мужу, когда они вернутся домой? Станут ли после этих издевок Сирил и Фред, Себастьян и Луи просто «Он, Он, Он», укрепится ли решимость дать им отпор, или смех развоплотит их? На своем скудном, одностороннем опыте она увидела, как юридический сюжет, который она построила, изменил несколько человек: Найджел теперь Супруг, она – Истец, Томас Пул – кто-то и тот, и не тот, что на самом деле
Как тема для размышлений о динамике человеческого поведения – весьма занятно.
Как происходящее с ней – жутковато. Она привыкла думать, что распоряжается собственной жизнью сама: это ее жизнь. Даже когда топор нанес ей рану, она рассвирепела из-за того, что ранили – ее, покушались пресечь ее стремление вырваться на свободу.
Новый сюжет – он как сеть, как силки. Она предстает в новом качестве, переменяется.
Возвращаясь к Томасу Пулу, она опять размышляет о приемных. Бывают в жизни минуты, думает она, когда я особенно ясно осознаю, какая я, и бывает это во время ожидания: перед дальней поездкой, между первой и самой тяжелой родовой схваткой, перед экзаменом, перед выходом на сцену. Минуты, когда я ощущаю себя во всей полноте, потому что должно что-то случиться, но все не случается. Вся моя жизнь – череда таких вот минут целокупности, которые мне ясно запомнились, хотя ничего особенного в них не было, пустяки. Стою перед дверью и не представляю, что будет дальше.
Она не может вспомнить, что было перед их замужеством. Не может вспомнить, как получилось, что она вышла за Найджела.
Она боится развода, который освободит ее, и не боялась замужества, которое связало ее по рукам и ногам.
Я не раздумывала, заключает она с горечью, думая сейчас о себе тогдашней. Сделала глупость. Не раздумывала и подарила ему кого-то несуществующего, жену вроде призрака Елены, которую увезли в Трою, а настоящая Елена пребывала в Египте[157].
Зачем я так?
Мне казалось, так надо.
Почему?
Все так делают.
Почему?
Ей представляется грузная фигура Дэниела, взявшего в жены ее сестру. Представляется сестра в кафе: положила голову на столик, плачет, смеется, говорит, что счастлива.
Я вышла за Найджела, потому что Стефани вышла за Дэниела и умерла.
Глупости.
Тогда почему?
Трое друзей стояли у входа в Часовню Языков, переполненную пришедшими послушать еще одну исповедь юного Нарцисса, который стоял перед заброшенным алтарем и рассказывал, как в детстве совратила его волосатая кормилица, а после обольстил флейтист, учитель музыки. Лицо его, как я сказывал, было белей алебастра, румянее розы, а волосы чернее эбена.
– Эти деспоты нашего детства, – говорил он, – управляют наклонностями юных душ, когда мы еще не имеем ни сил, ни разумения им противиться. Они учат нас распалять, удерживать и таиться, и, когда мы постигнем эту науку сполна, когда уже мы обретем власть над их страстями и слабостями, они в свой черед становятся нашими жертвами. Вместо стремления к невинности и свободе они вкореняют в нас срам и предательство. Я уже каялся вам, как предал приятеля своего Гиацинта в руки полиции, потому что любовь его меня утомила; я каялся, как довел Амариллис до отчаяния своим равнодушием и пренебрегательством. Я много о сем размышлял и пришел к заключению, что душевные свойства мои я в ту пору впитал не с молоком матери, а с молоком кормилицы, грубой бабищи с волосатыми губами и косматой грудью, в чьих мерзких жарких объятиях я часто задыхался и чьи дразнящие ласки меня сокрушили. Она приучила меня желать того, что мне было противно. И по ее милости я нынче таков, каков есть.
– Он все пятится и пятится, – сказал Турдус Кантор. – Начал с раскаяния за предательство Гиацинта, потом собрал всех поведать, что нашел корень зла в доносе на школьных товарищей, чтобы спастись от розги, теперь, изволите видеть, этот школьник произошел от, с позволения сказать, занянченного младенца. Помяните мое слово: скоро он обнаружит исток предательства во чреве матери, а они будут слушать.
– Что-то он молчит о сребрениках, которые заплатили ему за Гиацинта, – сказал полковник Грим. – Все про телесную страсть да извращение страсти. Что бы ему в своих пространных рассказах о том, как они там пощупывали да полизывали, поглаживали да обхаживали, не сказать про страсть, именуемую сребролюбием? Влечение к холодным кружочкам, за которые можно купить и сласти, и жизнь человека, которым безразлично, какой предмет страсти предоставить.
– Где страсть, там поражение, – сказал Самсон Ориген. – Наш великий Прожектер зовет нас уяснить себе и исследовать наши страсти, выявить каждый темный извив души, каждое темное влечение, вывести их на свет, очистить от скверны, соединить в них невинность и мудрость. Но я говорю: кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать[158].
– У тебя страстных желаний почти что и нет, – сказал Турдус Кантор. – Что многие переносят с трудом, ты выносишь легко.
– Одного я страстно желаю, – отвечал Самсон Ориген. – Я страстно желаю присутствовать при поражении страсти. Я желаю не быть. Толстяк Силен, всем пóрами источая сало и винный отстой, сказал уловившему его царю, что наивысшее счастье для смертного – не родиться, а коли родился – поскорей умереть[159], ибо это и есть истинный покой, какого не обрести нашему юному приятелю, сколько бы он ни рылся в памяти и воображении в поисках предмета для исповеди, какими бы покаяниями ни отягощал души слушателей, какими бы обидами ни делился с кем ни попадя. Истинная мудрость в том, чтобы безмолвствовать, не давать и не брать, но бездействовать.
– С тех пор как ты с нами, не очень-то ты безмолвствуешь, – возразил Турдус Кантор. – Ты и ешь, и пьешь. И речи твои назидательны. Общество твое нам приятно.
– Истинно так, – согласился Самсон Ориген. – Это, верно, действие радужных упований и неумолчной говорливости, которые разлиты в здешнем воздухе. Ваши холодные головы почти сломили мою решимость ни с кем не сближаться. И мы трое увидим, что долго так не продлится. И придет день крови, и утолятся желания, и Кюльвер поймет, куда ведет его путь, а я буду на это взирать.
Эти слова слышат Фредерика и Алан Мелвилл, стоящие возле входа в натурную студию в училище Сэмюэла Палмера, залитую сверху светом из-за стекла. Слышат их и студенты, сидящие на полу неровным полукругом. Читает Джуд Мейсон: у него на голых коленях большущая растрепанная пачка листов с машинописным текстом. На нем блестящий красный халат нараспашку, под халатом видно серо-стальное тело. Лицо закрывают серо-стальные волосы, сальные, лоснящиеся. Он восседает на кафедре, цепко, почти по-обезьяньи, обхватив ее основание грязными ногами.
– Засим окончим урок второй, – объявляет он, откинув с лица волосы. – Все суета.
Он жестом подзывает Фредерику и Алана, те осторожно приближаются и вступают в зону прогорклого запаха.
– Вы небось скажете, что читать свой опус слушателям поневоле – верх тщеславия, – обращается он к Фредерике чистым, скрежещущим голосом. – Литература по вашей части, а я вот литературное произведение написал. Но не льщу себя надеждой, что вам интересно.
– С чего вы взяли? – отвечает Фредерика. – Неожиданная вещь. Захватывающая.
Глубокие глаза на худосочном лице между серыми космами загораются.
– Это книжка дурного тона. Не для благовоспитанных барышень.
– Будет вам важничать. Ну и что, если дурного? Я же говорю: меня захватило.
– Бывают книги, от которых саднит.
– Знаю. Не хотите, чтобы я почитала, – не надо. Снова займусь «Госпожой Бовари».
– Вот это уж точно книга дурного тона. Хулиганство с отчаяния. В моей охальной книжке надежды больше, чем в этой холодной поделке.
Заметив ее интерес, он вне себя от волнения и выглядит еще омерзительнее. Фредерика ловит себя на том, что старается не смотреть ему в лицо, а вместо этого рассматривает очертания его поджарого живота.
– А признайтесь, вы не подозревали, что я пишу. Вы на меня смотрели как на кучу мусора. Говорящий мусор.
– Если и так, то вашими стараниями.
– Ну, почитайте. In manus tuas…[160] Держите. – Он торжественно подступает к ней, обдавая собственным запахом, и сует ей пачку листов. – Назначаю вас своим читателем. «Нет больше той любви, как если…»[161] Если вы хоть чуточку этот словесный дрязг не полюбите, вам через него не продраться. «Дрязг» – ох какое слово звучное. Дрязг, дрязг, дрязг… Меня прямо в жар бросило от волнения…
– Это у вас единственный экземпляр?
– Колеблетесь? Жалеете, что вызвались? Забрать?
– Да ладно вам. Просто если он единственный, мне придется за него дрожать.
– Не придется. Я торгую телом. На копирку хватает. Но большей частью пишу от руки: выпускаю из себя, исторгаю черные волокна смысла и телесной боли и протягиваю по линейкам школьной тетрадки. Тащить сюда в пластиковом пакете единственный экземпляр рукописи – еще чего. Это мое дитя, плоть от плоти моей, единственная моя отрада. Рукопись у меня в моем скромном жилище вместе с клонами и вариантами. Это мой будничный экземпляр: угожу с ним под машину, и он пропадет – не жалко. А тот, что дома лежит, написанный разноцветными чернилами, – он не погибнет. Насчет цветных чернил: упрек в подражательстве отвожу заранее. Я прямо объявляю, что это дар уважения ему, отцу Роуфу[162], великому Барону Корво: это благодаря ему я познал прелесть багровых и изумрудных чернил.
Томас Пул предупреждает Фредерику, что к ней на занятия придет инспектор. Стоит февраль, и вечерами темнеет рано. Несмотря на Рождество и мрачную пору солнцестояния, группа не поредела. Надо, чтобы студенты выступили с докладами, говорит Томас Пул. Не любят они выступать, отвечает Фредерика, и чего их заставлять, если они записались на курс добровольно? Да у нее и не получится. Они предпочитают слушать ее, ее тонкие и проникновенные рассуждения. Как бы не вышло, что своими выступлениями они друг на друга тоску нагоняют. Томас Пул говорит, что занятия имеют еще и терапевтическую задачу, а публичные выступления тоже терапия. Фредерика огрызается: она не терапевт, студенты не пациенты. С головой у них все в порядке, им надо научиться мыслить сильно и глубоко, а возможности им не дают. После она припомнит Пулу эту «терапию». Пул стоит на своем. Если она заставит их выступать, они потом сами скажут ей спасибо, уверяет он. Чтобы студенты, даже взрослые, стряхнули апатию и поверили в себя, надо давить авторитетом. Может, как считает Фредерика, насчет терапии он и не прав, но насчет авторитета – точно. Фредерика уже знает, как разговорить студентов, и то, что они говорят, и ей и им нравится. И все-таки визит инспектора очень некстати. Они в этот день будут разбирать «Замок» Кафки. Месяц назад она спросила группу, кто хочет сделать доклад о «Замке». Думала, тут же встрепенется психоаналитик Гислен Тодд – она постоянно упоминает Кафку, – но руку поднял блондин в темном костюме, который ходит на все занятия и отмалчивается, разве что иногда поболтает за кофе со вторым мужчиной в темном костюме, владельцем мотоцикла, который стал занятия пропускать.
– Ну хорошо, – сказала тогда Фредерика. – Вас особенно интересует Кафка?
– Да, – ответил блондин. И после выжидающего молчания Фредерики добавил: – Да, интересует.
И вот он собирается выступать. Слушатели обсели его крýгом в два ряда, в заднем сидят Томас Пул и инспектор. Лампы горят тускло, зловеще. Кто-то хрустит мятным леденцом. Джон Оттокар стоит посредине с аккуратно собранными листами бумаги в руках. Лицо у него породистое: широкий лоб, мягкие губы, голубые глаза смотрят приветливо. Волосы густые, пышные.
Он начинает:
– Я думаю, не мне одному в школе случалось слышать: «Не говори все время: „Я думаю“». Но я буду говорить только о том, что думаю, иначе зачем вообще выступать? Будете слушать – мое счастье. Героя книги землемера К. никто не слушает, мог бы разве что чиновник, в чью постель К. случайно залез, но К. засыпает.
Я человек не очень начитанный. Поэтому я не смогу, как вы, проводить параллели с другими книгами. Из всего, что мы здесь обсуждали, эта книга лучше всего объяснила мне, что значит быть человеком, хотя в ней и показано, что человек почти ничего не значит.
Сначала так: землемер К., который никак не добьется, чтобы его признали и приняли, и Замок.
Он видит Замок только издали, ни попасть туда, ни связаться с его обитателями он не может.
В Деревне, где ему приходится остановиться, полно человеческих существ и кипят человеческие страсти: похоть и соперничество, глупые свары и споры, кто главнее – как в курятнике.
Сначала ждешь, что Замок будет красивый, или внушительный, или мощный, как крепость. Но он не такой. Он похож на городок или на скалу. Или на зрительную иллюзию. Кафка кое-что о нем сообщает, но все, что он сообщает, вызывает противоречивые чувства, противоречивые впечатления. Замок вырисовывается «в прозрачном воздухе», одетый снежным покровом, он высится «свободно и легко». Еще он напоминает землемеру его родной городок, «чьи домишки отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась»[163]. В замке есть башня – «строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце, – в этом было что-то безумное». Башня-бред. Кафка пишет, что она словно нарисована «пугливой или небрежной детской рукой… Казалось, будто какой-то унылый жилец… вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету». Что он такое, этот Замок? Место, куда К. стремится попасть и не может, место, которое для него сейчас где-то там. Нечто вызывающее жалость, сверкающее и безумное. Слова, которые в единое целое не срастаются. Как и сам Замок.
Жизнь в Деревне – сумбур и неразбериха. Самая кошмарная картина отношений в группе – в семье, на работе, – какую можно себе представить: то вдруг вражда, то взаимная нежность, все невзаправдашнее, ни с того ни с сего. И все трещат без умолку. Болтают, болтают. Объясняются, извиняются, изворачиваются, юлят. И за этим одно: кто главнее. Похоже ли это на то, что происходит в Замке, нам не узнать: в Замок попасть невозможно.
Так бывает во сне: хочешь что-то осмыслить, распутать клубок отношений, а спящее тело, тупая тварь, мешает. Или мешает невменяемость или озлобленность тех, кто снится.
Кафка был чиновником, которым помыкали бюрократы. Жениться – и то не решился. Он пишет о любви и власти в мире, где, как во сне, полная неразбериха, а в ней идет война между червями или букашками. Ему бы про естественный отбор написать. А чиновников в Замке от сытости тоже сморил сон, и они не в силах его стряхнуть и увидеть, что делается.
Вот главное: они не видят, что делается. Говорить на человеческом языке они умеют, но думать на нем – нет, только воду в ступе толкут. Они говорят о любви, о влиятельности, но употребляют эти слова не по делу, просто так. А свобода – она что такое? Когда нападает сонная одурь, ты уже несвободен. Слова в этой книге обветшали, как сам этот Замок. В начале, когда К. еще не образумился, он пытается в Замок дозвониться и слышит в трубке странные звуки: «Казалось, что гул бесчисленных детских голосов, впрочем, это гудение походило не на гул, а скорее на пение далеких, очень-очень далеких голосов, – казалось, что это гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единственный высокий и все же мощный голос, он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в жалкий слух, но и куда-то глубже».
Детское пение – это как в раю, но гул и гудение – это уже детская площадка, где сплошной беспорядок, где могут и ушибить.
Все люди в этой книге в каком-то смысле прямо как злые дети. Об этом я бы поговорил отдельно.
Язык договориться не помогает. Общество – бредовое установление, озабоченное только тем, чтобы поддерживать свое существование, бездумное, бесцельное.
Я еще читал у Кафки рассказ «В исправительной колонии». Там изображено изуверское орудие пыток: осужденного укладывают на лежак, затыкают рот, а огромная борона своими зубьями отпечатывает на его теле какое-нибудь изречение – пишет его кровью – и в конце концов убивает. Управляет машиной офицер, он ее любит. Он все время объясняет собеседнику, путешественнику, что осужденный не может прочесть изречение, но постигает его телом. Вместо естественного порядка – работа отлаженного автомата, и эта машина, как и Замок, вблизи выглядит не так внушительно: шестерни лязгают, войлочный кляп замусолен ртами прежних жертв. К. – землемер: профессия, требующая наблюдательности, но он так погряз в сумбуре, что у него нет возможности ее проявить. Когда перед ним появляется посланец Варнава, он представляется К. ангелом, явившимся в непогоду, хотя на самом деле это обычный парнишка в грязно-серой рубахе. Послания, которые он доставляет, – ни о чем. Кафка с ангельским совершенством пишет на этом не-языке, что ангелов нет и наблюдать нечего. Это бесчеловечная книга о том, что такое быть человеком. Или человечная книга о бесчеловечности. Или, может, я словами заигрался?
Разгорается оживленная дискуссия. Психоаналитик Гислен Тодд и Розмари Белл из бухгалтерии больницы затевают длинный спор о женобоязни мужчин начала двадцатого века. Тодд видит причину импотенции К. в демонизации материнской фигуры, тогда как Розмари Белл винит социальный гнет. Сестра Перпетуя замечает, что обе эти трактовки, возможно, связаны с исчезновением Бога: Бог является или являлся Отцом и Властью, в Его присутствии обрел бы смысл и бессмысленный Замок, и неистовые земные страсти и свары. Хамфри Меггс возражает: может, сестра Перпетуя и права, но от одной только необходимости наделить что-то смыслом Бог не появится. Мустафа Ибрагим говорит, что Бог есть и Кафка это понимает, отдает он себе в этом отчет или нет. Спорят и о том, кто такие «помощники» К.: враждующие братья, или служащие-анархисты в обществе, не имеющем цели, или, может, яички при фаллосе. Или шизофреническое порождение больной души К., добавляет Джон Оттокар, или Ид, рвущееся из-под контроля Эго и Суперэго. Никогда еще он так много не говорил, Гислен Тодд награждает его ласковой улыбкой. Инспектор млеет. Что-то себе записывает.
Потом отправляются в паб. Он носит название «Козел и циркуль»: на ловко изображенной вывеске козел-альбинос сатанинского вида орудует циркулем примерно так, как Юризен у Блейка[164]. Внутри все обтянуто темно-бурой кожей, мерцают в камине электрические уголья, всюду светильники в виде свечей с абажурами под пергамент. Студенты Фредерики давно облюбовали темный уголок, где стоит темно-бурый стол с деревянными диванчиками и стульями под Средневековье. Здесь собирается добрая половина группы, завязывают отношения, дружно дают советы Уне Уинтерсон насчет ее семейных неурядиц, выслушивают суждения Хамфри Меггса о Гарольде Вильсоне, о смертной казни, о гомосексуализме – вопросах сегодня животрепещущих. И все это в связи с «Госпожой Бовари», «Идиотом» Достоевского или Прустом. Фредерике не хочется сидеть рядом с Томасом Пулом, который за ними увязался и сейчас увлеченно участвует в сражении психоаналитика и марксистки. Она садится на другом конце стола и, попивая красное вино, обнаруживает, что оказалась рядом с Джоном Оттокаром. Она хвалит его за блестящий доклад.
– Обычно из вас слова не вытянешь, – замечает она.
– Говорить – это не мое. Но я решил: пора.
– А я даже не знаю, кем вы работаете.
– Пишу компьютерные программы. Для судоходной компании. Я математик.
– Джордж Мерфи записался на курс из-за своего мотоцикла.
– Я – чтобы овладеть языком. Всегда без него обходился. Рос без языка.
– У меня брат математик, он на язык смотрит косо.
– У меня сложилось прихотливо. Есть у меня брат-близнец, как и я, математик, мы с ним в детстве придумали, так сказать, общий язык, объяснялись почти как глухонемые: знаками, жестами. Отгородились от всех. Для чужих недоступны. Мы были как ребенок, который смотрится в зеркало и разговаривает с собой. Кажется, мы испугались, но от испуга это – потребность остаться наедине – только усилилось. С теми, кто вне нас, мы не общались. Стали друг другу тюремщиками.
– А общие друзья были?
– Друзей не было – до университета. Поступили в разные университеты, но ничего не вышло: в конце концов заканчивали один. Мы схлестнулись. Оба собирались заниматься искусственным интеллектом, но каждый хотел, чтобы брат выбрал что-то другое… Такое чувство, будто тебя разорвали пополам: ты половина и он половина. Встретишь его случайно и – думал, ты невидимка, а ты вот он. Не умею я это объяснить… Словом, общаться с людьми мне было трудно. Разве что на языке программирования: на Алголе, на Фортране, на Коболе. Но я понимал, что этого мало. Сидишь за обедом – молчишь, встретишься с девушкой – молчишь. Потом я устроился на работу…
– А брат?
– У него все пошло иначе. Как – при случае расскажу, не сейчас. Трудно нам было. Он нашел свой способ общаться, но это не по мне. Мне позарез необходимо овладеть языком, как-то… отчуждаясь от него, что ли. Чтобы это был не только мой язык… Непонятно, наверно. Жаль.
– Вы им владеете очень уверенно. Вспомните свой доклад о Кафке. Сами, наверно, убедились.
– А вот интересно: думает человек, если не говорит? Я, когда писал доклад, чувствовал себя как обезьяна, которую обучают, или Адам в Библии: заставлял себя думать мыслями. Спрашивал себя: думалось ли мне все это, пока я не взялся записывать?
– Ну и?
– Думалось, конечно. Но думал я не словами. Формами, чувствами. «Формы», «чувства» – эти слова не очень точно выражают, что я имею в виду, как я думал.
Красноречив, отмечает про себя Фредерика. Красноречие его уверенное, но девственное: обращается со словами умело и радостно, потому что каждое слово представляется ему только что отчеканенным.
– Это хорошо, что вы пришли к нам, чтобы освоить язык, – говорит она.
– Не только поэтому, – отвечает он, понизив голос. – Есть еще причина.
Фредерика вскидывает на него глаза.
– Когда слова и нужны и не нужны, – продолжает он. И тихо, скороговоркой: – Я вас хочу.
Она вдруг ощущает его как единое целое: светловолосый, с улыбкой, взгляд напряженный, бешеный, руки лежат на столе, ноги под столом почти касаются ее ног. Безмолвный ответ: кровь приходит в волнение, приливает к бледным щекам. Он улыбается. Она нет. Он понимает: растеряна. Встает и идет взять еще вина. Он не студент, он взрослый, он старше ее. Три слова переменили все и ничего не переменили: она уже поняла. Но теперь сказано вслух.
По дороге домой Томас Пул поздравляет Фредерику с педагогическим успехом. Преподаватель прирожденный, уверяет он. Группа живет своей жизнью. Фредерика вспоминает «терапию» и возмущается. Книги не терапия, думает она, книги учат понимать и размышлять. Она никак не опомнится: из головы не идет неистовая решительность Джона Оттокара.
– Мой адвокат сказал, что мне надо переехать, – сообщает она. – Говорит, если я хочу получить развод, больше мне оставаться у тебя нельзя.
– Я-то думал, ты останешься насовсем, – говорит Томас Пул. Судя по интонации, на согласие он не надеется.
– Не могу, – говорит Фредерика, вышагивая по темной улице. – Надо подобрать что-то безупречно невинное. Где – ума не приложу.
Она спрашивает Дэниела, где бы ей поселиться. Дэниелу ничего в голову не приходит. Тони, Алан, Хью Роуз тоже ничем помочь не могут. А тот, кто нашел ей первое убежище, – Александр, – находит ей и второе. Он направляет ее к Агате Монд.
X
Холодным февральским днем по Хэмлин-сквер идут двое. Хэмлин-сквер – очертаниями напоминающий сковороду с длинной ручкой тупик в Кеннингтоне, районе Лондона к югу от реки. Район сплошь застроен домами, если и попадаются островки зелени не при частных владениях, то разве что тесные лужайки, обнесенные проволочной сеткой. Тут много прямых, широких, пыльных проезжих улиц, вдоль которых тянутся сплошные ряды изящных домов георгианской архитектуры, а сверху их пересекают железнодорожные пути на эстакадах. Лабиринты сомкнутых фасадов самых разных эпох: георгианских, викторианских, эдвардианских, типовых домишек постройки военных лет, линяло голубых и розовых, а бок о бок с ними вздымаются прямоугольные бетонные громады с рядами балконов, серые на фоне неба. Хэмлин-сквер – здания начала XIX века в три этажа, легкие, высокие окна с каждым этажом все меньше, на площадку возле цокольного этажа ведут вниз ступеньки. Здания эти радуют глаз своей подбористой статью, они словно более стройные копии георгианских особняков вдоль больших улиц. Разница в их состоянии разительная. Одни принаряжены: заоконные ящики для цветов, медные дверные молотки, симпатичные занавески, фасад блистает белизной. Другие ветшают, краска на фасадах вздулась, в окнах посеревшие тюлевые занавески на провисшей проволоке. Один-два дома нелепо выделяются веселеньким буйством цветов в карибском вкусе: ослепительно-синий соседствует с густо-лиловым и ядовито-зеленым. Посредине улицы-сковороды вместо газона темнеет грязь, а на ней два автомобильных сиденья, гниющий матрас и новенькая ярко-розовая сорочка размером как для куклы, замаранная кровью.
Двое идут медленно. Фредерике приходится приноравливать свою размашистую поступь к тихой походке спутника. Она запахнулась в широкое длинное, черное пальто, под ним серый вязаный свитер и зеленые колготки, на ногах высокие черные сапоги. Она несет рыцарский нагрудник тусклого золота и украшенный тиснением щит, отчего отчасти походит не то на Британию, отчеканенную на пенни, не то на призрак Бритомарт[165]. На ее спутнике вельветовые штаны и синяя куртка с капюшоном, отороченным серебристым мехом, на голове большой золотой шлем с пластиковым забралом, которое съезжает через каждые пару шагов, и, чтобы голова не оказалась в заточении, приходится водворять его на место. Воин то потрясает пластиковым мечом с рукояткой, отделанной алмазами, то волочит его за собой: большой меч ему не по руке, с таким быстро не походишь. Если Фредерика вызывается понести и меч, он сердито упрямится, останавливается и ударом снова сбивает забрало.
Фредерика привыкла ходить стремительно, лететь прямо к цели. Ползти, как сейчас, не в ее характере. Непривычны ей и узы нежности, привязывающие ее к маленькому телу сына так прочно, что каждый его шажок отдается в ее ногах, гнев его она ощущает своим нутром. Она так и не решила, стоит ли подробно расспрашивать Лео, что он думает о намеченном переезде. Помнится, у нее в четыре года голова гудела от дел взрослых, и она все понимала, но ни с кем не делилась. Может, и Лео так, хотя – как знать. У Томаса Пула ему хорошо, Вальтраут Рёде ему нравится, да и Саймон нравится. Но Фредерике надо освободиться от его отца – изволь съезжать. Под силу ли одному человеку и дальше нести такое бремя вины, разбираться в такой сумятице чувств и с этими чувствами жить?
– Давай прилепим забрало пластилином, а то ты ничего не видишь, – предлагает Фредерика.
– А может, враги нападут, и нужно будет его опустить.
– Мы только на улице, чтобы ты шел побыстрее.
– А враги разве не на улице нападают? – Он взмахивает мечом и опять останавливается как вкопанный.
Если он ей, этой женщине в этом доме, не понравится, она мой враг, решает Фредерика.
Настоящих подруг у нее никогда не было. В школе девочки недолюбливали ее за ум, и она принимала это как должное: и комплимент, и наказание. Кембридж – мужчины: любовь и беседы.
Дом номер сорок два, куда они направляются, расположен на самом кончике улицы-сковороды. Вид у него приятный: кладка подновляется, черная дверь недавно покрашена, никаких цветочных ящиков. Они поднимаются по ступенькам. Фредерика придерживает забрало. Звонит в дверь, и забрало падает. Агата Монд открывает, и они предстают перед ней, озаренные светом зимнего дня: черное пальто вроде плаща, сапоги, сияющий золотой шлем.
– Проходите, – говорит Агата Монд. – Я как раз чай заварила.
* * *
Агата занимает два верхних этажа. Договариваются, что Фредерике будут отведены первый и цокольный этажи. На половине Агаты безукоризненная чистота. Шторы и диван густых темных и ярких расцветок с прерафаэлитским растительным орнаментом. Белые стены увешаны картинами и гравюрами: тут и абстрактные композиции, и что-то из XIX века, и иллюстрации Доре к «Божественной комедии», и изображения Хаоса, Рая, и Пандемониума работы Джона Мартина[166] со стайками ангелят, похожими на рой искристых пчел. На белых стенах кухни – репродукции коллажей Матисса из джазовой серии, полочки с керамическими кувшинами и мисками и набором ножей, в серванте старинные белые тарелки с синими узорами. В углу крепко сбитый детский домик-будка из дерева, нарядно расписанный белыми и алыми плетистыми розами и аквилегиями. Фредерике и в голову не приходит предположить, что ради этого порядка хозяйка все утро прибиралась, готовясь к их приходу. Она оценивающе осматривается: коричневый сосуд с деревянными ложками разных мастей, большими и маленькими, глубокими и мелкими, чистые посудные полотенца на алых крючках, не новая, но надраенная разделочная доска, стеклянные банки с кофе в зернах, крупами, коричневым сахаром, белым сахаром. Образцовый порядок, который кому-то греет душу. В кухне два окна, на обоих жалюзи, изумрудные и лазурные: цвета друг с другом ладят.
Агата Монд подает Фредерике чай в старинной чашке костяного фарфора, выжимает для Лео апельсиновый сок, угощает его большой галетой, напоминающей полумесяц с улыбчивой мордочкой из глазури. Ради этого Лео милостиво соизволит снять шлем. В это время из своей комнаты выходит Саския Монд, смуглая худышка в вельветовом сарафанчике, синем свитере в обтяжку и алых коготках. Дети безулыбо оглядывают друг друга и расходятся по своим мамам. Мамы сидят не на диване, а в жестких креслах, лицом друг к другу, друг от друга подальше.
Я тут не обживусь, думает Фредерика. Я так не смогу. Лучше сразу уйти.
Агата Монд рассказывает:
– Когда я купила этот дом – он стоил гроши, все дома тут стояли без ремонта, – я сразу решила, что часть его буду сдавать. Устроила так, что здесь всего по паре. Две кухни, две ванные, хотя в доме и тесновато. Потом поняла, что у меня нет ни желания, ни необходимости пускать жильцов, но из-за работы в комиссии то и дело приходится отлучаться, а Александр считает, что мы с вами, возможно, уживемся.
Смотрит напряженно, строго. Говорит – словно на собрании выступает. Лицо правильное, глаза большие, темные, но теплоты в них нет.
– По идее, – продолжает она, – женщины, у которых общие интересы и дети-одногодки, вполне способны придумать, как избегать конфликтов, если мы не уживемся, и установить разумные правила совместного проживания, чтобы, самим того не желая, не действовать друг другу на нервы. Я никогда дом ни с кем не делила, но не сомневаюсь, что совместному проживанию мешают глупые недоразумения, которые можно предусмотреть заранее.
Фредерика отвечает, что полностью с ней согласна.
– Если не обговорить все с самого начала, дальше улаживать разногласия будет труднее и труднее, – твердит свое Агата Монд.
Ох как она нервничает, думает Фредерика. Она по натуре мать-командирша. Тревожится и за себя, и за дочку. Пожалуй, и правда лучше уйти. Поднимает глаза и встречается взглядом с Агатой: та смотрит на нее в упор. И похоже, читает ее мысли.
– Конечно, я нервничаю, – продолжает Агата. – Ведь дело не только в нас, но и в детях. Но я права. Правила нам нужны. Если вы решите переехать.
– Мне бы хоть куда-нибудь, – признается Фредерика. – Нынешнее жилье меня более-менее устраивает, но может меня скомпрометировать, помешать… разводу. И наверно, вот что еще надо сказать. Средства у меня скромные, но зарабатывать присмотром за детьми я не хочу. Конечно, сколько надо, я посижу, но моя работа – это моя жизнь.
– Разумеется. Я понимаю. Поэтому и надо все заранее обговорить.
Молчание. Агата предлагает Фредерике посмотреть незаселенную часть дома. Это две комнаты с кухней на первом этаже и спальня с кухней в цокольном. Здесь все белое: новая ванна, стены, столешница на крохотной кухне, стол, обставленный бледными деревянными стульями. Деревянные полы оциклеваны и покрыты лаком. Безликость операционной.
– Я не хотела никому навязывать свой вкус, – объясняет Агата Монд. – Один какие-то цвета любит, другой терпеть не может. Жить по чужим понятиям, что вызывает покой, а что бодрость, было бы невыносимо… Я планировала, что семьи будут жить и вести хозяйство раздельно, разве что поужинают вместе раз в неделю или две – об этом можно договориться. Женщинам надо будет теснее сойтись с чужим ребенком. Когда я с хозяйством не управляюсь, приходит такая эрзац-бабушка: погладить, прибраться, – можно договориться, что она будет обслуживать и другую семью. Приглашать другого к себе на званый ужин или что-то такое никто не обязан. Насчет того, чтобы одалживать друг у друга вещи, нужна крайняя добросовестность, тут тоже можно и нужно заранее договориться – хотя бы о пылесосе, хотя бы только о пылесосе.
В голосе сомнение. Фредерика оглядывает белые стены, сверкающий белый кафель. Обставлять жилье она не умеет. Не приходилось.
А Лео нужен дом.
Агата Монд говорит внятно и веско, но в голосе колебания и тревога. Она чиновница, но ребенок лишил ее неуязвимости.
– А вечеринки у вас бывают?
– Ну нет. Просто я не люблю многолюдства. Но пожалуй, если договориться заранее…
– Кажется, ничего не получится, – решается Фредерика. – Кажется, я напрасно пришла. По-моему, мой образ жизни…
Кто бы знал, что такое ее «образ жизни»!
– Да-да, – кивает Агата Монд, – я понимаю. Я вас вполне понимаю.
Их заглушает несущийся сверху крик. Обеим приходит одна мысль: дети кого-то мучают или их кто-то мучает. Они срываются с места и мчатся наверх. Молодые, подвижные.
Саския плачет навзрыд, мечется вокруг домика-будки и тычет в него указующим перстом. Внутри что-то глухо колотится, и домик сотрясается так, что того и гляди развалится.
– Ты не можешь войти? – спрашивает Агата Саскию, а Фредерика окликает Лео:
– Не можешь выйти?
Саския прекращает рев и выпаливает:
– Он застрял! Я не могу его вытащить!
И снова пронзительный рев. Агата опускается на колени. Лео и правда застрял основательно: меч, наискось прижатый к двери, загородил ему выход, забрало не поднимается, он бьется головой в окно, как большой жук. Агата его утихомиривает. Подсказывая разъяренному мальчугану, как и куда повернуться, она терпеливо, дюйм за дюймом отодвигает меч и извлекает его. Объясняет, как в этой тесноте снять шлем и, изворачиваясь, выбраться наружу. Достает и шлем. И вот детишки, раскрасневшиеся, зареванные, уже сидят на коленях у матерей.
– А я торт приготовила, – вспоминает Агата Монд: теперь, когда угроза подселения миновала, она улыбается. – Можем полакомиться.
Торт получился знатный. На золотистой глазури выложен из румяных, засахаренных до прозрачности вишен домик наподобие пряничной избушки Гензеля и Гретель с шоколадной кровлей, синими занавесками в окнах, а по желтой кладке и над сводчатой дверью вьются цветущие зеленые лозы. Карамельная дымовая труба закручена, как на елизаветинских домах, на крыше два голубка. Лео и Саския, взяв по куску, забираются в домик-будку: вдвоем они там вполне помещаются – без доспехов. Фредерика замечает по сторонам камина две картинки и подходит поближе. Это факсимиле раскрашенных гравюр Блейка: «Нянюшкина песня» из его «Песен невинности» и ее антитеза из «Песен опыта». Невинность слева: текст расположился на ветках плакучей ивы, облитых розово-золотистым закатным светом. Нянюшка сидит у подножия дерева, не то пишет, не то вышивает. Две стройные девочки в розовых платьях, взявшись за руки, поднимают их над головой, прочая детвора в теплом вечернем сиянии ведет хоровод под этой аркой.
Справа – Опыт: три фигуры около дверного проема. Женщина в лиловом заботливо склонилась над юношей с длинными светлыми волосами в зеленом костюме. Юноша одной рукой обхватил себя за талию: жест, не столько скрывающий, сколько подчеркивающий его пол, признаки которого оттеняются золотыми штрихами на зеленых панталонах. Позади, в самом проеме, сидит понурая женщина неопределенного возраста. Тянутся вверх густые, отягощенные гроздьями виноградные лозы – лиловые, зеленые, золотистые, – устремляют к женщине с юношей усики-завитки.
– Мне бы тоже хотелось такие картинки, – произносит Фредерика безучастно-вежливым тоном.
– Мне бы хотелось собрать все варианты. Люблю их за парность. Когда у тебя появляется ребенок, на детскую невинность начинаешь смотреть иначе. И на себя в детстве.
Фредерика смотрит в окно на грязь и мусор посреди улицы. Между автомобильных сидений с криками носятся друг за другом какие-то детишки – трое черных, трое белых. То ли играют, то ли затеяли драку.
– В художественном училище, где я преподаю, заведующий кафедрой помешан на Блейке, – говорит она. – Читает лекции про обретение детской невинности, полиморфную извращенность[168], безудержность желаний…
– В нашей комиссии тоже такое звучит. Кое-кто призывает учиться у детей, позволить им расставлять приоритеты, отказаться от строгих учебных планов. Лично я под таким не подпишусь… Я в детстве других детей боялась. Они мне казались кровожадными тиграми или тупыми троллями: только и ждут, чтобы поймать, связать и терзать. Я мечтала стать настоящим человеком – взрослым.
– Я тоже, – подхватывает Фредерика. – Постепенно понимала: вот я уже кое в чем разбираюсь, но говорить об этом, использовать это нельзя, пока не стану «совсем человеком» – я себе это так называла. Я ощущала себя личностью в какой-то дурацкой маске и карнавальном костюме, и с тобой говорят таким тоном, словно обращаются к этой дурацкой физиономии и дурацкому костюму, – все говорят, даже дети…
– И гадаешь: это на всех дурацкие маски или только на тебе?..
– И, не найдя ответа, подозреваешь: только на мне…
– И, затаившись, втихомолку лелея свои мечты и способности, исступленно ждешь, когда же ты повзрослеешь, станешь настоящим, совсем человеком…
– И, став настоящим, слышишь, что куда более естественное состояние, в котором куда больше свободы, – ребенок с полиморфным извращением…
– И гадаешь: не думает ли твой ребенок так же, как ты когда-то?..
– Ребенок невинен, и ты чувствуешь, что ему неизвестно, что тогда знала и таила ты, и поэтому он уязвим…
– И как уязвим! Это неправда, что детство – это как в Раю. Это почти что Ад. Во всех отношениях…
– А наши представления о Рае… – Фредерика переводит взгляд с Блейка на сумрачную гравюру Джона Мартина, где вылепленный из белого сияния архангел Рафаил шествует под черными кронами райских дерев в романтическом вкусе навстречу озаренным мягким светом фигурам прародителей рода человеческого. – Наши о нем представления – это память о первозданном состоянии, когда – а правда, когда? – все представлялось нам более лучезарным, чем сейчас.
Задыхаясь, молчат. Улыбаются друг другу. От улыбки лицо Агаты оживляется и светлеет. Теперь оно не такое миловидное, как в покое: более угловатое.
– Я ни с кем еще об этом не говорила, – признается Фредерика.
– Я тоже. Хотите еще торта?
Разговор прерывается: в домике-будке началась возня.
У Фредерики появилась подруга.
Три недели спустя Фредерика и Лео перебираются в нижний этаж дома номер сорок два на Хэмлин-сквер.
Фредерика отправляется к Дэниелу в церковь Святого Симеона. Ей одиноко и неспокойно, а с Дэниелом они после Рождества стали ближе, чем прежде. В ризнице этого полухрама она останавливается и читает объявления. Есть тут плакат от Чад Радости Гидеона Фаррара: «Объятия во Христе. Детская игра: мамы и папы мгновенно научатся» – на большой фотографии босоногие люди разных возрастов, экстазно улыбаясь, сливаются в объятиях. Фредерика замечает небольшую карточку с декоративным ободком, выведенным зелеными, красными и синими чернилами: есть в этом нарядно изысканном ободке что-то готическое; если приглядеться, различаешь в листве фигуры пеликанов с окровавленной грудью, зарянок, острозубых нетопырей, мартышек. Текст выведен красивыми готическими буквами:
Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями; но три из них самые важные.
Некогда жертвовали своему Богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили, – сюда относится принесение в жертву первенцев.
Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей «природой»; эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного «противника естественного».
Наконец, – чем осталось еще жертвовать? Не должно ли было в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость? Не должно ли было в конце концов пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, Ничто?
Пожертвовать Богом за Ничто – эта парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения: мы все уже знаем кое-что об этом[169].
Фредерика задумывается: вроде что-то знакомое, но откуда, не помнит. И она спускается по винтовой лестнице в часовню.
Джинни Гринхилл в своей кабинке выслушивает писк и трескотню в телефонной трубке. Круглые плечи, обтянутые салатовым свитером, напряжены, время от времени она понимающе кивает, разглядывая ячеистые стены кабинки.
Дэниел в своей кабинке читает. На лице у него написаны невеселые мысли.
Из тесного святилища каноника Холли доносятся оживленные голоса. Спустившись в часовню, Фредерика, к своему удивлению, застает там Руперта Жако. Розовощекий, кудрявый, он сидит во вращающемся кресле каноника, крутится туда-сюда, размахивает руками и покуривает вересковую трубку, на нем зеленоватый пиджак и жилет горчичного цвета. Каноник в сутане утопает в ветхом кожаном кресле и тоже курит трубку.
Дэниел рад Фредерике. Предлагает ей чая, идет налить чайник. Фредерика попадает в поле зрения бойко крутящегося в кресле Жако.
– Фредерика! А я подумываю издать ваши рецензии отдельной книгой. Читал – хохотал в голос. Я не знал, что вы здесь.
– Я к Дэниелу. – Видимо, Жако решил, что Дэниел имеет о ней пастырское попечение, поэтому она поясняет: – Он муж моей сестры.
– Что вы говорите! А я было подумал, вы стажируетесь на васслушателя.
– Были такие мысли. Но по-моему, я не гожусь. Не хватает терпения и самоотвержения.
– А я бы не прочь… – Розовые щечки Жако розовеют еще пуще. – Конечно, я здесь бываю отчасти как издатель Адельберта. Но это занятие меня интересует. Думаю издать книгу под названием «Радетели» – хорошо бы Адельберт написал. О людях гуманных профессий: психоаналитиках, психиатрах, инспекторах службы пробации, васслушателях… И о новом поколении руководителей терапевтических групп и всяких таких новинок.
– Чай будете? – предлагает Дэниел.
– Да, спасибо, – откликаются Холли и Жако.
Встреча переходит в чаепитие. Беседуют. Джинни Гринхилл по-прежнему самозабвенно внимает телефонной трескотне: другой мир.
– Фредерика за гроши творит у меня чудеса, – рассказывает Руперт Жако. – После ее рецензий я почти ничего не принимаю, но сами рецензии – восторг!
– Но «Хлеб насущный» Филлис Прэтт вы же приняли, – напоминает Фредерика. – Я порадовалась: писать она умеет. Дэниелу и канонику Холли будет интересно. Это о священнике, который утратил веру.
– Она ко мне заходила на прошлой неделе.
– Какая она? Расскажите, – просит Фредерика.
– Больша-ая такая, – начинает Жако. – В черном драповом костюме и черной шляпе, как у священников, с тусклой красной лентой. Приходит и говорит: «Хочу забрать книгу». Я говорю: она уже в производстве, и обложку, говорю, уже сделали: ядреный подовый каравай и нож, этакий сверкающий ножище. И книга, говорю, всем понравилась. А она таким бесцветным голосом: «Книга непечатная, недостойная, прошу вернуть». Я говорю: достойная, и я буду очень переживать – поддался расхожему заблуждению, что люди таких габаритов добрые и жалостливые, – а она свое: «Хочу забрать, недостойная книга». Вижу, нашла коса на камень, и решил стать не косой, а молотом. Требую объяснений: ведь я на книгу потратил столько времени, денег, душевных сил, но дело не в этом – автор действительно талантлива, я наконец открыл действительно хорошего писателя… Говорю и понимаю, что и правда так думаю, и расстроился: за себя стало обидно. А она сидит и тянет ту же песню: «Недостойная книга, хочу забрать». И тут что-то меня толкнуло: «Если вы, положа руку на сердце, подтвердите, что сами хотите, чтобы я отказался от публикации, что на вас никто не давит…» И она потекла, залилась слезами: оказывается, ее муж почитал рекламный текст для обложки – мы ей посылали – и решил, что роман про него.
– А он про него? – спрашивает Фредерика.
– Может, и про него. Откуда мне знать? И я вошел в раж. Начал расписывать, как я для нее расстарался, какая хорошая книга получается. Она оживляется, оживляется, совсем загорелась и сказала, что подумает. Что решит, не знаю. В подробности она не вдавалась. Книга по-прежнему в работе, я ничего не отменял. Чувствую, книга ей дорога. Что она за человек, я так и не разобрал.
– Писать она умеет.
– О да!
– А вторая книга? – спрашивает Фредерика. – Я вам давала отпечатанную рукопись. «Балабонская башня». Почитали?
– А как же! Два или три раза. – Жако переходит на заговорщицкий шепот. – Страшно рискованно. Тут любой издатель может нарваться на неприятности. Даже в наше местами просвещенное время. Нехорошая книжка.
– След в душе она оставляет.
– Это точно. Еще какой след.
Сверху доносится шум, потом шаги: кто-то спускается по лестнице. Черные, блестящие лаком ботинки в трещинах. Грязные-прегрязные васильковые носки, между носками и брюками видна нечистая кожа. Штаны в обтяжку, особенно плотно обхватывающие голени, с завышенной талией, ткань в тонкую полоску, серебристую по матово-черному, держатся на старомодных помочах от парадного костюма. Куртка из темно-синего бархата, замаранная и местами протертая; старое, белое шелковое кашне; длинное серое лицо, серые волосы; характерный запах – крепкий дух гнили и затхлости.
– Я воображал, – дребезжит знакомый голос, – что вы обретаетесь тут в затворе и внимаете теснящимся в эфире стенаниям, в коих и я малым делом поучаствовал. Мне было неловко телесно присутствовать при этих эфирных беседованиях, я заявился тайком и обнаружил, что не все так щепетильны, как я: здесь нет недостатка в посетителях, чья телесность не вызывает сомнений, и я решил, что могу сопричислиться. Я оставил визитную карточку, которую не разорвали немедленно, не предали огню, но приняли. И подумал я: не продолжить ли наш богословский диспут с судьею праведным Дэниелом? Являюсь – и застаю Фредерику за чашкой чая. Ни дать ни взять подземное убежище Потерянных Мальчиков[170]. Я не помешал, мне уйти или можно остаться?
– Мы рады любому гостю, – отвечает каноник Холли. – Узнаю по голосу. Рад повидаться. Позвольте узнать ваше имя. Я Адельберт Холли, а вон там Вирджиния Гринхилл – мы оба с вами по телефону общались, – а этот молодой человек – посетитель, Руперт Жако.
– Знакомая фамилия, – произносит Джуд. – Судьба, это ты.
Фредерика лихорадочно прикидывает. Отважится ли Руперт Жако издавать «Башню», еще неизвестно, а внешний вид и запах Джуда едва ли расположат издателя в его пользу. После последних слов Джуда она решается:
– Это Джуд Мейсон, автор «Балабонской башни», о которой мы говорили.
– Ну и ну… – говорит Руперт Жако. Он смотрит под ноги, теребит прядь волос.
Джуд выходит на середину часовни.
– Кое-какие истязания, которым в дортуарах повергают мальчиков в вашем романе… – начинает Жако.
– Досужая выдумка? Неправдоподобно изощренные?
– Нет-нет. Очень убедительно. Даже привычно. Вы, часом, не учились в школе Свинберн?
Джуд вперяется в него, лицо делается непроницаемым.
– Я, кажется, узнаю даже некоторые особо гнусные чуланы и места, где пытали водой. И некоторые слова из сугубо тамошнего жаргона. «Подъегозчик», например. «Распеканция». «Огуряло». Вы учились не при Клоде Хотбойзе?
Джуд, в своем неопрятном наряде, стоит понурившись, так что сальные волосы закрывают лицо. Потом поднимает голову, раздвигает волосы, как занавес, и откидывает назад.
– Отличный знаток французского языка, – выпаливает он. – И искусный вожатый по темным закоулкам французского декаданса. Характер, правда, тяжелый. И не только характер. Ох, тяжелый.
От этого слова комичная мордочка Руперта Жако искажается гримасой невеселого смеха.
– Тяжелый! – подхватывает он и кивает.
– Я поступил в университет, – продолжает Джуд, не сводя глаз с Жако, – а потом поставил точку. Бежал, дал деру, бросился наутек, удрал, улизнул, испарился, ретировался, только меня и видели. Пустился странствовать по градам и весям Камберленда, дудя в дуду что есть мочи и пробавляясь дубовыми плодами, а потом бродяга-школяр подался в Париж, где нашел прибежище и библиотеку.
– Отличную библиотеку, – добавляет Жако.
– Лучшую в мире, – поправляет Джуд.
Молчание.
– Смею надеться, что мой труд вам подходит? – спрашивает Джуд.
– Своевременная книга, – отвечает Жако. – Кое-кому этот бифштекс с кровью придется не по вкусу.
– Я вегетарианец, – парирует Джуд. – Мясником бываю только в воображении.
Говорят словно на тайном языке.
– Но вы отдаете себе отчет, что публикация попахивает судом? Даже после «Леди Чаттерли»…
– Не задумывался. Писал, потому что понимал: так надо. А «Леди Чаттерли» – книга пошлая и неправдоподобная.
– А «Балабонская башня»…
– О том, что вокруг нас. – Джуд обводит дерзким взглядом ячеистые кабинки, телефоны, обшарпанные кресла между колонн, подпирающих ребристые своды часовни.
– Заманчиво, но рискованно, – произносит Жако. – Но я, пожалуй, рискну.
Он возбужден. Под неровной челкой сверкают капельки пота.
Натуга в голосе Жако Дэниелу знакома. В свое время он ночь напролет убеждал Руперта Жако не вскрывать себе вены. Он, сам того не желая, помнит Жако обуреваемым презрением к себе и нравственными терзаниями, помнит, как тот, дрожащий, заплаканный, наконец пришел ни свет ни заря к Святому Симеону, где сначала его утешал Дэниел, а потом каноник Холли придал ему силы, побудив безропотно примириться со своими тайными страстями, раздвоенностью, неискренностью перед собой. Дэниел открыл перед ним бесконечное многообразие человеческой натуры, Холли же заставил его полюбить свою самость и признать темную сторону души полноценной частью своей личности. Так книга «Наши страсти, страсти Христовы» нашла издателя, а Жако стал захаживать к васслушателям и помогать. К Дэниелу Жако относится настороженно: доверять доверяет, но любить не любит. Дэниел понимает, почему Жако решился на издание и как он огорчится, если издание не повлечет за собой неприятностей. Какие неприятности бывают из-за книги, Дэниел не знает. Но отличить человека, искренне задумавшего самоубийство, от притворщика ему по силам.
– За успех предприятия стоит выпить.
Каноник Холли достает бутылку модной в то время венгерской «Бычьей крови». Наливает по глотку в стаканчики из небьющегося стекла, и все выпивают, даже Джинни Гринхилл: ее подопечный отключился на полуслове – то ли с отчаяния, то ли от смущения, то ли кто-то пришел, то ли нервы сдали, она не поняла.
Фредерика предлагает тост:
– За «Балабонскую башню»!
Все пьют.
Фредерика сидит в комнате цокольного этажа в доме на Хэмлин-сквер. Надо писать, но никак не пишется. Перед ней чистый белый лист. Вечереет. В квартире еще стоит легкий запах краски. Сквозь щели жалюзи Фредерика видит стену заглубленной площадки перед входом на этаж. Жалюзи лютикового цвета своей тенью разлиновали белое пространство листа прозрачно-золотистыми и серо-фиолетовыми полосками. Фредерика обзавелась письменным столом из бледной сосны и темно-синим пластиковым креслом на хромированных ножках.
Вокруг горы написанного, но ей не пишется. Тони Уотсон показал несколько ее рецензий новому заведующему литературным отделом «Телескопа», еженедельника по вопросам культуры, который издает второстепенный персонаж духовной жизни Блумсбери. Еженедельник еще не прогорел благодаря ничтожной читательской аудитории, весьма нестабильной, и дутой репутации издания как остроумного и влиятельного. Теперь Фредерика – одна из четырех чередующихся литературных обозревателей и сидит в окружении картонных коробок с только что вышедшими романами. Она запросто может написать четыре, даже пять рецензий за один присест: на романы стоящие – слов в двести пятьдесят, о настоящих достаточно одного предложения слов в тридцать. Что можно, а что невозможно уложить в двести пятьдесят слов – эта наука далась ей нелегко. Кратко изложить сюжет не получится, можно лишь намекнуть – на атмосферу, на сходство с другими авторами («эмисовский местный колорит», «мердоковская сложность нравственных коллизий», «спарковское остроумие и гротескность», «сториевский Йоркшир»)[171]. Правда, на это могут возразить, что прилагательным тут не место, и ничего не поделаешь: эпитеты нужны для характеристики сюжета и манеры повествования («неожиданный», «бесцветный», «мрачный», «вялый», «энергичный», «яростный», «запутанный», «захватывающий»). Фредерика установила для себя собственные правила. Она изгнала из лексикона рецензий «живой» и «яркий», «блестящий» и «колоритный», «макси» и «мини». Сначала мучилась, как сестра Золушки, втискивающая окровавленную ногу в хрустальную туфельку, но потом выбор точного слова стал доставлять удовольствие. Она ведет честную игру. Всякая язвительная фраза уравновешивается фразой безоценочной. Каждые две-три недели авторы присылают многословные возмущенные письма, жалуясь, что она не отразила то-то и то-то. Работа в журнале существенно увеличила ее доход, но эта прибавка – не столько плата за слова, сколько выручка от продажи забракованных книг: она сдает их букинистам чемоданами. На каждую отрецензированную книгу приходится двадцать прочитанных и проданных. Она много узнала о том, как не надо писать романы.
На другом конце стола лежит стопка книг. Фредерика готовится к лекции о любви и браке в «Говардс-Энд» и «Влюбленных женщинах». Она писала:
«Кредо Маргарет Шлегель – „Только соединить“, но ей приходится признать поражение. Руперт Биркин во „Влюбленных женщинах“ непрестанно поносит это „соединить“ и с нескрываемой подозрительностью и враждебностью относится к слову „любовь“. На Биркина в конце концов нисходит мистическое прозрение, и он ощущает соединение и цельность без слов.
Оба писателя в обоих романах утверждают, что „век машин“ и человеческие страсти непримиримы. В этом смысле оба романа можно считать пасторальными: в них проводится мысль, что прежде, чем „общество“ сделалось более сложным организмом, а труд механизировался, любовь в некоей эдемской первозданности была полнее, естественнее, свободнее.
Почему?»
Фредерика подумывает отложить чистый лист и заняться лекцией, но – нельзя. Это надо написать непременно. «Записывайте все, что имеет отношение к делу, – наставлял Бегби. – Каждый его поступок, который вызвал у вас протест и который вы считаете недопустимым. Я потом перепишу как положено. Юридическим языком».
Ее мутит. Она начинала три или четыре раза. Что получилось:
Он меня ударил.
Муж меня ударил.
Найджел меня ударил.
Последний вариант густо вымаран.
Он причинил мне боль, ударив ребром ладони.
Причинять боль его учили.
Он сам так сказал.
Она вычеркивает «ударив» и пишет: «нанеся удар». Она смутно догадывается, что текст должен быть блеклым, бесцветным, безукоризненно нейтральным, как эту нейтральность ни понимай. «Нанести удар» суше, протокольнее.
Когда я заперлась в туалете, он отключил свет во всем доме и оставил меня в темноте.
Ей тогда было страшно и унизительно, однако можно ли этот поступок квалифицировать как жестокость, а не анекдотический эпизод?
Я испугалась. Мне было страшно. Мне было тревожно.
Все зачеркнуто.
Когда я пыталась убежать, он метнул в меня топор.
Он проходил военную подготовку. Он хотел меня поранить.
А мнение Фредерики на этот счет – улика или нет? Да и ее ли это мнение? Что она помнит? Запах ночной земли, извилистый горизонт, шелест стремительных крыльев – возможно, вообразившийся. Удара она не помнит. Помнит, как сочился из раны гной, как менялся цвет кровоподтека.
Искаженное ужасом лицо Найджела.
Он не изверг.
Рану от топора вспоминать не так больно, как отказ, сердитый и благодушный (как такое может сочетаться в одном человеке?), позволить ей работать. Больно уже от мысли, что на это нужно его разрешение. Но оно было нужно. Впрочем, едва ли эти соображения будут интересны мистеру Бегби и суду по бракоразводным делам.
Он упорно отказывался обсуждать мои намерения приняться за какую бы то ни было работу, хотя, выходя замуж, я считала, что у меня будет такая возможность. Он утверждал, что восхищается моим умом и самостоятельностью.
Утверждал? Ой ли? Что они вообще означают, эти слова?
Он ушиб моему отцу голову дверью.
Он напал на мужа моей сестры, священника.
Мутит от этого документа, потому что это лишь остов документа, который должен быть криком о помощи, вызывать слезы жалости и горький смех над человеческой глупостью.
От этого документа мутит, потому что он лжив. В нем с оправданной целью (помочь Фредерике разорвать узы брака, ставшие для нее кандалами) излагаются подлинные факты, но излагаются неполноценным (неполноценным? лживым? выхолощенным?) языком.
Это была моя ошибка: он искренне хотел, чтобы я стала его женой, он не сомневался в своем выборе (несуразные последствия – это другой вопрос), а я шла за него без особой охоты, я колебалась, я всегда знала, что поступила опрометчиво.
Я пошла за него, потому что я женщина, мне хотелось наконец расставить точки над i, чтобы не ломать голову: выйти замуж, не выходить, а если не выходить, то что, – хотелось скорее найти свое место в жизни. И то, что нашла, не понравилось: будь у меня побольше здравого смысла, нетрудно было предвидеть, так что сама виновата. Но писать про это – ни в коем случае.
Может, у нас что-то и получилось бы, если бы…
Он никогда не бывал дома.
Это что еще за нытье?
Я сидела взаперти с его сестрами и ждала его, как Мариана у Теннисона[172].
Не могу я писать эту дурь. Каждая капля чернил потихоньку искажает непредвзятую картину, которую я стараюсь удержать в памяти, нарушает какую-то неочевидную справедливость, мешает безотчетному пониманию сути в этом путаном клубке обстоятельств.
Она пишет: «Какая херня!» Зачеркивает.
Если бы это была пародия на такой документ, художественное произведение, которое документом прикидывается, написала бы запросто.
Я вышла за него, ибо я была очарована Маргарет Шлегель, ибо я была читателем, о любезный читатель!
Я вышла за него, потому что моя сестра умерла и он меня утешал.
Мне надо писать не о том, почему я за него вышла. Мне надо писать о его поступках – о том, что поможет мне исправить последствия своего решения.
Я пишу для того, чтобы его судили по справедливости, а я сужу самое себя, одно влечет за собой другое; и то и другое – хотела сказать «невыносимо», но имею в виду «очень противно».
Она берется за лекцию. Поработает немного, а потом еще раз попробует написать этот скорбный лист.
«Говардс-Энд», глава 22
«На другой день Маргарет приветствовала своего повелителя особенно нежно. Как ни был он умудрен, она все же могла помочь ему возвести мост-радугу, соединяющий будничную прозу со страстью. Иначе мы не что иное как бессмысленные осколки, полумонахи-полуживотные, несоединенные арки, которые не образуют цельного человека. Соединение это достигается любовью, и цельность эта возникает на самой высокой дуге, ярко сияя на фоне обыденной серости и выделяясь темным пятном на фоне пламени. Блажен, кто видит в обоих случаях мощь ее распростертых крыл. Душевные стези его яснее, и идти по ним и ему, и близким его бывает легче.
Ходить по душевным стезям мистера Уилкокса было непросто. С самого детства он ими пренебрегал. „Я не из тех, кто роется у себя в душе“. Внешне он был жизнерадостен, храбр и надежен, но внутри царил хаос, управляемый – если что-то им управляло – зачатками аскетизма. Мальчиком, мужем, вдовцом ли, он безотчетно верил, что физическая страсть – это скверна: убеждение, ценное лишь тогда, когда его придерживаются со всей страстью. Его убеждения находили поддержку в религии. Слова, которые он слышал по воскресеньям вместе с другими почтенными людьми, некогда разжигали в душах святой Екатерины и святого Франциска жгучую ненависть к плотскому. Мистер Уилкокс не мог, подобно святым, с серафическим пылом возлюбить Бесконечное, он мог лишь немного стыдиться своей любви к супруге. „Amabat, amare timebat“[173]. И вот здесь и надеялась Маргарет протянуть ему руку.
Это представлялось делом несложным. Она не будет смущать его собственным даром. Она всего лишь направит его к спасению, которое таится в его собственной душе, в душе каждого человека. Только соединить! Вот весь смысл ее проповеди. Только соединить прозу и страсть, и обе они возвысятся, и любовь человеческая предстанет во всем своем блеске. Больше никаких обломков. Только соединить – и животное и монах, способные существовать лишь порознь, тут же уничтожатся…
Но она потерпела неудачу. У Генри было свойство, которое, сколько она себе про него ни твердила, побороть ей не удалось: твердолобость. Он просто многого не замечал, и тут уже ничего не поделаешь».
«Влюбленные женщины», глава 13
«– Я хочу, чтобы нас связал необычный союз, – сказал он тихо. – Не встречаться, постепенно сливаясь в одно целое, – тут ты права, – а создать равновесие, полное равновесие двух душ. Взаимное сопряжение в равновесии, как у звезд на небе.
Урсула подняла на него глаза. Он был очень серьезен, а серьезные лица всегда казались ей смешными, заурядными. Это ее стеснило, ей стало неловко. И при чем тут звезды?»
Глава 27
«Для него этот брак был воскресение и жизнь[174].
Ничего этого Урсула не знала. Она хотела, чтобы ее окружали вниманием, чтобы ей восхищались. Невысказанные чувства отдалили их друг от друга на бесконечное расстояние. Как он мог рассказать ей о ее красоте, главное свойство которой заключалось не в форме, не в весе, не в цвете, а в каком-то волшебном золотистом сиянии? Как он сам мог понять, в чем он видит ее красоту? Он говорил: „Какой у тебя славный нос, какой у тебя милый подбородок“. Но звучало это фальшиво, она досадовала, обижалась. Даже когда он искренне говорил или шептал: „Я тебя люблю. Я тебя люблю“, это была правда не до конца. Это было что-то помимо любви: радость оттого, что он шагнул за грань своей личности, вышел за пределы прежнего существования. Как он мог сказать „я“, когда он уже кто-то новый, незнакомый, не он? Это „я“, это обозначение себя прежнего, уже мертвая буква.
В этом новом, упоительном состоянии, когда знание уступает покою, нет больше ни „я“, ни „ты“, но есть что-то третье, какое-то недовоплощенное чудо – чудо, когда существуешь не сам по себе, но ты сам и она сама сливаются в одно, образуют новый райский союз, побеждающий разделенность. Что значит „Я тебя люблю“, когда больше нет ни меня, ни тебя, когда мы упразднились, и возникло новое единство, и воцарилось безмолвие, потому что не на что отвечать, все совершенно, все – одно? Речь – удел разделенных. Но при совершенном Единстве царит блаженное безмолвие.
На другой день между ними был заключен законный брак, и Урсула, как и велел Биркин, написала своим родителям».
Фредерика размышляет над этими пассажами. Отношения между литературой и жизнью – сложная штука. Может, она выбрала темой занятия брак и любовь у Форстера и Лоуренса, потому что это касается забот, в которых погрязла она сама: брак распадается, любовь угасла, но на брак-то она решилась не без влияния этих книг. Одна из причин, почему ее так влекло к Найджелу, – действие форстеровского заклинания «Только соединить». Он, как мистер Уилкокс, притягивал своей непохожестью на привычных людей – хотя, в отличие от персонажа Форстера, он не твердолобый.
И оба автора, и оба героя бредят единением. Они мечтают испытать безраздельное слияние во Всеедином, которое объемлет и душу и тело, и личность и мир, и мужское и женское. Фредерика старалась внушить себе такое желание. То, что она читала, было наполнено призывами этим желанием проникнуться. В раннем детстве она пыталась поверить в Бога. Смотрела в звездное небо и силилась примыслить там кого-то разумного, любящего, заботливого. От натуги где-то глубоко за глазами заболела голова – стоит ей вспомнить эту попытку, и боль опять тут как тут, и такую же боль вызывают попытки через силу устремиться к единению и слиянию со Всеединым. Воспоминания о своих детских потугах уверовать навели на мысль об одной черте, которую она отметила в этих отрывках из двух романов. Они насыщены словами и выражениями, которые уже во время их написания считались архаизмами, были отголосками прошлого, признаками желания вернуть прошлое.
«Ее повелитель», «душевные стези», «блажен, кто видит…».
«Для него этот брак был воскресение и жизнь». «Речь – удел разделенных».
А «как велел Биркин» иронично перекликается с «ее повелитель» у Форстера.
Форстер застенчиво подмигивает, Лоуренс же убийственно серьезен, думает Фредерика, и оба охотно черпают выражения из религиозного лексикона. «Мертвая буква», «возлюбить с серафическим пылом». У Лоуренса «он» и «она» сливаются в бесполое «третье», «одно», «единство», в котором «воцарилось безмолвие», где речи места нет, язык не нужен.
Она пишет:
Утверждение, что писатели-модернисты отказались от мистического опыта христианства, заменив его телесной страстью, было бы упрощением. Лучше сказать, что в пору расцвета романной формы основой и источником их творчества была великая Книга, Книга книг, Библия, от которой они отталкивались и которую отталкивали. И у Лоуренса, и у Форстера союз влюбленных символизирует радуга, старое библейское знамение завета между землей и небом[175], хотя у Форстера это еще и имитация радужного моста, который вагнеровские «слишком человеческие» боги прокинули между землей и Валгаллой[176].
«При чем тут звезды?» – спрашивает Урсула. Д. Г. Лоуренс писал, что роман – ярчайшая книга жизни. В ярчайшую книгу должно войти все: Слово, ставшее плотью, радуга, звезды, Всеединое.
Почему сегодня это кажется таким недостижимым, таким далеким, таким доведенным до конца, это Единство, Любовь, Роман?
Архаизмы эти только для того и понадобились, чтобы удержать, продлить это прошлое, время монахов, мистиков, проповедников. Сегодня так не получится.
А может, только у меня не получается?
* * *
Фредерика просматривает свои пометы в скорбном листе грехов или проступков Найджела – пристрастном, лживом рассказе о своих злоключениях – и задается вопросом: а что она называет любовью?
Это слово хоть что-нибудь означает?
Любила ли я Найджела?
Он научил меня страсти.
И тогда я кое-чего лишилась – независимости, в которой была моя сила.
Но я хотела знать, что это такое.
Да, именно знать, а не слиться с другим, – от этой мысли немного щемило… щемит и сейчас. Я – это я.
До Найджела я любила Александра и Рафаэля. Они были как недовоплощенная радуга, как звезды в небе у Биркина, прекрасные и неприкосновенные, и такими они мне нравились. Я могла постараться их переиначить, обратить в вожделенных и вожделеющих, но они мне были нужны не для этого. Они были такое, что я любила, как лучезарную живопись. Они оба были со мной сами по себе.
Стефани и Дэниел, кажется, были частью друг друга. Она знала. Он знал. В последнее время я нет-нет да и ловлю себя на том, что меня к нему тянет, воображаю прикосновения его рук, – потому что он знает.
Я – нет. Я подвела Найджела, потому что я не умею.
С Джоном Оттокаром понятно. Он так же распалился, как тогда Найджел, он незнакомец – интересный незнакомец.
Может, мы заставим друг друга страдать. Я знаю. Я стала старше.
Но если я не хочу слияния в Едином, чего я хочу?
Вспоминается тот день, давным-давно, в Готленде, когда ей в голову пришел образ, подсказывающий, как не потерять себя: напластование слюдяных слоев. Юная, жадная до жизни, она играла в пьесе Александра принцессу Елизавету, будущую Королеву-девственницу, которая не отрешилась от самой себя, провозгласила: «Ни капли крови не пролью я» – и сохранила независимость. И Фредерике представилось, как она может, не изменяя себе, существовать одновременно в разных плоскостях: языка, секса, дружбы, мысли – так, чтобы плоскости эти оставались строго разделены, как геологические пласты, наслаивались друг на друга, а не сливались, как органические клетки при высокой температуре, в кипящее Единое. Пусть остаются холодными, отчетливыми, разрозненными, если они с самого начала были разрознены.
«Только соединить» и «новый райский союз» – мифы, порожденные страстью, страстью и стремлением к цельности.
И если признать правоту разрозненных фрагментов, слоев, кусочков мозаики, осколков…
Это же еще и художественная форма! Такое соположение сущностей, чтобы они оставались отдельными, не жаждали слияния.
Слияние в полном смысле – проникновение сперматозоида в яйцеклетку, образование зиготы, педантично рассуждает Фредерика. Не мужчины и женщины, а клетки. Когда мужчины и женщины пытаются выйти за пределы языка, за собственные пределы, язык их подводит. Гены же скручиваются, завиваются спиралью, соединяются, составляют животворные предложения и фразы из букв первозданного алфавита. Две половины сходятся в Едином.
Она спохватывается: пока размышляла, писала или тщетно пыталась выжать из себя хоть строчку, Лео где-то подозрительно затаился и сидит тише воды ниже травы. Все размышления рассыпаются в прах. Вот же она, любовь! Плоть ее и не ее, некогда часть ее, а теперь не часть, – руки сомкнулись, замкнули круг.
– Лео! Где тебя носит? Лео! Лео! Где ты?
Фредерика без спроса никогда не вторгается на половину Агаты Монд, но Лео туда захаживает. Саския у них бывает, но реже: заходит поиграть с Лео, поужинать, когда мамы нет дома. И Фредерика в поисках сына отправляется наверх. Там ни возни, ни пронзительных голосов. Повернув за угол, она слышит голос Агаты, негромкий, с актерскими интонациями.
– Это горит дом.
– Откуда в этой глуши дом?
– Это костер. Солдаты разложили. Наверно, погоня.
– Давайте спрячемся.
– Нет, горит куст. Терновый куст посреди пустоши.
– Пойдем посмотрим, – предложил Марк, как всегда нетерпеливый. – Отчего бы он загорелся?
– Должно быть, ударила молния, – сказала Доль Дрозди.
– Надо подойти поближе и разобраться, – решил Артегалл[177].
Все четверо направились к кусту и уже издали заслышали треск горящих сучьев и почуяли запах гари. Подойдя, они увидели, как в жарком мареве мечутся хлопья сажи. Вокруг не было ни души, не видно человеческих следов, трава не примята.
– Горит куст, только и всего, – сказал Клаус.
– А гнезда? – спросила Доль Дрозди. – Все птенцы сгорят!
– Да они, верно, уже улетели, – успокоил Артегалл. – К этой поре они подрастают и по гнездам уже не сидят.
Ему вспомнились огромные книги в кожаных переплетах, где на каждой странице картинка: яйца пятнистые и крапчатые, птенцы голые и оперившиеся, птичьи когти и крылья.
– Там что-то шевелится, – сказала Доль Дрозди.
Путники пригляделись. Сквозь пелену дыма они увидели, что среди яркого пламени что-то ворочается и извивается.
– Птица, у которой все перья сгорели, – предположил Клаус. – Какая огромная!
– Это не птица, – возразила Доль Дрозди. – Вон какая вытянутая мордочка. А в пасти зубы.
– Это змея, гадкая змея, – догадался Марк.
– Надо спасти, – сказал Артегалл.
– Да просто ползучий гад, – возразил Марк. – Здорово, видно, его попалило. Ну его. Спасешь, а он ужалит – змеи всегда так, я читал.
Два мальчика, принц и паж, переглянулись, и в глазах у обоих сверкнул гнев. Артегалл вынул меч и подошел к кусту. Жар обжег лицо, он почувствовал запах жженых волос, своих волос. Он отсек несколько ветвей, чтобы забраться поглубже. Подцепить змею мечом он не решался: меч для этого не годится, одно неосторожное движение – и змея свалится в ревущее пламя. Закрыв лицо плащом, он подступил к кусту вплотную и подвел меч под тело змеи, которой, к его удивлению, хватило силы и сообразительности обвиться вокруг лезвия.
– Как на вертел нацепил! – воскликнул Марк.
– Держись! – крикнул Артегалл змею.
Он осторожно извлек меч вместе с грузом – плотью, обвитой вокруг стали, – из дыма и пламени. Он обжег себе руку, рукав почернел.
– Поджарился… – сказал Марк.
Даже в дыму было видно, что змея очень большая, почти черная, вся в золотых пятнах и завитках. Брюхо у нее было бледно-золотистое, а на голове, имевшей форму ромба, над глазами торчат рожки. Сначала она лежала недвижимо, как обрывок каната, но потом по телу ее пробежала дрожь, она подняла голову и открыла глаза, большие-пребольшие, горящие огнем, как два карбункула.
– А карбункул – это что? – спрашивает Лео.
– Большой драгоценный камень, – отвечает Агата. – Огненно-красный. А еще так называют болезненные шишки на человеческом теле. Тоже бывают красные и сияющие.
– Не люблю змей, – морщится Саския.
– Ты живьем ни одну не видела, – напоминает Агата. – Но вообще их и правда мало кто любит.
Агата сидит на диване, по одну руку Лео, по другую Саския. Фредерика присаживается на пол.
– А дальше? – просит она.
И заговорила змея человеческим голосом. Голосом шипящим, с присвистом, как шелестит листва или шуршит шелк, если пропускаешь его сквозь кольцо или пряжку ремешка, но говорила змея внятно и быстро:
– Я Рогатая Гадюка, повелительница змей в этих краях. Меня бросил в огонь злой солдат, который этот куст и поджег. Я могу наделить тебя даром понимать речь животных и птиц, которые речью владеют: и бегающих, и пресмыкающихся, и летающих, и роющих под землей. Но понимать будешь лишь ты, потому что лишь ты отважился протянуть руку в пылающее пламя.
– А я не верил, что животные умеют говорить, – удивился Артегалл. – Я, конечно, читал…
– Сначала мы не то чтобы говорили. Прежде, когда мы были одно целое, речь была не нужна: мы перекликались своим естеством. Но когда человек придумал слова и при помощи их приобрел власть, стали и мы выговаривать то, что прежде передавалось от души к душе. Впрочем, и сегодня встречаются люди, которые слышат душой, помнят кровью эту древнюю речь.
– И все будут со мной говорить? – спросил Артегалл.
– Чего ты ее спрашиваешь? – удивился Марк. – Она же не сможет ответить.
– Нет, конечно, – отвечала змея. – Большинство и близко к тебе не подойдут или прикинутся бессловесными, если ты станешь вызывать их на разговор. Людей не жалуем. Но ты можешь подслушать что-то важное даже из пересудов мокриц или щебета скворцов.
– Слышать все разговоры всех живых тварей – да я с ума сойду! – прошептал Артегалл.
– Чтобы слышать, надо прислушиваться, – отвечала змея. – Причем упорно и терпеливо… Но мне пора уходить.
Артегалл и глазом моргнуть не успел, как змея оказалась за вересковыми зарослями и втекла в расщелину между гранитными валунами.
– Она с тобой говорила? – спросила Доль Дрозди.
– Кажется, да, – ответил Артегалл.
– Рассказывают, что такое бывает, – сказала Доль Дрозди. – Но я ничего не слышала.
– Да не говорила она ничего, – вмешался Марк.
– Какой этот Марк глупый! – говорит Лео.
– Вовсе нет, – отвечает Агата. – Дальше увидишь. Просто сейчас он немного сердит, ведь до их бегства он был всего-навсего пажом и мальчиком для порки и надеялся, что Артегалл, который до сих пор сидел в своей башне, теперь окажется никчемным неумехой. Но у Марка это пройдет. Люди могут изменяться.
– Ну и хорошо, – говорит Саския. – А то я вечно сердитых не люблю.
– Что вы им рассказываете? – спрашивает Фредерика.
– Это моя сказка, – объявляет Саския.
– Я тоже слушаю, – добавляет Лео. – Это ничего. Агата говорит, мне можно.
– Хотите – присоединяйтесь, – предлагает Агата. – Будем рады.
Фредерика присутствует при этих рассказах несколько недель подряд. По старой памяти у нее мурашки бегут от удовольствия, когда она видит, как Лео и Саския с головой погружаются в неведомый мир. Сказка то и дело захватывает и ее: она причудливая, Агата рассказывает с душой, сама так и живет в этой сказке. Это история принца Артегалла, который, проснувшись в одно прекрасное утро в своей башне на берегу моря, обнаруживает, что вокруг ни души. Он провел в башне всю жизнь, потому что его страна все время воюет с соседними державами, вот и город опустел, потому что на него двинулось войско, которое доставил вражеский флот. Принца спасают кухонная прислуга Доль Дрозди, дворцовый стражник Клаус и Марк, паж принца и мальчик для порки, с которым они вместе обучались военному делу, фехтованию, борцовскому искусству и стрельбе из лука. Переодевшись, они вчетвером бегут из города и отправляются в фургоне на север в поисках Рагны, дяди Артегалла, который им ни друг, ни враг, но фигура зловещая. По пути приходится уходить то от одной, то от другой погони. Артегалла все считают полным неумехой, просто поклажей, которую нужно доставить по назначению, но выясняется, что, несмотря на свое затворничество, он умеет прекрасно выслеживать дичь и находить тропы, потому что для образования будущему монарху полагалось прочесть бесчисленное множество огромных книг в кожаных переплетах – о псовой охоте, о лесных обитателях и деревьях, о судоходстве и географии и прочих премудростях. Паж Марк рассчитывает, что теперь командовать будет он: раньше этому препятствовало высокое звание Артегалла, но Артегалл показывает: «Я не просто принц, я тоже кое-что умею». Чем дальше на север, тем одушевленнее становится местность, рассказывает Агата Фредерике, встречаются волшебные твари, существа из других миров, говорящие на других языках.
– Я сочиняла ее для детей-книгочеев, – объясняет она. – Вроде себя, вроде вас. Для тех, кого за любовь к книгам презирают. Я хочу им сказать: и в книгах можно найти то, что в жизни пригодится. Казалось бы, в конце концов должен победить Марк, обыкновенный мальчик. Но в воображении-то мы, наверно, все видим себя принцами и принцессами, так что в сказке принц и есть обыкновенный человек.
– Не слишком взрослая история для Лео и Саскии?
– А для вас была бы слишком взрослой?
– Нет, мне бы понравилось. Слушала бы во все уши.
– Вот видите. И они слушают. Спрашивают про непонятные слова. Что бы сказали учителя в нашей комиссии!
Фредерика рассказывает Агате про свои мучения со скорбным листом. Сочиняет свою сказку, только в другом роде, добавляет она, сморщив нос. Агата мрачнеет и замечает, что занятие, наверно, не из приятных. Она выслушивает, сочувствует, но изливать душу в ответ не спешит. Фредерика иногда принимается гадать, кто отец Саскии. Гости у Агаты бывают: семейные пары, друзья и подруги оксфордской поры, члены комиссии, коллеги-чиновники. В такие дни Агата устраивает изящный легкий ужин, на который иногда приглашает и Фредерику. В эти дни на кухне у Агаты происходят долгие кулинарные радения, готовится пир из пяти блюд для истых гурманов: паштеты или креветки в сливочном соусе, тонкие супы, оригинальные закуски, затем говядина в горшочке или в тесте, жиго или утка в сидре, фаршированный карп или морской язык с овощами, затем вкуснейший салат из листьев цикория с апельсинами или кресс-салата с огурцами, затем фруктовый пирог домашнего приготовления или суфле, затем сыры ассорти на любой вкус или, может, рулет из бекона и чернослива. И всегда салат с авокадо, жаренный цыпленок с чесноком и пирожные из французской кондитерской. Три перемены плюс одно горячее. Беседа за столом течет ровно, дружелюбно. Не заметно, чтобы у Агаты были с кем-то особо близкие отношения. Как-то раз за таким ужином Фредерика заметила, что Александр явно питает к Агате интерес: заметила, что он живо предвкушает их совместный визит в одну бристольскую школу, – с детьми посидит Фредерика. Они с Александром были бы отличной парой, думает Фредерика. Она пытается понять, что это значит, и решает: это когда обходится без насилия. Когда Александр и Агата живут под одной крышей, думает она, и жизнь их течет ровно и дружелюбно, никаких ссор, никаких неистовых страстей. Насчет Агаты она может только догадываться – знает ее еще недостаточно хорошо, – но уж Александра узнать успела. Агата же и не стремится раскрыться, и, как заметила Фредерика, кое-кто эту ее черту порицает, называет ее сухарем. Просто она человек сдержанный, думает Фредерика. Осмотрительная она, вот и все.
А жить в своей сказке ей нравится.
Нет, она не прячется в детство, она человек зрелый – может быть, более зрелый, чем я в ее глазах.
Раскрывать душу перед Агатой она не боится. Полностью ей доверяет: сплетничать она не станет, поймет правильно и не затаит осуждения. Поскольку ответных откровений от Агаты не дождаться, Фредерика приправляет свои признания легкой иронией и старается говорить так, будто это не про нее, – даже когда речь заходит о вещах очень личных, мучительно личных, вроде брошенного в нее топора или венерической болезни. Агата слушает, вставляет одно-два дельных замечания.
– Лучше написать не «венерическое», а «заболевание, передающееся половым путем». Термин более строгий и точный. Чтоб никаких ассоциаций с богиней любви.
– Может, вообще об этом не писать? – спрашивает Фредерика.
– Можно и не писать, – соглашается Агата. – Но возможно, что это важное обстоятельство, доказательство. Главное – что будет считаться уликами. Это – улика.
– Вообще-то, это просто личная жизнь какой-то там бактерии. Я понимаю, что он передо мной виноват, но на самом деле нет. На самом деле мне безразлично, чем он там занимался на стороне.
– Вы махнули на все рукой, поэтому и безразлично.
– Мне, пожалуй, все безразлично, – признается Фредерика. – Кроме Лео.
– Это я поняла.
Фредерика смотрит в ее правильное миловидное лицо с тонкими чертами. Хочется спросить: а тебе что небезразлично? Но она не решается.
XI
Скорбную повесть Фредерики Арнольд Бегби переработал в официальное заявление о расторжении брака.
В Высокий суд Англии и Уэльса
В отделение по делам о наследствах, разводах и делам военно-морского флота
(Развод)
1 апреля 1965 г.
В ходатайстве Фредерики Ривер указывается следующее:
(1) 19 октября 1959 года Истица Фредерика Ривер, в то время Фредерика Поттер, сочеталась законным браком с Найджелом Ривером (далее «Ответчик») в приходской церкви Спессендборо, графство Херефордшир.
(2) После заключения брака Истица и Ответчик жили вместе и вели совместное хозяйство по нескольким адресам, в последнее время в Брэн-Хаусе, Лонгбэрроу, графство Херефордшир.
(3) В настоящее время у Истицы и Ответчика имеется один ребенок, а именно Лео Александр, родившийся 14 июля 1960 года.
(4) Истица предлагает следующие меры по содержанию, уходу и воспитанию означенного Лео Александра. Он будет проживать с Истицей по адресу: Хэмлин-сквер, 42, Лондон, в доме, находящемся в совместном пользовании с мисс Агатой Монд и ее дочерью, Саскией Фелисити Монд. В сентябре он начнет посещать Начальную школу Уильяма Блейка по адресу: Лебанон-Гроув, Лондон, вместе с упомянутой Саскией Фелисити Монд. Истица намерена подать заявление на алименты, как указано ниже.
(5) После заключения брака Ответчик жестоко обращался с Истицей.
(6) Ответчик, будучи человеком буйного нрава, часто оскорблял Истицу окриками, бранью и действием.
(7) 28 сентября 1964 года Ответчик напал на Истицу, нанеся ей несколько ударов по голове, ребрам и спине. Когда она попыталась укрыться в ванной, он, чтобы напугать ее, отключил электричество в доме и держал ее там в течение нескольких часов.
(8) В воскресенье 4 октября 1964 года Ответчик вновь напал на Истицу в ее спальне, после чего она в страхе выбежала из дому и спряталась в конюшне. Когда она покинула укрытие, Ответчик ждал ее с топором, которым он ей угрожал. Когда она выбежала в поле, он преследовал ее, словесно оскорбляя, и бросил в нее топор, нанеся ей ранение в бедро.
(9) До вышеуказанных конкретных насильственных действий Ответчик относился к Истице с пренебрежением, проводя значительную часть времени вне дома, в компании друзей по рабочим делам, что выходило за рамки разумной необходимости для осуществления коммерческой деятельности. Он настаивал на том, чтобы Истица и ребенок постоянно находились в Брэн-Хаусе. Он грубо обращался со знакомыми истицы, необоснованно отказывался когда-либо принимать их или разрешать своей супруге видеться с ними.
(10) Есть основания полагать, что Ответчик совершил супружескую измену, поскольку в ноябре 1964 года у Истицы было обнаружено венерическое заболевание. Истица дала письменное показание под присягой о том, что это заболевание не могло быть передано никем, кроме Ответчика.
(11) Истица обнаружила в шкафу Ответчика обширную коллекцию непристойных журналов.
(12) Истица ни в коей мере не была соучастницей, не попустительствовала и не потворствовала вышеупомянутой измене, а также не потворствовала вышеупомянутому грубому обращению.
(13) Данное заявление подается и возбуждается без сговора с Ответчиком.
Фредерика обдумывает этот документ, еще одну повесть о своей семейной жизни.
– Ох и не понравится ему, – говорит она.
Бегби улыбается:
– Никто и не рассчитывал, что понравится.
Фредерика пытается оценить документ с аналитической точки зрения:
– Вы не упомянули, что он не позволял мне работать.
– Я счел это неразумным.
– Это же был самый жестокий его поступок, – произносит Фредерика уныло сухим тоном. – Без этого я не я.
– В семейной жизни обычно так и бывает, – ответствует Бегби.
– Вы там написали, что я требую алименты. Но мне не нужно. Я могу работать. Я хочу жить на свои средства.
– Вы добиваетесь, чтобы вам предоставили опеку над сыном. Чтобы он был предоставлен вашему надзору и попечению. Едва ли суд пойдет вам навстречу, если вы будете упирать на свое желание работать, на свои личные устремления.
– Будь я мужчиной…
– У вас есть прекрасный шанс добиться опеки именно потому, что вы женщина. Принято думать, что женщины предпочитают сидеть дома и нянчить детей. Ваш пол – это, если можно так выразиться, ваш главный козырь. Все прочие козыри, с точки зрения суда, на руках у вашего супруга: отличный дом, несколько заботливых женщин, с которыми ребенок близок, достаточно средств, чтобы устроить его в хорошую частную школу. Если вы будете ставить свое самолюбие выше благополучия ребенка, вы предстанете перед судом в не очень выгодном свете. И если муж, как вы утверждаете, повергал вас жестокому обращению, вы, без сомнения, захотите потребовать от него полагающееся по закону содержание.
– Да нет же! Мне его деньги не нужны. Не хочу я никаких склок и баталий. Я хочу, чтобы Лео был со мной, хочу остаться сама собой, хочу работать.
– Боюсь, при состязательной системе, лежащей в основе как британского законодательства, так и семейных отношений, без баталий не обойдется. Позвольте узнать, проявлял ли он жестокость в отношении сына?
– Нет. Не то чтобы… Вот разве когда Лео видел, как он обходится со мной, ему, кажется, было больно. Не знаю, считается ли это жестокостью. А больше ничего.
– Выходит, он только с вами так?
– Да, только со мной. Прочие на него разве что не молились.
– Жаль, жаль. – Бегби откидывается на спинку кресла, досадуя на отсутствие жестокости в отношении Найджела Ривера к сыну.
Он сообщает Фредерике, что заявление будет отправлено по почте, что оно будет зарегистрировано в Управлении по бракоразводным делам и, если ответчик намерен его опротестовать или подать ответное заявление, он должен явиться в управление лично. Если он не поддерживает заявление, он должен письменно уведомить об этом адвоката истца. Он спрашивает Фредерику, как, по ее мнению, поступит ее супруг.
Фредерика задумывается. Ей представляется угрюмое лицо Найджела, склонившееся над листом бумаги казенного формата. Побои, топор, похабные картинки… Представляется его бешенство. Лицо его синеет, чернеет – демонское лицо. Она, как бы защищаясь, складывает руки на груди.
– Он так просто не сдастся. Пойдет в наступление. Будет бороться за Лео.
– Тогда и мы пойдем в наступление. Наступать будем грамотно. Понадобятся свидетели актов жестокости. Суд не всегда доверяет показаниям одного из потерпевших супругов, если они не подкреплены свидетельскими показаниями. Врачи, члены семьи, друзья – кто-нибудь видел хотя бы следы насилия? Важный довод в нашу пользу – супружеская неверность. Доказать ее можно, если утверждение о вашем заболевании справедливо – что опять-таки должно быть подтверждено медицинским свидетельством. Вы имеете представление, где бывал ваш супруг во время своих отлучек, с кем встречался, что делал?
– Я не спрашивала. Я ведь особенно и не возражала. Мне хотелось жить своей жизнью. Он все ездил куда-то с Пейнаккером и Шахом по делам своей судоходной компании, кажется. Те состоят во многих лондонских клубах, куда я, по понятным причинам, ни ногой. Помню, один называется «Сластена». И еще один: «Клубничный клуб». Его рекламную брошюру я как-то видела. Восточные официантки – словно танец живота исполнять собираются: шелковые шаровары и бюстгальтеры. С кисточками на сосках. Помню, говорили, что Шах с ним как-то связан финансово.
– Знаю я эти заведения, – выговаривает Бегби не без удовольствия; Фредерика смотрит на него в упор. – Знаю публику, которая их посещает, – уточняет он, поймав взгляд Фредерики. Та молчит. – Первоклассные шлюшки и девочки по вызову.
Для Фредерики это не новость, но она об этом не задумывалась: это ее не касается. Что значит «не касается»? Это значит, объясняет она себе, переходя в кабинете адвоката на юридический язык, что она не имеет права владения на тело Найджела. Она хочет жить своей жизнью. Если бы ее не держали взаперти, то теоретически она признала бы право Найджела на собственную жизнь… Так ли? А омерзение и стыд при виде похабных картинок? Омерзение, стыд и ничего привлекательного. Доведись ей попасть в «Сластену» или «Клубничный клуб», она, скорее всего, и там ничего привлекательного не нашла бы.
Бегби словно читает ее мысли:
– Суд может признать наличие непристойной литературы в имуществе ответчика лишь косвенным доказательством супружеской неверности. Если женщина посещает бордель, это считается неопровержимым доказательством измены. Если бордель посещает мужчина, это улика веская, но неопровержимым доказательством она не является.
– Интересно, – сухо произносит Фредерика.
Бегби, как видно, наслаждается ее смущением – должно быть, приписывает его игре воображения, рисующего ей взаимодействие тел; на самом же деле ее смущает несоответствие истинных причин ее боли и тех улик, которые дадут юридические основания эту боль остановить. Если б я вовремя насторожилась из-за всяких «сластен», я бы здесь сейчас не сидела, думает она, потому что я не махнула бы на все рукой и дело повернулось бы иначе.
– Если мы будем настаивать на расторжении брака, – продолжает Бегби, – надо предусмотреть возможные основания для отказа. Обдумайте такие варианты: отрицание обвинений, попустительство, потворство, сговор. Если допустить неосторожность, ваше отношение к внебрачным связям супруга вполне может быть квалифицировано как попустительство. Суд по своему усмотрению может выдвигать и другие основания для отказа. Обдумайте такие варианты: обвинение в супружеской неверности или жестоком обращении со стороны истца. О всякой своей измене – по закону я обязан предупредить – вы должны сообщить в конфиденциальных показаниях, которые будут переданы суду: предавать их огласке или нет, решает суд.
– Нет, – произносит Фредерика. – Я не… не совершала…
– Вероятнее всего, как сторона ответчика, так и суд могут поинтересоваться, были ли ваши отношения с мистером Томасом Пулом совершенно…
– Да, были. Это для удобства. У него были дети, и квартира, и работа. Мы по очереди присматривали за детьми. Он приятель и коллега… моего отца. – Не на шутку возмущенная, Фредерика решает об Александре помалкивать.
– Так, хорошо. А сейчас, значит, вы проживаете у женщины. Хорошо. И больше точно никого? Если противная сторона захочет воспрепятствовать разводу, она станет выяснять…
– Никого.
– А ваши приятели, против присутствия которых возражал ваш супруг? Они мужчины или женщины?
– Мужчины.
– Но оснований для ревности или подозрений у него не было?
– Ни малейших. Они мои друзья, и больше ничего.
– Так было всегда?
– Не всегда и не со всеми. В Кембридже я… спала кое с кем.
– Ну, понятно. Добрачное невоздержание к общественной морали прямого отношения не имеет. Однако этот факт может навести кого-то на мысль, что вы не считаете себя обязанной довольствоваться связью с одним мужчиной, и это повлечет за собой вопросы о вашем последующем поведении.
– После брака я больше ни с кем не спала, – говорит Фредерика.
Любопытно: говорит правду, но такое чувство, будто лжет, и ее выведут на чистую воду. Наверно, оттого, что Бегби, ее адвокат, не склонен ей верить.
Бегби снова читает ее мысли:
– У адвокатов профессиональная привычка: сомневаться в любом утверждении. Я, конечно, готов поверить, что вы оставались верны своему супругу.
– Ну что это: «верна – не верна», – возражает Фредерика. – Я, кажется, вообще не понимаю, что такое «верна». Но что я больше ни с кем не спала, это правда.
– Хорошо-хорошо.
И все-таки Фредерику не оставляет чувство, что адвокат ею недоволен. Что она говорит и делает что-то не так, как положено. Может, потому, что не плачет? В последнее время любой наплыв чувств заставляет ее держаться бесстрастно. Это смолоду она могла раскричаться, разреветься. Сегодня надо держать себя в руках. Оставаться умудренной, искушенной. И она как-то чувствует, что ее бесстрастность и искушенность Арнольда Бегби не устраивают.
На улице Фредерика видит знакомый садик за железными прутьями, на траве резвятся те же дети с теми же мамашами. На мамах теплые пальто, такие короткие, что ноги почти оголены, и вязаные шапочки ярко-малинового цвета. Они лезут в кусты за блестящим сине-белым мячом из пластика. Дети со смехом носятся взад-вперед, мамаши в детских одеяниях призывают их «смотреть под ноги». Фредерика чувствует себя как зверь за решеткой, как зверь, попавший в охотничью сеть. В клетке на колесах или в сети, висящей на дереве, беспомощно рычит что-то живое. Сеть сплел не Найджел, который что есть духу мчался за ней с топором и топором пустил ей кровь. Сеть сплетена из слов, которые, по ее ощущению, к происходящему не относятся: «супружеская неверность», «попустительство», «добрачное невоздержание», «истец», «ответчик». Чтобы избавиться от гнета этих слов, Фредерика вдумывается в них. «Неверным» называют исповедующего чуждую веру: некогда – преступление. «Невоздержание»… «недержание»… Удовлетворение половой страсти приравнивается к неспособности мышц регулировать работу кишечника или мочевого пузыря. Сдерживать – функция сфинктеров, отмечает Фредерика. В таких юридических терминах – вся история общества, где женщина считалась собственностью мужчины и частью его плоти, каковую часть надлежало держать в чистоте. А за «воздержанием – невоздержанием» стоит вся вековечная, чуждая жизни и величественная история христианской морали. В Кембридже секс знаменовал порыв к свободе, самоутверждение, так мы радостно осознавали свою силу, многообразие выбора – не без страха насчет медицинских последствий. Мы упивались бунтом, думает Фредерика, бунтом против мещанского благоразумия и ханжества, а по сути – против своих родителей, которым мы в пылу обуявшего нас бунтарства приписывали и ханжество, и толстокожесть, и чопорность. В юридическом языке – ни ханжества, ни чопорности. Это категоричный язык «общественной морали». Он бесславит Фредерику как члена общества и в то же время предлагает выход из переделки, в которую она попала из-за стремления стать членом общества, из-за необдуманного замужества с целью раз и навсегда решить вопрос, выходить ли ей замуж.
Наступает день занятий в Школе Богородицы Скорбящей. На Хэмлин-сквер Фредерика застает Лео за чаем вместе с Саскией и эрзац-бабушкой, миссис Альмой Бердзай. Приходит и Агата. Смеркается, у окна топчется ватага детворы, скребутся в стекло, разбегаются. Агата и Фредерика опускают жалюзи, задергивают шторы, и пространство комнаты наполняется мягким теплым светом. Агата читает продолжение сказки. Нечистик по имени Яллери Браун завел путников в глухую чащобу, начинается снегопад, из-за больших мокрых хлопьев костер гаснет, и они остаются в кромешной тьме, потому что луна и звезды скрыты густыми влажными тучами. Артегалл слышит разговоры землероек и крыс в подлеске, глазастых сов, прислушивающихся в колючих ветвях. Слышит голоса медлительных червей под прелыми листьями, под перегноем, под землей. Землеройки и крысы слушают червей, совы слушают землероек и крыс, дети в теплой комнате слушают сказку и ежатся, представляя, как страшно сидеть в темноте. Животные разговаривают о голоде и представляют еду. Совам претит дух человеческий. И вдруг Доль Дрозди замечает, что в зарослях ежевики и развесистого терновника мерцает холодный огонек…
– Дальше, – требует Лео.
– Не могу, – отвечает Агата. – Дальше еще не написала.
– Но вы же знаете, – не отстает Лео.
– Не совсем, – говорит Агата. – Мало ли что может произойти.
– А почему бывает темно? – спрашивает Саския.
– Потому что мы живем на Земле, – объясняет Агата, – а Земля вращается и описывает большие-пребольшие круги вокруг Солнца, огромного огненного шара, и, когда мы оказываемся на той стороне, где Солнца нет, у нас темно.
– Почему? – снова спрашивает Саския.
– Не знаю, – отвечает Агата.
– А я темноты не боюсь, – говорит Лео, положив рыжую голову на колени Фредерики.
Фредерика боится. Боится глухой чащобы, в которую ее занесло, боится того, что может произойти, боится потерять Лео, боится причинить ему боль. Теперь это все увязано с общественной моралью. Кто-то где-то будет ее, Фредерику, судить. Она прижимает к себе Лео.
Фредерика появляется в Школе Богородицы Скорбящей, держа в руках конспект лекции о любви и браке у Форстера и Лоуренса. Поездка в метро помогла успокоиться. Столько людей, столько лиц, столько проживается разных жизней. Люди реальные, даже несмотря на требование моды выглядеть как лупоглазая бледная кукла с ослепительно-яркими губами. Проплешины и развевающиеся локоны, прически «бабетта» и «воронье гнездо», фуражки как у «Битлз» и надетые на седую шевелюру капоры-дождевики из прозрачного пластика в цветной горошек, изумрудный и алый, оранжевый и лиловый, с завязками под обвисшим подбородком. Здесь она в безопасности, здесь ее никто не знает, и все вокруг такие интересные. Лондон во всей красе, ее сегодняшний Лондон, где она заглянула лишь в несколько уголков: церковь Дэниела, квартира Хью Роуза, пыльный кабинет Руперта Жако, дом на Хэмлин-сквер, преподавательская, просторные студии училища Сэмюэла Палмера, контора Арнольда Бегби, класс вечерников…
Уже на лестнице Фредерика чувствует, что к привычным запахам капусты и мела примешивается еще один, густой и прогорклый: его она узнает безошибочно. Войдя в класс, она убеждается: в первом ряду подальше от всех сидит Джуд Мейсон, в своей грязной куртке из синего бархата и в чем-то, напоминающем накидку полицейского. Разметавшиеся по плечам серо-стальные волосы сально лоснятся. Студенты болтают друг с другом и в его сторону не глядят.
– Вот, бродяжничаю, – сообщает он Фредерике. – Бродяга, в прямом смысле слова пришедший с холода. В моем обиталище лютая стужа: за отопление заплатить нечем. И на улице холодно. Я вас не обеспокою, если приючусь здесь? А то Британская библиотека закрыта.
– Только чур никому не мешать.
– Не буду ни мешать, ни обращать, ни совращать. Буду нем как рыба, мне бы только посидеть тут в уголке и послушать.
– Знакомьтесь: Джуд Мейсон, – представляет его Фредерика. – Работает в художественном училище. Через несколько месяцев выйдет его книга.
Студенты благодушно кивают. Фредерика раскрывает конспект и начинает рассказывать о Форстере и Лоуренсе. Она говорит о том, что было у них общего – о стремлении к цельности бытия, нерасчлененности восприятия жизни, полноте существования в этом мире и этой стране. Об их неприязни к механизации жизни, к городам, к распаду и фрагментарности. О том, как они прозирали образ потерянного рая, Форстер в Сассексе, Лоуренс в Ноттингемшире, что толкало одного на поиски вяза с кабаньими зубами[178], другого – на поиски родственных душ в солнечных, жарких, «девственных» краях. Она пытается увязать это со страстными устремлениями образованных женщин, которых они изображали, – Маргарет и Хелен Шлегель, Урсулы и Гудрун Брэнгвен, – их тягой к свободе и к подчиненности, верой в разум и инстинкты.
Рассказывая, она обводит взглядом аудиторию. На прошлой неделе студентка художественного училища, девица в узком черном джемпере, узкой черной мини-юбке, плотных черных колготках и старомодных туфлях на шнурках, сказала ей: «Мы должны быть особенными. Мы же художники. Мы и выглядеть должны по-особому». Ее подруги, бледные, с бордовыми губками, с ног до головы в черном, одобрительно закивали. Они особенные – однообразно особенные. А в этом классе – разнообразие. Розмари Белл пришла в брюках, алой шерстяной рубашке и сером жакете. На Дороти Бриттен свободная палевая блуза из шерсти с узором из черных и красных глазков. Хамфри Меггс – в синем джемпере, из которого выглядывает воротник рубашки, аккуратно повязанный галстуком (белое с темно-синим). Аманда Харвилл – в кремовой шерстяной тунике с длинными рукавами и закрытым воротом фасона а-ля Курреж, длиной выше колен. На тонких загорелых запястьях золотые браслеты. Веки у нее сегодня густо-васильковые, присыпанные золотой пылью. Таксист Рональд Мокстон носит вязаный свитер с рельефным узором и куртку с кожаными плечами; Ибрагим Мустафа – в жакете без воротника, под «Битлз», темно-синем, с зеленой отделкой, и серых, не в тон, фланелевых брюках; Лина Ниссбаум надела бирюзовый мохеровый свитер с воротником, лежащим мягкими складками; сестра Перпетуя в черном, на голове апостольник; на Гислен Тодд жилет с вышивкой поверх водолазки бутылочного цвета; на Элис Саммервил и Одри Мортимер твидовые костюмы и блузки, а на Уне Уинтерсон приталенное вельветовое платье ржавого цвета. Годфри Мортимер и Джордж Мерфи – в строгих темных костюмах. Любопытно, думает Фредерика, почему эти деловые костюмы кажутся интереснее торжественной черной униформы молодых художниц? Она глазами ищет третий костюм: Джона Оттокара.
Сегодня он не в костюме. На нем пестрый, как радуга, свитер, яркое разноцветье вязаных треугольников – лиловых, фиолетовых, желтых, багровых, голубых, синих, зеленых бутылочного и травянистого оттенков, по горловине, манжетам и снизу вязаная резинка темно-синего цвета. Свитер просторный, дорогой. В костюме Оттокар казался сдержанным, собранным, до пресности правильным, что не очень вязалось с его пышной, прибранной ярко-золотистой шевелюрой. В соседстве с этим свитером его шевелюра словно ожила, задышала, даже чуть-чуть по краям растрепалась. В этом роскошном наряде он держится раскованно, крупное широколобое лицо осматривает класс с доброй улыбкой. Когда его голубые глаза ловят взгляд Фредерики, в них вспыхивает огонь. Он сидит в углу, неожиданный, броский.
«Я вас хочу», вспоминает она.
Он улыбается ей.
Она смотрит на это нагромождение треугольников, на Джуда в синем бархате и думает о масках, маскарадных домино, карнавальном ряжении. Молодые художницы наряжаются молодыми художницами. Те, кто собрался здесь, – люди «обыкновенные», то есть разные, непохожие друг на друга, и каждый в каком-то смысле играет роль ребенка или студента, который сидит на детском стульчике и слушает, как Фредерика рассказывает о Лоуренсе и Форстере, о сексе, о смерти, об этом мире. Кто же такой Джон Оттокар? Компьютерщик-программист, человек в деловом костюме, человек, не владеющий языком, нагромождение ярких треугольников? Кто такой Джуд, скрывающийся под эпатажной личиной? Кто такая Гислен Тодд, такая чистенькая, такая в меру щеголеватая в своем расшитом цветами жилете: психоаналитик, слушающая рассказы людей о своих жизнях, сумбурных в унылой повседневности и совершенно логичных в сновидениях? Та ли это Гислен Тодд, которая размышляет о Лоуренсе, о Форстере, о браке, или кто-то другая? Какое у нее лицо, когда она сидит, скрываясь от взгляда пациента на кушетке: такое же, как сейчас? Какое «лицо» ее подлинное? Какая разница между васильковой синевой Хамфри Меггса и арлекинскими треугольниками Джона Оттокара? Судя по цвету, на работу они в этих нарядах не ходят. Но за васильковой синевой еще просматривается распределение ассигнований и публичные библиотеки, Арлекин же опасен… И все же составлять о них представление по этой одежке нельзя. О Джуде можно. И уж конечно о сестре Перпетуе: накрахмаленная белая повязка на лбу, черный платок, обрамляющий лицо и спадающий на плечи.
Завязавшееся обсуждение касается множества вопросов. Фредерика заметила, что у вечерников такие обсуждения ведутся на общем для всех языке, лингва франка, сметающем барьеры между научными школами, дисциплинами, сектами, группировками. Нить разговора протягивается между двумя крайностями: сплетнями и точно разграниченными философскими категориями, а для этого требуется выработать особый язык, отчего на этой нити подчас возникают узелки и обрывы. Взрослые люди, кто умно, кто глупо, рассуждают о других людях – Маргарет и Урсуле, Лоуренсе и Форстере, Биркине и мистере Уилкоксе, – рассуждают так, будто лично с ними знакомы (или незнакомы). Если им напомнить, выясняется, что они вполне отдают себе отчет, что четверо из этих шести – чистая словесность, не люди из плоти и крови, а марионетки в руках автора. Когда Фредерика на это указывает, в ответ Годфри Мортимер указывает, что, на взгляд студентов, Форстер и Лоуренс тоже словесность: потрогать или понюхать их нельзя, а свидетельства о том, что они думали, не менее сомнительны и субъективны, чем такие же свидетельства о размышлениях Маргарет и Урсулы. Однако писатели могут сообщить – и сообщают, – чего Маргарет и Урсула «действительно хотели», что им «следовало сделать» и «какими бы они стали», хотя, как знает Фредерика, с точки зрения литературной критики такие свидетельства недостоверны, и еще вопрос, что «хотели бы» Лоуренс и Форстер видеть предметом обсуждения читателей. Так мы учимся думать. Так, по выражению Форстера и Маргарет, мы «соединяем» прозу со страстью – в словесных и образных вихрях предположений и комментариев, постижений и недоумений. Студенты обращаются к текстам. Аманда Харвилл, сморщив нос и дернув плечами, высказывается в том смысле, что Маргарет и Хелен Шлегель «ненастоящие женщины». Сестра Перпетуя возражает: они как раз настоящие женщины, они руководствуются своими представлениями о сексе и личных отношениях, которые определяют их поступки и толкают на ложный путь. Они «телесно несведущи», в отличие от Урсулы Брэнгвен, которая понимает, каким языком говорит тело и как он связан с языком души. Они не всегда связаны, вставляет Джуд Мейсон: всего четыре слова – краткость для него необычная. Сестра Перпетуя согласна: она и сама знает, что не всегда. (После она рассказывает Фредерике, что посоветовала Джуду принять ванну, а то ведь ему никто не скажет. «И что он?» – интересуется Фредерика. «Говорит: „Мое амбре меня устраивает. Это от брезгливости: так никто близко не подойдет“, – отвечает сестра Перпетуя. – Ну что ты будешь делать с этими позерами? У нашего монастыря, у черного хода, их много толчется».)
Обсуждение сворачивает на прежние темы. Джордж Мерфи снова заводит речь о том, как в романах изображается труд. На лекции о «послевоенной британской прозе» он уже ядовито прохаживался насчет одного недостатка романистов: они слабо представляют, чем большинство людей занимаются на работе. У писателей на уме только любовь и секс, еда и Бог, говорил Джордж Мерфи, и, вообще-то, это понятно: у многих на уме и правда любовь и секс, еда и Бог. Но у многих на уме еще и работа, удобства, машины, собственность, и к ним относятся не с таким пренебрежением и ненавистью, как эти писатели: многие ими прямо одержимы и знают в них толк. Многие общаются с коллегами, и нельзя сказать, чтобы в их компаниях у всех на уме были только любовь и секс – хотя и без этого не обходится. Ему, Джорджу Мерфи, интересен мистер Уилкокс, который по замыслу Форстера является представителем делового, финансового мира («Как и Леонард Баст»[179], – добавляет сестра Перпетуя), но, как ни старался Форстер сделать его интересным, таинственным, получился грубый тупой негодяй. А возьмите Биркина и Урсулу: полюбили друг друга – а дальше что? Мигом работу побоку, и давай мечтать о какой-то целомудренной райской идиллии. Можно подумать, изобретательность, которая помогла человеку создать машины и всякие институции, это зло, погибель. Вот меня романистам не понять, говорит Джордж Мерфи. Не знают они, о чем я все время думаю.
– Что вы думаете в постели, знают, – замечает Аманда Харвилл, которая к Мерфи явно неравнодушна.
– А вот и нет, – возражает Мерфи. – Скажем, тискаю я какую-нибудь аппетитную сексапилочку, так распалился – дальше некуда, а в глубине души: как там курс акций, урожай кофе, политика управления компании? Насчет сексапилочки романист догадается, а что по другим статьям, он понятия не имеет.
Обсуждение продолжается в «Козле и циркуле». Джуд Мейсон идет вместе со всеми. Располагаются за длинным столом, одной стороной приставленным к стене. Джордж Мерфи оказывается между Амандой Харвилл и Розмари Белл, ведающей социальными пособиями, марксисткой по убеждению, которая то и дело затевает идеологические свары с психоаналитиком Гислен Тодд. На сей раз Розмари и Гислен почти в один голос разносят взгляды Джорджа на жизнь и работу. Обеим – каждой по своим мотивам – близко стремление к цельности и самопознанию, по мнению Фредерики свойственное Биркину, Урсуле, Хелен и Маргарет; обе сходятся во мнении, что мистер Уилкокс самодовольный фофан, а лоуренсовские трудяги-шахтеры теряют человеческий облик. На это Джордж ухмыляется с видом оскорбительного превосходства и отвечает, что их идеал – пастушеская утопия. Костюм на нем хорошего кроя, но пиджак немного морщит на талии и сгибах рук. Аманда Харвилл не сводит с него линяло-голубых глаз с синими искристыми веками; Фредерика замечает, что ее тонкая ручка, окованная золотыми обручами, покоится на коленях Мерфи. Брюки, полы куртки и паклистые серые космы Джуда источают крепкий запах. Он сидит рядом с Фредерикой. Наискосок, раскинувшись в темном углу, – Оттокар в своем цветастом домино.
– А сестра Перпетуя дала вам дельный совет, – бросает Фредерика.
– Про мою ману?[180] Это я защищаю плоть от плоти. Ни для кого не вожделенный, никого не вожделею – чем плохо?
Фредерика ерзает на стуле:
– Мне отсесть подальше?
В его запахе смешались душок бекона, прогорклого масла, выдохшегося пива, хотя пьяным она его ни разу не видела, он и сейчас попивает грейпфрутовый сок.
– Вы – не страшно. Стерплю.
Он присматривается к ней:
– А вот в вас вожделение не дремлет.
– Это мое дело.
– Не здесь. Вы перед нами выступаете, а мы всматриваемся, наблюдаем, строим догадки.
– Вожделение дремлет, – отвечает Фредерика. – Закон требует: до развода – никаких вожделений.
Она поднимает глаза и встречается взглядом с Джоном Оттокаром в ярком оперении. Взгляд его слепит, точно луч фонарика. Она спешит потупиться. Джуд ворочается, окутывая ее своим запахом.
– Хороший у вас джемпер, – говорит Фредерика Оттокару. – Свежая струя.
– Так устроен, что я не мог пройти мимо.
– Как это – устроен?
– Не разобрались? Идеальное сочетание порядка и хаоса. По цвету треугольники выстроены так, что вправо-влево, вверх-вниз получается солнечный спектр, от фиолетового до красного. Основа порядка, а в промежутках цвета разбросаны как попало: желтый, зеленый, оранжевый, розовый. Мне понравилось. Когда разобрался. Еле-еле наскреб денег и купил.
С Фредерики глаз не сводит.
– А Фредерике закон вожделеть запрещает, – сообщает Джуд Джону Оттокару.
– Трудное положение, – улыбается Джон Оттокар.
– По логике вещей, это должно дать противоположный результат, – рассуждает Джуд. – Как всегда, когда указывают или предписывают. Хочется сделать наоборот.
Джон Оттокар улыбается, Фредерика, слегка зардевшись, заглядывает в свой бокал. Вспоминается «Балабонская башня»: по части вожделения в самых прихотливых формах Джуд наверняка знаток. Она рассматривает треугольники Джона Оттокара: что под ними? Вожделеть возбраняется, но ее всегда тянуло к тому, что ей не давали. Кожа у него упругая, верхняя губа выбрита до золотистого отлива. Глаза добрые – или ей так кажется.
– Вы, как Джордж, только о работе и думаете?
– Даже во сне снится. Как пишу программу для нефтяных танкеров. Разрабатываю маршруты по всему свету, оптимальное размещение судов. А машина со мной говорит. Помещаю судно у берегов Нигерии, а она печатает «какое судно. нет никакого судна»… Ну и другие сны бывают, – рассказывает Джон Оттокар, глядя на Фредерику.
– А моя работа была и нету, – вмешивается Джуд. – Мой труд в руках Руперта Жако, сир я теперь и неприкаян. Сижу в Британском музее и читаю о совершенствовании рода человеческого. Отрезвляет, ох как отрезвляет!
Паб закрывается, все выходят на улицу. Фредерике надо добираться домой по Северной линии метро. Ее сопровождает Джон Оттокар, приглушивший сияние красок незатейливым черным дождевиком. Джуд с ними.
– Проводить вас до дому? – предлагает Джон Оттокар.
Он стоит на улице рядом с Фредерикой, и она чувствует, как по спине бегут мурашки.
– Я тоже вас немного провожу, – говорит Джуд. – Нам по пути. Я живу в Стокуэлле. Вы домой, и я домой.
– Я и не знала, где вы живете, – говорит Фредерика Джуду, глядя на Джона Оттокара.
– Никто не знает, – отвечает Джуд. И добавляет: – Правда, для дам в метро я защита неважная. Вечно ко мне шпана под хмельком вяжется, не одобряет она мою особу. Вот вы оба и побудете мне защитой.
– Вы для того так и одеваетесь, чтобы к вам вязались? – спрашивает Джон Оттокар.
– Я так одеваюсь, потому что должен так одеваться. Это подлинный я, мое лицо, мое естество, мой костюм для перехода по Радужному Мосту между прозой и страстью, я в нем как Биркин в Мексике, и, если от меня с презрением отвернутся, мне дóлжно это снести. Скрываться под маской не умею. – Джуд косится на блестящий плащ Джона и его разноцветный джемпер.
– И вы хотите, чтобы я был вам защитой до самого дома?
– Нет-нет, защищайте Фредерику. Доедем до «Овала»[181], а там оставьте меня на произвол судьбы. Дальше мне по черной линии до конца. Но хоть какая-то надежда, что меня не разденут, не побьют, не изувечат.
* * *
Едут в молчании. На «Овале» Джон Оттокар с Фредерикой выходят, оставив Джуда на произвол судьбы. В окне уплывает его серое бесстрастное лицо, освещенные вагоны уносятся во мрак.
Запах Джуда в переполненном вагоне одурманил их, как любовное зелье; они идут темными улицами поодаль друг от друга, доходят до Хэмлин-сквер, на ступеньках поворачиваются, стоят лицом друг к другу, но так же поодаль. Войти Фредерика не приглашает. От уличного фонаря по дождевику Оттокара, по его складкам бегут золотистые и серебристые струйки света.
– Я позвоню? – бросает Джон Оттокар. – Ничего?
Так, между прочим.
– Ничего, – отвечает Фредерика и уходит из темноты в свет. Шаг сделан.
Но он не звонит, а неделю спустя на занятиях не появляется.
Арнольд Бегби получает ответ адвоката Найджела Ривера. Тот извещает, что его клиент намерен возражать на заявление о расторжении брака, отвергает выдвинутые против него обвинения в нарушении норм семейной жизни и требует незамедлительно обсудить вопрос о предоставлении ему возможности общения с сыном, Лео Александром. Фредерика объявляет, что не хочет встречаться с Найджелом: она его боится, да и Лео огорчать ни к чему. Бегби отвечает, что, если она проявит благоразумие, это значительно укрепит ее позиции, разве что она опасается, что Найджел применит по отношению к ней или к ребенку насилие. За Лео она спокойна, говорит Фредерика, Лео он любит. Образы Лео и Найджела встают в воображении. Найджел демонически громадный, сине-черный, рычит, глаза горят, сыпятся искры. Лео бледный, испуганный, растерянный, волосы – ее, глаза – Найджела, рот – ее, крепкие плечи – Найджела. Смутное, назойливое чувство справедливости напоминает, что у ребенка только один отец, и лучше встретиться с ним лицом к лицу, чем воображать. Она соглашается поговорить с Найджелом в кабинете у Бегби.
Она ждала, что он разбушуется, рассвирепеет, – а он вот сидит в кресле Бегби, и на смуглое лицо его падает решетчатая тень. Тело упрятано в темный костюм, вид деловитый, серьезный. Не демон, человек как человек, цельный, разносторонний, живой. Таким она его не знает. Вспоминаются неистовые, сладостные движения его нагого тела.
– Я, конечно, не теряю надежды, что ты вернешься, – говорит он.
– Зачем? Мы не были счастливы. Я тебя раздражала. Ты хотел переделать меня на свой лад.
– У нас Лео, – прибегает Найджел к запрещенному приему. – Давай попробуем еще раз.
– Не могу, – отвечает Фредерика.
Смотрят друг на друга в упор.
– С Лео ты мне позволь повидаться хотя бы. Отпусти его на время домой.
– Домой…
– Хочешь цепляться к словам – туда, где он родился и рос. Побегает на свежем воздухе. Дай мне его увидеть. Он мой сын. Я его люблю – с этим же ты спорить не будешь, не станешь кривить душой.
– Любишь, я знаю. И он тебя.
– Вот и незачем его прятать. Ей-богу, я его ничем не огорчу.
– Миссис Ривер опасается, – поясняет Бегби, – что в назначенный срок вы мальчика не вернете.
– Вот еще, не верну! Я не такой дурак: я понимаю, что если стану удерживать, мне же хуже. И не такой изверг – что бы Фредерика ни думала: если ему хочется жить где-то еще, тоже удерживать не стану.
Насчет последнего Фредерика сомневается, но рассуждает он логично.
– Отпусти Лео на месяц, летом.
– Слишком долго. Он будет беспокоиться.
– Ну, на три недели. Даю слово, что не буду с ним говорить о… о том, что в конце концов получится, и уговаривать его остаться насовсем не буду. Побегает по полям, покатается на Угольке. Встряхнется. Он, наверно, по Брэн-Хаусу немного соскучился. Когда-нибудь станет в нем хозяином.
– Хорошо, – сдается Фредерика. – На три недели.
Детей она понимает плохо. Даже Лео. Это лишь ее догадка, сколько Лео будет рад возвращению в знакомые места и как скоро спохватится, что может или потерять ее, или снова расстаться с прежней жизнью. Или – или. Что будет для Лео лучше?
– Если он откажется, не настаивай. Обещаю постараться, чтобы он согласился без колебаний.
– Верю, – говорит Найджел. И вдруг взрыв: – Почему я должен тебе верить, убей не пойму! Тебе теперь ни в чем веры нет!
Но он берет себя в руки, и снова перед ней мужчина в строгом костюме, с чуть заметной улыбкой.
Фредерика заводит разговор с Лео. Спрашивает, не хочет ли он пожить недельки три в Брэн-Хаусе. Как она и ожидала, он мигом выпаливает: с тобой. Нет, отвечает она, с папой. Он хочет с тобой повидаться. Разговор дается с трудом, но она упрямо продолжает. Скольким людям по всей Англии приходится выдавливать из себя эти мучительные фразы! Мы с папой больше оставаться вместе не можем, но мы с ним тебя любим, мы с ним хотим тебя видеть. Лео поджимает губы и задумывается. Лицо непроницаемое, размышляет наедине с собой. Она вспоминает племянника, Уилла: тот отца не простит. И чтобы Лео простил ее? Лео спрашивает: долго это, три недели? Поди ответь, если не помнишь, сколько в детстве продолжалось «долго» и «недолго». Через три недели я стану по тебе скучать, отвечает она, сухо, небрежно – с отчаяния. Услышав этот ответ, Лео, так же сухо и небрежно, соглашается: наверно, неплохо бы.
Уезжает он в июле. День его рождения, пять лет, будут справлять в Брэн-Хаусе. У вечерников летние каникулы, художники сдают выпускные экзамены. Книг на рецензию почти нет, заработок сократился до ничтожной суммы: Жако платит за чтение рукописей, пришедших самотеком. Агата занята: набрасывает отчет о работе комиссии Стирфорта. На другой день после отъезда Лео Фредерика идет наверх напоить Саскию чаем: сегодня ее очередь. Вернувшаяся с работы Агата видит, как ее подруга-квартирантка сидит с Саскией на диване и читает ей Толкина: диван для таких чтений обычное место. Саския скатывается с дивана, бежит к матери, та подхватывает ее на руки. Фредерика заливается слезами. Все лицо в соленой влаге. Агата присаживается рядом, гладит по голове, обвивает рукой ее хрупкие плечи. Саския касается ее мокрой щеки. Я испортила Лео всю жизнь, хочет сказать Фредерика. Но не при Саскии же… Агата приносит кофе, печенье в шоколаде, советует поехать куда-нибудь развеяться.
– Вот и мы с Саскией уезжаем, – говорит она, не указывая куда. – Так что тебя здесь ничего не держит. Съешь еще печенья. Сахар, глюкоза – тебе сейчас полезно. Кто из нас не без греха? Но жить-то надо. Лео тебя любит, ты любишь Лео.
– Этого мало.
– Этого достаточно.
Позже Фредерика снова задумается, кто же все-таки отец Саскии. Не на свидание ли с этим таинственным незнакомцем они отправляются? Агата решила вопрос, как быть со вторым родителем: она его упразднила.
XII
Агата и Саския ушли, Фредерика дома одна. И пространство внутри будто бы расширяется и парит, полнясь ярким рассеянным светом. Лето в Лондоне – сухое, пыльное, но в своем цокольном жилище с выбеленными стенами Фредерика чувствует головокружение – ее будто бы что-то сдувает как неприкаянный воздушный шар. Сон не приходит совсем. Она мучима желанием: быть рядом с Лео (о котором она плачет), работать (что сталось с ее дерзновенными устремлениями?), любить (всегда был некто – Александр, Рафаэль Фабер – подходящий для того, чтобы прицепить нить любви и крепко натянуть). Она напряженно думает о работе: чем ей хотелось бы заниматься, чтó делать? Возможно, думает, надо ехать в Кембридж, поговорить с Рафаэлем о диссертации, в конце концов. Или вернуться в Британский музей? Читать о Мильтоне и метафоре. Едва эта мысль приходит, как ее сознание захватывают насыщенные образы из «Потерянного рая»: вот Адам и Ева принимают у себя в тенистых и исполненных плодов кущах лучезарного гостя – ангела, вот Сатана и Вельзевул угрюмо и озлобленно сидят посреди темного адского озера, а вот глянцевито лоснящийся змий, лукаво выплетающий свой путь меж муравленых райских лугов. Быть человеком, думает Фредерика исступленно, – это принимать в качестве гостей сказочных существ из света и слов.
Впрочем, мысль вернуться в Кембридж и к Рафаэлю не так уж заманчива. Ощущается что-то «давно минувшее» в образах кембриджских лужаек и кембриджских обителей, чайных чашек и пепельниц.
Чего я действительно хочу? Фредерика допрашивает себя, а кровь бьет в висках – в пустой голове в пустой комнате. Но ответа нет. Предоставленная сама себе Фредерика – существо нереальное, ведь есть Лео.
* * *
Она решает позвонить Лео. Его нет второй день. Она боится услышать Брэн-Хаус на том конце провода, боится тамошних обитателей (кроме Лео), боится того, чем он может стать, как будет думать о ней.
– Брэн-Хаус, – слышится в трубке голос, женский, спокойный, который она сначала не узнает. Это Пиппи Маммотт.
– Могу я поговорить с Лео?
Молчание. Фредерике кажется, что она слышит эхо сияющего чистотой зала и беззвучье тяжелых дверей.
– Мне бы хотелось поговорить с Лео, – повторяет Фредерика, чувствуя облегчение оттого, что ее не попросили представиться.
– Не думаю, что это возможно. – Это ответ на первый вопрос.
– Я хотела просто поздороваться. Хочу поддерживать связь.
– Другие тоже хотели.
– Знаю. – Разглагольствовать ей не хочется, как и упрашивать Пиппи. Которая Лео тоже любит. – Он рядом?
– Кажется, нет.
– Посмотрите, будьте так любезны.
Вновь молчание.
– Нет, рядом его нет. Он вышел.
– Передайте, что я звонила. Он может потом перезвонить?
– Не думаю.
– Может быть, он захочет. – Сказать «пожалуйста» Пиппи Маммотт она не способна.
– Может, и нет, – отвечает Пиппи. – Мне кажется, лучше его не трогать, но вам мое мнение вряд ли интересно.
Окончательно распознав в голосе враждебность, Фредерика кладет трубку. Тело начинает трястись за мгновение до того, как прорываются слезы.
Она обзванивает друзей. Говорит с Хью, Аланом, Тони, Александром, Дэниелом, Эдмундом Уилки. Она решает устроить вечеринку. Зовет еще Десмонда Булла и Руперта Жако. У Руперта есть жена Мелисса, с которой Фредерика незнакома. Он спрашивает, может ли она тоже прийти. У Тони теперь тоже есть девушка, Пенни Комувес. Он возьмет ее с собой. Уилки сошелся со своей давней (еще времен «Астреи») пассией Каролиной; и он, и она с тех пор познали другие влюбленности и страсти, но решили друг к другу вернуться. Все принесут с собой выпить: у Фредерики с деньгами туговато. Тони Уотсон рассказал, что вновь общается с Оуэном Гриффитсом – тем, что был влюблен во Фредерику в Кембридже; сейчас он работает в исследовательском отделе Лейбористской партии. Томаса Пула Фредерика решает не звать, опасаясь, вероятно, «публичности», или просто не хочет ничего усложнять. Джуда Мейсона она даже и не думала приглашать, но не удивляется, когда он приходит вместе с Дэниелом, к которому привязался.
Вечеринка удается. Голоса смешиваются, сливаются, перекликаются.
– Ты в итоге добрался до поэтического фестиваля в Альберт-Холле?[182]
– Нет, но друзья там были. Говорят, полный отпад.
– Народ выл и гудел. И толкотня страшная. В общем, настоящая свистопляска.
– Порой это был Нюрнберг. Я там был.
– Джефф Наттолл и Джон Лэтем были выкрашены в синий. Они надели костюмы книг, которые уничтожали. Все танцевали.
– И все были под кайфом, все летали. Эдриен Митчелл читал стих о Вьетнаме.
– Царило сильное воодушевление, но было как-то все затянуто и утомительно.
– Американцы во Вьетнаме задействовали десантников. Наступают. Это теперь их война.
– Вильсону следует выразить осуждение.
– Да что ты. Наше государство всеобщего благосостояния содержится за счет американских пособий и подачек.
– Они хотят, чтобы и он войска отправил. Прямо давят на него.
– Ну, он не так прост. Войска не пошлет. Чего-то, кроме слов, они от него не дождутся.
– В палате у него нет большинства по налогу на прибыль предприятий. Долго ему не продержаться. Грядут выборы.
– А премьером станет Реджи Модлинг. Будет продолжателем дела Алека Дугласа-Хьюма.
– Нет, нам ближайших выборов не выиграть. Тори вернутся.
– Я бы Вильсона так быстро не списывал. Он хитер.
– А это правда, что за ним стоит некая Марсия Уильямс?[183]
– Ну, она среди его доверенных лиц.
– Кухонные министры…
– Ох, Дэниел. Ты мне и нужен. Моя писательница-теологиня снова пытается забрать свою книгу. Сначала она хотела забрать ее, потому что, видите ли, она может не понравиться ее мужу. Теперь она хочет ее забрать, потому что она ему нравится. Он считает, что это прекрасная иллюстрация «смерти Бога» в нашем обществе. Он видит в зарезанном муже-эгоисте жертвенного агнца, я думаю. Этот тип написал мне письмо, в котором говорит, что, теряя веру, священнослужитель становится «смертью Бога», а когда жена его закалывает, его смерть открывает путь к восстановлению Божьего присутствия, ибо Его смерть воплощена в его сомнении.
– Звучит современно.
– Филлис Прэтт говорит, что смерть Бога наступит вернее, если она заберет книгу. Но она уже пишет другую. И название есть. «Перемели ему кости». Еще один богословский триллер – о дьячке, который превращает в удобрение приходского священника и его помощника. Всегда трудно понять, шутит она или нет. Я – за эту книгу. На обложке – листок в стиле Магритта, с которого стекают капли крови.
– Жуть.
– В наши времена – продаваемо. Не будешь говорить с миссис Прэтт о ее богословских сомнениях?
– Я бы не хотел.
– Я с ней побеседую.
– Вы слышали, что говорил Патрик Херон[184] в Институте современного искусства? Он нападал на американцев, винил в культурном империализме. Тех, кто говорит, дескать, все самое лучшее приходит к нам из Америки, он назвал щеголяющими шовинистами.
– То, что делает он сам, – замечает Хью Роуз, – прекрасно. Все эти парящие в воздухе окружности и сверкающие поля насыщенного света. Будто видишь состав сотворения вселенной, видишь ангелов – с той лишь разницей, что никакие аналогии не нужны. Все просто есть. Мне даже становится дурно.
– Дурно, Хью? Почему?
– Потому что сразу хочется писать, как будто это единственное, что вообще имеет смысл делать. Но стихов о картинах я не терплю, не люблю перепевов. Я хочу сделать то же самое при помощи слов, но… ничего нет, а если и есть – мне оно недоступно.
– Джуд, как вы?
– Плохо. Я раздражен и потерян.
– Издатели хотят выхолостить вашу книгу. Много чего исчеркано красными чернилами.
– Не хочу, чтобы мои слова правили.
– Задействуем юриста.
– Не дам себя цензурировать.
– Не волнуйтесь. Книгу вашу следует или допускать, или нет. А вырезать какие-то кусочки бессмысленно.
– Спасибо за утешение.
– Да вас и утешать не надо. Что-то еще пишете?
– Я слишком раздражен. А не писать – скверно. Никакой жизни. Я – никто. Вот и хожу на сборища без приглашения.
– Знала бы ваш адрес – пригласила бы.
– Ну, как видите, мне ведомы и другие способы. Мне нравится ваше подполье. Вам же мой дом вряд ли пришелся бы по вкусу.
– Фредерика, чем занимаешься?
– Да особенно ничем. Сын сейчас не со мной. Преподаю, но я не в штате. Пытаюсь выступить из брака.
– До сих пор ума не приложу, как ты в него вступила. Я могу поискать для тебя исследовательскую работу на телевидении. Тебе было бы интересно? Есть долгосрочные планы?
– Не знаю. Утром я подумала, что, может быть, вернуться к диссертации? Я обнаружила, что вполне могу преподавать.
– Не представляю.
– А я представляю.
– Ну хорошо. Говорят: не умеешь сам, иди учить. Что ты в таком случае не умеешь?
– Писать романы? Уилки, не язви. Преподавать мне правда нравится. Мне это важно. Вот спроси Александра.
– А ему откуда знать?
– Он в специальной королевской комиссии. Ходит по школам.
– Хм. Может получиться хорошая программа. Как они учатся? Чему они учатся? В Северном Йоркшире ребята изучают, как работает мозг, когда мы учимся. Человек – это компьютер, или медуза, или вычислительная медуза? Я сам мягкотелый, как медуза, и думаю, что мы сделаны из плоти, крови, нейронов, и все это находится в желеобразном состоянии. Но это, простите, не модно. Ведь все суть алгоритмы. Алгоритмы. Все рассматривается в бинарных дихотомиях. Или то, или это. А мы с вами знаем, что и то, и это, и еще кое-что. В конце концов, есть более серьезные задачи – изучать память, скажем.
– Этим занимается Маркус.
– Вот как. Надо же! Ну, молодец.
Новая подружка Тони Уотсона Пенни Комувес – преподаватель Лондонской школы экономики, дочь венгеро-еврейского экономиста, идеи которого используются в казначейских разработках Гарольда Вильсона. Она и весельчак Оуэн Гриффитс болтают о кухонных министерствах Вильсона, к которым оба имеют косвенный доступ; судачат о том, как неуютно миссис Вильсон на Даунинг-стрит, 10, и о влиянии Марсии Уильямс. Пенни Комувес – невысокая, смуглая, крепкая, с модной короткой стрижкой, которая ей очень идет. Оуэн рассказывает истории о пьянках Джорджа Брауна. Десмонд Булл и Хью Роуз обсуждают антиамериканский эстетический манифест Патрика Херона с таким видом, будто он не менее важен, чем грозное провозглашение Яном Смитом независимости Родезии от Великобритании. Руперт Жако в присутствии жены ведет себя не как обычно. Она – аристократичная особа с точеным лицом, скрытым завесой серебристо-русых волос, и очертаниями – довольно красивыми очертаниями – там, где у менее благовоспитанных девушек изгибы. За весь вечер она почти ничего не говорит, лишь с вежливым интересом поворачивая голову от одного оратора к другому. Молчит и еще один из присутствующих – Дэниел, который надеялся увидеть Агату, ведь она ему нравится; он упоминает ее имя в разговоре с Александром, который говорит, что тоже надеялся, что она придет.
– Я думаю, она уехала в Йоркшир, – замечает Дэниел. – Она сказала, что, возможно, мы там увидимся, если я поеду к Уиллу и Мэри.
– Она не говорила мне, что уезжает, – с легкой грустью признается Александр. – Прислала черновик двух глав нашего доклада. Пишет она очень внятно.
Фредерика нарезает черный хлеб, багет, сельдерей и сыр. За ее спиной вырисовывается Джуд Мейсон:
– Кажется, вы не в настроении. Доверите мне отнести закуски?
– Да, радоваться мне особенно нечему. По-моему, вы впервые что-то сказали лично мне.
– Я в вашем доме.
– И считаете, что обязаны показывать участие?
– Нет. Я чувствую, что могу поставить диагноз. У вас слишком много привязок. Вы могли бы жить, как я, без желания, и тогда вы могли бы стать…
– Кем, Джуд?
Фредерика слегка пьяна. Суровое лицо Джуда то в фокусе, то нет.
– Однодумом. Вы распыляете себя. На увлечения и заботы. Дэниел – однодум. Tollit peccata mundi[185], если уж кощунствовать. Предрекаю. Вы не станете тем, кем можете стать.
– Вы безжалостны.
– Не жалеть я пришел тебя. Отзови свои щупальца, дева, все это банальности, суетное бормотание. Наше божество – я зову его Время, ибо Время правит подлунными тварями, – не прощает пристрастия к банальному.
– Зачем такая высокопарность? Я ко всему этому не пристрастилась, я в нем увязла. И не все там банальности. Клетки множатся; оно такое, какое есть.
Теперь лица и голоса в комнате кажутся ей питательным бульоном – средой для зарождения жизни, бесконечно интересной в своем многообразии. Вот бы только ей найти подходящую, подлинную связь со всем этим. Что вообще подлинно?
– Размножение клеток – это отвратительно.
– Увы вам.
Джуд покачивается.
– Я видел такое, что вам не вообразить. Ужас пустоты.
Он опадает на стул за письменным столом Фредерики. Роняет на стол бокал вина, опрокидывает поднос с хлебом. Вино льется на пол. Дэниел приносит тряпку. Джуд закрывает глаза. «Готов», – выносит вердикт Десмонд Булл. Джуд тяжело кладет голову на стол, раскинув серые волосы.
– Я не могу оставить его у себя.
– Я заберу его, – отзывается Дэниел. – Положу его в храме.
– А я помогу, – предлагает Руперт Жако. – Чувствую за него ответственность.
Мелисса Жако встает:
– Давайте тогда быстрее. Я пойду вызову такси. Раз мы за это ответственны, давайте скорее.
– Я сам справлюсь, – отзывается Дэниел.
– Руперт сказал, что ответственны мы. Так что давайте.
– Мазохизм, – произносит Джуд, шевеля аморфными, влажными губами. Змеиный глаз приоткрывается и вновь затухает.
Друзья расходятся. Фредерика стоит на пороге и смотрит им вслед. По ступенькам разлито теплое свечение. Все направляются в сторону метро, кроме Руперта, Мелиссы, Дэниела и бесповоротно отяжелевшего Джуда, которые уезжают на черном такси. Фредерика поворачивается закрыть дверь, и тут из тени соседнего подъезда возникает фигура, издающая негромкий хруст. Фредерика с трудом вдыхает и переступает порог. Лица она не видит: на мужчине мягкая широкополая шляпа, надвинутая на глаза. Эту фигуру в шляпе и блестящем, похрустывающем дождевике она уже видела несколько дней назад на площади и еще раз, когда неподвижно стояла на углу, быть может, неделю назад.
– Не бойтесь. Я хотел вас увидеть.
Светлое лицо озаряется теплым светом.
– У меня была вечеринка. Вам тоже надо было прийти.
– Я не хотел. Без приглашения. И… Я хотел увидеть только вас.
– Пожалуйста, заходите.
Она боится, даже теперь, зная, что это Джон Оттокар. Он поднимается по ступенькам следом за ней. На улице, оживая, ворчит двигатель автомобиля и снова глохнет. Фредерика закрывает двери.
– Спуститесь? Выпьете кофе?
– Не знаю.
– Зачем вы пришли?
– Вы знаете зачем.
Он снимает шляпу; движения рук рождают все тот же треск. Густые белокурые волосы лоснятся и блестят.
Фредерика не может ответить: она и знает, и не знает, и если знает, то не скажет.
– Я следил за вашим домом, – произносит он.
Голос звучит и по-заговорщицки тихо, хотя дома никого. Он любовник, не вор, но Фредерике не хочется говорить, что дома никого. Вновь его голос:
– Если я не смогу получить то, чего хочу, я потеряю то, что имею.
Фредерика могла бы ответить: «Нет, не потеряете». Или она может спросить: «Чего вы хотите?» Она знает, чего он хочет. Она спрашивает:
– Чего вы хотите?
– Вас, – отвечает он напряженно. – Я хочу вас. Это ужасно – так сильно чего-то хотеть.
– Входите. Не стоять же вам здесь, не стоять же нам здесь, у входа.
Они спускаются в цокольный этаж. Он ступает тяжело. Будто потяжелело и его лицо. В классе или в пабе оно всегда было собранное, слега любопытное и довольное, отзывчивое. Теперь же оно настроено на усилие, голую волю. Фредерика готова рассмеяться, но не может. Пространство между ними наполняется напряжением его тела. Они садятся на краешки кресел, глядя друг на друга с разных концов комнаты.
– Вас не было несколько недель. Я подумала, вы наши занятия забросили.
– Брат болел. Были дела. Надо было ими заняться. Трудностей много. Мне помогли только мысли о вас. – Запинается. – Когда все начало ухудшаться, я вдруг понял, что мне надо… приехать к вам… Звучит глупо. – Снова запинка. – Я уже говорил, я не на «ты» с языком. Я… я вообразил, что вы все это понимаете.
– Все?
Он кивает:
– Моя история. Двое в комнате. Тела и истории.
Да, Фредерика думала о его теле, но не о его истории, которая пока для нее непроницаема. Она представила себе все тела, которые шатались сегодня по этой комнате, а потом спешили из нее наружу: Хью Роуз – белый, пряно-рыжеватый; Александр – высокий и немного изогнутый; Оуэн Гриффитс – суетливый; Тони – проворный, а Алан – изящный; Дэниел – крепкий как камень, а энергия так и прет; Руперт Жако – румяно-мерцающий; Эдмунд Уилки – по-декадентски бледный, с темными дужками очков; Десмонд Булл – мощный, подцвеченный химикатами; гадкий Джуд – серо-чешуйчатый. У Джона Оттокара ей нравятся плечи. Нравится его широкий рот. Он весь такой, как ей нравится. И его кожа, и волосы создают всполошенность интереса, электрический блеск – почти силовое поле, почти зримую ауру колеблющегося эфира.
Она произносит:
– Вашей истории я не знаю.
– Не знаете.
Он смотрит в пол. Историей не делится. Поднимает голову и молча смотрит на нее. Фредерика заглядывает ему в глаза. Они будто касаются другу друга, и это невероятно.
– Надо бы прибраться, – говорит она. Но продолжает стоять на месте.
– Потом, – отзывается он, – не сейчас.
Он встает. Идет через комнату по ковру, который вдруг кажется бескрайним. Он кладет руку ей на шею сзади. Она думает: «Хочу ли я этого?» – поднимает на него глаза. Он смотрит на нее сверху вниз и обрушивает на нее губы, как наносящая удар золотистая птица. Но нежно. В момент прикосновения – нежно.
Фредерика думает: хочу ли я этого, хочу ли я этого? Джон Оттокар прикасается к ее лицу, к волосам, к широким бедрам, к маленькой груди. Он прикасается мягко, легко, так что ее кожа начинает желать – полураздраженно-полупринужденно, – чтобы ее касались с большей силой. Она кладет руки ему на плечи. Он целует ее лицо, снова, и его пальцы исследуют ее одежду – пуговицу, молнию, ремешок – так, что внутри них оживает и обретает контуры обнаженная женщина. А мысли не утихают: хочу ли я этого, хочу ли я этого? Она смотрит из подвального окна на конусообразный луч света, падающий от уличного фонаря, слегка хмурится, хотя губы ее раздвинуты от бездумного удовольствия: хочу ли я этого? Она вспоминает свою девичью жадность, свою потребность знать – о своем теле, о сексе, о мужских телах, – свои неразборчивые цепляния и искания, и смех, и отвращение. А теперь она боится, как не боялась тогда. Ее тело не чувствует неистовой готовности, но его начинают использовать. Она вспоминает свои ребяческие попытки привлечь внимание Александра, добиться того, чтобы он захотел ее. Теперь они кажутся ей ребяческими, а она сама кажется себе старой, на грани нежеланности. Ей кажется, что она добивалась Александра, потому что он был таким далеким, учителем, другом ее отца, запретным. И сейчас, думает она, тот же трепет: я – учитель, меня хотят, потому что я далеко и я в центре внимания, и есть граница запретного, которую надо переступить. Она думает обо всем этом, стоя на ковре при свете лампы: ее одежда медленно отпадает, пока пальцы Джона Оттокара отыскивают застежку за застежкой и превращают ее в женщину, в женщину, которую он хочет, которую представлял себе, которую не видел, а теперь видит. Я худая, думает Фредерика. У меня нет груди, несмотря на Лео. Джон Оттокар добирается до теплого треугольника ее трусов, просовывает в них большую руку и осторожно спускает до колен, а затем, сам стоя на коленях, ниже. Фредерика прикрывает рукой золотисто-рыжий треугольник волос, Джон Оттокар целует руку и – нежно – волосы.
Он по-прежнему одет, не снял даже пластиковый дождевик. Когда он движется, целуя ее, стоя перед ней на коленях, его панцирь потрескивает, шепчет, а его волосы, прижатые ее рукой, – гладкие, густые, мягкие, светлые. Фредерика все еще размышляет: она старается не думать о Лео и Найджеле, образы которых тотчас возникают в комнате. Ее ноздри вспоминают запах волос Лео: самый родной, самый крепкий, самый любимый из всех запахов. Она опускается на колени рядом с Джоном Оттокаром и прячет лицо в золоте его волос; запах приятный, чужой, вкусный, как хлеб. Она начинает дрожать. Джон Оттокар стягивает свою поливинилхлоридную кожу: внутри – цветастая рубашка, похожая на сад зеленых хризантем и голубых роз, оживленный рай, но хорошо скроенный, рубашка, которая подойдет к костюму, рубашка солидного фасона, но распускающаяся блеском. Фредерика робко прикасается пальцами к перламутровым пуговицам. Хочу ли я это? Хочу ли я это? Оба молчат. Они разделены, но стремятся к единению. Он неловко пытается справиться с обувью: Фредерика целомудренно отводит взгляд. Брюки соскальзывают быстро, как змеиная кожа. Член – большой, светлый, уверенный в себе. Когда он обнажается, Фредерика смеется. Они падают вместе – теплая плоть на теплую плоть. Хочу ли я этого? Я хочу. Кажется, хочу. Я.
Они со смехом катаются по ковру рядом с оставленной Джудом Мейсоном винной кляксой: сжимают, касаются друг друга. Все идет своим чередом: все хорошо. Никто не произносит ни слова, но Фредерика в полусне слышит его голос, ряд мягких бессмысленных слогов, полных звуков «з» и «с», торопливые запинающиеся «ц», мечтательное гудение, а затем последний странный свист, будто пронзительный птичий крик. Она глотает свой крик; она не отпускает себя так далеко; она хранит удовольствие – неимоверно сильное – в тайне.
* * *
Наутро оба просыпаются обнаженными в узкой Фредерикиной кровати. Наконец встают, все еще не произнося ни слова, и Джон начинает убираться после вечеринки, все еще голый, снует на кухню и обратно с грязными стаканами и пустыми бутылками. Фредерика видит бутылки и пепельницы и игрушки Лео: танк, заводного динозавра, шарнирную деревянную змею.
– Я не могу здесь находиться, – произносит она. – Одна. Не могу здесь оставаться.
– Отправимся куда-нибудь еще.
– Я думала поехать в Йоркшир. Повидать семью.
– Давай. В Йоркшире я не бывал. И у меня отпуск.
– К моим вдвоем нельзя.
– Можешь повидаться с ними после, когда мне надо будет возвращаться. Проведем несколько дней вдвоем. Что тут такого?
– Можно просто одеться, запереть дом и уехать на север.
– Я с машиной. Отвезу.
– Что ж, почему бы и нет?..
– Все ведь в порядке?
– Все хорошо.
Ее тело гудит от счастья. Мысленно она оглядывает свое жилище: книги, игрушки, пишущая машинка, рукописи Руперта Жако.
– Пойдем скорее, – произносит она.
XIII
По дороге на север в определенный момент домики из красного кирпича сменяются серым камнем – всюду начинают мелькать стены из серого камня. И сообразно этому меняются цвет неба, цвет травы: небо кажется голубее, трава – зеленее, и весь мир в глазах возвращающегося домой северянина становится более прочным и одновременно более пластичным, основательным, не таким дружелюбным, но таким настоящим. Джон Оттокар – за рулем, слева – Фредерика. Синяя машина проглатывает милю за милей, а она удивляется тому, как неумолимо задевает за сердце дорога домой. Большинство домиков за окном не назвать изящными: строгие, хотя порой вьюнки и плетистые розы смягчают их суровый вид. Те, что из XIX века, кажется, светятся фрондерско-гражданской уверенностью. Фредерика делится впечатлением с Оттокаром, а он в ответ рассказывает, что вырос в Милтон-Элфрайверсе, «городе-саде», построенном в ХХ веке в Эссексе меценатами из квакеров.
– Игрушечные домики на игрушечных участках – так мы звали их в пятидесятые. Но – прочные, основательные и с аккуратными садиками. Нам всем хотелось побыстрее уехать.
Фредерика же в свое время сбежала с севера в Лондон, и она любит Лондон – все свои беспокойные лондонские жизни, и теперь ей трудно описать чувство сопричастности этой серо-зелено-голубой мозаике, и она замолкает. Они направляются в Дейлз. Серо-зеленые склоны подпрыгивают куда-то в направлении от дороги, будто бы в небо, причудливо поделенные на несоразмерные лоскуты прилежными и бодрыми стенами сухой кладки, змеями из на совесть выложенных темных и плоских камней, тут и там перемежаемых деревянными столбами. Мои земляки строили, думает Фредерика, тут же упрекнув себя в неуместной сентиментальности. Но ведь стены правда красивы.
– Вот это точность, вот это искусство, – замечает Оттокар, любуясь методичностью, с которой может выкладывать камни только человек.
– Так всегда говорил отец, – откликается Фредерика. – Каждый раз я ждала, когда он это скажет. А теперь смотрю на стены, и мысли те же самые. Какое искусство.
Во Фрейгарт они не едут. У них забронирована комната в гостинице в Готленде, куда они приезжают беспримесно-голубым вечером, когда свет над болотами висит как влажная взвесь. Регистрируются как мистер и миссис Джон Оттокар. И это – вымысел, фантазия: и Фредерика так свободна. Она – не миссис Оттокар. Кто она, ни одной душе здесь не известно. По темной скрипучей деревянной лестнице они поднимаются в комнату с низким потолком. Обои и постельное белье разрисованы похожим, незатейливым узором. Объятия: его крупное тело – удивительно! – до сих пор кажется ей незнакомым, но оно теплое и уже связано с ее телом. Они выходят наружу и наблюдают, как последние лучи света, подрагивая, блекнут и сходят с чаши холмов: уже висят заплаты первых звезд, а между звездными гроздьями снуют клочья облаков. Они держатся за руки. У него теплые пальцы, и, когда подушечки их пальцев соприкасаются, он бьется током – так ей сейчас кажется.
Внутри – переплетения темных стропил, густой запах пива, запах вина, керосина. Ужинают они в зале с грубо отштукатуренными стенами персикового цвета. На столе между ними – свеча в темно-синем горшочке. Они едят ростбиф и йоркширский пудинг и неожиданно официальны друг с другом. Каждый делится своей историей – по крайней мере, ее частью. Фредерика описывает Билла и Уинифред (нонконформизм, преподавание, здравый смысл), Стефани (доброта, смекалка, смерть), Маркуса (математический, исключительный, трудный), Блесфорд-Райд и тамошнюю женскую гимназию (1. либеральная; 2. удушающе-скучная). Джон Оттокар рассказывает о детстве среди квакеров-пацифистов. Его отец, теперь вышедший на пенсию, заведовал производством на шоколадной фабрике. Во время войны отсидел в тюрьме как узник совести. Оттокар описывает и мать, но Фредерике не удается ее представить, хотя понятно, что она тоже квакер и пацифист.
– В Милтон-Элфрайверсе мы ходили в местную школу. Все было нормально. Затем поехали в Бристоль изучать математику. Нас посчитали нужным разделить, поэтому один начал учиться в Бристоле, а второй – в Ливерпуле. Но ничего не вышло, и мы снова оказались в Бристоле вдвоем.
– А ты – который из них?
– Тот, что остался в Бристоле.
– А думаешь ли ты, что вас нужно было разделить? – Фредерика поддерживает разговор.
– И да, и нет. – Джон Оттокар спокоен. – Я их понимаю, но ничего не вышло.
Фредерика думает спросить, почему не вышло, но по какой-то причине не может. Будто кто-то это запретил. Молчание. Он ищет, что сказать.
– Сначала мы в Бристоле учились на разных курсах, но к концу года оба оказались на математике. – Он вновь замолкает, а потом вновь говорит: – Жили вместе. Вместе решали задачи – одними и теми же способами.
– И как вам было? Хорошо?
Уже спросив, Фредерика понимает, что ступает на зыбкую почву. Долгая тишина. Джон Оттокар ест, хмурится. Она вспоминает, как он рассказывал ей, что пошел на заочку изучать язык.
– В каком-то смысле – да, хорошо, – наконец отвечает он. – Понимаешь? Мы друг друга знали. Знали друг друга, и больше ничего. Мы были всегда вместе и… и не знали ни о чем ином. У нас – у каждого по отдельности – не было друзей, то есть друзья были, но общие. И знались мы с ними потому, что нравились нам одни и те же вещи. Но нам нужна была… мне нужна была – так мне казалось – моя жизнь.
Горький смешок.
– Например, моя девушка. Или – мое мнение, хотя мнение оно и есть мнение: если у двоих людей действительно одно мнение, то это вроде не значит, что оно не твое. В общем, глупости. Мы участвовали в маршах за разоружение – Олдермастон[186] и все такое прочее. Ходили на демонстрации с родителями и всеми квакерами из Милтон-Элфрайверса. Мы играли там в группе. В общем, были частью чего-то большого. И это было здóрово. – Он вновь задумался. – Если может быть здóрово, когда тебе страшно.
– Страшно?
– Ходишь на демонстрации, ходишь, поешь песни, держишься за руки – общечеловеческая солидарность… но все это из страха. От мыслей о том, чтó один глупец может натворить. Страшно даже фантазировать, но ведь надо. То и дело ты себе это представляешь. А можешь только ходить на демонстрации и при этом думаешь о том, что демонстрациями ничего не решить.
Разумеется, Фредерика думала о Бомбе. Но то ли из-за притупляющего чувства самосохранения, то ли из-за веры (малообоснованной) в разумность человека перед лицом последней катастрофы, то ли из-за какой-то несуразной отваги она никогда не позволяла этой теме себя захватить. Она не любит стадных эмоций и в себе их не терпит, пусть и признает. Тратить время, ходя на демонстрации, она бы не стала, и ценность демонстраций для нее крайне сомнительна. Да, во «все это» влезать самой ей не хочется, хотя ничего против она не имеет. Она немного отступает от переживаемого ею внутреннего образа Джона Оттокара и всматривается в его внешнее «я» – то, что сидит за столом напротив нее. Он склонился над десертом – печеными яблоками и продолжает хмуриться. Ощутив ее взгляд, он поднимает глаза и улыбается. Его улыбка светится приятной теплотой. Фредерика ослеплена и тронута. Она отвечает широкой улыбкой.
Ей хочется спросить, нашел ли он свою девушку, кáк и когда это случилось, но она не решается.
В постели они изобретательнее, слаженнее, раскованнее, чем прошлой ночью. Он быстро усваивает, что Фредерике нравится, а что нет. В его руках ее тело трепещет и поет; он доволен собой, а она гудит от удовольствия, и хочется наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Они погружаются в сон, потом просыпаются, смотрят друг на друга, касаясь рук и лица. Фредерика еще в полусне, но воспринимает все ясно и живо: она вдыхает воздух, который выдыхает он, и близость угодна и приятна. Он произносит у ее уха незнакомые слоги: «теш», «теран», «азма». И вот она снова слышит этот странный, низкий, протяжный звук торжества и завершения. Он засыпает быстро и крепко, а она просыпается посмотреть на него спящего – на его лицо, освещенное луной. Оно кажется и близким, и чужим, недвижным, лепным, полым – и безмятежно-прекрасным. Так это наконец оно? – спрашивает настырный змеиный шепот. Фредерика вытягивает свое худое тело вдоль его тела, кожа к коже, ощущая, как остывает тепло пережитого наслаждения.
Утром они завтракают в розовом ресторанчике – теперь с видом на болота. Есть и другие люди: семейство, супружеская пара, мужчина в очках, одиноко читающий «Любовник леди Чаттерли». В гостинице они заказывают сэндвичей и отправляются на прогулку по болотам. Шагают быстро и в ногу. Ритм ходьбы, исходящее изнутри тепло – и Фредерика вспоминает стихи, выученные в ту пору, когда ее тело жаждало прикосновений, но еще их не знало.
Она хочет поделиться с Джоном Оттокаром, но не решается. Девушкой она повторяла эти слова, стоя перед зеркалом, вызывая к жизни лицо несуществующего суженого, а теперь в этой раме просвечивалось его лицо. Но стихи – это слишком личное, это ее тайна. Я искала тебя, хочется ей сказать, но она произносит: «Ты нашел ее? Твою девушку?»
– Девушку?
– Не важно.
– А, мою девушку. Да. Нашел. Она была француженкой. И было… непросто. – Пауза. – Чудовищно.
Долгое молчание. Фредерика просит прощения. Они продолжают идти. Джон Оттокар прерывает молчание:
– Я не хочу все портить… этими рассказами. Что было, то прошло. Очень неприятная история. Забавная и неприятная. Увидев ее – Мари-Мадлен, – я подумал, что она красивая. Она остановилась в доме, где мы тогда жили. Работала учительницей в школе. Ощущала себя не в своей тарелке. Я никому – никому – не говорил, что чувствую. Я думал о ней. Думал, как мне с ней заговорить. Наконец я подошел к ней, когда она возвращалась с работы, – подошел у школы, а не у нашего дома. И сказал, что хотел бы поговорить, познакомиться поближе. Она ответила: «А ты который из двух?» Ее первые слова мне. Тогда она нас не отличала. И я ответил, что я – Джон, и позвал ее в кино. Там темно, казалось мне, и есть место тайне. Мы пошли, если не путаю, на «Красавицу и чудовище» Кокто. И вот мы в темноте. Через некоторое время у меня появилось странное чувство – я знал, еще не видя, – что в зал вошел мой брат и сел по другую сторону от нее. Когда включили свет, она увидела нас обоих. Воспитана она была хорошо и обсудила фильм и с тем, и с другим. Мы пошли пить кофе, продолжая беседу. О ядерном разоружении, о джазе, о кино. Она улыбалась нам обоим.
И мы потом несколько раз так ходили куда-то – втроем. Я знал без слов все, о чем он думал. А он знал, что я чувствую: я хотел Мари-Мадлен. Я хотел ее.
Он же ее не хотел. Он хотел того, чего хочу я.
Я попросил его не мешать мне встречаться с ней. Сказал, что нам с ним надо немного отделиться друг от друга. У каждого должна быть своя жизнь. Ведь есть он и есть я.
Ей я признался, что хочу ее. И она разрешила поцелуй, а потом все остальное. Я мог с ней об этом говорить, и она понимала, что я чувствую. Но он этого не допустил.
– Что он сделал?
– Сначала он преследовал нас. Всегда знал, где мы, куда пойдем, и как бы нечаянно там оказывался. Однажды Мари-Мадлен напрямую попросила его оставить нас вдвоем. Она с искренней любезностью заметила, что ему тоже надо найти себе девушку. Он отплатил ей за это.
– Как?
– Притворился мной. Она не сумела отличить. Он взял мою одежду, позвал ее погулять, переспал с ней, а затем, признавшись во всем, посмеялся над тем, что она не смогла отличить его от меня. Придя домой, она сказала мне, что это для нее слишком. Она чувствовала себя униженной. И испуганной. Зачем я тебе все это рассказываю?
– Говори, пожалуйста.
Фредерике и правда очень хочется услышать продолжение. История заинтриговала ее, захватила. Они по-приятельски идут по овечьим тропам.
– Ты сказал, что поделишься своей историей.
– Во многом эта история – наша с ним.
– Что случилось, когда она ушла? Когда Мари-Мадлен ушла?
Она очень живо представляет себе Мари-Мадлен: худой, смуглой, юной француженкой с небрежными кудрями, потупленными глазами и сдержанными губами бантиком. В общем, вероятно, совсем не такой, какой была настоящая Мари-Мадлен.
– Я был в ярости. Я сказал ему, что мы теперь точно должны разделиться. Я найду обычную работу, – продолжал я, – буду жить обычной жизнью – сам по себе, один, как нормальный человек. Он не мог этого вынести. Просил прощения, умолял. Ночью я собирал вещи, и он пробрался ко мне в комнату. Я заявил ему, что не сомневаюсь в том, что он знает, на каком поезде я уезжаю. Но его на этом поезде быть не должно. Он же сказал мне, что вернет ее. Но ведь не в этом дело! Следующим утром я вызвал такси до вокзала. Он пытался влезть туда со мной, цеплялся за меня. Мне пришлось кричать на всю улицу. И даже ударить его. Один раз. Он присел на тротуар, и я уехал.
Слова давались Джону Оттокару с трудом, причиняя боль. В голубизне неба гонялись друг за другом облака: порывы ветра уносили слова в вересковую даль. Фредерика представляет себе всю сцену. Она видит Джона, сдавленного горечью и злостью, закрывающего за собой дверцу такси. Она видит и того, кто сидит на тротуаре и пытается восстановить сбитое дыхание. Последнего она видит со спины, видит «его», заполняющего пространство.
– А потом?
– Потом мне позвонила Мари-Мадлен. Из Кана. Она была в отчаянии. Он приехал туда к ней, сидел на пороге ее дома, просил, чтобы она вернулась ко мне. Вел себя как дурак – играл в ночи у нее под окном на гитаре и трубе (он из нас более музыкальный)… Мне пришлось приехать и забрать его. У него был нервный срыв или нечто типа того. Мари-Мадлен же сказала мне, что терпеть этого больше не может и не хочет нас больше никогда видеть. Он ходит к психотерапевту. Я тоже ходил, но мне не понравилось, и я перестал. Он зависит от психотерапевта. Сейчас он, кажется, живет в какой-то коммуне. Некоторое время лежал в больнице. Я же нашел работу, квартиру. Если у нас с тобой дальше что-то будет, тебе надо это знать.
– Это все очень любопытно.
– Любопытно? Не слишком подходящее слово, – откликается Джон Оттокар.
Фредерика – женщина умная, но воображение у нее работает неспешно. И только когда они снова в постели, она начинает воображать себе того – другого брата. И она думает, вдыхая запах волос и покрывшейся испариной груди, запах их любви, каково это – заниматься этим с другим человеком, неотличимым от этого, «идентичным». Она замеряет ладонями длину его плечевых костей, изучает завитки и изгибы его ушных раковин, трогает их и пробует на язык. Может ли правда существовать другой, такой же, унизивший Мари-Мадлен обманом зрения, наказавший ее? Суть любви в том, что возлюбленный неповторим. Более неповторим? Фредерика знает (это ей внушил отец), что прилагательное «неповторимый» не может иметь степеней сравнения. Она пытается представить вторую Фредерику: ее разум в ужасе отказывается.
Они решают прогуляться к водопаду Ревущий Ров. Машину оставили в Слайтсе и пешком проходят через Аглбарнби, Айберндейл, Литтл-Бек. Имена на карте – древние, но дышат жизнью: Хемп-Сайк, Соулзгрейв, Фаул-Сайк, Олд-Мэри-Бек, Хай-Брайд-Стоунз. Вдалеке, на границе редколесья, они видят пятна алого, голубого, золотого: вдоль лесополосы идут, то и дело останавливаясь и нагибаясь, два человека. Сверкают же многоцветием их термосы, пластиковые контейнеры и походные рюкзаки. Джон Оттокар и Фредерика проходят мимо, и тут двое узнают ее. Это Жаклин Уинуор и Лук Люсгор-Павлинс. Фредерика и Джон сейчас – в стеклянном шаре напряженной близости, и ей вовсе не хочется останавливаться и начинать разговор. Хватит и отстраненного приветствия. Лук Люсгор-Павлинс будто бы это чувствует: он опускает голову, продолжая что-то высматривать в сырой траве и среди корней невысоких деревьев. Однако Жаклин тепло приветствует Фредерику и интересуется, едет ли та во Фрейгарт. У Жаклин в алом термосе – горячий кофе, и Джон Оттокар с благодарностью соглашается выпить немного. Все рассаживаются на камнях, у каждого в руке – яркий пластмассовый стаканчик. Им открывается вид на систему раннего оповещения, недавно установленную на Файлингдейлской пустоши: три беспримесно-белых шара. Огромными и безупречно правильными по форме кажутся они на фоне ярко-голубого неба и неторопливых дымчатых облаков, похожих на овец, медленно превращающихся в куски ваты, или причудливых осьминогов, или пуховые перины, или колесницы.
Так вот, Жаклин интересуется, едет ли Фредерика во Фрейгарт. Фредерика отвечает, что пока не знает: она взяла несколько дней отпуска в спонтанном порыве. Ярко-каштановые глаза Жаклин изучают Джона Оттокара. Фредерике она говорит, что Маркус был бы рад ее повидать. При этом в ее голосе появляются какие-то подспудно-собственнические обертона, и Фредерике любопытно – как было любопытно и ранее, – в каких эти двое отношениях. Дэниел тоже будет рад, продолжает Жаклин. Фредерика же отвечает, что не знала, что Дэниел здесь. И добавляет, мол, и откуда ей знать. Жаклин также уверена, что будет удивлена и Агата. Она собирается привести Саскию, познакомить ее с Уиллом и Мэри. И все мы ждем ее приезда.
– Ага, – смущенно откликается Фредерика.
Жаклин улыбается:
– Все мы ждем встречи с Агатой.
Джон Оттокар разглядывает три огромных шара. Они будто бы из другого измерения, говорит он, из иной реальности. Они несоразмерны и несомасштабны этим болотам – пришельцы из другого мира. В них есть что-то зловеще прекрасное. Они так прекрасны в своей простоте, что кажутся нерукотворными, и поэтому, как это ни поразительно, не портят дикого ландшафта. Такие большие и при этом совсем не давящие.
Но это памятники человеческой мощи, замечает Лук Люсгор-Павлинс, они прислушиваются к гулам Страшного суда. Человек изобрел орудия, способные его уничтожить, и он же создал эти гигантские, потусторонние купола, выжидающие наступление конца света. Он сдержанно посмеивается:
– Не думаю, что они способны действительно защитить. Несмотря на их титаническое изящество.
Никто из присутствующих не помнит, сколько минут такой купол дает на то, чтобы укрыться от беды. Четыре? Шесть? Двенадцать? Готовься встретить свою судьбу, произнесла Фредерика. Мы все уйдем в одно мгновение. Необязательно, возразил Лук Люсгор-Павлинс. Смерть может приблизиться, растворенная в воздухе, тихо и незримо перейдя в траву, в молоко, в наши зубы и кости. Ей вовсе не надо лететь из Сибири, через Северное море. Несчастье может произойти и здесь. Не так давно было происшествие в Камберленде. Так его замолчали. Но в костях детей, что попали в облако, есть стронций. Я как раз занимаюсь измерением его уровня в раковинах улиток. И он показывает Фредерике и Джону коробочку с полосатыми раковинами. У некоторых популяций улиток, рассказывает он, в раковине присутствует стронций. Один его знакомый изучал более крупных улиток – partula suturalis – на атолле Муреа, там недалеко французы проводили ядерные испытания. Содержание стронция показывает меру роста раковин, и, когда он привлек к этому внимание, французы его оттуда попросили.
– Я же обнаружил стронций в ракушках в Ланкашире, – продолжает он. – Берешь раковину, покрываешь прозрачным гелем, а затем вертикально разрезаешь алмазной дисковой пилой так, чтобы получилась красивая спираль – золотая спираль Фибоначчи, – и потом по ней датируешь события, измеряя слои.
Джон Оттокар расспрашивает Люсгор-Павлинса о его работе. Тот рассказывает, что исследует генетические особенности популяций: некоторые популяции полосатых улиток, helix hortensis (или cepaea hortensis) и helix, или cepaea, nemoralis, изучали в 1920–1930-е годы, фиксируя преобладание или редкость определенных узоров, количество и толщину полосок, их отсутствие, цвет.
– Глядя на них сейчас, мы пытаемся обнаружить свидетельства естественного отбора. Мы наблюдаем за популяциями в различных местах обитания: в лесополосе, на обочинах дорог, в лесах – буковых, дубовых, смешанных, – и следим за изменениями, происходящими с улитками в зависимости от условий среды. Некоторые из них розовые, некоторые желтые; есть данные, что однотонных улиток больше в буковых лесах, а полосатых – в лесополосе, где они, вероятно, маскируются от дроздов. Мы пришли сюда, потому что здесь есть наковаленка дрозда, и мы собираем разбитые раковины – как видите – и считаем их, а также фиксируем изменения в рисунке.
В самом деле, на обочине дороги лежит большой камень, вокруг которого – осколки раковин. Некоторые из них открыты, и внутри видна поблескивающая в центре спиралька. Некоторые похожи на раздавленные яйца.
– Но дроздов становится меньше, – говорит Жаклин. – Некоторые наковаленки брошены. Мы думаем, что это из-за пестицидов в пищевой цепи: дрозды едят жирных лоснящихся червей, в которых полно тиофосфата, или дильдрина, или гептахлора, и если они не отравляются, то становятся бесплодными или производят на свет уродцев; яд повреждает ДНК, изменяет гены так же твердо, как радиация. Дрозды, которых мы изучаем, по-прежнему здесь, по-прежнему поют, по-прежнему разбивают улиток о наковаленку, но много где их уже нет. И тогда следует ждать изменений и в популяциях улиток.
Фредерику пробирает дрожь: есть что-то жуткое в этих разговорах о рукотворной смерти, беззвучно приходящей сквозь воздух, воду, материю, сквозь листья, мех, плоть, кости и раковины, – здесь, на болотах, один на один с бдительным безмолвием непомерных белых шаров. Джон Оттокар и Жаклин Уинуор беседуют, и в их словах звучат негодование и страх перед своим поколением и злость на старших, которую они – еще не постаревшие – продолжают чувствовать.
Фредерика перебирает раковины, собранные Луком Люсгор-Павлинсом. Она разглядывает прелестные завитки и дужки, спиралевидные домики исчезнувших ползучих существ – рогатых, слизистых, блестящих, семитысячезубых. Люсгор-Павлинс показывает ей: вот розовые и желтые, с одной полосой и с несколькими. У helix hortensis, говорит он ей, белая губа – «прелестная, блестящая, белоснежная губа», поэтично произносит он, а helix nemoralis можно отличить по густо-черной губе, «глянцевито-черной». Судя по тому, какие он подбирает слова, видно, что он любит существ, которых изучает.
– Всю историю они носят на своей наружности, – замечает он, – весь генетический склад – на спине.
– И, глядя на них, вы убеждаетесь в правоте Дарвина? Естественный отбор действительно меняет генетическую структуру популяции?
– Не совсем так, – отзывается Лук. – Многое еще совсем непонятно. В согласии с ортодоксальной дарвиновской теорией популяции, находящиеся под одним и тем же давлением отбора, должны становиться все более однородными с генетической точки зрения. Но так не происходит. Напротив, налицо поразительный генетический полиморфизм. Присутствуют самые разные формы, хотя с точки зрения строгой теории их быть не должно. У ископаемых популяций cepaea nemoralis десятитысячелетней давности мы видим такое же разнообразие в расцветке и рисунке раковин, что и сейчас.
– Может, давление отбора бывает разным…
– Когда речь заходит о многообразии, – продолжает Люсгор-Павлинс, – я люблю цитировать Бэкона. На спинках моих улиток я пытаюсь распознать элементы языка ДНК и вспоминаю его слова. «Все мы одинаково дивимся, каким образом меж миллионов лиц нет ни одного схожего; но я, напротив, изумляюсь тому, почему такое должно быть возможно. Всякий, кто подумает, сколько тысяч слов было легкомысленно и без должного тщания составлено из двадцати четырех букв и из скольких сотен линий сплетена ткань одного человека, поймет, что наличествующее разнообразие необходимо»[188]. В алфавите ДНК всего четыре буквы, но и с их помощью можно создать бесконечное разнообразие. Даже среди улиток.
Фредерика рассматривает лицо самого Люсгор-Павлинса. У него крепкая, жесткая, рыжеватая борода, аккуратно подстриженная и полная решимости. Рот, скрытый среди этих огненных шипов и колючек, плавно очерчен. Глаза посажены глубоко. Уши слегка заострены. Он напоминает лиса. И он этим похож на нее, и окраска у них отдаленно, но родственная: со стороны могло бы показаться, что из этих четверых они родственники, думает Фредерика. Она улыбается ему, а он улыбается в ответ, не участвуя в этом всецело, продолжая думать об улитках и ДНК. Взгляд Фредерики плавно переходит на Джона Оттокара – широкие брови, светлые волосы, хребет, в котором был осязаем и узнан каждый позвонок.
– Лица могут быть схожи, – говорит она Луку. – У Джона есть однояйцовый близнец. Я с ним незнакома.
Люсгор-Павлинс протягивает ей две раковины, обе желтовато-зеленые и без полос.
– Генетики любят близнецов, – говорит он. – Особенно близнецов с разной историей.
– Тогда Джону есть что вам рассказать, – отвечает Фредерика.
– Хорошо. – Он протягивает ей другую раковину, на бледном теле которой видны темные полоски спиралей. – Вот. Подарок.
Вечером Джон и Фредерика возвращаются в Готленд. В сумерках они идут по деревне: желтыми, потусторонними глазами на них смотрят черномордые овцы. В памяти у Фредерики что-то шевелится. Когда-то она приезжала сюда автобусом, на экскурсию, и получила, как ей теперь кажется, любопытный и полезный опыт со знатоком кукол. Вид овцы и тернового куста вызвали образ этого человека, Эда, во всей его любопытной и одновременно отталкивающей телесности, но также вызвали и мысль – мысль о ее собственной обособленности и о силе, которая, возможно, внутренне присуща ей, силе разделять: секс и речь, думает она, честолюбие и брак… О чем я думала? Она вспоминает, что думала о Расине, и ритмичном движении ее ног, гармонично согласующемся с ритмичным движением ног Джона Оттокара. И в голову приходит двустишие, совершенно неуместное здесь, среди этого пейзажа, и именно поэтому интересное, поэтому притягательное:
Она вспоминает и чувствует восторг от равновесия строк, от того, как они стыкуются в цезуре, как одновременно разделяет и соединяет их рифма. Она проговаривает стих вслух, и Джон Оттокар влюбленно касается рукой ее ягодиц, смеется: «Точно». Фредерика замирает, голова кружится от возбуждения, она крепко обхватывает его руками: на них смотрят овцы и мужчина, который читал «Леди Чаттерли» в розовом ресторанчике. Они обнимаются, целуются, идут дальше. Они прислоняются друг к другу. Разум Фредерики, темной змеей зарывшийся во тьме, подбирает слово, которое тогда казалось залогом силы и защищенности. Она вспоминает, как ее огорчило то, что Стефани, по-видимому, обрела счастье с Дэниелом. Она думает о Форстере и Лоуренсе, о мистическом Единстве, и слово возвращается к ней вновь, уже более настойчиво: «наслоения». Наслоения. Все раздельно – как слюда. Не связанные метафорой, влечением или желанием, а разделенные объекты знания, системы работы, открытия. В кармане пальцы касаются раковин улиток Лука Люсгор-Павлинса, двух зеленоватых и одной полосатой. Полосы – это тоже наслоения или органические наросты? Вот слой стронция, выявленный при помощи алмазной пилы, – происшествие в Камберленде, выпадение из воздуха. Что она хочет сказать? Отчасти то, что даже ее страх перед приходящей из воздуха смертью – не всепроникающ, не всепожирающ. И вот первое смутное предчувствие будущей художественной формы: фрагменты – соположенные, но не сплетенные, не взвивающиеся «органической» спиралью, как дерево или раковина, но сложенные из кирпичей, слой за слоем, как лондонская Почтовая башня. Белые шары стоят на болотах – среди вересковых пустошей, неолитических камней и холмов, но красота их – в парадоксальном сочетании инакости и вписанности в общую картину.
Она чего-то хочет, что-то предчувствует, но не понимает, не может сделать следующего шага. Наслоения. Обособленность. В голову приходит образ Елизаветы I – девственной властительницы – такой сильной в своем одиночестве, в своей обособленности: и ведь ее власть, ее гений на этом одиночестве и на этой обособленности зиждились.
– О чем ты думаешь? – спрашивает Джон Оттокар, берет ее за плечи и разворачивает лицом к себе. – Ты уже далеко от меня. Где? О чем ты думаешь?
Обвивая пилон позвоночника Фредерики, поднимается желание – как спираль на аттракционах, и она готова визжать от страха и удовольствия.
– Мне пришла в голову мысль написать книгу. Она будет называться «Наслоения».
– Почему «Наслоения»? – спрашивает он позже в спальне; тогда же только, улыбнувшись, кивнул.
– Я еще не обдумала это до конца. Но идея связана с тем, что было в лекциях: романтики стремились к Единству – слитию двух влюбленных, тела и души, жизни и работы. Мне же кажется, что интересно было бы попытаться все держать раздельно.
– Я понимаю, – откликается он, голый на краю кровати. Свет погашен, но комната озарена бледным сиянием луны. – Понимаю, чтó это, когда два раздельных существа заточены в одной оболочке.
Ночь. Обнаженные и спокойные, они сидят на краю кровати – скорее как товарищи. В каком-то порыве она касается его половых органов: два шарика движутся свободно и отдельно друг от друга в прохладном кожаном мешочке. Пенис сжимается, как мягкая скрученная улитка, а затем слепо восстает: неуклюже-угодливая змея превращается в прут, упругую ветвь. Двое становятся одним, думает Фредерика, когда его руки обвивают ее. Можно подумать – думает она, когда их тела сливаются, – что вот два существа стараются потеряться друг в друге, стать чем-то единым. И крепнущий жар, и влажность, и ритмичные движения, и горячее дыхание, и скользкая кожа, вдоль и поперек – все одно, часть единого целого. Но, думает Фредерика, нам обоим нужно быть отдельно. Я себя этому одалживаю, продолжается речь у нее в голове, звуча в собственном ритме, я себя теряю, отмечает она, задыхаясь ликованием, я не есмь, я близко, близко к точке перехода, к небытию, но затем я выпадаю, я – это снова я, только еще сильнее, еще больше я. Его лицо post coitum[190] безмятежно, как мраморный лик Аполлона. Совершенно неизвестно, что там, в черепной коробке. И мне это нравится, подмечает словоохотливое речевое «я» Фредерики, мне нравится не знать. Мне нравится, что я его не знаю.
Дэниел по-товарищески сидит рядом с тестем на лужайке во Фрейгарте, сплетает маргаритки для дочери. Пышные, с розоватыми кончиками цветы рассыпаны у него на коленях: туда их накидала Мэри. Оба мужчины – в шезлонгах, наблюдают, как босоногая девчонка в небесно-голубом платье прохаживается, крутится перед ними. Рыжевато-золотистые волосы спадают шелковой вуалью на спокойное, круглое личико. Есть два способа сплетать маргаритки. Первый: делаешь надрез на конце стебелька и продеваешь следующий цветок через него, пока головка не упрется. Другой: выбрать крепкую маргаритку с мощным стеблем и продеть ее через головки нескольких других, прокалывая каждую у темечка и проталкивая вверх через золотистый пыльцевой кружок, чтобы получился более толстый, более сочный стержень с лепестками, весь розово-белый и пернатый. Дэниел сплел именно так, но Мэри возмутилась жестокостью и расточительством данного метода, и теперь он делает длинную зеленую гирлянду, то тут, то там унизанную цветами. Выходит небыстро: разделенные стебельки скручиваются обратно и после этого уже не годятся. Мэри приходится постоянно подносить новые цветы – пригоршню за пригоршней. Билл замечает, мол, она облысивает его лужайку, придавая ей более общепринятый, респектабельный вид.
– Завтра будут новые, – откликается Мэри. – Так всегда. Чем больше сорвешь, тем больше вырастет.
Голубое платье кажется трепещущим треугольником из хлопка, который держится на шнурках-бретельках. У нее веснушчатая кожа, первозданная, прелестная. Она наклоняется и выпрямляется.
– Она напоминает мне, – говорит Билл Дэниелу. – Очень похожа, очень.
– Движение шеи. Запястья.
Присутствие умершей пугающе неизбывно. Двое мужчин будто бы пытаются измерить, насколько каждого из них больше мучит, что ее больше нет. Мэри подпрыгивает высоко, изящно взмахивая ногами в воздухе. Они аплодируют.
– Когда же начинаешь ты плясать, / Шепчу: танцуй! Еще, еще движенье! / Как бег волны, пусть вечно длится танец…[191] – произносит Билл.
– Откуда это?
– Да так. Из одной пьесы, которая мне всегда не нравилась. Сейчас же эти слова очень отзываются.
В своем танце Мэри резко проносится мимо них, шлепая по траве: «Машина!»
Дэниел предполагает, что это Агата Монд с Саскией. Но нет. Уинифред приводит гостей: это Фредерика, которую совершенно не ожидали, а с ней – никому не знакомый светловолосый мужчина. Фредерика разглядывает слегка запыхавшуюся Мэри и смотрит на Дэниела: она видит того же призрака, что и он. Сначала дрогнув, их лица стоически застывают.
Дэниел замечает, что Фредерика вся лоснится от полового удовлетворения, как загорелый пляжник, натертый маслом. Тонкие черты ее лица снова блестят остротой и проницательностью, и он осознает, что этой Фредерике предпочел бы недавнюю, потрепанную, сдержанную. Он видит провал черного пространства, передвигающийся по саду, – это его жена, которой нет.
– Жаклин Уинуор сказала мне, что вы принимаете Агату, – говорит Фредерика.
– Она приехала к профессору Вейннобелу по делам комиссии. И предложила встретиться, чтобы Мэри и Саския познакомились.
– Странно, что она ничего не сказала. Мне, – щурится Фредерика.
– Странно?
– Это моя семья. И мне кажется, что странно. Но по большому счету не важно.
– Так или иначе, ты здесь, – замечает Дэниел.
Он неискренен. Время от времени он замечал нарочитую мягкость во взгляде Агаты Монд. Ему подумалось (потом он эту мысль отбросил), что, когда она протягивала ему тарелку или бокал вина, он заметил особую заботливость. Только и всего. Агата Монд ему нравится. Он предвкушал тихую беседу с ней – под лучами солнца, среди северных пейзажей, шаг за шагом вперед по пути открытий. Она – женщина-тайна. И он собирался кое-что выведать. Это чувство – помимо его чувств к Мэри и Уиллу (тот отправился в небольшой поход с местными скаутами) – стало первым глубоким чувством, первым осознанным и оформленным желанием с тех пор, как… Но вот здесь Фредерика, в сексуальном тумане самоудовлетворенности – будто в рое пчел, приторно пахнувшем медом. Уинифред предлагает Джону Оттокару чай, тот же растерянно любуется ландшафтом. Он немного не в своей тарелке. Он среди этих людей как будто лишний.
Агата с Саскией приезжают в арендованном «мини», желтом с черными полосами на капоте. Агата очень удивлена Фредерике, но, без сомнения, рада ее видеть. На ней плетеная соломенная шляпа и цельнокроеное платье с крупными, целомудренно-белыми ромашками на темно-синем фоне. За те несколько дней, что она провела вне Лондона, ее кожа стала смуглее. На обнаженных руках она кажется мягче: Дэниел представляет, каково было бы провести по ним губами.
– Я рад, что вы выбрались. Саския будет сок? Мэри тут нам танцевала.
– Я тоже танцую, – отзывается Саския.
– Жаль, нет Лео, – говорит Уинифред. – И ведь день рождения.
Фредерика ничего не сказала о дне рождения Лео. Она старалась не думать об этом, о нем, о том, что он будет делать. Все сначала смотрят на нее, а потом отводят глаза. Джон Оттокар отходит в сторону и пристально смотрит на розовый куст, как будто все это не имеет к нему никакого отношения. Агата поворачивается к Биллу и говорит, что она в здешних краях, потому что готовит отчет комиссии Стирфорта. Она уже обсуждала с профессором Вейннобелом одну техническую главу, спорную, о грамматике. Она рассказывает, что с большим интересом прочитала материалы, представленные в комиссию Биллом. Ей хотелось бы поговорить с ним о связи между чтением литературы и новомодным упором на собственные сочинения, «„творческое письмо“, правда, я этого выражения сторонюсь, оно мне не нравится».
– Если верить твоему профессору Вейннобелу, – отвечает Билл, – то употребление со временем его канонизирует. А что с ним не так?
– Вот Дэниел, наверное, согласится. В нем есть что-то кощунственное, какой-то ореол святотатства. И вы использовали религиозную метафору, я заметила.
– Это я нарочно. – Билл собой доволен.
– Разумеется. А ты что думаешь, Дэниел?
– Творческое письмо? Мне кощунственным не кажется. Но безвкусно. Как белые слоники с блошиного рынка, тканые абажуры, керамические кролики, цветы из бумаги.
Все смеются.
Приезжает Маркус вместе с Жаклин. Они приносят кресла, на лужайке устраивают чаепитие. Птицы поют, гудят пчелы. Джон Оттокар чувствует себя скованно. Жаклин подводит к нему Маркуса, знакомит, говорит, что их объединяет искусственный интеллект, ведь Маркус изучает алгоритмы в мозге, а Джон – в движении судов. Мужчины начинают обсуждать языки ЭВМ, их сильные и слабые стороны. Джон Оттокар раскрепощается: теперь на этом семейном чаепитии он – человек с профессией. Фредерика жалеет, что пришла. У нее в голове сложилась картина того, как демоническая Агата Монд вторглась в ее мир, мир ее истоков, но сейчас этот образ трудно соотнести со спокойной женщиной, обсуждающей с Биллом Поттером методы преподавания и любопытный раскол в комиссии, случившийся между сторонниками «воли к власти» и сторонниками «Эроса».
– Единственное, что их объединяет, – рассуждает Агата Монд, – это противодействие Микки Бессику, который хочет «оживить отчет» афористичными эпиграммами к каждому разделу.
Она приводит пример:
Твердят, чтобы не пачкали и не плевали,
Но сами педагоги все в соплях и кале.
– Подмечено, кстати, верно, – отзывается Билл.
– Но, согласитесь, не тот род стихов, чтобы ими всюду хвалиться, – замечает Агата Монд.
– Он грозит нам пасквилями в воскресных газетах и на телевидении. Требует включить его предложения и поправки. С него станется. Окарикатурить нас именно там, где мы себе карикатуры позволить не можем.
Все очень интеллигентно. Дэниел замечает, что Агата не обращается непосредственно к нему, пока Фредерика не уходит с Жаклин на кухню. Затем она все же к нему поворачивается – ее лицо на фоне красно-белых полос шезлонга затенено шляпой.
– Я рада… – произносит она. – Мне очень хотелось… Я ждала встречи с тобой.
– Я тоже, – отвечает Дэниел.
Две девочки чем-то заняты вместе в глубине сада: Мэри, которая старше на четыре года, показывает Саскии, как что-то растет или гнездится между камнями. «Они ладят», – сказал он, тут же осознав бессмысленность своих слов, потому что на тот момент это утверждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Ну, по крайней мере, не дерутся.
– Замечательно! – восклицает Агата. – Я бы хотела, чтобы…
Возвращается Фредерика. Оттененные небом, в лучах солнца ее волосы кажутся ярче и светлее. Она находит взглядом двух девочек и говорит Агате:
– Мэри как-то невообразимо похожа на маму.
– И на отца тоже, – отвечает Агата. – Мне так кажется.
– Правда? Я не замечала.
– Очертание рта. Целеустремленный подбородок. Подбородок может быть целеустремленным? Ну или просто то, как она его держит.
– У Стефани был именно такой рот. А у Мэри он точно такой же, как у Стефани.
– Супруги часто походят друг на друга, – вступает в начинающийся спор Жаклин. – Статистика, генетика это подтверждают.
Дэниелу очень не по себе оттого, что голос Фредерики стал похож на голос ее сестры. Сейчас, когда из-за яркого солнца плохо видно ее лицо, она превращается в ходячее memento mori – c некоторых ракурсов особенно! Солнечный свет, размывая, смягчает ее черты.
– Прошу прощения. – Он поднимается и уходит в дом.
Фредерика и Джон со всеми прощаются и уезжают. Никаких объяснений по поводу Джона не было дано, но не было и попрошено. Билл как-то неопределенно напутствовал дочь: «Береги себя»; ни он, ни Уинифред не предложили Джону Оттокару приехать снова. Они весьма скептически настроены, думает Дэниел, относительно того, что Фредерика сможет разумно устроить свою жизнь. И правильно, рассуждает он, злой на нее почти как раньше. Агата Монд и Саския тоже собираются уезжать, возвращаются в квартиры вице-канцлера в Лонг-Ройстоне. Агата протягивает Дэниелу руку, он берет ее: никакой дрожи нет. Чего-то не произошло. Быть может, и без Фредерики не произошло бы. Дэниел раздражен и ощущает опустошенность.
К нему подходит Жаклин, расспрашивает о работе, рассказывает про Руфь: она все больше погружается в жизнь Гидеоновых Чад Радости – быстро набирающего популярность движения внутри Англиканской церкви. Гидеон Фаррар проводит выездные семинары в летних домиках на берегу моря. Там Чада танцуют, поют, кричат и нежно исследуют тела друг друга, воспроизводя пережитые в младенчестве радости и ужасы, гнев и умиление, наконец, рождение и смерть. Они едят пасхальную пищу, потчуют друг друга за общим алтарным столом домашним хлебом и домашним вином. На плакатах можно лицезреть благодушное златобородое лицо Гидеона, ниже – облаченные в рукава рясоподобного одеяния руки, обнимающие стайку обнаженных и устремленных ввысь юношеских тел, – пасторская кувада. Дэниелу не нравятся ни Гидеон, ни Чада Радости, но он не очень четко осознает причины своей неприязни: наверное, он – слишком сдержанное создание, чтобы петь и кричать в порыве коллективной радости. Он спрашивает Жаклин, счастлива ли Руфь.
– До упоения, – произносит Жаклин.
– Мне казалось, что Маркус в нее влюблен.
– Да, был. Возможно, и сейчас. Я не очень понимаю. Одно время они были любовниками. Маркус мне об этом не рассказывал, рассказала она. Считала, что обязана ему, потому что он очень хотел. Так она мне сказала. Потом она почувствовала, что им больше не надо этим заниматься: на собраниях Чад на них начали косо смотреть. У них же считается, что ничего скрывать нельзя. Они устраивают нечто, что я называю «эмоциональным стриптизом», и один из них возьми да заяви, что чувствует дурные запахи от ее тела, или в ее дыхании, или еще где-то, – я помню выражение «дурные запахи». И поэтому она от секса отказалась. Считает, что должна постараться и завлечь Маркуса пойти с ней к Чадам, но пока этого не произошло. Видеться они продолжают.
Дэниел смотрит вдаль: за стеной видны пустоши.
– Я знаю, что тебе он не нравится, – произносит Жаклин.
– Это не так. Мне кажется, что не так. У меня с ним связано много плохого – и ничего хорошего. – Он оглядывает Жаклин. – Но тебе он нравится. Это хорошо.
Жаклин слегка распрямляет спину.
– Я его люблю. Почему – не знаю. Просто однажды я обнаружила, что люблю, что это он, тот самый. Даже досадно стало: нельзя сказать, что он толковый парень, в которого следовало бы влюбиться. Вот Лук Люсгор-Павлинс – он, кажется, хочет на мне жениться, он знает, чего хочет в жизни, он честолюбив и добросердечен, и наделен острым умом, и уважает мой. А Маркус почти всегда рассеян, на воздусях: чего хочет, не поймет, хочет разве что Руфь – наверно, потому, что она ничего не говорит, она как бы не-личность. Я все думала, надо подождать: в один прекрасный день он увидит, что вот я, и изменится. Понимаешь? Его озарит – и увидит.
– Такое случается.
– Мы были просто дети. И он – в гораздо большей степени. А я понимаю, что я тоже честолюбива, и в принципе я люблю ждать, люблю ждать, пока меня увидят. Ведь пока я жду, я могу работать – у меня есть мысли о нейронах и функционировании памяти, о природе научения – очень серьезные мысли… Я всегда с тобой такая болтушка, да?
– Таков мой удел.
– Ну, он не только в этом. Но с тобой я веду себя как ни с кем другим: я никому не рассказывала про Маркуса. Все это – только у меня в голове.
– Я бы сказал, что думаю, но ты рассердишься.
– Все равно скажи.
– Мне кажется, тебе надо приглядеться к Луку Люсгор-Павлинсу. Причем с другого угла.
– Нет, Дэниел. Ты способен на совет получше.
– Я хочу и дальше верить в здравый смысл, в то, что он всегда возобладает.
– Ну, вокруг подтверждений этому мало.
– Мало. Согласен.
– Любовь же повсюду.
– Да уж. – Дэниел смеется. – Раз уж ты занимаешься проблемой научения…
– Это все биохимия. Любовь, научение – все-все. И не говори, что знать этого не нужно, что это ничего не меняет, потому что на самом деле еще как меняет.
Фредерика приезжает на вокзал Паддингтон. Она стоит под табличками «Отправление» и «Прибытие». Во рту у нее пересохло, сердце гулко стучит, кровь клокочет. С ней никого нет. Коричневая сумка на плече свисает ниже подола ярко-зеленого хлопкового сарафана, обтягивающего ее ягодицы. Длинные худые ноги заметно дрожат. Глаза накрашены. Наконец-то она сделала стрижку: блестящая бронзовая шапочка с острыми язычками, облизывающими скулы. По вечерам, в квартире на цокольном этаже, в ожидании Джона Оттокара она тоже волнуется, но не так. Теперешнее чувство – запредельно, почти унизительно.
Поезд прибывает. Она с трудом заставляет ноги двигаться к ограде. Поезд очень длинный, он проделал большой путь. Она протискивается, смотрит. Толпа поспешно движется. Издалека она видит мечущуюся рыжую голову, слышит топот бегущих ног, видит крепкую фигуру, медленно плетущуюся следом. На нем новый пиджак, которого она не видела, и новые начищенные ботинки. Он добегает до нее, утыкается головой ей в промежность, цепкие руки тянутся к ее заду. Она наклоняется. Они обхватывают друг друга, цепляются друг за друга, маленькое тело пытается втиснуться обратно в другое, худое тело, из которого оно вышло. Он пинает ее по ногам, тянет за декольте, выдергивает сумочку. Она опускается на колени на грязный бетон, чтобы вместить, поддержать его. Он что-то выкрикивает: она разбирает слова.
– Мне не нравится. Ты подстриглась. Мне не нравится. Ты мне не сказала. Ненавижу тебя. Ужасно, мне очень не нравится.
Маленькие руки шарят в гладкой шапочке, растрепывая ее, дергая, взъерошивая. Но стрижка сделана хорошо и быстро принимает почти изначальный вид.
Появляется запыхавшаяся Пиппи Маммотт с ранцем и чемоданом Лео, которые она сбрасывает перед Фредерикой. Она пытается отдышаться: на ней красно-бело-голубое свободное платье в клетку и полуспортивные сандалии. Фредерике она ничего не говорит. Произносит:
– Ну, до свидания, Лео. Возвращайся поскорее. Мы будем по тебе скучать.
Лео оборачивается, все еще сжимая в руке волосы Фредерики, и подставляет лицо для поцелуя. Пиппи Маммотт наклоняется, чтобы поцеловать. Ее лицо оказывается очень близко к лицу Фредерики. Она сжимает губы, и Фредерике на одно жуткое мгновение кажется, что сейчас в нее плюнут. Глаза Пиппи Маммотт полны слез. Когда она целует Лео, они текут ручьем и капают на его веснушчатые щечки.
– Было хорошо, – говорит Пиппи Маммотт Лео Риверу.
– Да, очень. Передай Угольку, что я вернусь.
Он выворачивает руку – не переставая держать за волосы Фредерику, – чтобы утереть щеку. Ей больно.
– Спасибо. – Фредерика обращается к Пиппи.
– Не надо. Не благодарите. Моя бы воля… – Фразу она не заканчивает.
– Пойдем, Лео. Поехали домой.
Ни с того ни с сего и у нее потекли слезы, обильно капая с подбородка на плечо Лео. Она не может объяснить, почему плачет. И не может с этим ничего сделать. Ее руки вспоминают грудь Лео, его талию, его тело.
Обе женщины плачут, беспомощно и надрывно. Мальчик сначала поочередно смотрит на них, а затем переключает внимание на голубя, пикирующего под куполом вокзала. Его крылья озарены светом.
XIV
С сентября Лео и Саския должны пойти в школу. И вот Фредерика и Агата ведут их, а дети шагают невозмутимо, держась за руки, по серым и пыльным улицам Кеннингтона. Основательно посоветовавшись с коллегами из сферы школьного образования, Агата выбрала Начальную школу Уильяма Блейка. Она расположена в центре Лебанон-Гроув – лишенного всякой растительности полумесяца из магазинчиков. Сама школа – высокий, мрачный, краснокирпичный куб с мутными зарешеченными окнами, к которым изнутри приклеены бумажные попугайчики, цыплята, цветочки, облака. За высокой оградой из остроконечных прутьев – большая асфальтовая детская площадка. В здание ведут три входа – все похожи на храмовые врата, с готическими каменными арками, тяжелыми дверями с большими засовами, и над каждым вытесанная надпись: «Мальчики», «Девочки», «Общий». Несмотря на угрюмо-викторианский вид, школа, уверяет Агата, славится своими прогрессивными, новаторскими подходами. Обеим неспокойно. Дети как вцепились друг в друга, так и не расстаются. Вчера Лео сказал: «Вот Гензелю и Гретель повезло: их было двое. Потому-то и кончилось все хорошо». Дети повзрослее мчатся, обгоняя младшеклассников: толкаются, отпихивают, перекликаются. Дети разные: белые, черные, мулаты – во всех возможных соотношениях. У общего входа, обозначенного как «Общий», их встречает администратор, берет детей за руки. Это худенькая девица в мини-юбке клубничного цвета и высоких черных сапожках. Волосы в цвет одуванчика, губы – химерического светло-кремового оттенка, глаза подведены черным, накладные ресницы. Ни дать ни взять большая кукла. Фредерика ждала некую материнскую фигуру, а перед ней – чадо меж чад. Голос у мисс Найтингейл добрый, участливый. Она ведет детей в гардероб, где каждому отведен свой крючок, а над ним – имя и картинка с животным. Над крючком Лео изображен лев и написано: «Лео. Лев». Мисс Найтингейл поясняет, что его имя и обозначает льва, а Лео отвечает, что знает.
– Очень хорошо, – отзывается мисс Найтингейл.
Над крючком Саскии – пушистый котенок и написано: «Саския. Кошка». Саския говорит, что не хочет кошку, что кошек не любит. Мисс Найтингейл оглядывается и предлагает ей оставшихся верблюда и овцу. Саския выбирает верблюда.
– Они плюются, – сообщает она.
Мисс Найтингейл соглашается:
– Я их видела. Такие сумасбродные.
Агата и Фредерика прощаются с детьми, выходят на улицу, по пути натыкаясь на снующих детей. Агата говорит, что школа эта хорошая: пусть здание и обшарпанное, но внутри украшено работами учеников. Есть фриз по мотивам «Хоббита», сделанный целым классом: гномы с разноцветными колпаками, Бильбо с неизменной трубкой и заросшими шерстью ногами, кудесник Гэндальф с развевающейся седой бородой и огненным посохом, горный ландшафт с торчащими из пещер головами орков и силуэтами волков на горизонте, затканная паутиной и кишащая толстыми черными пауками лесная чаща, а в конце – сам дракон Смог в своем гроте, с чешуей из крышек от молочных бутылок и разноцветными сокровищами из фантиков. Превосходный коллаж! Агата объясняет: ведь детям пришлось разобраться, как растут деревья, как плетется паутина, построить перспективу, подобрать материалы. Выше, отголоском названия школы, висят иллюстрации к стихотворениям Блейка – «Агнец», «Тигр», «Заблудившийся мальчик», «Ком глины и камень». В школах Фредерикиной юности ничего подобного не было. Впечатление сильное, приятное. Но каково будет Лео среди других ребят? В кафельных коридорах эхо будто преследует. В детстве ровесники Фредерику не принимали, почти травили. Она росла нелюдимой. Не повторится ли это с Лео?
– В детстве я с другими ладила плохо, – признается она Агате. – Школу терпеть не могла.
– Я тоже. Казалось, этому конца не будет. Такая тягомотина. А теперь думаю: где они теперь, любимцы всей школы, те, кто был там как рыба в воде?
Дома Фредерика обнаруживает длинный конверт официального вида. Это письмо от Арнольда Бегби, которое содержит, там сказано, ответ на исковое заявление. Как вам предстоит убедиться, пишет Бегби, ответчик отрицает все существенные факты из нашего иска. Его юрист составил письмо, копию которого прилагаю. В нем предложение встретиться с ответчиком для примирения и обсуждения возможности восстановить первоначальные супружеские права. Он также требует опеки над сыном.
Фредерика читает ответ на исковое заявление, на плотной писчей бумаге крупного формата.
Ответчик, мистер Ривер, действующий через своих юристов Тиггера и Шкура, в ответ на исковое заявление утверждает следующее:
1. Он не признает обвинения в жестоком обращении, о котором утверждается в вышеозначенном иске.
2. Он не признает обвинения во внебрачных половых связях, о которых утверждается в вышеозначенном иске.
3. Он требует опеки над ребенком, Лео Александром, упомянутым в вышеозначенном иске, и предлагает нижеследующий порядок его опеки и воспитания:
Ребенок должен жить с Ответчиком в фамильном доме, Брэн-Хаусе, Лонгбэрроу, где за ним будет ухаживать экономка мисс Филиппа Маммотт, которая заботилась о нем с самого рождения, а также две его тети, мисс Розалинда и мисс Оливия Ривер.
Он должен посещать Начальную школу Брока, в которую он зачислен и в которой учился его отец, а затем перейти в школу Свинберн в Камберленде, куда он также зачислен.
Он может регулярно навещать свою мать во время каникул, а она может навещать его, когда пожелает, в Брэн-Хаусе.
Фредерика едет к своему юристу. Она сидит в чересполосице света и тени и слышит свой голос, просительный, испуганный.
– Он же не может его забрать?
– Ребенка в таком возрасте суд едва ли лишит опеки матери. Такого маленького – едва ли. Очень маловероятно. Разве что совсем не повезет. И мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Будем сражаться. Ваш муж настроен на битву, значит и нам надо быть во всеоружии. Я полагал, что он по крайней мере признает факт измены – если мы отзовем обвинение в жестоком обращении, – это было бы нормально, хотя нам следует быть всегда настороже, чтобы не создалось впечатление, будто мы сговорились или попустительствовали такой измене. Ведь наша правовая система так устроена, миссис Ривер, что по закону должна быть виновная и невиновная сторона, и поэтому любая видимость сговора вызывает подозрения, усердно ищутся доказательства того, что улики были сфабрикованы или что моральные принципы ужесточились слишком внезапно. Хотя это не про наш случай. Ваш супруг – любящий и милосердный…
– Вздорный и твердолобый.
– Как вам будет угодно. Но он будет настаивать на том, что он любящий и милосердный. Он готов простить вас и хочет, чтобы вы вернулись. Вы должны доказать, что он обращался с вами так дурно, что развод представляется обоснованным требованием. Я дам указания Гриффиту Гоутли. Он свирепый, как бультерьер. Нам нужны свидетели жестокого обращения и свидетели того, как он вел себя в ваше отсутствие. Вы не рассматриваете возможность нанять частного детектива?
– Ну уж нет. Это отвратительно. Да я и заплатить не смогу. У меня вообще денег нет.
– Я постараюсь что-то узнать об этих клубах, в которых он бывает, – «Сластена», «Клубничный клуб». Там есть швейцары, бармены, нынешние или бывшие. Они захотят выступить свидетелями. Или найдут барышню, которая согласится что-то рассказать. Надо попробовать. Нам нужно что-то осязаемое.
– Он бросил в меня топор!
– Это еще надо доказать, – хмурится Бегби.
– У меня большой шрам. Еще не заживший. Когда плохая погода, он ноет.
– Мы должны доказать его происхождение.
– Лео в общежитии-пансионе начальной школы! Это ужасно, чудовищно – он еще такой маленький.
– Ну, многие мальчики это пережили, и ничего. – Пауза. – Я, например. – Еще пауза. – И судья, вполне вероятно.
Он подчеркнуто мрачен, хмурясь по причине тревоги и особого профессионального Schadenfreude[192].
– Ему там будет ужасно.
– Будем надеяться, что до этого не дойдет. Не должно. Я свяжусь с Гоутли. А вы тем временем подумайте, кто мог бы засвидетельствовать необоснованно грубое, агрессивное поведение вашего мужа. Прислуга? Надо еще с врачами связаться. Ваши знакомые?
– Их в тот момент не было. Они видели меня вскоре после этого.
– Показания с чужих слов недопустимы.
– Не получат они Лео!
В полумраке церкви Святого Симеона сидит Дэниел. Ярко-оранжевый свет улицы проходит через пестрые оконные витражи и на камне блестит причудливыми оттенками, меняющимися всякий раз, когда по улице проезжает машина. Он сидит у колонны в викторианском стиле, смотрит на выцветшие репродукции «Снятия с креста» Рубенса и «Мертвого Христа в гробу» Гольбейна, развешенные каноником Холли над алтарем. Сегодня 28 октября, и Дэниел хочет вознести благодарение за то, что с одним злом покончено, поразмышлять над этим. Сегодня палата общин в ходе свободного голосования приняла законопроект «Об отмене смертной казни». Он сидит – в незримом присутствии того, что обитает в этих темных камнях, – и думает о том, от чего наконец-то решено избавиться, об омерзительной жестокости, издревле обставляемой как пышное действо. Всю жизнь, с тех пор как он впервые осознал боль смерти, он не то чтобы отождествлял себя со страдальцами. Он представлял себе, как мужчина или женщина на скамье подсудимых видит черную шапочку судьи, слышит оглашение приговора, вынуждена делать то, что положено живым, возвращаться в камеру, есть, говорить, испражняться, дышать, – как человек, безусловно, уже мертвый, как человек, существование которого заключается в осознании того, что через десять дней, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один день, десять часов, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, десять минут, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один – придут с мешком и веревками, и до виселицы и люка идут уже ноги мертвеца. Смерть есть смерть, и такая смерть особенно ужасна, потому что она несомненна, потому что она прилюдно установлена, потому что она в отличие от многих убийств противоестественна. Но смерть есть смерть, сознает Дэниел. Многие ждут ее в муках. Все там будем. В смертной казни ужасно то, как она затрагивает все общество, которое ее принимает, санкционирует, попустительствует ей. Дуновение зла есть в работниках суда, полицейских (не важно, какого пола), адвокате, судье, которые вместе должны разыгрывать страшную драму, венчающуюся убийством. Зло, которое ощущаешь в камерах, в надзирателях, в других заключенных, наблюдающих за агонией с затаенным ликованием или боязливым отвращением. Упоение страданием, которое будоражит прессу, и больное, воспаленное воображение людей, когда они представляют себе то, что невозможно представить, то ли с кровожадным восторгом, то ли с кровавым праведным гневом, то ли с невольным, испуганным сопереживанием ужасу страдальца (так он чувствовал это в детстве). Давным-давно в Калверли он встретил словоохотливого, трясущегося человека, бывшего священника, который присутствовал на казнях в тамошней тюрьме и потерял рассудок от угрызений совести, ужаса и отвращения. Общество, способное создавать такие механизмы, – это общество больное, и бесчеловечным его нельзя назвать только потому, что жестокость – это нечто очень человеческое, жестокость свойственна человеку и не свойственна никакому другому существу (воинственных шимпанзе открыть еще предстоит).
Дэниел сидит в церкви и мысленно уничтожает один за другим составляющие сюжета и жанра. Он думает о них трезво, как всегда с трудом произнося в уме казенную формулу «быть повешенным за шею и висеть, пока не умрет. И да помилует Господь его душу». Он рисует в воображении черную шапочку судьи и букетик на столе, камеру осужденного и последний его путь: святой Игнатий Лойола учил своих последователей представлять все стадии крестного пути, шаг за шагом, воображать мучения Богочеловека – словно проявлять снимки в фотолаборатории мозга: кровь, пот, сломанные кости, вонь, рев и плевки толпы, слабеющие мышцы, колени, бедра, уколы терновых шипов, гложущая боль от гвоздей… Мерзко все это, и мерзость не в жажде убийства, а в изощренности, с которой задуманы затянувшаяся агония, зрелище, соучастие. В темноте не видно ни рубенсовой дебелой, тугой, перламутровой плоти, ни гольбейнова жуткого, вытянутого, сухопарого трупа. Оба художника знали, что такое плоть, знали ее красоту и причудливость, смешение розового и воскового, голубого и серого, тени и жирного блеска. Они писали ее в момент разложения, с эстетическим наслаждением от собственной силы, писали с любовью к плоти, такой, какой она была и какой не будет, живые в своем неуклонном созерцании смерти. Это Христос, Богочеловек, замученный и казненный, и, быть может, думает Дэниел, все-таки правильно искать Бога здесь, где человеческая изощренность во зле наиболее жива и изворотливо самооправдана. Поэтому так хочется благодарить кого бы то ни было за уничтожение зла, по крайней мере в это время и в этом месте. Потом, когда будут говорить о свободе шестидесятых годов, Дэниел всегда будет вспоминать эту тихую темную ночь, когда он очистил в своем воображении склепы и пыточные камеры от тараторящих призраков и оказался под синим безмолвным куполом ночной тьмы, мягкой, прохладной и недвижной.
За неделю до этого, ровно за неделю до принятия законопроекта, в городе Хайд, в графстве Чешир, двадцатишестилетний служащий склада Иэн Брейди и двадцатитрехлетняя стенографистка Майра Хиндли были обвинены в убийстве десятилетней Лесли Энн Дауни, тело которой было найдено в торфе на Пеннинских болотах шестью днями ранее. Брейди также был обвинен в убийстве семнадцатилетнего Эдварда Эванса. Если бы хронология событий была иной, размышлял потом Дэниел, была бы та ночь такой безмятежной?
Агата Монд заходит к Фредерике забрать Лео. Сегодня ее очередь вести детей в школу. В руках она держит письма для Фредерики: два толстых конверта, маленький коричневый и еще один, в духе викторианского времени украшенный вырезанными фигурками – головками ангелов, красногрудыми снегирями, лилиями и розами. Лео никак не может совладать с молнией на куртке, но помощи не принимает. Нахмурился. Фредерика, стоя за спиной Лео так, что он не видит ее лица, являет Агате выражение крайнего раздражения и злости, быстро открывает большие конверты – не потому, что хочет узнать, что в них, а из страха. Бесформенный страх всегда хуже, чем знакомый, очерченный. Письмо – от Найджелова юриста Гая Тиггера. Оно сопровождено запиской Арнольда Бегби. Речь о Лео. И это уже не первое такое письмо: Найджел наладил целый поток официальных документов. Сам же писем он не пишет: язык – не его инструмент. Фредерике он не писал никогда, и у нее нет той самой коробочки со старыми любовными письмами, которые обычно перечитывают с запоздалым неверием или сожалением. В записке Бегби настаивает на том, что письмо важное и требует внимательного изучения. Фредерика не может ничего сказать при Лео, она хватает портновские ножницы, которыми делала ему гирлянды из бумажных человечков, и показывает Агате, как сейчас порежет письмо на кусочки.
– «Слепая фурия приходит и ножницами режет нить»[193], – произносит Агата.
Они ухмыляются. От давно знакомых слов обеим становится легче. И почему – не важно: их связывает культура.
– Слепая фурия – это в точку, – почти рычит Фредерика.
– Мужайся, – отзывается Агата.
Лео – вжик! – триумфально застегивает молнию. Он, Саския и Агата уходят.
Фредерика перечитывает письмо.
Уважаемая миссис Ривер!
Мой клиент, мистер Найджел Ривер, поручил мне представить Вам через Ваших адвокатов, Бегби, Мерла и Шлосса, несколько обдуманных и согласованных предложений по обеспечению благополучия Вашего сына, Лео Александра Ривера.
Мой клиент хочет, чтобы я однозначно подчеркнул: нынешний разрыв отношений между ним и Вами произошел не по его инициативе, и его настоятельным желанием является возвращение Вас с сыном в семейный дом и поиск путей примирения. Он всецело отвергает обвинения в жестоком обращении и супружеской измене, изложенные в Вашем заявлении о расторжении брака, и искренне стремится убедить Вас в том, что он готов простить Ваш отъезд, совершенный без причины, без какого-либо предварительного предупреждения, обсуждения или попытки разумного и дружественного урегулирования предполагаемых разногласий.
Мой клиент особенно сожалеет о Вашем беспричинном и необдуманном решении взять с собой Вашего сына, вышеназванного Лео Александра Ривера. Он считает, что этот поступок не отвечал интересам мальчика, росшего в счастливой и крепкой семье, включающей родственников и любящую экономку, готовых заботиться о нем и воспитывать его в том мире, в котором он родился и в котором он со временем займет свое законное место владельца Брэн-Хауса.
Моему клиенту известно, что Вы увезли ребенка в неблагополучный район Лондона. Ему известно о том, что Вы проживаете в квартире цокольного этажа в районе, который можно было бы обозначить словом «трущобы»; что Вы не в состоянии обеспечить надлежащий уход за мальчиком, поскольку часто отсутствуете, добывая хлеб на различного рода подработках. Мой клиент считает, что такой образ жизни не отвечает интересам его сына. Он предложил, проявив великодушие, выплачивать Вам разумную сумму денег на содержание Вас и сына, чтобы Вы могли уделять ему все свое внимание, пока Лео Александр находится на Вашем попечении. Мой клиент считает, что если Ваш внезапный уход из семейного дома был вызван, как Вы заявили, желанием найти работу, то в силу Ваших приоритетов Вы оказываетесь менее пригодной для того, чтобы заботиться о ребенке, чем те женщины, которые могли бы уделять ему все свое внимание в уютном доме и здоровой загородной обстановке, в которой он вырос. Мой клиент считает, что интересам мальчика лучше всего будет отвечать его немедленное возвращение в дом, который знаком ему с самого рождения. Разумеется, если Вы продолжите вести нынешний образ жизни, он предоставит Вам возможность навещать сына и всегда будет рад видеть Вас в Брэн-Хаусе в качестве хозяйки или гостьи, по Вашему желанию.
Мой клиент также крайне обеспокоен и огорчен тем, что Вы решили вопрос об образовании его сына, не посоветовавшись с ним. Исходя из общественного положения семьи и образовательных стандартов и заботясь прежде всего о благополучии ребенка, он просит Вас пересмотреть свое решение о направлении мальчика в Начальную школу Уильяма Блейка в Кеннингтоне, которая, по его мнению, не подходит для мальчика, родившегося в его семье, и не соответствует ожиданиям Лео. Сыновья семьи Ривер на протяжении трех последних поколений учились в Начальной школе Брока в Херефордшире и школе Свинберн в Камберленде. Мой клиент искренне надеется и рассчитывает на то, что сможет дать своему сыну такое же прекрасное образование, какое получил он сам, и что Лео сможет учиться среди детей своего круга, включая двоюродных и троюродных братьев, уже посещающих эти школы.
В сложившихся обстоятельствах мой клиент предлагает направить своего сына в Начальную школу Брока, где ему уже обеспечено место. Как Вам известно, если и когда Ваш иск о расторжении брака будет передан в суд, мой клиент будет подавать иск на опеку над сыном. Он все еще искренне надеется не допустить этого, убедив Вас вернуться в семейный дом. В то же время он считает, что наиболее справедливым, правильным и выгодным будет немедленный перевод Лео в Начальную школу Брока, где родители смогут посещать его на равных условиях. Его просьба представляется разумной и великодушной, и он надеется, что Вы немедленно и с пониманием рассмотрите ее…
Она прочитывает второе письмо от юристов: в нем сказано, что предложенный день слушания по бракоразводному процессу отклонен, поскольку ответчик запросил времени для подготовки. Затем она открывает коричневый конверт, в котором находит чек на очень небольшую сумму из Института Крэбба Робинсона. Последнее письмо оказывается приглашением от Десмонда Булла на «непотребства в студии». Он заинтересовался техникой коллажа, и херувимы с розочками на конверте тому подтверждение. Сейчас он создает нечто масштабное, состоящее из слоев человеческих лиц из прошлого и настоящего, газет и картин: глаза Робеспьера на лице Мэрилин Монро, наложенном на чешуйчатый хвост Коварства с полотна Бронзино «Аллегория любви», или фигура сидящего Рузвельта, заменившая папу римского на портрете Тициана. Работа пока еще сумбурна: есть место и банальностям, и неожиданным и остроумным находкам. Десмонд Булл бодр и уверен, что со дня на день Фредерика присоединится к его работе и разделит с ним его студийный матрас. Ей нравятся его картины, ей нравится он сам: что из этого следует – вполне очевидно. У нее есть Джон Оттокар, но она не хочет ущемлять свою законную свободу и даже готова заняться любовью с Буллом, чтобы убедиться, что к Джону Оттокару она не привязалась. Из-за него она начала принимать таблетки и теперь чувствует себя тяжелой и раздражительной, хотя, возможно, это просто жизнь такая. Она приняла уже две упаковки таблеток, одну в сентябре и одну в октябре, а Джон Оттокар все это время почти не появлялся. А значит, беззастенчивые старания Десмонда Булла имеют смысл хотя бы ради того, чтобы все эти таблетки принимались не впустую.
Арнольду Бегби о Джоне Оттокаре она не говорила. На то есть несколько причин, взаимосвязанных и взаимопротиворечащих. Бегби поймет, что она солгала, когда сказала, что не совершала супружеской измены, или, как они говорят, «проявила невоздержанность». Это важно: она чувствует, что Бегби ее осуждает. Бессмысленно, но это так. И потом, рассказать Бегби о Джоне Оттокаре – значит упрочить их отношения так, как не надо ни ей, ни Джону Оттокару. Это не супружеская измена, это просто секс. Впрочем, «просто секс» с юридической точки зрения бессодержательно. А звучит так же куце, как «невоздержанность» или «прелюбодеяние». Нет таких слов, которыми Фредерика могла бы объяснить Арнольду Бегби свои отношения с Джоном Оттокаром.
* * *
Фредерика взбешена, удручена. Она хватает ножницы и разрезает письмо Гая Тиггера на две части. Потом еще раз, и вот у нее в руках пригоршня прямоугольных кусочков бумаги. Так от него не избавиться, думает она, нахмурившись. Можно резать и резать, но это все равно что обрубать головы гидры. Она собирает бумажки и раскладывает перед собой. Студенты-искусствоведы сейчас восхищаются методом нарезок, придуманным Уильямом Берроузом[194]. И Фредерика выстраивает фрагменты письма в новый законченный текст. Итак.
Мальчика, росшего в счастливой школе Брока, увезли в неблагополучный семейный дом, где ему уже обеспечено место. Этот поступок, совершенный без причины, без какого-либо предварительного предупреждения, обсуждения, не отвечал интересам вышеназванного Лео Александра. Как Вам известно, мой клиент не в состоянии обеспечить надлежащий уход за мальчиком. Мой клиент хочет, чтобы я однозначно подчеркнул, что нынешний разрыв отношений между ним и Вами произошел в квартире цокольного этажа в районе, который можно было бы обозначить словом «трущобы», в уютном доме и здоровой загородной обстановке. Ривер на протяжении трех последних поколений искренне стремится убедить Вас в том, что он готов простить Бегби, Мерла и Шлосса. Моему клиенту известно, что Вы продолжите вести нынешний образ жизни, и всегда будет рад видеть Вас в Камберленде. Мой клиент искренне надеется и рассчитывает на то, что сможет дать своему сыну такое же прекрасное образование, какое получил он сам, добывая хлеб на различного рода подработках. Законное место владельца Брэн-Хауса, по его мнению, не подходит для мальчика, родившегося в его семье, и не соответствует ожиданиям школы Свинберн. В сложившихся обстоятельствах мой клиент предлагает заботиться о нем и воспитывать его в том мире, в котором Вы могли уделять ему все свое внимание.
* * *
От юристов ждут недвусмысленных утверждений и бесспорных выводов. Поэтому Фредерикины нарезки не так интересны, как могли бы получиться из более богатого с художественной точки зрения текста, но они вполне емко отражают ее замешательство, раздражение, стойкое ощущение того, что безупречные аргументы юристов Найджела в ее мире абсурдны. И она цепляется за эту идею. Она находит слова самогó Берроуза, которого настойчиво цитировал один студент, приговаривая: «Это голос настоящего, это то, к чему все шло, обломки, прибитые волнами к месту моего крушения, все такое прочее, вы только попробуйте, это голос настоящего, это освобождение, это самое-самое».
«Нарезки – это для всех. Всякий может сделать нарезки. Это экспериментально в том смысле что это такое занятие. Здесь и сейчас. Не то о чем надо рассуждать и спорить».
«Всякое писательство – это по сути нарезки. Коллаж из слов прочитанных услышанных. Что же еще? Используя ножницы мы просто высвечиваем этот процесс и допускаем его расширение и варьирование. Может чистая классическая проза целиком состоит из перекомпонованных нарезок. Разрезание и компоновка исписанной словами страницы создает новое измерение письма, где писатель может превращать образы в череду кадров. Нарезанные образы меняют смысл запах образы в звук зримое в слышимое слышимое в осязаемое. Именно к этому шел Рембо со своим цветом гласных. И его „систематическим расстройством чувств“. Вместо мескалиновой галлюцинации: видеть цвета пробовать на язык звуки нюхать формы».
Фредерика цепляется за эту идею. Как метод – и привлекает и отталкивает. Фредерика – интеллектуал, движимый любопытством, удовольствием от согласованности, от установления связей. Фредерика – интеллектуал большой руки, ведь большинство интеллектуалов теперь провозглашают смерть связности, иллюзорность порядка, воспринимаемых как нечто рукотворное, преходящее и неустойчивое. Фредерика – женщина, чья жизнь, кажется, разлетается на разрозненные осколки: беглянка из сытой загородной жизни и семьи; женщина, которая в течение двух месяцев была просто телом, химически защищенным от навязчивого страха зачатия; угловатое женское тело, симбиотически связанное с комочком стремительной мужской рыжеволосой энергии, само отсутствие которой ощущается как присутствие и как притязание; ум, сознающий, что английская литература – это структура, наполовину связанная с европейской литературой, но отрезанная от той ее части, что была преображена Ницше и Фрейдом; малоимущая квартирантка в цокольном этаже; память, вмещающая бóльшую часть Шекспира, бóльшую часть поэзии XVII века, бóльшую часть Форстера, Лоуренса, Т. С. Элиота и романтиков (причудливый багаж, который когда-то казался универсальной, разумной необходимостью); истец в бракоразводном процессе; скиталица по студиям; судия произведений таких авторов, как Филлис Прэтт и Ричмонд Блай. Фредерика – женщина, которая сидит за письменным столом и монтирует слова из разнородных лексиконов: письма юристов; письма об Обучающем алфавите из школы Лео; первые написанные Лео слова – «дом» и «жук»; литературные тексты и совсем другие тексты, их препарирующие; ее рецензии, ее рецензии, в которых не используется накопленный ею словарь критики, ибо он бесполезен в очерках в триста слов. Она – существо, способное перескакивать с рецепта душистого омлета на «Логико-философский трактат», с доктора Спока на Библию и «Жюстину». Язык щуршит повсюду, рассыпается на множество голосов, все – не ее, и все – ее.
Как и многие распираемые горем, растерянностью или гневом, Фредерика решает обуздать свои чувства, излить их (глаголы противоположны по смыслу, но тут подходят оба) на бумаге. Она даже купила тетрадь, в которой будет все записывать, чтобы, как она сказала себе в магазине канцтоваров, перевести язык юристов на простой выразительный английский. Тетрадь – золотистого цвета, с ламинированной пластиковой обложкой, на ней фиолетовые цветы из кружков, какие школьники рисуют циркулем, смещая центр, так что получается узор из полукруглых лепестков. Фредерика уже записала первое предложение.
«Большинство проблем связано со словами». Но дальше этого не идет. Сама по себе фраза вполне годится, но подходящих слов для продолжения у нее нет. Через неделю, протаскавшись с этой фразой, как терьер с крысой в зубах, Фредерика записывает:
«Слов для продолжения не нахожу».
Спустя месяц:
«Надо проще. Опиши свой день».
Просыпалась долго. Язык обложен. Привкус – чего? Металла, разложения, старого вина. Хочется написать «смерти», но это чересчур. Встала. Пошла в туалет. Сделала там все, что положено в туалете: сходила по-маленькому, по-большому, в ванной изгнала вкус смерти вкусом противной (?искусственной) мяты. Ненавижу мяту. Никогда не любила, но продолжаю запихивать в рот. Понимаю, что в таком духе следовало бы написать об удовольствии и облегчении оттого, что сходила по-маленькому и по-большому, но не хочу. Это обыденно, и писать такое – будто с целью шокировать, а этого я как раз не хочу. А чего хочу? Не нравится мне писать в таком духе. Вышла из ванной, пошла будить Лео. Он уткнулся лицом в подушку: там, где лежало его лицо, она была розоватой и влажной, сверху – сухая и теплая. Поцеловала. Запах Лео – все его запахи – лучшее на свете. Какие они и почему так, думать не хочется. В таком стиле не выйдет, хотя он и ведет в этом направлении, побуждает думать: ага, да, теперь я описываю запах Лео. Поехали дальше. Позавтракали. Вареные яйца и тосты. Хлеб не очень свежий. Всегда так. Люблю свежий хлеб, но пойти и купить свежего заставить себя не могу. Если бы я расписалась об удовольствии от свежего хлеба в этом духе, может, пошла бы и купила, хотя едва ли. Обычные пререкания из-за того, кто будет завязывать шнурки, а то мы опаздываем. Обычные пререкания. Опиши. Да ладно. Не могу. Мутит меня от этого стиля. А им пишутся целые книги. Выглядит так глубокомысленно, а на самом деле бегство от жизни. Я задумала понять, чтó пошло не так и для чего я нужна, но при чем тут обложенные языки, зачем односложные предложения, зачем подмечать вещи, которые подмечаешь постоянно, без натуги, а теперь описываешь так, будто хочешь удивить или шокировать. Этак я могла бы написать сотни тысяч слов и все дальше и дальше уходить от осмысления происходящего.
Сегодня вечером буду рассказывать о «Госпоже Бовари». Но госпожа Бовари о «Госпоже Бовари» студентам не рассказывала.
Тоже банально. Если все записывать, выходит чуть хуже. Чуть хуже – это судьба. Навязчивая штука писание. И бесполезная. Брось писать.
Фредерика перечитывает эти бесплодные потуги. Желание писать еще есть, но уже тошнит. Однажды, после соития с Джоном Оттокаром, когда он заснул, она попыталась написать, чтó чувствует к тому, чья белокурая голова покоится у нее на груди, – как она гадает, придет ли он снова, останется ли, исчезнет, хватит ли ей сил оставаться открытой, или она закроется, отвернется, напустит чернил, чтобы скрыться, как каракатица (ее излюбленное сравнение для этого маневра). Люблю ли я его, заставила она себя написать настоящий вопрос, но сам вид вопроса, вид ряда предложений, начинающихся с местоимения первого лица единственного числа, вызвал у нее такое отвращение, что она быстро-быстро выдрала страницы, разорвала в клочья и отправила в ведро со спитым чаем и овощной кожурой.
«Я не люблю „Я“», – оставила она запись в тетрадке. И эта фраза оказалась пока самой любопытной. Теперь нужен типичный вопрос интеллектуала: «Почему?» Следует ответ.
Я не люблю «Я», потому что, когда я пишу «Я люблю его» или «Я боюсь, что он свяжет меня по рукам и ногам», «Я» – выдуманный мной персонаж, но который при этом высасывает из меня жизнь, перекачивает ее в нечто искусственное, замкнутое. Выведенные на бумаге «Я» или «Я люблю его» вызывают тошноту. Подлинное «Я» – это первое слово во фразе «Я не люблю Я», наблюдатель, но лишь до тех пор, пока я не запишу, не обращу на него внимания, а так и оно становится искусственным Я, и тогда подлинным становится то, которое это осознает, и так до бесконечности. Как малые блохи на более крупных. Не писать, говоришь? Уж точно не от первого лица.
Эту страница Фредерика не вырвала. Она тоже вызывает легкую тошноту, но в своем роде любопытна.
Нарезки, значит. Пожалуй, она вполне способна справиться с тяготами развода и затянувшимися препирательствами, сведя все это к бессмысленному дневнику со вкраплением перлов вроде «мой клиент не в состоянии обеспечить надлежащий уход за мальчиком», хотя врожденная добросовестность не дает ей успокоиться. Кто-кто, а клиент мистера Тиггера вполне в состоянии обеспечить за мальчиком надлежащий уход. В этом-то все и дело. И вообще, как такая умная женщина, какой была Фредерика Поттер, попала в нынешнюю переделку? Она посмеивается, роется в упорядоченных конспектах лекций и находит цитаты о цельности и единстве из Форстера и Лоуренса. Разрезает их и компонует так, как советует Берроуз. Из Лоуренса получается нечто интересное и слегка экстатическое:
«Она хотела, чтобы ее окружали блаженное расстояние, обозначение себя прежнего, буква. Он шагнул за грань, вышел за пределы, когда говорил: „Какой у тебя славный нос“. Это было новое единство не в весе, не в цвете, когда существуешь не сам по себе, но ты сам и она сама сливаются в одно. Невысказанные чувства – удел разделенных. Как он сам мог понять, когда знание уступает, когда больше нет ни меня, ни тебя, потому что не на что отвечать. Ничего помимо любви: что-то третье, мертвая радость.
В этом новом, упоительном состоянии нет больше ни „я“, ни „ты“. Это было какое-то недовоплощенное чудо между ними. Как он мог рассказать ей о ее „я“, когда он уже кто-то новый, незнакомый? Как возник райский союз в волшебном золотистом сиянии? На другой день мы упразднились, и какой у тебя милый подбородок. Но звучало это фальшиво, и воцарилось безмолвие. Даже при совершенном Единстве все – одно. Речь „Я тебя люблю. Я тебя люблю“ была правда не до конца. Это царит безмолвие».
Вышло более или менее то же, что и в оригинале, с более или менее тем же ритмом. С Форстером, более плотно выстроенным, придется повозиться побольше.
«Внешне он был жизнерадостен, умудрен, но внутри царил хаос, что таится в душе каждого человека. Только зачатками ее проповеди возлюбить Бесконечное было непросто. Как ни был он мужем, вдовцом ли, он мог лишь немного стыдиться аскетизма. Но бессмысленные осколки, которые он слышал по воскресеньям, находили поддержку в обыденной серости ее распростертых крыл. Она не будет его даром. Только соединить! Блажен, кто видит будничную прозу и страсть, способные существовать лишь порознь. У Генри было свойство – с серафическим пылом идти по душевным стезям. Он просто не замечал своей любви к супруге. Иначе она все же могла помочь ему возвести мост-радугу на фоне пламени. Только соединить несоединенные арки – вот здесь цельность и достигается любовью».
Она вклеивает три нарезки – письмо юриста, мольбу о соединении, оду единству – в блокнот рядом друг с другом.
Я несправедлива, думает она. Я не мыслю ясно. Я обвиняю Форстера и Лоуренса в том, что из-за них вышла замуж за Найджела, из-за навязанного ими стремления к единению противоположностей, из-за того, что они соединили прозу и страсть. Тогда как на самом деле, по крайней мере отчасти, я вышла за него замуж по совершенно обратной причине: хотела, чтобы все было отдельно. С сексом все в порядке, это даже лучше, чем хорошо; он человек зажиточный, и мне не придется тащить на себе хозяйство, как моя мать. И я останусь такой, как была, и Найджела все это устроит. Что заслужила, то и получила: это касается и Лео, который, правда, не относится к тому, чего я заслужила, но живет собственной жизнью.
Но желание «просто соединить», романтический флер тоже присутствовали: каждый из нас – смесь порывов. И вот я соединяюсь с Джоном Оттокаром и отсоединяюсь от него.
Она пишет слово «Наслоения» и подчеркивает: заголовок. Форма, метод еще только нащупываются. «Наслоения». Нарезки – только часть. Разрезание, дробление, перекомпоновка наличного материала. «Всякое писательство – это по сути нарезки. Коллаж из слов прочитанных услышанных». Эти слова Берроуза вызвали у нее острую дрожь узнавания. Смысл слов в том, что они должны быть уже использованы, они не должны быть новыми, и чтобы обладать смыслом, они должны быть только перестановками. Напиши «кадрон» или «мейз» – ничего не произойдет, но напиши «дракон» и «змей» – и сразу мысли, истории, страхи, байки, цвета, зловоние, доброта, жестокость – все взовьется, как воздушный змей на шпагате, или задергается, как морской гад на уде рыбака. Впрочем, у нарезок есть недостаток: не действуют они, если случайное переоценивается, если слишком упорно ищут смысл даже в тривиальном, в случайном промельке мысли, в единственном слове на клочке бумаги. Ищешь идею – находишь во всем. Но блеск глаз, ищущих идею везде и всюду, – не безумный, не бессмысленный ли это блеск?
Под словом «Наслоения» она медленно выводит:
«Тут было некое совпадение с моей собственной и, как я выяснил, отнюдь не сугубо индивидуальной склонностью видеть во всяком проявлении жизни продукт культуры и сколок мифа и предпочитать цитату „самостоятельному“ сочинению» (Томас Манн. «Die Entstehung des Dr. Faustus»)[195].
Цитата ведь тоже нарезка. Она придает особую бумажную жизненность и самостоятельность культурным штампам и клише, вырванным из языковой паутины, в которой у этой фразы есть точное назначение. Цитата Манна по сравнению с нарезками выглядит помпезно и академично, но в ней больше жизни. Или – иная жизнь. «Только соединить» – это клише, как и «единство» Лоуренса, но они двусмысленны и требовательны. Пожалуй, можно включать и другие цитаты: форма будущих наслоений только маячит перед ее мысленным взором. Газеты почему бы не цитировать? Достоевский в своих романах полагался на клише и сообщения из газет. В этом контексте даже ложно-наивное «Сделала все, что положено в туалете» – одно из множества клише и поэтому для «наслоений» годится. Тут нужна не тетрадка, а картотека, думает она, нужно перетасовывать. Можно цитировать свою собственную жизнь. Письма от юриста вперемешку с лекциями о Манне и Кафке. Необработанный материал, обработанные мотивы.
На той же неделе она добавляет:
Джеймс рассказывал о том, как, идя однажды летним вечером по парку и наблюдая за парами влюбленных, он внезапно начал ощущать колоссальное единение с целым миром, с небом, деревьями, цветами и травой – а также с влюбленными. Он в панике прибежал домой и погрузился в книги. Он сказал сам себе, что не имеет права на такое переживание, но, более того, его напугала угроза потери индивидуальности, вовлеченной в подобное слияние «я» с целым миром. Он не знал никакого состояния между радикальной изоляцией в самопогружении и полном растворении во всем сущем. Он боялся оказаться растворенным в Природе, поглощенным ею при необратимой потере своего «я». Однако то, что больше всего его страшило, больше всего к себе и притягивало. Бренная красота, как сказал Джерард Мэнли Хопкинс, опасна. Если бы подобные индивидуумы смогли принять его совет встретиться с ней, то, не говоря уж об остальном, все стало бы гораздо проще. Но именно этого они не могут сделать[196]. (Р. Д. Лэйнг. «Расколотое „Я“»)
К этому она добавляет:
Являющийся бог говорит и действует, делаясь похожим на заблуждающегося – стремящегося – страдающего индивида, а что он вообще является с такой эпической определенностью и отчетливостью – это действие Аполлона, толкователя снов, который толкует дионисийское состояние божества хору – прибегая к явлению-уподоблению. По истине же этот герой – сам страдающий Дионис мистерий, бог, претерпевающий страдания индивидуации, – об этом боге чудесные мифы рассказывают нам, что ребенком он был растерзан титанами и в таком состоянии почитался как Загрей, причем тут делается намек на то, что это расчленение, собственно дионисийское страдание, равнозначно превращению в воздух, воду, землю и огонь, так что состояние индивидуации мы должны были бы рассматривать как источник и праоснову всякого страдания – как нечто вообще предосудительное[197]. (Ницше. «Рождение трагедии»)
А потом еще:
Всему свету: жарким ливнем проливается мир! Вольно растут травы Земли. Случилось пришествие космической поэзии во плоти! Карнавал спонтанный кантатных планет! Сигматически новые повороты к остаткам книг получше и времени помировее, к забористо новому! Космонавта ментального поэтоявление – сверхграничное непорочное оплодотворение стихотворчеством!
Великокостное любви Благовещалище, duendo concordium, яркие камарады эфенди! Озаренный огнями больших городов джазовый вздрыг кастальского агнца! Жадные в себе искания лягастого бит-поколения 42 с апокалипсическим триумфом энергии!
Ты не одинок!
Чудесное Вознесение! О мятеж незримого Священного Сердца! Пробудись, Альбион, пробудись, пробудись, бесстыжий всем указ! Грядут слова во всей нагой очевидности! Глобальный синтез, родной для сей Вечности! Бессмертным, безвестным безумцам жить в веках!
Эсам, Фейнлайт, Ферлингетти, Фернандес, Гинзберг, Паоло Лионни, Дэниел Рихтер, Трокки, Симон Винкеног, Горовиц. Заклинание для Первого Международного воплощения поэзии в Альберт-Холле.
И еще:
Владимир. Скорее шепчут.
Эстрагон. Бормочут.
В. Шелестят.
Э. Бормочут.
Молчание.
В. О чем они говорят?
Э. О своей жизни.
В. Им недостаточно просто жить.
Э. Им нужно говорить.
В. Им недостаточно быть мертвыми.
Э. Этого мало.
Молчание.
В. Будто шелест перьев.
Э. Листьев.
В. Пепла.
Э. Листьев.
В. Скорее шепчут.
Э. Бормочут.
В. Шелестят.
Э. Бормочут.
Молчание.
В. О чем они говорят?
Э. О своей жизни.
В. Им недостаточно просто жить.
Э. Им нужно говорить.
В. Им недостаточно быть мертвыми.
Э. Этого мало.
Молчание.
В. Будто шелест перьев.
Э. Листьев.
В. Пепла.
Э. Листьев[198].
(«В ожидании Годо»)
И потом:
В мыслях Парение, в сердце Сострадание, в чреслах Красота, в ногах и руках Соразмерность.
Небо – птице, море – рыбе, презренье – презренным.
Ворона хотела, чтоб мир почернел, сова – чтоб он побелел.
В Излишестве – Красота.
Если б лиса поучала льва, он бы сделался хитрым.
Человек выпрямляет кривые пути; Гений идет кривыми.
Лучше убить дитя в колыбели, чем сдерживать буйные страсти.
Где нет человека, природа пустынна.
Люди не примут правды, если поймут ее, но не поверят.
Довольно! – то же самое, что: Чересчур![199]
(Блейк. «Бракосочетание Рая и Ада»)
Банальные университетские штудии. Под поверхностью всего этого таятся какие-то беспокойные силы. Однажды ночью Фредерика добавляет историю из жизни:
В пабе после занятий Хамфри Меггс рассказал про свою подругу, у которой умерла мать, оставив ей только долги и беконорезку. У матери был магазин, но он прогорел, осталась только беконорезка. Дочь пошла в холодильную камеру – лавка продавалась и пустовала. Решила там перерезать этим инструментом себе вены. До запястий было добраться трудно, и было слишком холодно: в итоге она рухнула там, «можно сказать, в кровавую кашу». От холода кровь идти перестала, девушку нашли и отвезли в больницу. Перевязали, зашили. Ей там понравилось. Стала санитаркой, а потом выучилась на медсестру. Работает в операционной. Нравится. Чувствует, что людям нужна. Я спросила: а беконорезка куда делась? Он не знал. Продала, наверно. Может, сейчас ею нарезают бекон, используют по назначению. Эта история интересна не только словом «беконорезка», но и тем, что оно описывает: жужжащее лезвие, созданное для конкретной задачи, а не для самоубийства. Это рассказ о сообразностях и несообразностях, возможно испорченный этим лишним комментарием, но я научусь их опускать.
Через пару дней – еще история.
В салоне «Видал Сассун» на Бонд-стрит сидит женщина. Ее длинные волосы впервые превращают в ровную, короткую, объемную стрижку с кинжально-острыми линиями прядей. Двое молодых людей занимаются затылком. Под ногами – локоны, пряди того, что минуту назад было частью ее тела. Масса отстриженного мягкая, скользящая, срезки волос колют между воротником и кожей. Один из парикмахеров тянет две прядки ее новых волос вниз, к челюсти. Ей больно. Она хочет поднять голову, посмотреть – он снова слегка тянет вниз, больно. Другой колдует острыми ножницами над затылком. Она слышит шелковистый шелест. Задел кожу. Больно. Нарочно, что ли? За работой молодые люди разговаривают. «Глянь вон на ту: ишь вышагивает, думает, она – отпад, высший класс, а она – оторви да брось: посмотри, что он ей на затылке соорудил, кукиш какой-то. Думает – заглядение: это он ей сказал и зеркало держал так, чтобы поверила. А сам срезал волосы сзади, так что только этот клок и остался, и видно, что затылок шишковатый». Смеются. Женщина в их руках пытается поднять голову, но ее снова дергают вниз. «Никогда не забуду», думает она, но почему, не понимает. Мало ли бывало в жизни неприятностей, унижений, но почему это – «никогда»? Ей разрешают поднять голову. Сквозь слезы она видит свое лицо. Ей говорят, что вышло прекрасно. Острая, как лезвие, линия пряди, очерчивающая лицо вниз от виска. У всех женщин в зале одинаковые стрижки, и все, кто так пострижен, выглядят одинаково прекрасно – кроме тех, кому эта стрижка не идет. Она дает парикмахерам чаевые, хотя не хочется. Стрижка выглядит здорово. А сама она как?
Это уже явно лучше, чем «Я встала. Пошла в туалет». Здесь нет «я», хотя история эта правдивая и она про Фредерику. Она ощущает какое-то чрезмерное эстетическое наслаждение: слова не вызывают тошноты, и она нашла, как написать правильно, как что-то взять и прижать (прямо как те молодые люди ее прижали, думает она, но не хочет портить минуты наслаждения). Та сцена врезалась ей в память, приобрела добротную завершенность. Вместе с методом Берроуза, беконорезкой, Ницше, Блейком и «Расколотым „Я“» – что-то в этом есть.
XV
Октябрь 1965 г.
Занятия у вечерников идут полным ходом. Фредерика читает о Достоевском, Томасе Манне, Кафке, Сартре. На текущий семестр Джон Оттокар не записался, и Фредерике пока ничего по этому поводу не сказал. Остальные по большей части присутствуют – уже друг с другом на короткой ноге, и у кого что спросить, каждый знает. Образовались парочки, пустила корни ревность. Джуд Мейсон не вернулся, хотя его бегемотовая кожа все так же серела в красном сиянии натурного класса училища Сэмюэла Палмера, а в тамошнем почтовом ящичке Фредерики регулярно обнаруживаются открытки с цитатами из Ницше. Лео в школе нашел себе товарища, который живет по соседству: рослый чернокожий мальчуган с широким, добрым лицом. Зовут Климент Аджьепонг. У него есть брат Атанасий, мать – медсестра скорой помощи, работает по ночам, и то пропадающий, то возникающий отец: «чем-то торгует». Аджьепонги – англичане во втором поколении, родом из Ганы. Климент Фредерике нравится. Он входит в шайку мальчишек, носящихся по площади и подозреваемых в следующих преступлениях: звонят в дверь и убегают, выкручивают дворники у машин, отбивают горлышки у бутылок с молоком и портят приоконные ящики для растений, которые можно встретить в более облагороженных домах со свежей побелкой и новыми латунными кольцами-ручками на дверях (некоторые, правда, уже вывинчены). Фредерика что-то чувствует к Клименту, но едва ли кому-то может это чувство описать. Она очень рада, что они с Лео сдружились: им нравится играть, разговаривать. Она рада, что Климент нравится и ей, она смеется над его шутками, слушает его истории. Она рада, что у ее сына есть чернокожий товарищ, и товарищ настоящий. Она также рада и потому, что до дружбы с Климентом Лео на площади несколько раз как будто бы нечаянно сбивали с ног. Исчезали отданные поиграть автомобили. Исчез и его трехколесный велосипед, но потом чудесным образом все-таки нашелся – правда, без звонка и без резинок на педалях. Все это Фредерику беспокоило. В свои школьные года она пережила много чего: ее и колотили, и подножки ставили, и одежду рвали. Все это нормально. Но она не чувствовала никакой опасности на пути из дома в сельскую школу и позднее, чуть повзрослев, когда ездила на автобусе в Блесфорд. И ей бы хотелось, чтобы площадь Хэмлин-сквер тоже была островком сельской жизни в городе. Но, увы, это не так. Тут опасностей больше. Впрочем, ей – и всем ее современникам – еще только предстояло узнать, что такое постоянно чувствовать угрозу. В 1965 году боязнь городского пространства была разве что в зародыше. Куда сильнее Фредерику пугало, что юристы Найджела пронюхают об украденных игрушках и велосипеде. Она представляет заплаканного Лео с грязными коленками на лужайке, верхом на Угольке, который переходит на легкий галоп. Или как в раздевалке частной школы над ним измывается одноклассник-задира в форменных шортах. Эти мрачные мысли приходят ей в голову, когда она потчует Климента домашними лепешками с вареньем и читает мальчикам «Сказку о мистере Тоде».
Климент собирает древесину для костра. В Ночь Гая Фокса[200] принято разводить костер на небольшом кусочке земли в самом центре Хэмлин-сквер. Мальчишки обшаривают все окрестные магазины в поисках ящиков от овощей и сломанных стульев. Слишком много картона – это плохо, сообщает Климент Агате и Фредерике, потому что всюду будут летать обугленные клочки, нужно дерево, ведь оно горит медленно, но верно. И никаких сидений от разбитых машин – вонь от них страшная, только старая добрая древесина. Свою лепту в сбор материалов для костра вносят и папаши – работяги и средний класс. Но вот ночью, в предрассветные часы, кто-то похищает все, что было собрано: так и не нашли, даром что был послан экспедиционный корпус к местам для костров в соседних кварталах, котлованам от бомбежек и футбольным полям. Сбор материалов начинается по новой, но теперь выставлена стража: днем – мальчишки, в позднее время – один праздношатающийся чудак. Лео очень взволнован происходящим. Он пока не знает, каким выйдет костер, но воображение уже полнится огнями на фоне ночного неба. Но вот он с ужасом спохватывается, что день костра выпадает на выходные, которые он теперь то и дело проводит в Брэн-Хаусе. Он объявляет Фредерике, что не поедет. И это первый его протест в том, что касается передвижений между родителями. Из очередной поездки в Брэн-Хаус он возвращается бледным и мрачным, чем он там занимался и о чем говорил, не рассказывает. Фредерика не спрашивает и не собирается, надеясь на такое же благоразумие и с той стороны. Ей даже думать не хочется о том, как Пиппи Маммотт или одна из теток расспрашивает его о Школе Уильяма Блейка, о Клименте, о Джоне Оттокаре, которого она с Лео так и не познакомила, хотя он пару раз видел, как Фредерика с ним вместе сидит – только сидит! – когда он уже в постели. Фредерика не хочет знать, о чем его там спрашивают, и эта жажда незнания ее сдерживает. Но воображение работает, и она встревожена. Ведь из любых его слов, пусть сказанных и непреднамеренно, можно состряпать основания для того, чтобы его у нее забрать.
Когда будет костер, я не поеду, говорит Лео. Не поеду. Фредерика отвечает: надо поехать. Лео: не поеду. Хочу посмотреть костер. Останусь тут. Фредерика высказывает надежду, мол, и в Брэн-Хаусе костер будет. Лео уже задыхается от злости, сопит и визжит, напоминая Фредерике ее споры с отцом.
– Я могу спросить у твоего отца, – произносит Фредерика.
– Можешь. Но не спросишь, – огрызается Лео.
– Не решаюсь.
– Ты меня не любишь, не хочешь, чтобы я оставался с тобой, я тебе не нужен! – вопит он в ярости.
Фредерика звонит Арнольду Бегби, после обмена письмами он подтверждает: в Херефордшире затевается отменный костер, большой-пребольшой. У Лео новый срыв, а потом он перестает разговаривать. И безмолвствует целые сутки. На другой день, принеся домой ужин, Фредерика слышит его голос – он разговаривает по телефону:
– Ты мне сам дал его. Сказал, как позвонить, если будешь нужен. Сейчас ты мне нужен. Я хочу на костер здесь, на этой площади. Мы сами его делали.
Слушает ответ.
– Я знаю. Там тоже будет хорошо. Но я в него душу вложил.
Фредерика восхищена таким выбором слов. Душу вложил.
– Я же говорю, она не хочет, чтобы я остался. А то зачем бы я звонил? Ничего она не благоразумная, ты сам знаешь! Она не понимает, как мне нужно быть на этом костре с друзьями. Она думает, ты не поймешь, почему именно этот костер, но я знаю, что поймешь. Правда?
Слушает ответ.
– Значит, мне можно остаться? Спасибо! Я знал, что ты поймешь. Сейчас я ее найду, и ты ей скажи. Просто скажи. Вот она.
– Фредерика?
– Да?
– Что происходит? Чего ты там устроила? Почему ему нельзя остаться посмотреть на костер, раз он в него душу вложил?
– Я думала, ты свои выходные просто так не уступишь.
– Чтобы он подумал, что я деспот? Вместо этих выходных пускай приезжает на другие. Если он чего-то уж очень хочет, пусть просит, не надо им помыкать. Ты что, в этот вечер не сможешь быть с ним? У тебя какие-то планы?
– Да нет, могу, конечно. Я всегда с ним. Просто…
– Я-то думал, на этот вечер у тебя свои планы. В общем, я не против. Пусть приезжает на неделю раньше. Мне это вполне подходит, есть дела в Голландии… Не важно. Все в силе, только на неделю раньше. Дай мне его.
– Спасибо, – на проводе уже Лео. – Я знал, что ты все устроишь.
Аппарат довольно покрякивает.
Фредерика сердито уходит на кухню.
Лео возвращается из очередной поездки в Брэн-Хаус. Его рыжая голова острижена и обрита, да так, что хорошо просматривается бледная макушка. Фредерика в ужасе. Она ловит его в объятия, а он, как всегда, прижимается к ней, крепко-крепко, почти душит.
– Что они с тобой сделали?
– Пиппи сказала, что я похож на девочку. И на эльфа или на хиппи какого-нибудь. Она сказал, что сделает из меня маленького джентльмена.
– Тебе нравится?
– Не очень-то. Холодно. И мне кажется, я выгляжу глупо. Хотя у Климента тоже волосы короткие. Он кудрявый. А мои болтались. Давно пора к парикмахеру, Пиппи сказала.
– Тебе в парикмахерской не нравится.
– Нет. Эта жужжалка на шее. Пиппи стригла ножницами и бритвой. Она говорила: «Полюбуйся, как у меня получается». Всем понравилось. Но мне холодно, дует, и вообще у меня голова как будто без волос. Они же потом вырастут?
– Вырастут.
Климент и Атанасий, которого называют Тано, уже сделали своего Гая Фокса и теперь таскают его по близлежащим улицам в сломанной каталке. «Монетку для Гая», – просят они у метро, у выхода к Хэмлин-сквер. Чучело сделано из выцветшей, чайного цвета подушки, на которую натянули зелено-оранжевую рубаху с попугаями и пальмами. К «плечам» прилажены безвольно болтающиеся розовые резиновые перчатки, а снизу к качающемуся тулову приделаны детские туфельки, все дырявые. Лицо – маска из яркой оранжевой бумаги, раскрашенная фломастерами: круглые глаза, колючие ресницы, лихо закрученные усы. Маска приделана к продырявленному футбольному мячу, на макушке которого красуется бейсболка с надписью «Проснись и пой!». Агата, выйдя из метро, изучает это творение критическим оком.
– Ну хорошо, монету я дам вам – что-то действительно сделано. Другие умудрились выпрашивать награду, просто нарисовав рожицу на коробке из-под стирального порошка. Но в вашем чучеле меня удручает его безрукость и безногость. Вечером принесите, еще над ним поколдуем.
В назначенный час Климент и Тано являются на своем скрипучем передвижном средстве, и Агата помогает им начинить старое трико макулатурой. Ноги Гая обретают андрогинную округлость, руки получаются тоже полные, плотные. Агата рассказывает Фредерике, что болтающиеся перчатки-культяпки вызвали у нее жалость и ужас, «будто насмешка над жертвами талидомида»[201]. Вообще, вся эта возня с гаями фоксами ей претит: праздновать сожжение жалкого заговорщика, пойманного столетия назад, Фредерика согласна, но вспоминает, что в детстве это было всегда весело, особенно после войны, когда вновь можно было запускать фейерверки. И я не хочу, говорит она, лишать их того, что было у нас. Но как подумаешь: пальцы и все внутренности этого человека горят и шипят – какой ужас, какая боль, зачем все это? Да, соглашается Агата.
Персонажи «Бегства на Север» достигли непроходимой преграды из льда и камня, отвесных обледенелых скал, холодных и угрюмых. Они находят приют в Последнем Селении, немногочисленные жители которого ютятся в ледяных халупах вокруг небольшого гейзера на берегу небольшого озера посреди бескрайней мерзлоты. В самых глубинах озера, где вода теплее, водятся кораллово-красные рачки и синие со стальным отливом рыбешки. Их едят умеренно, по большей части в особые дни. Местные жители все кругленькие, с очаровательными складочками жира вокруг запястий, локтей и колен. У них розовато-красные лица с круглыми щеками-яблочками, которые выглядывают из капюшонов из шкуры медведя, лисицы или куницы. С виду они жизнерадостные, но только с виду. Компания странников и беглецов пополнилась: меж них появился старый-престарый и весь выпачканный в грязи Дрозд, который говорит только по собственному желанию, то бишь весьма редко; Ворон, чью речь понимает только Артегалл и которому он до конца не доверяет; странного вида собака, серая и временами невидимая, которая окажется, считает Саския, настоящим Волком; и, наконец, удивительное существо, найденное Марком в пещере на болоте: иногда оно выглядит как миниатюрный, похожий на жабу дракончик, а иногда просто как камень, на ребрах которого – под «бровями» – блестит кварц. Оно размером с доброго кота и в своей каменной ипостаси весьма увесисто. Марк, которому приходится его таскать, не раз пытался избавиться от лишнего груза, но Дрозд убежден в том, что оно им обязательно пригодится. К тому же камень обладает полезными свойствами: например, с его помощью можно разжечь костер даже из отсырелых дров. Не так давно появился среди них некто Ясенций, который так же легко переходит в человекоподобную форму и обратно, как Камнедрак – из камня в ящера. Фраксиний в полтора раза выше всех мужчин, при этом долговяз и тощ. Все в нем будто бы раскрашено в бледно-желтые, желтые и коричневатые оттенки: зубы цвета жженого сахара, губы цвета слоновой кости, густые соломенные брови, ячменного цвета глаза с поволокой, спутанные, грязного цвета волосы до плеч – «будто холм, с которого только сошел зимний снег». Он похож то ли на метлу, то ли на швабру, то ли на вешалку и передвигается (когда его видят) медленно и со скрипом, но, когда никто не смотрит или смотрит лишь краем глаза, он будто бы парит в воздухе, как измятая соломинка на ветру. Ни Ясенцию, ни Камнедраку Последнее Селение не подходит. Ясенций коротает часы в углу, похожий на сломанную лестницу, все бледнея и ссыхаясь в дыму негаснущего очага. Камнедрак лежит камнем. Дрозд прячет голову под крылом. Ворон сообщает, что жители Последнего Селения готовят большой праздничный костер на склоне горы близ черного ледяного откоса.
Климент и Тано теперь тоже слушают историю. Саския сначала возражала, но потом сменила гнев на милость – ведь речь, в конце концов, не о заветном чтении перед сном, а о промежуточном перечитывании и почти всегда драматических поворотах сюжета, которые оставляются на воскресный полдень. Агата считает, что «воскресные повороты» очень увлекательны, все равно что придумывать эпизоды к романам вроде «Идиота» или «Домби и сына». Обычно история никак не связана с повседневной жизнью рассказчика и слушателей, но в этот раз праздничный костер сооружают попутно с костром посреди Хэмлин-сквер.
Агата сидит на диване, на ней бархатная блузка, похожая на сюрко средневекового пажа, и серебристые трикотажные брюки. Темные волосы распущены и обрамляют лицо. Саския свернулась калачиком напротив. Климент и Тано уселись рядком у камина. Фредерика и Лео в кресле.
Марк и Артегалл вызвались помочь селянам собрать дров для костра, но те угрюмо отказались: костер должен быть делом исключительно их рук. Дрова приходилось возить издалека – для костра годилась только сухая, мертвая древесина, привозили ее на санях из шестов, грубо связанных кожаными ремнями. На Грюнерской пустоши деревья почти не росли, все больше чахлый приземистый терновник, цепляющийся за жизнь, стелящийся по ветру, который вечно гулял в его колючих ветвях, унизанных льдинками-алмазами.
Доль Дрозди свела знакомство со старой селянкой по имени Трогга, которая обыкновенно, пыхтя и кутаясь в меха, лежала на шкурах возле огня и жарила козий сыр или дремала. Селяне с Троггой и словом не перемолвятся: принесут кувшин воды, а иногда жареную ножку кролика или крысиную лапку, а там словно ее и на свете нет. Может, по этой причине она была не прочь поболтать с Доль Дрозди, и та услышала от нее кое-что новое о праздничном костре.
– Зажигают его в самую долгую ночь, за час до полуночи, – рассказывала старуха. – Выдастся удачный год – на заре стряпаем коренья, печем лепешки, жарим на угольях куропаток. Если огонь горит ярко, значит весна придет. Ты, поди, смекнула: не каждый год к нам приходит весна. Иные из молодых уж и не упомнят, когда она была. Но в удачный год она приходит, и солнышко золотится и пригревает весь день, а то и несколько дней, а то и недель, и тает лед, и бегут ручейки, полные съедобной ряски, а из земли вырастают разные травы, цветы, кустарники, и небо уже не свинцовое, как сейчас, а голубое, как яйца дрозда.
– Нелегко будет в этом году развести костер, – сказала Доль Дрозди. – На дворе студено, мокрый снег с ледяным дождем, а как стемнеет, все замерзает.
– Дрова укрывают шкурами, – ответила Трогга, – но от сырости они не спасают, да и промозглый ветер костру помеха.
На лестнице шаги. В дверь просовывается светловолосая голова, на лице едва заметная улыбка. Джон Оттокар.
– Я стучал, но никто не отозвался.
– Мы тут книжку слушаем, – почти укоризненно сообщает Лео.
Джон Оттокар снимает пальто. Под ним – его яркий, разноцветный свитер. Он вступает в круг:
– Можно мне тоже послушать? Не обращайте на меня внимания. Я просто посижу. Хорошо?
Держится вежливо, на Фредерику поглядывает осторожно, садится на ковер за креслом. Она запускает руку в его густые светлые волосы. Агата раздражается. Краснеет. Ну, не знаю, произносит она. Но Лео и Саския просят: «Давай дальше». Агата пожимает плечами и продолжает. Трогга учит юношей прыгать через костер. Чем выше прыгнешь, тем светлее будет год. Погода портится.
Никогда еще путники не видели ничего подобного: ледяной дождь вперемешку с градом, мерзлая морось, от которых днем – а дни стояли короткие – стены снежных хижин напоминали поверхность подтаявшего ледника, а ночью одевались ледяной броней: притронешься ненароком – пальцы обожжешь. Селяне уже поглядывали на пришельцев косо, пошли разговоры, что это они принесли несчастье, что, пока они тут, костру не бывать. Трогга рассказала Доль Дрозди, что они уже втайне сговариваются прогнать пришлецов обратно на Грюнерскую пустошь. Или хуже, добавила Трогга, но что значит «хуже», не объяснила.
Джон Оттокар устало вздыхает и прислоняется головой к подлокотнику Фредерикина кресла. История идет своим чередом: жители селения ропщут – время разводить костер, а дрова отсырели, а факелы, которые они берут с собой, гаснут на влажном ветру. Ворон подсказывает Артегаллу, что праздничный костер может разжечь Камнедрак, на что Артегалл ворчит: может, конечно, когда он дракон, но сейчас он камень, просто камень, и ничто не в силах его оживить.
– Способ есть, – сказал Ворон. – Возьми его и ступай к гейзеру, опусти в воду, обмой со всех сторон, и он раскаменеет. Это же саламандра, а горячие воды гейзера для саламандр родная стихия: они придают им силы.
И мальчики отнесли увесистый камень к озерцу вокруг гейзера, бережно, не выпуская из рук, погрузили в горячие бурлящие воды. И пальцы их ощутили, как в камне затеплилась жизнь: под шероховатой кожей побежала по жилкам кровь, забилось сердце, тело затрепетало, выпустило маленькие лапки и куцый хвост, какого у Камнедрака не было, и каменная жаба вывернулась из рук и решительно ушла вглубь. Повисло молчание. Было слышно лишь, как клокочет гейзер.
– Там ему хорошо, – сказал Марк. – Там ему сил прибавится. Ну всё: поселится там и будет питаться креветками.
Артегалл склонился над водой, вгляделся и сквозь клубы пара и бурление различил устремленный на него взгляд золотых глазок.
– Камнедрак, Камнедрак, помоги разжечь костер.
И зверек – блестящее, упругое, золотисто-оливковое тело с огнистым гребнем – медленно поднялся из глубины. Артегалл завернул его в свой плащ и поспешил обратно, продираясь сквозь заледенелые кусты, карабкаясь по склону, обливаясь пóтом: мокрый зверек, завернутый в мокрый плащ, оказался не только тяжелой, но и жаркой ношей.
Валил мокрый снег. Собравшиеся селяне взирали на огромную гору поленьев, умело уложенных, но из-за снега отсыревших. Кто-то сказал, что на памяти человеческой не было случая, чтобы праздничный костер не загорелся. Кто-то сказал, что для костра нужны деревья семи разных пород, на сей же раз не вызывают сомнения только шесть пород, кроме них есть еще пара веток, но была ли это седьмая порода – роговое дерево, – поручиться нельзя: встречается оно редко и морозов не переносит. Тут Артегалл вышел вперед и попросил разрешения оказать помощь: он знает средство, как разжечь костер. Один старик сказал, что зажечь его можно только от головешки, оставшейся от прошлогоднего костра, который зажигали головешкой от костра позапрошлогоднего. Одна старуха полюбопытствовала, что это за средство, и Артегалл развернул свой плащ, уже попахивавший паленым, и все увидали живое существо с бугристой серо-зеленой кожей, а под ней словно пылали жаром красные и золотые уголья. И сказала старуха, что этот волшебный дракончик послан им неведомыми силами и дар этот надо принять, но старик возразил, что от того дара добра не жди: это угроза их стародавним обычаям. Однако все так озябли и отчаялись, что вопреки своей вечной косности прислушались к словам старухи. И Артегаллу позволили посадить Камнедрака на большой камень возле груды поленьев, и Артегалл попросил его сделать что в его силах, помочь, если может, а сам отступил назад. И Камнедрак припал к камню, налился жарким сиянием, вздрогнул, открыл пасть и с силой выдохнул. И из пасти, как язык хамелеона, изверглась словно бы струя жидкого пламени, образовавшая волнистую петлю, и петля эта захлестнула груду поленьев раз, другой, третий. Камнедрак закрыл пасть, но петля из жидкого пламени по-прежнему стягивала сырые дрова. Дрова зашипели, затрещали, задымились, оделись огненными почками и ростками. И вот уже пламя ревело и ярилось так, что не унять никакими силами.
В жизни не видели селяне такого костра. Пристроившись с края, они жарили мясо, пекли булочки из муки и топленого сала, а наверху, в темном небе плясали языки пламени, красные, желтые, с изумрудными и ярко-синими прожилками, вихрились и развевались под ветром. Всю ночь продолжалась эта пляска, а ближе к рассвету, когда огонь был еще достаточно высок, молодежь затеяла прыгать через костер, бросая при этом в уголья камешки, то черные, то белые. И девушки прыгали, и женщины: в этих краях они носили штаны – какие там юбки в такую стужу, – а наблюдавшие затянули под звуки маленького барабана и костяной флейты раскатистую, протяжную песню, но прыжки становились все быстрее, все бесшабашнее, и толпа пустилась отплясывать какой-то народный танец, уже в другом ритме. А одна лихая девица ухватила за руку Марка и потащила его прыгать вместе с ней; страшно было ему пролетать над грудой, пышущей жаром, откуда тянулись к нему языки пламени, он опалил брови, закоптил ресницы, глаза заслезились. А Артегалл разбежался немного, прыгнул, перескочил и шлепнулся в золу, взметнув вокруг себя тучу искр. А два дюжих парня подхватили Доль Дрозди, подняли ее высоко, словно она кожаный мех, наполненный воздухом, она зажмурилась, ощутила жар, а когда открыла глаза, увидела черную морозную ночь, озаренную огнем костра.
А когда все отпрыгали, двое парней привели-притащили тщедушного Ясенция. Тут выступила вперед Доль Дрозди и сказала, что Ясенцию прыгать нельзя: вон он какой хворый и телом сух, как трут, и в селении он чужак. Но селяне не уступали: пусть прыгает, все прыгали, а он нет. Ясенций же стоял с очумелым, потерянным видом, кудлатые волосы его разметались по плечам, руки висели как плети. И проговорил он своим странным, с присвистом, голосом:
– Извольте.
– Если свалишься, мы вытащим, – пообещали парни не так чтобы очень участливо: каждый уже представлял, как заполыхает иссохшее тело, когда упадет на горячие уголья.
– Он же вон какой сухонький, – снова сказала Доль Дрозди. – Огонь на него так и накинется.
– Огонь сам выбирает, на кого кидаться, – сказала старуха. – Не захочет – не тронет.
– Извольте, – повторило существо и, вырвавшись из державших его рук, неуклюже заковыляло к праздничному костру.
У костра оно подпрыгнуло, стало подниматься выше, выше, как сухой лист, подхваченный ветром, и вот уже парило на фоне ночного неба, которое к тому времени посветлело и сделалось из черного темно-синим. Ясенций плыл над пылающими поленьями, как большая летучая мышь или сова, и все только ахали, так он был легок, воздушен, невесом. И вдруг он кубарем полетел вниз – не за костром, а в самое пекло. Пламя жадно набросилось на него и лишило сил. Волосы, руки, ноги – все занялось, и пылающая фигура окуталась клубами дыма. Доль Дрозди залилась слезами, Марк метнулся к костру, призывая на помощь. Но Ясенций стоял, объятый пламенем, и на глазах у всех преображался: пламя, лишая его сил и облика, придавало ему облик и силы. В красных его отблесках он стал зеленым, тусклые волосы сменились кроной из молодой листвы и вьющихся стебельков, раскинутые руки-сучья осыпались зелеными почками, ноги сделались крепкими, зелеными, живыми стволами, подпирающими гибкое, как бы струящееся туловище, покрытое изумрудным мхом, а над ним улыбалась золотисто-зеленая маска, изо рта и из глаз которой тянулись зеленые побеги, а над ней блестела листвой зеленая крона. И когда существо это приобрело окончательный вид, оно твердым размашистым шагом выступило из пламени, и перед толпой предстала высокая зыблющаяся фигура с копной изумрудных волос, закутанная в огненный плащ, вьющийся следом. И, оставив толпу жителей Последнего Селения, оставив своих спутников, существо приблизилось к непреодолимой скале и коснулось ее рукой. И ударил из этого места поток зеленой огненной влаги с водой от талого льда, и потек, словно лава, расплавленный камень. И расселась скала, или протаял в ней высокий узкий проход, а в нем гранитные ступени вели в тоннель, по сторонам которого тянулись ряды колонн, а стены словно бы образованы сплетениями извилистых корней из зеленого-презеленого льда, и, когда существо проходило мимо, стены эти ярко сверкали и отражали пламень листвы. Дойдя до конца, существо погрузилось в недра горы, и свечение, мигнув, померкло.
И начал костер угасать, и озарилось небо огнем рассвета, и грозно чернела расселина, чернела и не смыкалась.
Агата зовет всех перекусить. Джон Оттокар признается, что с удовольствием бы остался; они с Агатой обмениваются улыбками. Фредерика отчасти довольна: ей хотелось бы, чтобы Лео познакомился с Джоном Оттокаром в спокойной, непринужденной обстановке. Она благодарна Агате. Она также видит, что Джон Оттокар оценил красоту Агаты. Она помогает Агате приготовить стол на скорую руку. Сама не смогла бы: у нее только яйца, немного сыра, фрукты, два кусочка курицы. Агата делает большой салат: рыба, фасоль, яйца, зелень, помидоры. Климент и Тано говорят, что им пора домой. Им надо в церковь, мямлят они. Они католики, но не из тех, кто против Ночи Гая Фокса. Агата предлагает приготовить к салату блинчиков. Фредерика взбивает тесто.
– Кажется, он очень славный, – говорит Агата Фредерике.
– Мы с ним просто встречаемся.
– Но ведь тебя это устраивает?
– Он не предупреждает, когда придет, когда нет.
– А ты бы хотела?
– Я не хочу хотеть. Я не хочу, чтобы это для меня что-то значило. Не могу себе позволить… – Не окончив фразы, она начинает другую: – Но это не очень-то удобно, когда не знаешь, придет человек или нет.
– Ты можешь его попросить?
– Не знаю. – Она задумывается. – Едва ли какой-либо ответ будет иметь смысл.
– Неизвестность изматывает, чего только в голову не лезет. Лучше не доводи до этого. Знаю: сказать легко, а вот сделать…
– Но он правда очень славный.
– Красивый – это точно. Впрочем, и славный, кажется.
К Агате так мужчины не ходят, ни стар, ни млад, думает Фредерика. А Саския будто бы рождена в результате партеногенеза. Но такого быть, разумеется, не может. Кто-то где-то есть или был. Расскажет как-нибудь? Вряд ли.
В гостиной Агаты Джон Оттокар учит Лео и Саскию играть в «камень, ножницы, бумагу».
– Протягиваете руки, – объясняет он.
– Одновременно, – выговаривает Лео.
– Одновременно, – кивает Джон Оттокар.
Его гладкие золотистые волосы спадают на лоб. Он показывает. Плоская ладонь – бумага. Вытянутые на манер вилки пальцы – ножницы. Сжатый кулак – камень. Ножницы режут бумагу, камень тупит ножницы, бумага оборачивает камень. Дети очарованы. Каждый выбрал свою стратегию. Лео всякий раз меняет фигуру: он камень – ножницы – камень – бумага – ножницы – бумага – камень – бумага. Саския терпеливо держится одной: бумага – ножницы – бумага – ножницы, потом вдруг ножницы, потом камень – ножницы – бумага – ножницы. Джон Оттокар смеется и ведет счет.
– Я в вашем возрасте в это играл со своим братом, – рассказывает он.
– Кто выигрывал? – спрашивает Лео.
– Никто. У нас всегда было одно и то же. Один в один. Двое ножниц, две бумаги, два камня.
– Так скучно, – замечает Лео.
– Не скучно: обидно. Игры не получалось.
– Это у нас с Лео так, когда мы играем на блокфлейте. Потому, что мы только две ноты и знаем: «ре» и «ми».
– Что-то вроде этого. Мы тоже на блокфлейте играли.
Он остается и до вечера тихо играет с детьми. Вырезает ножницами деревья из газет, вклеивает в книгу картинки с динозаврами, болтает с Агатой и Фредерикой. Соглашается вместе поужинать и помогает уложить Лео, сидит в углу спальни, подальше от света, и слушает, как Фредерика читает про крота Серошкурика, ежика Ощетинкера[202] и древнеримскую монету. И вот Лео уложен, и он идет за Фредерикой к ней в комнату, опускает жалюзи, берет за плечо. Фредерика поворачивается, она словно комок нервов. Он уверенно кладет руку ей на шею, на ягодицы, уверенно прижимается губами к ее губам, прижимает ее тело к своему. Тело его согревает, горячит. Она отшатывается, отводит губы и произносит заплетающимся языком:
– Так нельзя.
– Что нельзя? Что? Что тебя беспокоит? Все нормально, нормально.
Он изо всех сил старается, чтобы их тела – даже в одежде – слились воедино.
– Нельзя нам. Лео. Лео. Я не могу. А ты – вот так запросто…
– Хорошо. Садись рядом. Посидим, успокоимся.
Садятся на диван. У неудовлетворенного желания свой трепет, своя прелесть. И они наслаждаются. Не раздеваются, не занимаются любовью. И когда заглядывает сонный Лео, бормоча, что никак не может уснуть, он не замечает ничего предосудительного, не чувствует острого запаха, не видит тел в таком виде, в каком видеть не нужно. Перед ним только крупный улыбающийся мужчина в разноцветном свитере и худая рыжеволосая женщина в шоколадной рубашке и бархатных сиреневых штанах.
Они не разговаривают, пара слов – и все. Просто сидят, сидят рядом. В полночь Джон Оттокар собирается уходить. Уже на лестнице Фредерика говорит:
– Лео на следующих выходных не будет. Приходи…
– Не смогу. – И кажется, больше он ничего не скажет. Но он продолжает: – Я буду на одном выездном религиозном мероприятии. Группа собралась. Квакеры, кое-кто с Цейлона, доктора. Доктора – это впервые. Я… я на этих собраниях бываю, когда приглашают. И на этот раз пригласили. В эти выходные.
– А где это? – спрашивает Фредерика; спросить «Зачем?» язык не поворачивается.
– Какая разница? Есть такая обитель, называется «Дебри», в бакингемском поселении квакеров Четыре Пенни. Знаю, названия те еще. Но названия, слова – пустяки: взять и переименовать. Я хотел тебе рассказать, но подумал, тебе не понравится, неинтересно. Религия ведь – это не твое.
– Я ничего против религии не имею.
– Нет? Тогда на досуге расскажешь, как ты к ней относишься. Мне иногда кажется, что имею, но она есть, и от нее так просто не отмахнешься.
– Я и не пытаюсь.
Он смотрит на нее так, будто большего скептика в мире нет.
– Напрасно я об этом заговорил. Тем более мне запретили…
– Джон!
– Ну вот, уже злишься.
– При чем тут я, если ты сам не разобрался еще?
– Да, это я зря. Виноват. Ну, иди ко мне. Обними меня. И ничего не говори. Так лучше. У нас с тобой настоящее. Не знаю, что это, но настоящее.
Ее растревоженное тело больше не чувствует прежнего трепета. Он гладит ее по спине, но пламя где-то затаилось и мерцает тускло. Его теплая рука бесшумно и неожиданно оказывается у нее между ног, он слегка сжимает ладонь, ждет, когда участится ее пульс, когда расслабятся мышцы, и произносит:
– Вот. Настоящее. Помни. Я пошел.
Уходит.
Фредерика, в общем-то, довольна тем, что Джон Оттокар и Лео познакомились именно так, в присутствии других, будто иначе и быть не могло. Это не потому, что она хочет сблизить сына с любовником, а просто не нравится ей общаться с Джоном Оттокаром украдкой. Она не хочет включать Джона Оттокара в намечающееся трио: мужчина, женщина, ребенок. Кому это понравится? Просто хочется, чтобы все было просто и дружелюбно. Поэтому она рада еще нескольким внезапным появлениям Джона как раз в те моменты, когда присутствуют и Лео, и Саския, и Агата. Один раз они даже все вместе сходили в Музей естествознания: две женщины, Джон Оттокар, мальчик, маленькая смуглая девочка. Фредерика чувствует, как выстраивается нечто пока хрупкое, более-менее устойчивое и осознанное. Однажды вечером, за ужином, она предлагает Лео:
– Позовем Джона Оттокара на костер?
– Нет, он мне не нравится, этот Джон Оттокар.
– Лео! Почему? Он тебя научил играть в камень-ножницы-бумагу…
– Когда никто не видит, он строит мне страшные рожи.
– Вот еще!
– Через окно. И как будто бледнеет. И строит насмешливые рожи.
– С чего бы ему?
– И как он пахнет, мне не нравится. Он плохо пахнет.
– Лео!
– Ты меня спросила. Сама спросила. Хочешь, чтобы он пришел на костер, позови. На улице его запах не заметишь. Дым и все такое.
– Не хочешь – не приглашу.
– Я не говорил, хочу или не хочу. Просто ответил. От него воняет.
Фредерика подумывает обсудить с Агатой, не получилось ли, что, несмотря на их с Оттокаром осторожность, Лео уловил запах интимных отношений. А может быть, он просто сказал самое гадкое, что пришло в голову, – но действие оно возымело: теперь Фредерика не может думать о Джоне Оттокаре, не задаваясь вопросом о запахе, реальном или выдуманном, о том, чем же он пахнет.
Наступает ночь костров. Агату и Фредерику навестили Джайлз и Виктория Эмплфорт, которые живут в симпатичном белом домике на углу Хэмлин-сквер – одном из тех, что с приоконными ящиками, вечными жертвами местной шпаны, с заново отделанными георгианскими ставнями и латунными кольцами-ручками. Джайлз и Виктория хотят праздновать вместе со всеми, внести свой посильный вклад, боятся оказаться среди соседей изгоями: они хлопочут о внешнем благоустройстве улицы, против чего яростно выступает местное отделение Лейбористской партии, даром что ее члены из муниципальных чиновников – во всяком случае, некоторые из них, и даже некоторые члены парламента от лейбористов – вовсю отделывают собственные дома в ленточной застройке на угрюмых площадях юго-восточного Лондона. Джайлз – архитектор, худой и вечно оправдывающийся, волосы как пыльная солома, очки в роговой оправе, но под этой внешностью скрывается человек, решительно вознамерившийся восстановить, спасти, украсить все дома на Хэмлин-сквер. Виктория – владелица детского магазинчика «Одежки и зверушки», который причудливо приютился между свирепым зеленщиком-кокни и пакистанской аптекой. В ее магазинчике продаются нарядные платья и кофточки, а также оскалившиеся чучела львов, тигров и белых медведей собственного изготовления. Джайлз хочет подружиться с Аждьепонгами и Аттерами, со всем матриархальным коллективом безработных, которые живут за грязными парчовыми занавесками в доме номер семнадцать, без мебели и ковров – хотя порой из окон вылетают стулья, и кое-что из них пошло для костра. Виктория приготовила чашки с теплым пенистым сидром, в котором плавают яблоки, и подносы с темными, горелыми, липкими ирисками. На улицу выносить не хочет, боится – не примут. Агата успокаивает: попытка не пытка, ириски любят все. Но средний класс затаился за шторами, дожидаясь начала праздника, а начался он, когда Киран Аттер поджег посреди груды дров пропитанную бензином оберточную бумагу и пламя взметнулось ввысь. С разных сторон взлетают ракеты, и букеты красных искр, зеленые фонтаны, серебряные гейзеры с шипением вспыхивают и рассеиваются по черному бархату неба. Фредерика и Лео выносят коробку с фейерверками, шутихами и петардами. Лео и Саския торжествующе размахивают бенгальскими огнями. Кто-то кричит, что-то шипит. Костер разгорается, начинает трещать и полыхать. Люди выходят, стоят любуются, а дети с визгом бегают туда-сюда, прячутся за машинами. Виктория Эмплфорт, осмелев, разносит на подносе свои ириски, и они идут нарасхват. Окончательно расхрабрившись, она выносит крепкий складной стол, на котором расставляет польские эмалированные кружки – алые, зеленые, синие – со своим теплым сидром. В небе – багровый дождь, посверки серебряных стрел, жужжащие синие мухи. Гай – творение рук Климента и Тано – пристроен к костру на гнилом плетеном стуле, к которому он примотан бечевкой и шерстяной нитью для вязки.
– Как жертвоприношение у друидов, – замечает Агата.
Гай пока улыбается: пламя еще его не коснулось.
– Хорошо, ветра нет, – говорит Джайлз Эмплфорт. – Великоват костер для такой улицы. Надо бы ведра с водой принести.
– У миссис Кеннет сегодня на кухне брандспойт наготове, – говорит Кэрол Аттер. – Как, впрочем, и всегда. – Она отхлебывает пива и добавляет: – В прошлом году двое ребят себе волосы опалили. А у одной машины краска слезла.
– А чей это «остин»? – спрашивает Виктория. – Он вроде всегда тут, но никому из местных не принадлежит.
Фредерика выносит корзину с печенными в духовке каштанами: тоже любимое всеми лакомство. Лео хочет рвануть петарду, но Фредерика не разрешает.
Небо похоже на золотой луг, кишащий багряными змеями, на огромный веер серебряных листьев; оно – цвета индиго и подсвечено оранжевым и светло-коричневым, охряным и алым.
Пьют теплый сидр, из пластиковых стаканчиков – красное вино из картонной коробки с краником, эль из бутылок, случайно купленный лимонад, кока-колу с ромом, сладкий херес, яичный ликер. Климент и Тано раздобыли китайские петарды, Брайан Аттер цепляет одну к ветке дерева рядом с «остином», и она взрывается, трещит и крутится. Лео от страха плачет, а лысый человечек с усами кричит: «Осторожнее с моей машиной!»
Дым от костра заволакивает улицу. Люди держатся за руки и поют «Дорогую Клементину»: единственную песню, слова которой каждый англичанин знает почти до конца. На другой стороне сквозь дым Фредерика видит Джона Оттокара, в его разноцветном джемпере: он наклоняется, будто что-то зажигая, выпрямляется и машет ей за клубами серого дыма. Посерьезнев, она идет к нему. Зажженное не взлетает в воздух, не взрывается. Горит степенно, словно столп синего пламени.
– Игинк, – произносит Джон.
Новый род искусства. Сожжение книг. «Книги» задом наперед. Фредерика морщится. Всякая всячина в мягких обложках. На обложке верхней книги – женские груди, стянутые черной шнуровкой, лица почти не различить. Под ней – «Мужество быть» Пауля Тиллиха[203], а ниже – «Быть честным перед Богом» епископа Робинсона.
– Не люблю, когда жгут книги, – говорит Фредерика.
– Потому и «игинк». Мало ли кто что жжет, если не знаешь, что это. – Он поднимает бокал вина чернильного цвета. – За Гая Фокса. Здорово он придумал. Взорвать все к чертям. Изнутри. Только тогда и начнется настоящая жизнь. В языках пламени. Богоявление.
– Ты пьян.
– Нет. Ты – не знаю. Давай потанцуем.
Он хватает под руку кого-то из танцующих, хватает под руку Фредерику, тянет ее в круг. Она чувствует запах его подмышек, едкий, кисловатый, и другой запах – запах ладана, терпкий, сладкий, такой сладкий. Она пытается освободиться, но он тянет ее к себе. Голова запрокинута, красивое лицо разрумянено отблесками огней.
– Потанцуем?
На другой стороне в клубах дыма, в цветастом свитере, стоит Джон Оттокар.
Не выдержала она долгожданного испытания.
* * *
Мальчишки, черные, белые, все в саже, носятся туда-сюда как чертенята. Джон Оттокар тянет Фредерику в круг, а жители Хэмлин-сквер, размякшие от вина, пошатываясь, поют. «Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней»[204].
XVI
В середине второго дня Розария и Нарцисс прервали свой стремительный побег: отдых нужен был и коням, и всадникам. Стояла поздняя весна, день дышал надеждой. Путники одолели узкую часть горного перевала, и перед ними открывалась теперь равнина, где приветные кудрявые рощицы перемежались с полями в зеленеющих всходах и сенокосными лугами. На каждом дереве заливались птицы, чьи нежные горлышки, казалось, готовы были разорваться от трелей и пересвистов, от вибрато и глиссандо, украшающих их неизменный мотив. Бабочки порхали с цветка на цветок и плыли по воздуху вдоль луговой кромки. Кузнечики скребли ножками, издавая сухой, однообразный звук. Путники нашли каменную колоду, в которую сбегал, петляя средь замшелых камней, чистый ручеек. Невдалеке росла дикая вишня, нагруженная спелыми ягодами, которых Нарцисс нарвал целую шляпу. Розария тем временем вынула фляги с вином и водой, сухари, колбасы, сыр. Наконец они были свободны! С восторгом они предвкушали свою первую трапезу, и пища показалась им отменной. Они с новым любопытством разглядывали друг друга, не смущаясь дорожной пылью и пятнами на одежде. Не так давно красота Нарцисса казалась почти чрезмерной: золотисто-смуглое лицо с высоким лбом окружали роскошные иссиня-черные кудри, похожие на гроздья винограда. Крупные виноградины глаз осенялись длинными темными ресницами с виноцветным[205] отливом и дивно изогнутыми бровями, за которые многие дамы заплатили бы не только золотом, но которые, увы, составляют почти исключительно достояние мужского пола. Щеки были гладки, подбородок вылеплен превосходно и украшен ямочкой, а над ним припухлый юный рот складывался в прихотливую гримаску. Суровый опыт, однако, сгладил ямочки и мальчишескую округлость черт. В лице Нарцисса проглянула меланхолия, углы рта опустились, нижняя губа выступила тверже. Розария находила в нем теперь притягательность и загадку, какой не было в дни его юной красоты, слишком победительной и потому нехитрой. Зубы, которыми он надкусил сухарь, были по-прежнему белы. Шея окрепла, под кожей явственно было движение мышц. Вместо поросенка с шелковистой щетинкой, вместо хрупкого олененка Розарии представал молодой олень.
Не столь счастливо было превращение самой Розарии. За трапезой она не сняла капюшона и сидела, оборотясь к солнцу спиной. В необычайные, дивные и страшные дни, проведенные ею в Ла Тур Брюйаре, нежное загрубело, а тугое обмякло. Проступили жилы, которые непривычно видеть у дам, живущих в достатке и холе, – не столь непристойны или, верней, неподобающи казались бы обнаженные цветущие сосцы или округлый, сливочно-белый живот, ибо молодость есть главное украшение женщины (о чем советую помнить дамам, особенно немолодым). Розовые бутоны нег, венчавшие алебастровые холмы ее грудей, отцвели, да и сами холмы осели, обнаружив пологие скаты и прискорбные ложбины. Где прежде белели снеговые вершины или румянились налитые персики – пускай читатель сам подставит приятный ему образ, – кожа сделалась похожа на замшу (материал, к слову сказать, прелестный). Впрочем, под дорожным платьем корсет придавал увядшим персям Розарии юную округлость, талия была на диво тонка, а бедра, слишком худые, пожалуй, для вкусов того времени, сулили именно потому крепкий захват и неутомимую резвость. Так думал Нарцисс, оглядывая доступное взору, а недоступное воображая благосклонно и щедро.
– Однажды минувшее покажется нам дурным сном, – проговорила Розария, надкусывая колбаску и рассеянно перебирая вишни.
– Но забыть его мы не смеем, – отвечал Нарцисс. – То был полезный урок и предостережение от любой чрезмерности. Мы видели, что чрезмерная свобода ведет к унижениям и рабству. Наш долг – вернуться в свет и проповедовать умеренность во всем.
– О нет, с меня довольно. Я сделаюсь квиетисткой. Поселюсь в глуши, в розовом домике, подальше от людей с их вечной борьбой и грязью. Вы можете, коли угодно, проповедовать, а я от всего, от всего отрешусь…
– Вы слишком прекрасны, чтобы отрешиться от всего, – со значением сказал юный Нарцисс, радуясь про себя, что избежал предательского «еще».
Розария с ласковой печалью глянула ему в глаза:
– Воистину, мой друг, от всего.
Возможно, не только уста, но и сердце ее говорило в ту минуту, однако Нарцисс, оглядывая ее изгибы, судил иначе. Он поднялся и удалился в рощу за известной нуждой, чтобы его орган мог потом послужить другой цели.
Розария блаженно утопала в травяном ложе. Ей слышался дальний смех. Смех заливистый, словно бы лающий, и с ним гомон радостных голосов. В одну мелодию слились пение, оклики, чей-то вой. И еще был звук чистый и певучий – рожок. Это хозяин здешний со свитой скачет на веселую охоту, думала Розария, но знала уже, что тут другое. Гомон близился. Она надеялась, что охотники минуют полускрывшую ее заросль, и знала, что надежда тщетна.
Когда Кюльвер выехал на опушку, Розария предстала ему в платье, алом от крови и мокром от слюны гончих. Рука, которой она отбивалась от собак, истерзана, платье разорвано от грудей до развилки бедер. Розария пыталась, как могла, прикрыть наготу.
– Бросьте, – проговорил Кюльвер. – Я видал вас более чем достаточно. Скромность неуместна, оставьте в покое и рваное тряпье, и обвислую плоть.
– Не скромность, а пристойность.
– На пристойность вы не имеете права, сударыня. Там, куда вы вернетесь, она вам будет не надобна. Самая идея пристойности изгнана нами давным-давно.
– Кюльвер, Кюльвер! Друг, которого я любила не менее, чем собственную кожу, за которого умерла бы с восторгом, почему вы препятствуете мне покинуть замок? Я не перебежчица. Ваши враги – мои враги. Попади я к ним в руки, они обойдутся со мной так же, как с вами, ибо некогда мы были одно – вам ли забыть об этом? Я постарела, милый друг мой, я ослабела. Я потому хочу уйти, что не могу больше играть свою роль в свободном устройстве жизни, положенном вами в Ла Тур Брюйаре. Мой пыл угас, но жива любовь и сочувствие делу. Я хочу жить уединенно в сельском домике, думать о великих надеждах, о славных днях, о славных ваших свершениях в сотворенном вами мире. Пусть другие сыграют роль, задуманную вами для меня. Другие, чье сердце жарче, руки сильней, взор ясней и упорней. Я бессильная тень, Кюльвер, я недостойна быть с вами. Но я помню, помню: скрываясь от революционных орд, мы замышляли нашу новую жизнь, и вы говорили тогда, что главным принципом ее будет совершенная свобода в гармонии воплощать самомалейшие желания души и тела. Пришло время, и я желаю отрешения. Одиночества, бедности, бездействия, скуки вседневного бытия – всего, что мы презирали и высмеивали. Я вижу теперь, что это пристало таким, как я, измятым, словно старое тряпье, высохшим, словно верстовые столбы. О Кюльвер, великодушный и проницательный Кюльвер! Может ли быть свобода без права покинуть круг свободных людей? Может ли быть гармония желаний без желания ничего более не желать? Отпустите меня, и потомки благословят вашу мудрость и милосердие!
– Лесть, – отрезал Кюльвер, глядя на Розарию с высокого седла. Конь его беспокойно заплясал, но суровый всадник сдавил ему бока железными коленями. – Слышали бы вы, сударыня, собственный голос – слабый, льстивый, лукавый! Вы лжете, желая спасти шкуру, которую теперь и спасать-то незачем, которая внушает лишь отвращение. И напрасно зовете вы меня мудрым и милосердным, напрасно хвалите установленный мною порядок! Я слышал ваши шепоты, ваши насмешки. Вы ненавидели наше дело и с первых шагов взялись сеять сомнения и всячески нам вредить. Мы не позволим вам вернуться в мир, охваченный немощью и смутой, и там очернять нас. Не позволим исподволь вести подкопы, разбавлять вино нашей решимости слюной трусости и слабодушия. Одно дурное звено портит всю цепь, стоит ему лопнуть, и цепи конец. Нет, сударыня, вы вернетесь в замок и примете кару, что я для вас избрал. Где этот щенок Нарцисс?
– Уехал. Меж нами была ссора, и мы расстались. Он уже далеко, – так в отчаянии говорила Розария, надеясь спасти молодого друга.
Тем временем Нарцисс замер в кустах, не окончив излияния. Сжимая в руке свой орган, он не смел ни шевельнуться, ни вздохнуть из боязни себя обнаружить. Последние слова Розарии донеслись до него, и он никак не мог решить, ринуться ли ей на помощь (тщетная затея – подъезжали все новые охотники) или остаться тут, приняв от нее дар спасения. Впрочем, Нарцисс мог бы сберечь высокие порывы: гончие учуяли запах, порскнули в кусты, впились в наготу, в прелестные руки, ее прикрывавшие, и растерзали их в кровавые лоскуты. Вслед за собаками явился Кюльвер. Он приказал посадить истекающего Нарцисса на коня и привязать к седлу. Так же привязана была Розария, в ее изорванном платье. Беглецов повезли обратно в замок.
– Мы могли бы попытаться спасти ее, – сказал Турдус полковнику Гриму.
– Ограничимся возможным. Не знаю, удастся ли самим нам спастись.
– Лучший исход для этой несчастной – скорая смерть, – вздохнул Самсон Ориген.
Но скорая смерть не была Розарии суждена.
– …А теперь, – сказал Кюльвер, обращаясь к пленнице, – я покажу вам механизм, который для вас измыслил. Все его тонкости, хитрости, дьявольски дивные пружинки и кочетки объясню чередом, ничего не пропустив.
Кюльвер хлопнул в ладоши. По этому знаку на сцену была ввезена тележка, на которой блестело, расширяясь книзу, уменьшенное подобие островерхой замковой башенки. К основанию башенки, словно завязки шутовского колпака, крепились кожаные шнуры со стременами.
– Когда эти шнуры будут надежно стянуты на ваших лодыжках, а стальные пряжки застегнуты, башенку мы поместим в мягкий футляр, для которого она сработана. И тогда на ее гладких боках откроются мириады крошечных ртов, а из них высунутся мириады язычков. Они примутся ласкать вас, сударыня, лизать, щекотать, нежить. Но недаром они из стали, недаром края их остры как бритвы – они будут также и резать, свежевать, кромсать, дюйм за дюймом вкрамсываясь все глубже…
Так объяснял Кюльвер. Башенка, говорил он, должна раскрыться у Розарии в лоне, расцвести снизу доверху затейливым множеством кисточек и бережных лукавых пальчиков, умеющих дать сладчайшую негу. А вслед за ними просунутся крохотные ножики, ножнички, щипчики, вилочки, заработают сбивалки для сливок и проволоки, которыми режут сыр, заелозят щупы и клещи. И каждый инструмент приводим будет в движение ее содроганиями, всхлипами, истечением влаг…
– Мы изучим переменные величины чувственного. Установим идеальное соотношение неги и муки, их наплывов и утиханий. Узнаем, верно ли, что от страха наслаждение разгорается помимовольно, что в смертный миг оргазм у женщины столь же неистов, как у висельника…
Розария слышала и читала о великой стойкости героев и героинь под непереносными пытками и справедливо полагала, что любая стойкость будет сломлена, если палач твердо вознамерится ее сломить. Но ей представлялся еще один случай говорить, прежде чем ее не станет, а то, что, как она надеялась, не слишком будет напоминать Розарию, продолжит жить во власти Кюльверова изоретения.
– Ваш механизм достоин высших похвал, Кюльвер.
– Смею полагать. Я основательно его обмыслил.
– Должно быть, потребовалось немало хитроумия и мастерства.
– Это меня не устрашило. Я трудился, пока не достиг желаемого.
– И вы замыслили его в первые наши дни в замке? Или даже ранее?..
– Да, он всегда занимал меня.
– Скажите, Кюльвер, вы замышляли его отвлеченно? Или с самого начала он был предназначен мне?
– С самого начала. Он повторяет размеры и форму вашего лона, изучить которое я имел немало случаев.
– И в день нашего прибытия вы знали уже, что здесь все и кончится?
– Не все, – поправил Кюльвер. – Кончится лишь ваше существование. Если механизм мой рассчитан верно, в чем, впрочем, не сомневаюсь.
– Против прожектеров ирония бессильна, – заметил полковник Грим.
– Ирония бессильна, когда между ног тебе вставляют машинку, сделанную из ножей и бритв, – отвечал Турдус.
– Ирония – последнее утешение перед смертью, – проговорил Самсон Ориген. – Да и самая смерть послужит этой несчастной утешением. А наш Прожектер чаемого не обретет. Не знаю, хватает ли ему ума понять, что повторение опыта едва ли усилит восторг. Пора бы нам озаботиться собственным побегом. Что скажете, друзья? Мы будем действовать чуть хитрей и жесточе, чем эти двое невинных.
– Вы, кажется, утверждали, – усмехнулся Грим, – что лучше всего не родиться, а коли уж родился, то поскорей умереть? Зачем вам бежать из замка, где смерть ближе с каждым днем?
– Я отказался от плотского наслаждения, – возразил Ориген, – и не желаю умереть, оттого что некто в тщетной за ним погоне вознамерился извлечь его жалкое подобие из мук моих или еще чьих-то. Думаю, мы отыщем способ ублаготворить нашего Прожектера и самим получить желаемое.
– Это против ваших принципов.
– Зато в согласии с вашими, mon Colonel[206]. Мы ждем от вас самого решительного содействия.
На обложке «Балабонской башни» – черный замок на фоне ночной синевы, с белой луной, оседлавшей одну из башенок в нарядном диснеевском вкусе. Стрельчатые окна мигают из полумрака белым. К замку тянется и исчезает в тяжких воротах витая вереница полуодетых людей, по преимуществу женщин с распущенными волосами, в платьях «ампир», перехваченных под низко открытой грудью, волнуемых ветром и льнущих к телу. Эти странники – отчасти из-за тонких, льнущих одежд – напоминают прихожан у Палмера, извилистой тропой идущих ввечеру из церкви где-то в долинах Кента. Вся обложка в три цвета: кобальт, черный, лилово-розовый. Буквы черные, готические, как их любили стилизовать в конце XVIII века:
Джуд Мейсон.
Балабонская башня
Внутри на титуле:
Джуд Мейсон.
Балабонская башня: басня для детей нашего века
Книга выходит в марте 1966 года. Фредерика получает сразу два экземпляра: один от Жако с надписью: «Спасибо за наводку! Уверен, книга того стоит. Будем надеяться, что ее ждет успех» – и один от Джуда: «Фредерике, которая думала, что я не смогу, а потом решила, что смогу. Единственной зачинательнице[207] – в невероятнейшей из возможных трактовок. Ну вот, опять я балабоню. Салют! Джуд».
Фредерика находит обложку сносной – не более того. Ярко, но без глубины. И к тому же обманчиво отдает фантастикой и Толкином.
Потом начинают мелькать рецензии. Агата приносит из министерства «Дейли телеграф», заголовок: «Новый симптом упадка». Книга местами сильная, пишет критик, но в целом отражает лишь погоню за сенсацией, желание пощекотать перверсией пресыщенные вкусы, любой ценой шокировать циничную публику, которую все трудней не то что шокировать, а даже вывести из нравственной спячки. «Наше общество больно. Все позволено и все сойдет: в литературе, в одежде, в поступках, в модном ныне бессмысленном позерстве. В более здоровом обществе эта книга не дошла бы до печати, потому что редактор имел бы убеждения, равно как и смелость их отстаивать. Но в атмосфере либерализма любая мерзость невозбранно выползает из своего темного угла на свет божий».
«Гардиан» отсылает к Элиоту: «Распятый врач стальным ножом грозит гниющей части тела»[208]. Автор статьи тоже приходит к заключению, что общество больно. Единственное средство – без страха и жалости обнажить все комплексы, разоблачить все уловки раздробленного и притупленного сознания. Подавив отвращение, иссечь больную ткань и достичь нового миропонимания. Лишь отбросив все запреты, мы сможем до конца осознать свой недуг и вступить на опасный и трудный путь выздоровления. «Мы должны признать, что мы – отвратительны. И Джуд Мейсон оказал нам всем большую услугу, бесстрашно сделав шаг в этом направлении».
В «Энкаунтере» – длинная статья Мари-Франс Смит, о которой сказано, что она «литературовед, профессор колледжа Принца Альберта при Лондонском университете». Профессор Смит – человек науки и к «Балабонской башне» отнеслась как к научному трактату о свободе и ее границах в понимании постреволюционных французских мыслителей Шарля Фурье и маркиза де Сада, «который, будучи заключен в Бастилию, разжигал штурмующие ее толпы, вооружась рупором, сделанным из отводной трубы собственного клозета». «Современные французские мыслители, унаследовавшие идеи сюрреализма и анархизма, интересуются одновременно доктриной Фурье и постулатами де Сада. Первый верил, что удовлетворение всех естественных страстей можно подчинить укладу столь гармоничному, что из него возникнет новый рай и новый Иерусалим. Второй тоже говорил, что все естественные страсти должны быть признаны и дозволены государством, но добавлял при этом, что противоестественное деяние может послужить обретению власти над Естеством и более глубокому постижению его законов. Философский интерес к природе преступления сближает де Сада с Ницше, утверждавшим, что мудрость Эдипа и прозрение Гамлета куплены ценой противоестественных деяний…»
* * *
Наконец Фредерика встречает и самого Джуда у мужской уборной в училище Сэмюэла Палмера. На нем все тот же линяло-синий бархатный камзол, такой заношенный, что кажется – хлопнуть по нему выбивалкой для ковров, и подымется целая туча жирной пыли. Серые, всклоченные волосы, умащенные собственным салом, мотаются, достигая камзольного подола. В их гуще, словно стайки моли, парят, странно наэлектризованные, бледные чешуйки перхоти и мелкие клочки розовой туалетной бумаги. Джуду предшествует его обычное зловоние, а сзади шлейфом веет остаточный дух уборной. Фредерика благодарит за книгу, поздравляет, спрашивает, как понравились ему рецензии.
Джудово длинное серое лицо морщится картинно-трагически. Он вытаскивает из кармана стопку вырезок, просматривает:
– Как я могу быть доволен, когда меня считают симптомом чьей-то скотской болезни? Я есть я, смею надеяться. Книга моя принадлежит мне. Она произведение искусства – верю и утверждаю вопреки их гнусным инсинуациям.
– По крайней мере, о ней говорят, и говорят много. Даже если считают симптомом. Джуд, давай отойдем от сортира. Скажи лучше, что думаешь про Смит?
– Дама-филосóф. Радугу разбирает по капелькам. Рассуждает о Саде, о Фурье, о просветителях – и хоть бы один человеческий глагол о моих людях, моих героях. У нее Кюльвер не действует, Ориген не думает, Кантор не говорит. Как будто нас и не было. Всех нас, которые жили в моем бедном мозгу, бродили по его лощинам, терзали друг друга так упорно и хитроумно… Нас для нее нет, мы – только идеи и концепции. Мы французская Свобода, фрейдистский Ид, потрепанные декорации в театре жестокости…
– Опомнись, Джуд! Неужто критики должны обсуждать твоих героев, как живых людей?
– Как живых героев, радость моя. Гораздо более живых, чем Филип Тойнби, Сирил Конноли[209] или профессор Мари-Франс Смит.
– Неблагодарный ты свин. Они тебе честь оказали…
– Не свин, а полный отрешенец. Оплакиваю ушедший мир.
– Так ты по ним скучаешь, Джуд! Они ведь больше не оживут… Пишешь уже что-то новое?
Фредерика тянет его вверх по лестнице, подальше от уборной.
– Да, но только тсс! Не говори никому. Я думаю написать кое-что про художников. И про юность, про целую стаю юных, фатальных, губительных созданий. Впрочем, художники мне претят. В них есть что-то примитивное. Вот солдаты – другое дело. Может, напишу роман из жизни казарм. Крепость в осаде, ни войти, ни выйти.
– Опять «Башня»?
– Ни в коем разе. Крепость на морском берегу, за спиной пустыня. Люди ценой жизни защищают место, где жизнь невозможна. Неплохая затравка! Я это только что придумал, пока с тобой говорил. Но правда в том, мой ангел, что я растерян и скорбен. Похоронная процессия из одного человека. Завтра мне давать интервью «Ивнинг стэндард», а я никаких мнений не могу сообщить редакционной деве.
– Чего-чего, а мнений у тебя в достатке.
– Тем хуже. Им от меня нужна одна удачная строка. Прямая линия. А я не линия, я – клубок каракулей.
– Жако-то доволен рецензиями?
Джуд разражается новыми жалобами:
– Я думал, будет некое торжество. По бокалу шампанского, например. Я его, разумеется, не пью, но люблю смотреть на пузырьки. И какие-нибудь канапе, что ли… Знаешь, когда я первый раз прочел где-то про банкет с канапе, я пребывал в романской фазе и вообразил римскую оргию, где все возлежат на канапе и банкетках – голубых, коралловых, рыжих, золотистых. Это же упоение: протягаться на канапе, пялиться на разные великолепия… Твой Жако мог бы в честь моего дебюта устроить маленькую оргию. Малюсенькую. И пусть даже со жлобскими канапе на один зубок, которые растворяются еще на пути к желудку…
– Можем сегодня пойти в паб и выпить за твою «Башню». Возьмем Алана, Булла, еще кого-нибудь. Канапе там, правда, не подают, но чокнуться за тебя сможем.
– Утешаешь Иа сдутым шариком? – говорит Джуд, обнаруживая интересную грань своих книжных пристрастий. – Ну хорошо, разрешаю вам меня ублагостить. Опрокинем по кружечке.
Группа поддержки собирается в местном пабе, довольно шикарном заведении с красными кожаными диванами, блестящей медью, гравированными зеркалами и затейливыми абажурами толстого стекла. Тут выясняется, что никаких кружечек Джуд опрокидывать не намерен:
– Принесите мне, чудо мое, «Кровавую Мэри», но только без «Мэри». Одну сплошную кровь, и пусть плеснут туда бурой приправы, которую со времен римского гарума приготовляют из тухлой рыбы…
Джуд возбужден и взбудоражен. Вместо холодной вони мусорного ящика от него веет гнилым жаром. Поздравить его, кроме Фредерики, собрались Алан, Десмонд Булл, несколько художников и искусствоведов, пара-тройка студентов. Они рассматривают книгу и дружно ругают обложку. Гарет Ларкин, преподаватель иллюстрации, хочет задать своим второкурсникам нарисовать к роману обложку и все прочее:
– …так у тебя будет вариантов тридцать на выбор. Я люблю им на втором курсе подкинуть что-нибудь эдакое – поточить зубы. Что-нибудь со смыслом.
– Джуд мог бы позировать для сцен с пытками, – вставляет одна из студенток. На ней лиловая в ромашках блузка с оборчатым воротником, до смешного узкая черная юбка «ретро» и шнурованные сапожки начала века, не раньше.
– Тебе бы это понравилось, разумеется. – Джуд парирует, но как-то по инерции.
Сегодня у него маска вместо лица, кожа, растянутая по выступам непроницаемого черепа. Он возбужденно многоречив, но Фредерика не может угадать, что скрыто за его болтовней.
Джуд уж не раз имел повод изречь: «сплошную кровь, чудо мое», а его спутники одолели порядочно пинт и кварт. Намечается неловкость, грозящая перейти в обиду: у пирующих крепнет мысль, что Джуду пора бы проставиться. Фредерика не понимает, слышен ли виновнику торжества этот нарастающий ропот. Вот кто-то sotto voce[210] замечает, что в смысле наличности одна вышедшая книга лучше целой мастерской, полной непроданных холстов. Джуд удаляется в уборную. Фредерика решает сама поставить пиво. Вторая волна феминизма еще не поднялась, в пабе на женщину, угощающую мужчин, смотрят косо. Раньше могли и вовсе отказать. Алан помогает ей носить кружки и предлагает заплатить пополам. Фредерика отказывается и вдруг нелепо обозляется на Джуда – он как раз вернулся и расправляет фалды камзола, усаживаясь на толстенький красный табурет. Четырнадцать пинт и «сплошная кровь» – изрядный удар по ее скромному бюджету.
Для «Ивнинг стэндард» интервью у Джуда берет Максина Макс, модная молодая журналистка, цепкая и нацеленная на актуальные проблемы (слово «актуальный» тоже пока еще молоденькое, не утратившее модный лоск).
Джуд Мейсон настоял, чтобы мы встретились в «La Pâtisserie de Nanette»[211]. Это крохотный кофейный закуток в Сохо, скрытый от улицы густым кружевом занавесок. Тут едва поместились три круглых столика с белым кружевом поверх пунцовой клеенки и шаткими венскими стульями. Довольно странный выбор для автора «Балабонской башни», которого одни успели обвинить в гнусном садизме и порнографии, а другие – восхвалить за глубину и блестящий ум. Есть и те, кто утверждает, что «Башня» – «правдивое зеркало недугов современного общества».
Я не знала, чего ожидать, и, впервые увидев Мейсона, решила, что в кафе зашел бродяга. Уверена, именно этого эффекта он и добивался. Волнистые серые волосы он не стрижет и носит на пробор. Костюм, состоящий из некогда голубого бархатного камзола и бархатных же бриджей, мягко говоря, поношен. В ботинках дыры. У Джуда Мейсона длинное костистое лицо и глубоко посаженные глаза. Ему не мешало бы принять душ, но свой театральный наряд он носить умеет, и даже с шиком. В целом получается какая-то фантастическая смесь капитана Крюка, Голлума и маркиза де Сада, которого Джуд зовет своим учителем.
Он непростой собеседник: на самые привычные вопросы отказывается отвечать или просто молчит. Мне не удалось выпытать, где он родился и учился. Я так и не знаю, где он живет и есть ли у него хоть кто-то из близких. Впрочем, выговор у него весьма «интеллигентный», отрывистый и немного в нос – не всякий диктор Би-би-си может с ним посоперничать. Такой выговор обычно приобретается в особняках. Джуд поведал мне, что сбежал из школы – вероятно, из частного пансиона, ибо в его исполнении это прозвучало так: «Я ускользнул под покровом ночи». С тех пор он числит себя учеником сюрреалистов и анархистов. Жана Жене[212] величает Мастером (да-да, с большой буквы), но стиль его жизни перенимать не спешит. «Жене считал, что кража – простой и надежный способ формирования товарных потоков в обществе, – рассуждает Джуд. – Но поскольку я собственности не имею и не желаю, то сам не краду, и меня обокрасть невозможно».
Джуд говорит, что зарабатывает на жизнь в художественном училище. На мой вопрос, чем именно, с неожиданной откровенностью отвечает: «Являю им себя самое. Позволяю созерцать мои хилые мускулы и срисовывать контуры моих бестрепетных чресл». Возможно, спрашиваю я, он ощущает духовное родство с будущими художниками? Оказывается, что Джуд читал избранным студентам отрывки из «Башни». Тогда-то его и «открыл», случайно услышав, «один человек», который показал рукопись издателю Руперту Жако из «Бауэрс инд Иден».
Жако, кажется, имеет нюх на рискованные книги, обретающие внезапный успех. Это он издал нашумевший «Хлеб насущный» Филлис Прэтт, жестокий роман о crises de foie[213] среди сельского духовенства.
Джуд тем временем заказал сразу несколько пирожных и поглощает их с сосредоточенной жадностью. Меренговому лебедю решительно откусывает жалобно хрустнувшую головку, затем вонзает длинные желтые зубы в religieuse – «монашку» из эклерного теста с шоколадной нашлепкой-чепцом на круглой голове, венчающей толстое тельце, начиненное кремом. Потом расправляется с парой слоеных сахарных сердечек…
Джуд говорит, что ему нечасто выпадает случай полакомиться пирожными. Он любит вкусно поесть, но живет впроголодь: «Нищета – отличное средство против embonpoint»[214]. Он не пьет и не курит. Я спрашиваю, не считает ли он, вслед за Тимоти Лири[215], что психоделики полезней, чем узаконенные средства отупления души – алкоголь и никотин? Джуд приходит в негодование: ему «не нужны ни марки для расширения сознания, ни гирьки для расширения плеч, ни пружинки для расширения обуви. И патентованный пресс для брюк тоже не нужен». Кажется, он считает меня настолько ниже себя в интеллектуальном плане, что не удосуживается отвечать всерьез.
Многие критики предрекают, что «Башня» будет возведена в культ поколением юных и накуренных поклонников Арто, Питера Брука, Берроуза и «Горменгаста»[216]. Мне же кажется, что Джуд – скорее некий протохиппи, дитя цветов. Он не согласен и тут же цитирует из «Питера Пэна» о цыпленке, вылупившемся из яйца. «Я – это я! Мои волосы – мои, а не хипповские! И книга – моя, вылупилась у меня из головы во всеоружии, абсолютно sui generis»[217]. Нравятся ли ему студенты-художники, спрашиваю я. Неужели ему никто и ничто не нравится, кроме обезглавленных лебедей и монахинь? «Они отвращают… Я хотел сказать, отвращают взор от любых устоев. Они бунтуют. Рвут цепи и ломают оковы. Их больше не заставят грубо подражать технике Микеланджело и Рёскина[218]. Они и смотреть-то отказываются на картины классиков. Они найдут собственные пути – новые, не омраченные скучным и сложным прошлым и потому схожие в своей первозданной наивности и простоте». Кажется, он не шутит, но трудно сказать наверняка. Ожидает ли он, что «Башня» приобретет много поклонников? «Смею надеяться, что да». Почему? «О, это просто! Мир изуверствует во имя любви. Люди обожают читать, как мучат других: набираются идей, чтобы самим мучить тех, кого любят, и писать об этом. Писать – непременно! Это часть игры, это движет миром, как боги у Жене». Джуд надкусывает огромное пирожное. Крем брызжет во все стороны, а он улыбается мне перемазанным ртом.
Прочитав интервью, Жако принимается орать на Хью Роуза. Орет он всегда с каким-то придыханием, словно пытается задавить звук.
– К журналистам его больше не выпускать! Выставил нас всех идиотами!..
– Может, говорил-то он разумные вещи, просто журналистке не понравился, – примирительно замечает Хью. – Или кафе ей не понравилось, или еще что-то. Там один запах чего стоит. Она, святая женщина, о нем не пишет, хотя в сочетании с меренгами это, наверно, было нечто… И кстати, я думаю, для продаж это неплохо.
Хью оказывается прав. Продано уже больше трех тысяч экземпляров, а интерес к книге не спадает.
* * *
Джуд перехватывает Фредерику на выходе из кабинета. Вытаскивает из внутреннего кармана все прирастающую стопку вырезок и потрясает листком со злополучным интервью. Он в ярости. Особенно его взбесило «crises de foie» в описании романа Прэтт:
– Эти девицы все неграмотные! Кризис веры – «Crise de foi». Без «е» на конце! А «Сrise de foie» – это приступ печени. Могла бы хоть паштет вспомнить: «foie gras» – «жирная печень»! Какая-то свинская дикость!
– Ну, может, это шутка. Игра слов…
– Полно! Такие тонкости ей не под силу. Просто дикость. Смотри, что она сделала с моей фразой об отвращающих студентах. Об их отвратительном нежелании осваивать азы, учиться у гениев, которые этот путь уже прошли. Она просто в упор не видит иронию!
– У журналистов с этим беда. Да и вообще у людей. Первая аксиома жизни: твою иронию не поймут. Ты вот тоже не понимаешь, что «кризис фуа-гра» – шутка.
– Она меня представила каким-то слабоумным. Ничего не передала из того, что я говорил о себе, о своем: о книге, о людях в ней, об идее. Зато прошлась насчет зубов.
– Честно сказать, ты сам напрашиваешься.
– На что это я напрашиваюсь? Мне вообще ничего не надо!
Фредерика замечает среди вырезок более новую:
– Это что, Энтони Бёрджесс? Дай посмотреть?
Отзыв Бёрджесса начинается с рассуждений о природе зла. Автор цитирует Голдинга[219]: «Человек творит зло, как пчела мед». Англичане, говорит он, боятся всерьез признать существование зла. «Они ограничивают себя дихотомией „хорошо – плохо“, тяготеют к комедии хороших манер, в которой добродетель нерасторжимо связана с высоким классовым положением. В католической и кальвинистской Европе писатели не зажимают нос, почуяв дуновение серы, не отворачиваются от вечной битвы Добра со Злом». Бёрджесс вспоминает проникновенное предисловие Эла Альвареса[220] к антологии современной поэзии, задуманной как ответ на ужасы недавнего прошлого: холокост, атомную бомбу. Предисловие называется «По ту сторону принципа добра». Джуд Мейсон, говорит Бёрджесс, давно и далеко ушел за эту грань. Блаженный Августин считал, что в день грехопадения зло вошло в природу человека. Ирландский идеалист ересиарх Пелагий верил в свободу воли, в то, что человек, стремясь к добродетели, обретает спасение. Кто в этом споре инстинктивно не встанет на сторону Пелагия? – спрашивает Бёрджесс. И кто, по долгом и глубоком размышлении, не признает со страхом, что прав был мрачный Августин, что мы лишь шестеренки в механизме взаимного разрушения, предательства и жестокости? Джуд Мейсон – новый тип художника 60-х годов. Он баснописец нашего времени. В его басне представлена борьба Августина и Пелагия, но не в IV веке, а в обществе, более напоминающем послереволюционную Францию. В те дни августинианец-отступник де Сад язвительно излагал свою теорию свободы и террора, а «обаятельный чудак» Шарль Фурье рисовал утопические картины всеобщей гармонии, когда сами звезды запоют в унисон во вселенной, согретой утоленными страстями и наполненной новой музыкой сфер. Океаны превратятся в приятный оранжад, акулы в супертанкеры, а истребители-«тигры» будут перевозить по небу детишек. Герои Джуда Мейсона заточены в фурьеристской утопии верховного Прожектера. Механизм романа сродни конвейерной ленте, на которой их спускают в садовские застенки. Эта книга может оказаться в центре процесса о непристойных изданиях, говорит Бёрджесс, не то провидя, не то подстрекая. Кое-кто вполне может усмотреть в ней «разлагающее влияние». Но так ли это? Порнография динамична, она толкает к действию, дразнит, гонит плоть и дух на поиски утоления. То, что автора тревожат вопросы добра и зла, еще не значит, что его творение лишено упомянутого динамизма. «Ценность искусства всегда уменьшается от присутствия элементов, побуждающих к действию. В этом смысле – с чисто эстетической точки зрения – произведения порнографические и назидательные одинаково плохи». Роман Джуда Мейсона одновременно порнографичен и назидателен. Очевидно, читатель должен сделать вывод, что автор разделяет позицию своего героя Оригена: ницшеанское отречение от либидо и всех его порождений. Хочется думать, что Мейсон и сам в это верует. И все же он строит свою басню, свою машину, свой механизм на пародийном воспроизведении того, что критикует. У него тут целый набор садомазохистских рычажков и пружинок, коллекция ножей и оков, порнографический восторг и оргиастические содрогания. Вопрос: будоражит ли это чувственность читателя? Запускают ли пружинки и рычажки механизм желания – желания подражать? Величайшие произведения литературы статичны. «Улисс», «Любовник леди Чаттерли», «Радуга» – в каждом случае эмоциональное напряжение разрешается в пределах романа, читатель переживает катарсис посредством искусства. Джуд Мейсон, при всем своем таланте и оригинальности, вступил на путь более сомнительный и опасный. Он безжалостно высмеивает прожектера Кюльвера, но как знать – возможно, и Фрейд, и Мефистофель язвительно усмехнулись бы над творением прожектера Мейсона.
«Балабонская башня» выходит в марте 1966 года. В апреле Гарольд Вильсон снова побеждает на всеобщих выборах, уже с гораздо большим отрывом. К этому времени продано шесть тысяч экземпляров «Башни». Книгу широко обсуждают. Александр сообщает Фредерике то, что самому ему сообщила по секрету Наоми Лурие, оксфордская преподавательница, состоящая в Стирфортовской комиссии. Генеральный прокурор просил ее прочесть «Башню» и дать заключение: есть ли, во-первых, основания для возбуждения дела в соответствии с Законом 1959 года о непристойных изданиях? И во-вторых, вступится ли за книгу литературный мир? Лурие роман не понравился, но она считает, что тут можно говорить о неких художественных достоинствах и запрещать «Башню» не нужно.
Одно из новых лиц в парламентском стане лейбористов – доктор Гермия Кросс, врач-терапевт и чтица из мирян в методистской церкви. Ее ливерпульский округ включает и обитателей буржуазного пригорода, и многоязыкое, бурно прирастающее население бедных кварталов. На одном из заседаний доктор Кросс неожиданно задает вопрос генеральному прокурору: собирается ли он предпринять какие-то шаги в отношении омерзительной и опасной книги, снискавшей незаслуженную популярность в некоторых кругах? Генеральный прокурор сэр Мервин Бэйтс отвечает, что, насколько ему известно, пик продаж позади, книга стоит слишком дорого, чтобы разойтись широко, а критики в целом признают за ней некоторые достоинства. Доктор Кросс гневно возражает: там смакуется жестокость. Мы живем в страшный век и знаем, увы, что книги способны развратить, а то и толкнуть на преступление людей, предрасположенных ко злу. Одновременно проходит процесс над Иэном Брейди и Майрой Хиндли, «убийцами с пустошей», читавшими «Майн кампф», де Сада и биографии знаменитых убийц. Впрочем, доктор Кросс прямо на них не ссылается. Ей вторит сэр Ивлин Д’Арк, консерватор из Саффолка: он книгу знает, и «это ужасная, чудовищная мерзость». Вторят консерваторы рангом пониже. В воскресных газетах выходят памфлеты на возмущенных депутатов, мелькает карикатура: доктор Кросс в костюме гувернантки замахнулась плетью на скорченного голозадого человечка, вероятно Жако, поскольку на Джуда не похоже. Роджер Магог выступает со статьей «О словах и стрелах», где горячо доказывает, что самовыражение, устное или письменное, ограничивать нельзя, «потому что слово именно не стрела и объективного вреда нанести не может. Мы свободные люди, каждый вправе решать, как отвечать на соблазнительные речи, подстрекательства и вообще любые действия окружающих. Наш долг – не подавлять свободу всех без разбора, а научить слабых и заблудших отличать хорошее от дурного…». В следующий же понедельник доктор Кросс заявляет, что, если генеральный прокурор не пожелает запачкать руки, она сама, в частном порядке, подаст иск против издателей и автора «Балабонской башни» в соответствии с третьим разделом Закона о непристойных изданиях. Это ее заявление в сочетании со злосчастной шумихой вокруг процесса Брейди и Хиндли заставляет генпрокурора изменить свое мнение. Дело против книги будет возбуждено.
Фредерика слышит эту новость от самого Жако, когда приходит с горой рецензий и корзинкой для новых книг. Издатель сидит за столом.
– Вот, полюбуйся, что ты на меня навлекла! – восклицает он, протягивая Фредерике официальную бумагу. – Уже конфисковали тираж.
Круглые щечки Жако порозовели, глаза блестят.
– Мы будем бороться. Насмерть, любой ценой. Тут уже принцип. Свобода совести и свобода слова. Если им спускать, они сперва книги начнут жечь, а потом и людей. Это мы проходили.
Жако так мало похож на мученика за правду с этими его кудряшками, горчичным жилетиком и пестрым галстуком в шотландскую клетку…
– Что ты намерен делать? – спрашивает Фредерика.
– Для начала, когда спросят, выберу суд присяжных. Потом позову свидетелей – лучших специалистов. После этого никто и никогда уже не замахнется на литературу. Не посмеют. Доктора Кросс изничтожу, как и прочих любителей цензуры. Осную фонд защиты, брошу клич по всей нашей сфере. Произнесу речь в суде.
– А Джуд что говорит?
– Знаешь, я бы с радостью обошелся без Джуда. Он во всем этом слабое звено. Представляю лица присяжных: он ведь не только выглядит дико, он еще любит словесно порезвиться в ущерб делу. Я надеюсь, ты как-то удержишь его в рамках, приведешь в разум. Надо с самого начала задать правильный ход: поговорить с юристами, чтобы составили хорошее изложение дела для адвоката. Насчет адвоката – я думаю позвать Хефферсона-Броу. Обязательно нужно проработать все варианты. О поражении и речи быть не может. Мы не имеем права на поражение. – Он поджимает губы и вперяет взгляд во Фредерику. – Нам нужна помощь каждого.
– Я все, что смогу, сделаю, – говорит Фредерика, не очень-то понимая, чем именно может помочь.
– «Лишь натяни решимость, как струну, – и выйдет все». Кто это сказал?
– Леди Макбет[221].
– Ну вот!.. – Жако усмехается ласково и печально. – Надеюсь, не накаркал. Нужно быть осторожней, на перекрестном допросе ошибка дорого стоит.
– В каком-то смысле у леди Макбет и правда все вышло.
– В каком-то смысле да. Добилась своего, а потом руки не могла отмыть от крови, умерла в бреду и безумии. А я вот намерен выиграть дело и скончаться веселеньким в собственной постели.
Шестьдесят шестой год еще не перевалил за половину. У Фредерики свои заботы. Бракоразводный процесс неизвестно, когда будет. Адвокаты Найджела осаждают ее письмами о Лео: «Если мальчик, как можно надеяться, будет учиться в Свинберне или другой частной школе, ему пора изучать латынь и французский язык, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. Клиент мистера Тиггера имеет достоверные сведения о том, что Начальная школа Уильяма Блейка не может обеспечить надлежащую подготовку. Он готов оплатить обучение сына в местной приготовительной школе, выбранной по согласию сторон, и будет рад возможно скорее получить сведения о том, какие шаги могут быть предприняты для удовлетворения его запроса». Фредерика кромсает бумаги и вклеивает куски в «Наслоения»: «Французская школа латинская база смешение языков». Затем шлет яростные ответы Бегби, который переводит их на юридический воляпюк и отправляет дальше.
«Скажите ему, что, насколько мне известно, он сам никаких экзаменов не сдавал, иностранными языками не владеет и книг не читает! Я же сдала на отлично четыре языка, у меня кембриджский диплом филолога-англиста. Я живу в одном доме с работницей Министерства образования и смею полагать, что проявляю достаточную заботу об интеллектуальном развитии сына. Скажите ему, что мой отец – выдающийся педагог, что если кого здесь и волнуют вопросы образования и культуры, то именно нас, поскольку ни то ни другое не является сильной стороной моего супруга. Спасибо».
Фредерика в гневе рассказывает обо всем Алану Мелвиллу и Тони Уотсону – лицедеям ее кембриджской юности. Алан, у которого под безупречными манерами скрыто клыкастое честолюбие мальчишки из рабочих кварталов Глазго, говорит, что, может, это и неплохо: закрытая школа подальше от города, «стандарты образования», приличные дети. Тони, сын богатого литератора-социалиста, учился и в приготовительной школе, и в закрытой частной. Он хочет казаться проще, чем есть, и потому носит рабочую куртку с фланелевой рубашкой.
– Ни в коем разе! – воспламеняется Тони. – Пусть живет, как все. Так, если его будут обижать, ты хотя бы узнаешь. А заодно увидишь, учит его это чему-нибудь или нет. Алан просто не представляет, о чем говорит. В частной школе тридцать человек мальчишек, и все тонкие натуры, плачут ночью под одеялом, хотят к матушке. Только это им не мешает рвать в клочья тех, кто послабей. Пруд с крокодилами: только и слышно, как челюсти щелкают. И еще: ты знаешь, какие там извращенцы работают? Я лично насмотрелся.
– Но ты ведь выжил в итоге, – замечает Алан.
– Ты тоже выжил – после драк на пустошах стенка на стенку.
– На пустошах выживают не все.
– Знаю. – Тони по заданию редакции освещает процесс «убийц с пустошей» и остановился неподалеку в честерской гостинице.
В разговоре звучит особая нотка. Каждый день, чуть затуманенные серенькой краской, с газетных полос смотрят Лесли Энн Дауни и Джон Килбрайд. Милые, обыкновенные детские лица, которых больше нет на земле. Тони слышал запись, найденную в доме убийц: Лесли плачет, просится домой, к маме. Я боюсь, повторяет она, а ей велят закрыть рот и лежать тихо. Потом запись обрывается, и звучит рождественский гимн в исполнении какого-то детского хора. На другой стороне дико дурачатся штукари из модной абсурдистской радиопередачи.
– Не надо, – просит Алан. – Я не хочу больше ничего знать.
– А ты думаешь, я хочу? И возвращаться туда не хочу, и работу свою ненавижу.
У Фредерики колотится сердце, горло перехвачено: страшно услышать такое вместе с именем сына, страшно сына потерять. Страшно, страшно… Фредерика слышит собственный горький плач. Алан и Тони обнимают ее, дрожащую от рыданий. На улице кашляет автомобиль. Тони опускает шторку.
К Фредерике периодически заглядывает Пол Оттокар. Джон появляется реже и никогда не звонит. Поэтому, когда у крыльца ждет кто-то в черном макинтоше или в подвальном окошке возникает светлое пятно лица и золотые волосы, Фредерика привычно думает: Пол. К тому же, в отличие от брата, у него нет постоянной работы, а значит, и времени больше. И все же: как различить наверняка? Они одинаково сутулятся, одинаково ставят ноги. Улыбка, невеселая, несмелая, чудная, – одна на двоих.
– Я тут шатался без дела, решил зайти. Не возражаешь?
– Не возражаю, но дел много. Работы проверить, написать кое-что. Плесни себе пока кофе.
– Плесну, спасибо.
Пол не способен сидеть на месте. Он бродит по Фредерикиному подвальчику, берет книги с полок, потом как попало ставит обратно. Поднимет пресс-папье, пытается удержать на вытянутом пальце, резко дергается – вот уроню! – и с довольной улыбкой возвращает на место.
– А где у тебя проигрыватель? И пластинки?.. Поставим музыку?
– Проигрывателя нет. Я в смысле музыки глухая и вообще люблю тишину. Среди музыки думать невозможно.
– И это в свингующем Лондоне! Ты тут далеко не уйдешь. Попроси-ка моего братца, чтобы он тебя просветил. Мы всю жизнь с музыкой. Одно время у нас была группа – он тебе не говорил? В Олдермастонских походах играли. Он на горне, я на кларнете – вполне неплохо, кстати. Я сейчас новую группу собираю. Хочу и его заарканить. У нас ведь друг без друга не очень выходит. А когда вместе, я его мысли слышу, он мои, знаем, что каждый из нас через секунду выкинет. И название я уже придумал. Роскошное название, между прочим.
– А именно?
– «Заг и Зигги-Зигги-Зикотики». Зикотики-зиготики, зиготы, понимаешь? Неглупо, а? – Пол продолжает мягким шагом мерить комнату. – Приходи нас послушать. Мы на двоих хорошо играем. Вот остальное на двоих – тут уже похуже. Я обиделся, когда он к тебе записался, а мне не сказал. Обиделся, но понял. Мы ведь чувствуем, когда нужно быть раздельно, а когда одним целым. Правда, не всегда это у нас синхронно… Я все книги прочел, что ты с ними разбирала, когда… когда удалялся от мира. «Фауста», «Смерть в Венеции», «Замок», «Идиота». И «Рождение трагедии из духа музыки» – после Ницше-то я был уверен, что ты любишь музыку.
– Нет, это в меня не вложено.
– Ничего, я тебе как-нибудь сыграю… мы сыграем. Сейчас все понимают мир через музыку. Слова – как царапины на стекле, от них только мутно. Душа раскрывается в музыке, музыка мудрей любых книг.
– Сядь, ты мне на нервы действуешь.
– Мне тоже не по себе. Я вторгаюсь в твой мир, давлю, навязываюсь с идеями. Джон рассердится. Прости меня…
– Сядь.
– Будь у тебя музыка, я бы унялся. Слушал бы тихонько…
– Музыки нет.
– Я тебя раздражаю… Вот посмотри мне в глаза: я тот из двух, кого ты не целовала. Мое тело тебе незнакомо. Каково это – видеть тот же облик и не знать, что внутри? И в то же время знать? Это упоительно, может быть… или страшно?
– Шел бы ты домой, Пол. Мне еще работать.
– Неужели не интересно? То же лицо, тот же голос… А поцелуй? Хочешь, я поцелую тебя, и ты будешь знать?
Фредерика сидит, прихлебывая «Нескафе» из черной кружки с розовым нутром, бывшей с ней и в Кембридже, и во Фрейгарте. Не разница между братьями бередит в ней что-то, а их одинаковость. Джон умеет быть недвижен и мягок, как большой ленивый кот. Пол – нет: он нервно потирает колени, колени дрожат, голова чуть слышно кивает в такт музыке, резко звенящей в мозгу. Но улыбка у него Джонова, и глаза, и пальцы тоже. Голос, ясный и теплый, – голос Джона.
– Я не хочу знать, – отвечает она. – Иди-ка ты, правда, подобру-поздорову. Свои чувства к Джону я выясню с ним самим, если он того хочет.
– Он не рассердится, если ты меня поцелуешь. Он этого даже ждет. Мы как стороны одной монеты, два лица одной гермы[222]. Дорогая и сердитая Фредерика, пойми, его поцелуй без моего несовершенен – ни для тебя, ни для него. И он это знает. Не сердись. Поцелуй меня. Он знает, что я здесь, он этого ждет. У нас всегда так. Берешь одного – бери второго. Оттолкнешь меня – оттолкнешь и его… Но может, это и к лучшему. Может, нас для тебя слишком много.
– Может. Особенно тебя. Но об этом я поговорю с Джоном.
Пол вскакивает с места:
– Я уйду, и ты пожалеешь. Ты захочешь узнать, еще как захочешь! До боли!
– Ничего, рискну.
– О, ты-то никогда не рискуешь! Ты хитрая и холодная, как железка. И ты его не удержишь с этой твоей кислой гримасой. Он с тобой со скуки подохнет!
– Иди, Пол. Иди.
Он уходит.
В следующий раз он держится как ни в чем не бывало. Человек, ждущий у крыльца дома номер сорок семь, одет в костюм франтоватого битловского кроя. Впрочем, сочетание темно-синего сукна и белой водолазки смотрится скорее строго. Фредерика, одновременно со сладкой вспышкой внизу, приходит к трезвому выводу, что это, скорее всего, Пол.
– Прости, что опять вторгаюсь. Дело в том, что мне нужна литконсультация. Есть у тебя пять минут?
– Заходи.
– Понимаешь… – Они спустились в недра подвальчика, и Пол уже бродит от стены к стене. – Понимаешь, наша группа – не «Зикотики», они тебя не интересуют, так как ты немузыкальна… Так вот, другая группа, даже скорее духовная фракция… или, наоборот, центровая сила, – в общем, у нас будут чтения, вечер поэзии. А мы, как брат тебе наверняка сообщил, – мы люди неначитанные до дикости. Я не знаю даже, с чего начать. Мы, кажется, будем называться «Тигры духа», и говорят, что приедет Ричмонд Блай и будет нас спрашивать о каких-то визионерских аспектах английского романтизма. Я понятия не имею, что это за штука, но умею быстро сориентироваться – ты, наверно, заметила… Я много усвоил из «Рождения трагедии», я его у Джона стибрил (он знает, разумеется). Он, наверно, почувствовал, как она отделяется от стола и перемещается ко мне в сумку. Мы друг друга даже на кинетическом уровне чувствуем… И вот я понятия не имею, что это за аспекты романтизма, но ты же можешь мне дать список обязательных книг? Элвет упадет! Я люблю его иногда поразить. Там будет поэт выступать, кажется, Фейнлайт фамилия. И еще Сило – это будет перформанс. Сило ударник в «Зикотиках». Так что, поможешь или это безнадежно? Составишь мне списочек английских романтиков? Вы, женщины, так хорошо составляете списки покупок… Ну же, Фредерика, уврачуй мою дикую душу!
– Список составить можно…
– Вот и славно! А то у меня от «Дщерей Альбиона» голова трещит. Я потом попробую их читать нараспев, как мантру, под колокольчики и барабан. И горн чтобы тонко так плакал…
* * *
Фредерика пишет. «Кубла-Хан», «Старый Мореход», «Ода бессмертию», «Гибель Гипериона»…[223]
– Я, надеюсь, не обидел тебя в прошлый раз? Я был под этим делом… Если обидел – не обижайся. Я хочу с тобой дружить в минорном ключе.
– Тебе основные статьи по романтикам писать или только сами стихи?
– Пиши, как знаешь. Я полностью в твоих руках.
Фредерика продолжает писать. Ей хочется спросить, пойдет ли и Джон на чтения, но она удерживается.
– Я тебе пока кофе заварю, – говорит Пол.
Он мгновенно находит у нее чайник, берет кофе, молоко. Берет печенье, которое любит Лео, с веселыми рожицами из цветной глазури: вишневой, лимонной, кофейной, шоколадной, и выкладывает на тарелочку с кроликами.
Фредерика пишет: Томас де Куинси, «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум». Принимает печенье с рожицей из рук деликатно вторгшегося чужака. Ей хочется плакать.
Позже звонит Джон. У него какой-то напряженный голос. Минут пять он говорит ни о чем, потом:
– Можно я приду?
– Когда?
– На выходных.
– На выходных Лео у отца.
– Значит, приду.
Фредерика хочет как-то заговорить о чтениях в Четырех Пенни, но молчит: мудрость и сдержанность. Она довольна собой. Потом она моет голову и перестилает постель. Покупает на ужин то, что точно не испортится до вечера: копченую форель, салат и лимонный пирог. Наконец приходит Джон. На нем рубашка с зелеными хризантемами и суконный пиджак без ворота в том же битловском стиле, бутылочно-зеленый с темно-синим кантом. Вопреки яркой одежде, Фредерике кажется, что в нем что-то притихло, полиняло. Как будто тот, второй, ярче, четче, ясней, смелей. Фредерика всматривается ему в лицо, ища, что изменилось, а Джон сидит у стола, чуть менее свободный, чуть более угловатый, словно обороняясь, словно заранее предугадав этот ее взыскующий взгляд. Говорит о работе, упорно не желая сменить тему: позиция Тони Бенна в отношении североморской нефти, грядущие трудности с платежами. Потом оглядывает подвальную комнату:
– Хорошо тут.
– А я думала, ты не придешь: вечер поэзии…
– Вот оно что… – Он откладывает вилку и нож, встает, подходит к окну и вперяется взглядом в темноту. – Знаешь, раз оно так пошло, я лучше сберегу нам силы и нервы, оденусь, уйду и больше приходить не буду. Иначе нам обоим будет плохо. Так что выбирай. Либо я прямо сейчас спрошу: что у вас тут было, либо нет. Если нет, мы оба – то есть ты и я – будем гадать, воображать, и он встанет между нами огромным… огромным… Он станет демоном. Ты ведь сейчас не меня видишь, нет. Ты нас обоих видишь и сравниваешь, ты гадаешь, тебе любопытно. В памяти у тебя все перемешалось: вот кто-то из нас тогда улыбнулся – кто? Кто стихотворение похвалил? Оба, скорее всего. Нам с ним разделяться, рвать целое на части – это акт насилия, это против естества. Тебе все это не нужно. А мне нужна ты – для меня одного. Иначе я не могу.
– А ему что нужно?
– Ему? То, что есть у меня.
– На двоих или все одному?
– Хороший вопрос. На двоих, но чтобы у него – лучше. Например, чтобы мы оба с тобой спали, но он был бы лучше.
– А я тут совсем ничего не решаю?
– Ты? Решаешь, но не все. Я бы порвал с ним, ушел, но не могу. На то есть причины, серьезные… Но я хочу быть сам по себе.
– Он что, не может девушку найти?
– Он мою хочет. И не важно, какая она. А я так не хочу. То, что у нас с тобой, – это только наше. Этим я не могу делиться.
– Но ты же не можешь ему все время уступать. Вам обоим от этого хуже.
– Главное, пойми: ты мне нужна. И я не хочу, чтобы ты с ним боролась. Чтобы я с ним боролся из-за тебя. Это вообще не должно было тебя коснуться. Я хочу, чтобы ты осталась собой, какой я тебя первый раз увидел: худющая, нервная. Помнишь: «форма последовательного изложения»? У тебя глаза горели. Ты загоняла свою мысль, преследовала ее, в тебе был какой-то восторг. А я думал: если бы она на меня так смотрела, если бы обо мне так же упорно думала…
– Я так и смотрю. Так и думаю.
Когда-то, может быть, так и было…
Фредерика обнимает его сзади. Он дрожит.
– Я не сдамся, – говорит она. – Ты же знаешь: я борец. Мы не сдадимся. У нас есть разум, и разум возобладает. Я могу Пола просто прогнать, исключить из своей жизни.
Он дрожит еще сильней.
– Не получится.
– Слушай, хватит страдать! – взрывается Фредерика. – Борись за себя! И вспомни, что еще есть я. Ты не можешь сейчас уйти. Ты только-только вошел в мою жизнь, а теперь еще и Пол пытается… Ты что, все ему уступал, когда вы были маленькие? Пирожок, ножик, трехколесный велосипед, да?
– Да, всегда уступал. Ведь я-то мог и другое что-то найти. Правда, потом он и это отбирал…
– Другой Фредерики нет. Я есть я, в единственном экземпляре, от себя неотторжима, на части неделима. Сейчас мне нужен ты. Ты. Если только не погрязнешь в нытье и не откажешься от себя. Мне будет плохо тогда – но ему я не достанусь. Никому из вас не достанусь, Джон. Все зависит от тебя. Только запомни хорошенько: я не мячик, и вы меня не будете между собой перекидывать, обсуждать, разбирать на части. У меня своя жизнь, и в данный момент я хочу, чтобы в ней был ты. На этом все.
Джон поворачивается к Фредерике, с глубоким вздохом прижимает ее к себе:
– Пойдем в постель.
Фредерика хочет опустить шторку, и на миг ей видятся светлые волосы, черный макинтош. Кто-то ждет терпеливо у подвального окошка. Фредерика приникает к стеклу. Никого. Опускает шторку, тянется к Джону. Кто желает видеть, как на просветной ткани сливаются тени, пускай смотрит. Она расстегивает пуговки на его рубашке.
Потом – любовь. Большую часть ночи и следующего дня. Шторка опущена. Тишина углубляется, нарушаемая иногда птичьим вскриком, шелестом волос по коже, скрипом ногтей по хлопковой простыне. Они узнают друг друга пристально, бережно, не спеша. Вспыхивают прожорливой яростью, неподатливо замирают, дразнят. Фредерика узнает его многие неги, его сухость и влагу, его гладкое и грубое. Узнает так, словно на ней его кожа, а на нем – ее. Двое не могут быть ближе, живые атомы двух существ не могут сойтись совершенней. Они оплетают друг друга, как змеи, брыкаются, как козлята, глотают, как беззвучные рыбы на глубине. Словно кошки джунглей, преследуют едкие, манкие запахи. Поедают, зарываясь, – и откидываются, освобожденные и разъединенные ненадолго, на влажные простыни. В темноте тяг и сплетений плоть не уповает и разум не страшится, что где-то внутри две клетки сольются воедино. Таблетка на страже, можно делать что пожелаешь, слушать только желание. Упоительней всего Фредерике теплота вплоть прилегающих плоских животов, согласные толчки бедер. Утром, расплетя объятья, она видит на его коже кровь. Трогает себя, на пальцах алое.
– Посмотри…
Они словно дикари в племенных узорах. Полосы и пятна у них на коже, размытые мазки, завитки, потеки крови теплой и уже подсыхающей, отпечатки ладоней, очертания набедренных повязок повторяют друг друга, как в зеркале. Это кровь Фредерики, «прорывное кровотечение», возникающее иногда от Таблетки, струйки и сгустки, никакого отношения не имеющие к исходному циклу продолжения жизни. Фредерика смотрит на Джона: не отвратит ли его любовная раскраска? Но он с улыбкой проводит пальцем по линиям.
– Кровью писано, – говорит он. – Что на мне, то и на тебе.
– Как у дикарей. Обряд перехода…
– Тебе не больно?
– Нет. Волшебно. Тепло. Такое теплое свечение внутри…
Они говорят шепотом. Наверху слышится топоток Агаты. Вот она остановилась и что-то кричит Фредерике, но слов не разобрать.
– Я тебя пометил кровью, – говорит он.
– Мы друг друга пометили. Давай вечно будем неподвижны, – отвечает она, но фраза фальшива, и чары спадают.
Двигаться придется, они это знают…
– Ты счастлив? – спрашивает она по обычаю всех влюбленных.
– Совершенно.
Милая, тяжелая ладонь на остром выступе ее бедра.
Приход Джона почему-то кладет конец вторжениям Пола, по крайней мере на некоторое время. Может, Пол каким-то образом знает и поэтому не идет? Но что он знает? – этим вопросом задается она недели две спустя, когда кровь давно смыта, а теплое ее сияние чуть остыло и потускнело в памяти. Она ведь и сама не знает – не очень-то стремится знать, – чего они с Джоном хотят и что намереваются делать. Фредерика о Джоне никому не сказала, только Агате, да и то немного. Джон, ее тайная страсть и утеха, никакой роли не имеет в ее с Лео будущей жизни. Но свобода ушла, свобода, с какой она примеряла и отбрасывала любови и симпатии. Лео ревнует, следит, высчитывает что-то, хочет знать ее мысли. Пол тоже следит, хоть и по-другому. От этого тягостно. И хотя в начале лета Пол не показывается ей на глаза, Лео вдруг говорит:
– Сегодня опять вонючкой пахло. Этим, который улыбается.
И через какое-то время:
– Тут без тебя Вонючка приходил, в окно заглядывал.
Сказать Джону? Нельзя. И неясно, что это все значит. Фредерике не по себе.
Однажды ей снится сон: она в постели с двумя. Муж алый и муж белый, оба из горячего камня, с каменно торчащими членами. У алого каплет белесое семя, у белого – кровь. Вот они повернулись к ней, тяжелые руки положили ей на грудь, давят. Вот оседлали, каждый со своей стороны. Давят, ломят, ломают ее, и крикнуть невмочь.
Фредерика просыпается, ей страшно. Но хороша, хороша была простота и мощь сновиденных отражений. Словно это искусство, словно она их сознательно сотворила такими.
XVII
Дорогой Джон, я не сразу решился на это письмо.
У психоаналитиков существует правило, порой переходящее в ТАБУ: дабы не травмировать «пациента», «не следует» обращаться к его близким без его согласия. Традиционный психоанализ подразумевает контакт между психоаналитиком и анализантом, а все прочие отношения рассматриваются лишь в рамках этой парадигмы. Как Вы знаете (а я знаю точно: Вы знаете), я «лечу» Вашего брата от состояния, называемого «маниакально-депрессивным расстройством». Думаю, Вам известно и то, что я сочувствую новым, передовым, даже – не убоюсь этого слова – революционным идеям (назовите их, коли желаете, концептами или гипотезами), согласно которым необычные проявления психики следует рассматривать не как отклонения от нормы (Что есть норма? Кто ее устанавливает?), а как способ исследования духа, боли, Опыта души в мире искалеченном и калечащем нас. Другими словами, я вижу в Вашем брате отнюдь не «больного», нуждающегося в «лечении». Но дух его, безусловно, пребывает в смятении. Пол переживает сейчас электрическую бурю, чьи гигантские молнии «косо блещут в жидких небесах». Эти огненные потоки могут окрылить его, а могут уничтожить.
Я был рад – нет, «рад» слово бледное, я хотел сказать и скажу иначе: я был счастлив увидеть Пола (или Зага, как он предпочитает, чтобы его называли) на Собраниях «Тигров духа». «Собрание» слово старинное, славное, оно напоминает нам о квакерах, об их духовных исканиях. В нем зашифрована сама суть, сама цель нашей работы: вернуть участникам группы ту энергию и даже ярость, с какой пятидесятники[224] некогда чаяли нетварного света. За долгое время энергия ослабла, расточилась – об этом пишет Кристофер Левинсон в стихотворении «Тигры духа» (оттуда и наше название). Квакеры[225] утратили священный трепет, баптисты в высшие минуты уже не глаголют на неведомых языках. Нетварный свет померк, «Тигры духа присмирели». Поэтому мы, немногие, должны собраться воедино, чтобы излучать энергию, жар и свет, чтобы по мере сил врачевать друг друга, давая силу тем, кто потерян, смятен, подавлен. Заг был мудр, решив примкнуть к «Тиграм», и мы должны поддержать его в этом решении. Я верю, что наша группа – наше Собрание – продукт мудрости и воли, превосходящей волю и потребности ее отдельных членов.
Вы, Джон, конечно, спросите, при чем тут Вы. Или не спросите, а снисходительно усмехнетесь: ведь Вам отчасти известно – впрочем, именно отчасти, – что я скажу Вам, о чем попрошу, что взвалю на Вас, говоря грубоватым языком современности.
Я счастлив был видеть Зага среди «Тигров», омытого светом их молчания. Не менее счастлив я был видеть Вас в те два раза, что Вы к нам приходили. Ваше присутствие уравновешивает Зага, и не только его: Вы приносите с собой некий целительный покой. Возможно, и Вам было полезно наше глубокое молчаливое созерцание – по крайней мере, так мне показалось.
Но Вы пропустили несколько последних встреч и не отвечаете на письма. Заг говорит, что Вы от него «отступились», «отступились от „Тигров“».
Я достаточно давно сопровождаю Зага в его духовных странствиях и потому говорю уверенно: он считает, что Вы хотите от него отъединиться. Это здравое желание, достойное уважения. И все же, после долгого размышления, я должен сказать Вам три вещи:
1. Устраняясь, Вы ставите под удар все, что сумел наработать Заг. Он считает, что его предали, он зол на Вас, он охвачен вихрем разрушительных чувств. И все это он обращает против себя, словно ребенок, который сам себя бьет и царапает. Если он долго не видит Вас, Вы превращаетесь в фантом, в призрак, в некую мощную эманацию, вы становитесь врагом. И напротив, когда Вы с ним, он осознает, что Вы многогранная, отдельная от него личность с реальными потребностями и реальной жизнью, – с этим он готов примириться. Ваше присутствие – прежде всего в здравом и управляемом эмоциональном «поле» «Тигров духа» – необходимо Загу для поддержания некоего чувства «реальности». Да, эта «реальность» не отвечает принятым представлениям о психической норме, но я уверен, что она существует. Есть мир реальный (пусть и бесконечный), а есть ирреальный – Заг рискует навсегда остаться в этом втором мире.
2. Устраняясь, Вы рискуете собственной личностью. Вы – часть Зага, и ваше разъединение должно осуществиться постепенно: нужно не разорвать связующие нити, а бережно их распутать. В глубине души Вы и сами это знаете. «Обыденность», за которую Вы отчаянно цепляетесь, столь же ирреальна – и опасна, – как наркотические блуждания Зага в поисках северного сияния. Если я перешел черту, сожгите это письмо. Но если Вам послышалось нечто знакомое, если в Вас – не важно, в голове или в сердце – отозвалась хоть толика тревоги, задумайтесь о моих словах, придите ко мне, и мы поговорим. Вернитесь к «Тиграм», и пусть на Вашу дилемму прольется белый свет нашего купного восприятия и сновиденного предзнания.
3. Мир меняется у нас на глазах. Меняется человеческое сознание. Сегодня мы (человечество) можем достичь состояния, в котором не будем больше ранить друг друга. Вас влекло к «Тиграм» нечто большее – большее, чем даже загадочная связь между Вами и Загом, подобная связи полюсов магнита. Сегодня мы можем говорить об этом, не боясь прослыть сумасшедшими, говорить спокойно и откровенно. Повторю: если это письмо ничем не отозвалось в Вас – сожгите его и забудьте.
С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш,
Элвет Гусакс
Джон молча протягивает Фредерике письмо поверх столика. Они встретились в кафе на минутку, пока у него обеденный перерыв. На Джоне его обычный костюм, рубашка в сине-белую полоску и темно-синий галстук с зелеными крапинками. Фредерику бесит торжественный трагизм его лица. Еще больше бесит письмо.
– У него логорея, – заявляет она. – Тут половина – абракадабра и бред.
– Таков религиозный язык: одни слова перегружены смыслом, другие – пустой звук. Да, неприятный язык, квакеры по возможности его избегают.
– Он вроде бы не жрец, а психоаналитик.
– Одно другого не исключает.
Они препираются из-за слов, чтобы не говорить о сути.
– Ну а содержание как тебе? – не выдерживает наконец Джон.
– А содержание меня не касается. Письмо тебе написано. И вообще, это твой брат, твои квакеры и «Тигры». И твой психоаналитик, кстати.
– Ясно.
Он мрачно смотрит на скатерть, потом начинает собирать бумаги.
– Прости. Я зря так, я не то имела в виду. Мне страшно. Все это… все, с чем ты связан, – меня пугает.
– Если и связан, то иначе, чем ты думаешь. Я и у «Тигров» не был с тех пор, как мы… Я знаю, что тебе это не нравится. И я… я не хочу отказываться от того, что у нас с тобой есть…
– Если ты думаешь, что я претендую… что у меня есть право тебе запретить быть «Тигром» или еще кем-то… Такого права у меня нет, и я о нем не прошу.
– Я знаю.
Да не будь ты таким унылым паинькой! – хочет заорать Фредерика. – Мне в тебе то и нравилось, что ты сам по себе.
– Гусакс в чем-то прав, – негромко говорит Джон. – Он не любит слово «больной», подставляет разные другие, но Пол не изменился. Он такой же, как когда его считали больным. Он не справляется с жизнью – я это знаю и знаю, что могу помочь. Да, Гусакс прав.
– Тогда ты должен помочь.
– Да, но если помощь – за счет моей собственной жизни? Если я в этом увязну?
Фредерика чувствует, что должна сказать что-то вроде: «Я с тобой. Не бойся, вместе как-нибудь одолеем…» Таков сценарий, такова ее реплика. Но произносить ее Фредерика не спешит. Может, даже без Пола – Зага, без Гусакса и без «Тигров» у них с Джоном все равно не сложилось бы. Как знать наверняка?
Джон прочитывает ее мысли:
– Я тебя замучил своими скучными делами.
– Ну уж нет, с тобой не скучно! – смеется Фредерика. – Скорей страшно. Что ты надумал?
– К «Тиграм» я не пойду. Хочу нормальной жизни. «Тихо-мирно» – это, знаешь ли, до упоения хорошо. Но Гусаксу, видимо, нужно написать и объяснить, что я думаю и почему против… Не хочу писать. Ненавижу писать, мысль привязывать к бумаге: всегда выходит приблизительно, всегда не то, ложь выходит.
– Я сама с ним поговорю. Я ведь на днях его увижу. Жако готовится «Башню» защищать, всех своих звезд созвал на совет: Гусакса, Холли, Филлис Прэтт. Меня тоже зовет – для усмирения Джуда. Сообщил мне недавно, что некая вузовская дева выступала на процессе о «Любовнике леди Чаттерли», доказывала, что книга ее не растлила. Думаю, намекает. Ну, не знаю, я себя плохо представляю в суде в роли нерастленной девы, защищающей «Башню». Вообще, Жако взвинчен ужасно, для него это вроде священной войны. Джуд тоже, но у него все крутится вокруг собственной персоны – даже осунулся.
Отчетная выставка в училище до сих пор называется «дипломной», хотя теперь вместо диплома о прохождении курса студенты получают бакалаврскую степень. Ясным воскресным днем Фредерика и Агата собираются на выставку с детьми. За компанию увязываются Климент и Тано. Да и не только они: Джон приходит «послушать сказку», остается обедать, как иногда делает, и в итоге отправляется в училище вместе со всеми.
Выставка удалась. Особенно хорошо и умно, что просторные студии поделены перегородками на «коробочки» по числу художников, так что из одного мира вдруг переходишь в совершенно другой. Вот сельские пейзажи насупились грозой, и тут же – абстракция, где линии и пятна слились в яркие, желто-пурпурные ромбы и полумесяцы. А вот коллажи: бородатые господа с пышными бюстами и ножками в сетчатых чулках и туфлях-лодочках то ли дерутся, то ли милуются с гигантскими морковями и плюшевыми зайцами. И снова перемена: классически выписанные люди стягивают с себя мягкие резиновые маски. Фредерика, уже кое-что понимающая, отмечает легко и разнообразно выписанные трещинки, желобки, складки, фактуры, странно удвоенные глаза, вывороченные резиновые глазницы. Еще она видит, что художница Сьюзи Блэр училась у Десмонда Булла. Сьюзи сдает Фредерике очень правильные сочиненьица («Женские образы в романе Дж. Остин „Эмма“»). На тех ее листочках и тени не видать неотступно-жадного разума, что так ловко подделывает маслом плоть и пластмассу. Фредерике упоителен этот разрыв между писаниями художников и их творениями – такого она и вообразить не могла, даже у самых слабых своих подопечных. Вот еще коробочка, сновиденные миры с налетом ар-нуво и название: «Край печали». По всему ожидаешь китча, но что-то тут есть и кроме. Раздается голосок Саскии:
– Видите огоньки? Вон там, зелененькие!..
Художники тем временем пьют вино из хрустких пластиковых стаканчиков. Все вокруг припорошено пыльцой от растоптанных чипсов.
А вот коробочка почти пустая, тут только три холста, красный, белый и синий. И предсказуемая надпись: «Cоединенное (ли?) Королевство». Фредерика со товарищи торопится мимо.
Дальше идет иллюстрация и промышленная графика. Тут первая задача художника – уловить око смотрящего. Ларкин не обманул: задал студентам «Башню» на иллюстрирование и разработку рекламных плакатов. Джуд тоже здесь. Он строго озирает работы, готовый наскочить на робкого посетителя и торжественно все разъяснить наподобие Старого Моряка из поэмы Кольриджа. Увидев Фредерику, Джона и Агату, он спешит им навстречу.
– Извольте видеть: творения кисти, порожденные запретным творением пера. Впрочем, будем надеяться на лучшее. Как вам все это? Кто получит приз за самый прозрачный намек на содержимое книжицы?
– Это вонючка, но не тот, а другой, – сообщает Саскии Лео, стараясь говорить шепотом. – К маме много вонючек ходит.
– Шибает знатно, – солидно соглашается Климент.
– Замолчите, гадкие дети, – изрекает Джуд. – Ребенок в обществе должен молчать, пока его не спросят. Вам повезло, что вы не доросли до стендов и не видите мою коллекцию башен. Теперь отправляйтесь вон туда: там дева с благими намерениями миленько нарисовала сказки Перро. Изучите ее Кота в сапогах и Серого Волка, а потом поделитесь мнением. Оценивать прошу по десятибалльной системе.
Обложки к «Башне» разные, есть банальные, есть умные и с подтекстом. Вот, например, нечто в красочном, полудетском стиле Хокни[226]: кавалер в парике с буклями и дама в кринолине вперились друг в друга c неубедительным вожделением. Два-три замка, где к старинной, зубчато-каменной Германии подмешался Дисней. Долгая процессия карапузов, похожих на опарышей, с розами в руках уходит в замковые ворота и пропадает в темноте. Трое – не то сияющие Старцы Блейка, не то волхвы – стоят на башенной стене, вокруг мечутся стаи черных птиц. А тут вот – просто Брейгелева недостроенная Вавилонская башня, обветшалая, заплетенная дикой зеленью. Из окон, изо всех отверстий ее алеют яркие язычки – это кровь сбегает по карнизам. Джуд одобрительно кивает:
– Автор перемудрил со шрифтом: буквы сделаны из игл и булавок, но вообще обложка получше прочих. У остальных какие-то ужасные люди нарисованы, не мои. Они только мешают, заслоняют моих людей.
– А вот это неглупо придумано, – говорит Агата.
Перед ними полуабстрактное яблоко или что-то вроде, с вертикальной бороздкой меж кругло рдеющих щечек. Плод обвивает ядовито-зеленая змеевидная штуковина, острым концом уже зарывшаяся в мякоть.
– Бред, – фыркает Джуд.
– А по-моему, шутка неплоха, – возражает Агата негромко и низко. – Cul-vert[227] и Роз-задница. Вот оно, все в знаках зрительного языка.
– Вижу и отвращаюсь.
– На твоем месте я бы тоже отвращалась, наверно. Но я не ты, и мне это кажется остроумным. Надеюсь, автору хорошую оценку поставили.
– Хорошую, – подтверждает Джуд. – А теперь узрим мою славу и позор.
Подгоняемые Джудом, все спускаются в столовую, где выставлены работы по основам натурного рисунка. Здесь, среди прочих, им предстает голый Джуд, воплощенный мелом, углем, пастелью, гуашью, карандашом, акрилом, маслом. Нечто безлицее, длинно-костистое, укутанное волосами, – это Джуд. Дотошно прорисованные соски и член, бронзово-зеленые на серой бумаге – тоже он. Он – мягкие, мягкие штрихи свинцового карандаша, до жути точно воссоздающие бегемотово-серый отлив его кожи. Он царственно восседает в позолоченном кресле и лежит, свернувшись зародышем, на пышных и смятых подушках. Он – сухожилия, шишковатые колени, жилистая шея, розовая чешуя цыпок. Он – орлиное высокомерие и тоска, прячущая глаза.
Трое мальчиков молча переходят от картины к картине, но взрослые видят, что они украдкой сравнивают изображения его причинного места. Лео указывает пальцем и шепчет что-то Клименту. Тот кивает.
– Однако же я являю поучительное зрелище, – отмечает Джуд.
– Тебе нравится смотреть на себя – такого? – спрашивает Агата.
– Портреты подтверждают, что я существую. И что мы видим себя не так, как видят остальные (это я, впрочем, и раньше знал). И что голени у меня в определенном ракурсе не пропорциональны ни друг другу, ни прочим частям моей анатомии…
Откуда-то издали, из коридорных недр, доносится музыка. Играет джазовый кларнет. Полое дерево выдыхает прозрачную мелодию, долгий-долгий плач, перелив арпеджио, безответные жалобы. Все идут на звук. Кое-где на дверных ручках косо висят таблички, красными чернилами выведено слово: «ПЕРФОРМАНС – ТАМ». Перформанс пока еще не входит в программу училища. Мало кто из посетителей идет по табличкам, но Лео с друзьями тянут взрослых за собой. В хранилище скульптур, торцом выходящем к гаражам и стоянке, устроен небольшой помост, покрытый черным бархатом в меловой пыли. За ним – высокая сварная скульптура, выкрашенная в ярко-красный цвет: подобия стремянок громоздятся друг на друга и щетинятся подобиями клинков. Справа сбились в кучку гипсовые слепки с классиков, сколотые и от времени ноздреватые: невыразительный Аполлон, шатко прислоненный к смешливому Пану на козлиных копытцах, безголовая Афина с эгидой-Горгоной, конская голова, кентавр-маломерок. На левой части помоста Пол Оттокар играет на кларнете. Перед ним ноты на красивом золотом пюпитре, он во фраке и белом галстуке и сам красив, как классическая статуя. Справа что-то вроде клетки из длинных цветных трубочек от детского конструктора. Внутри человек в костюме птицы. У него пухлый ярко-желтый зад с хвостом из настоящих перьев, ноги в сморщенных желтых колготках оканчиваются большими когтистыми лапами (каркас из проволоки, замазка, изолента). Туловище вымазано дегтем и облеплено перьями, на голове высокий зеленый хохол. Лицо скрывает индейская птичья маска, поверх которой приспособлен длинный, как бабочкин хоботок, острый клюв из алюминия с розовой люминесцентной полосой сбоку. Этим клювом странное существо монотонно стучит в большое металлическое блюдо с черно-белым спиральным рисунком, лежащее у его лап. Стук идет вразрез с мелодией кларнета. Время от времени человек-птица вскидывает и бессильно опускает крылья, тогда раздается короткое стрекотанье трещотки.
– Это Донг с фонарем на носу[228], – говорит Саския. – Искал свою ненаглядную и забрел сюда.
– А вот вонючка. Который второй. Второй Джон, – сообщает Лео, пристально глядя на Джона, дабы убедиться, что их точно два.
Джон стоит в тени слепков и слушает с легкой улыбкой. Кроме них, тут только Десмонд Булл. Он чмокает Фредерику в щеку и улыбается Джуду.
Пол ненадолго обрывает мелодию, но молчит и на вошедших не смотрит. Его товарищ стучит с одержимым упорством. Пол кланяется, садится и начинает адажио из Моцартова Концерта для кларнета с оркестром. Человек-птица стучит, и кажется уже, что это какой-то неживой настырный механизм. Красивая мелодия течет, порой вскипая пузырьками. Клюв долбит металл. Фредерика пытается не слушать стук, но не может. Птичий человек хлопает крыльями, трещотка верещит, мелодия набирает силу. Человек вдруг перестает, и на какую-то секунду в тишине одиноко звучит тоненькая трель. Затем он принимается виртуозно изображать голос курицы, только что снесшей яйцо. Дети смеются: и правда, очень похоже. Музыка поет. Птичий человек опять стучит. Потом перестает и производит новую серию звуков: курица, истошно квохча, удирает от хозяйки, но тщетно: вот ее настигли и свернули шею. Человек давится, всхрипывает, сипит. Дивная музыка течет мимо. Фредерика думает: а в чем задача всего этого действа? Маловата задача, или я чего-то не понимаю.
В те годы похожие мысли приходили ей нередко.
Вот музыка кончилась. Пол закрывает ноты, складывает пюпитр, достает откуда-то спички и поджигает клетку.
– Осторожно! – вскрикивает Булл.
Пластик вспыхивает понизу, чернеет и перестает быть. Сооружение заваливается. Кларнетист и птица отвешивают поклон и сходят с помоста.
– Это все? – спрашивает Лео.
– Все, – без улыбки отвечает Пол.
– А ничего, смешно, – поразмыслив, замечает Климент.
– От этого голова болит, – хмурится Саския, существо более музыкальное, чем Лео и Фредерика.
Братья стоят плечом к плечу.
– Вот вы клетку сожгли, а как же теперь играть будете? – спрашивает Лео.
– А мы и не будем, – с сильным ливерпульским выговором отвечает из-за маски птичий человек. – Мы тут закончили. Теперь в забегаловку идем, спагетти есть. Хотите с нами?
– Хотим. Спагетти – это отлично, – говорит Джон и оборачивается к остальным. – А вы?
В итоге идут все, благо «Спагетти-хаус» как раз за углом.
Вроде все естественно: случайно встретились братья, друзья решили после выставки посидеть в ресторанчике. А птичьего человека зовут Сило. Под настырным клювом и маской у него оказывается бледное лицо в очках и тощая шея. Фредерика спрашивает Джона, который его, кажется, знает, не происходит ли Сило от silentio[229].
– Нет. Его зовут Сидни Лоув, это первые слоги имени и фамилии.
– Но это можно считать знаком, – встревает Пол. – Не зря же слоги так совпали. Тут может быть некий смысл.
– Из любых слогов можно выудить некий смысл, – возражает Джон.
– Ты эмпирик и националист, – изрекает Пол так, словно в этих словах скрыто тонкое оскорбление.
За обедом все, кажется, довольны. «Спагетти-хаус» отделан в стиле итальянской таверны: деревянные перегородки, скатерти в красно-белую клетку. За каждым столиком счастливые студенты пьют кьянти по случаю выставки. Дети притихли в ожидании карбонары и болоньезе.
– В камень-ножницы-бумагу умеете? – Джон хочет устроить турнир.
– А ты тогда правду сказал? Что у вас всегда одинаково выпадает? – спрашивает Лео.
Пол с улыбкой взглядывает на Джона:
– Ты ему сказал, что всегда?
– Тогда так и было.
– А сейчас? Попробуем?
Это как бороться на руках: дружеское – и все же напряженное – испытание силы. Братья сидят напротив. Вот разом выкинули ладони. Бумага. Еще! Камень. Еще! Камень-камень. Камень-камень. Камень-камень. Ножницы-ножницы. Бумага-бумага. Ножницы-ножницы. Камень-камень. Камень-камень. Фредерика смотрит с тревогой.
– Закон средних чисел на вас, похоже, не действует, – удивляется Булл.
– Вы что, мысли друг у друга читаете? – спрашивает Сило.
– Не читаем, знаем, – отвечает Пол. – Просто – раз! – и сразу знаем.
Ножницы-ножницы. Бумага-бумага. Камень-камень.
Братья глядят победно.
– Помнишь, как мы пели? – спрашивает Пол и принимается напевать: – Все равно тебя я лучше, все равно во сто раз лучше!
– А вот и нет! – подхватывает Джон.
– А вот и да!
– А вот и нет!
– А вот и да!
– На самом деле бывало по-разному, конечно, – говорит Пол.
Фредерика не видела их вместе с Ночи Гая Фокса. Лео, Климент и Тано принимаются подпевать:
– Все равно тебя я лучше!..
А я-то считала, что они соревнуются из-за меня, думает Фредерика. Ее особое, неестественное и недолго продлившееся положение женщины в Кембридже, где на одну Еву одиннадцать Адамов, придало ей женскую самоуверенность, возможно даже излишнюю. Самые заурядные женщины в университетских стенах превращались в королев. Теперь же она видит, что дело не в этом, по крайней мере не совсем. Это она соревнуется с каждым из братьев за внимание второго. И проигрывает. Вот они сидят довольные, с улыбкой выкидывают одинаковые руки: камень-ножницы-бумага. У них нет ни победителя, ни проигравшего и нет разделяющей черты между ними. Они как лезвия одних ножниц. Или как Джон Донн сказал:
«Кого Господь сочетал, того женщина да не разлучит»[231] – у Фредерики вот-вот вырвется наружу злой, отчаянный смех. Коротко в памяти: они с Джоном, нагие, слитные, освященные ее кровью. Десмонд тайком просовывает руку ей за спину, соскальзывает ниже, крепко и уверенно скругляет ладонь. Фредерика его не отталкивает.
Близнецы запевают снова, и все весело подхватывают:
Саския и Агата высоко заводят чистые голоса. Тано сил не жалеет, поет от души. Славная компания, веселый вечер.
– Фредерика, все в одну сторону поют, а ты в другую!
– Охотно верю, Пол. Со мной всегда так. Музыка – не мое, слуха нет.
– Если хочешь, мы тебя распоем. Вряд ли ты совсем без слуха, так очень редко бывает. Научишься.
– Не научусь. Не могу. Я лучше просто помолчу, раз я ваш слух оскорбляю. Побуду в роли публики.
Пальцы Десмонда шажками перебираются по туго натянутой ткани.
Напротив – два лица: одни и те же вопросительно приподнятые брови, одно и то же очаровательное и грустное выражение. Двое едины.
– Ну что же вы? Пойте дальше! – сердито требует Лео.
Три – три соперника.
Два – два братца-сорванца в зеленых сорочках, о!
Один – всегда один, так один и будет[232].
Наслоения
Инструкция по применению. Каждая таблетка в контурной упаковке помечена днем недели. Принимайте их ежедневно в одно и то же время, запивая водой. Будьте внимательны: в случае пропуска таблетки защитное действие может быть снижено! После приема всех таблеток из упаковки сделайте недельный перерыв. В это время возможно кровотечение, отмены с выделениями от мажущих до обильных. Кровотечение отмены – не менструация. Оно необходимо для очищения матки и не должно вас беспокоить. Если обильные кровотечения продолжаются в течение нескольких циклов, посоветуйтесь с вашим врачом. Возможно, он изменит дозировку препарата.
И вот наконец постучались в дом, где жила Золушка. То-то обрадовались злые сестры! Старшая закричала:
– Эта туфелька моя! Она мне как раз впору!
Мачеха приложила ее ногу к хрупкой туфельке и сказала:
– Никогда она тебе не придется. Но ничего, вот нож. Я отрежу тебе пятку, и ножка войдет как по маслу. Только смотри не реви. Невелика цена – пятка за Принца и полкоролевства!
Так они и сделали. Гордо вышла Старшая сестра к Принцу, показала толстую ногу, повертела обрубком в блестящей туфельке:
– Глядите! Как раз впору пришлась!
Но верный герольд заметил, что в хрустальной туфельке собирается темная кровь и течет на землю. Он велел Старшей сестре снять туфельку. Тут все увидели обрубок, а Старшая сестра оказалась навеки опозорена.
Средняя сестра и бровью не повела, видя несчастье Старшей. Она принялась засовывать ногу в прелестную туфельку, но на ногах у нее были костяные шишки. Сколько ни старалась она, сколько ни пыхтела, а толку не вышло.
Тогда Мачеха взяла топорик, которым рубила курам головы, в один миг отхватила ей большой палец, а рану в этот раз перевязала тряпкой. Примерили снова. Туфелька туго, а наделась.
Кое-как, хромая, вышла к Принцу Средняя сестра и гордо показала ногу. Но тут серая птичка на дереве, что цвело и плакало над могилой Золушкиной матери, просвистела: «В туфельке кровь! В туфельке кровь!» Герольд подошел поближе и увидел, что туфелька полна крови, а Средняя сестра едва держится на ногах от боли. Так и вторую сестру постиг позор, и она убежала прочь, сокрушаясь и плача.
Герольд спросил:
– Есть ли еще девушки в этом доме?
– Нет, – солгала Мачеха, но Золушкин отец сказал:
– Есть. Но это всего лишь наша Золушка, что возится на кухне вся в золе.
Тогда позвали Золушку, и она пришла и протянула свою милую ножку в грубом чулке, перепачканном золой и сажей. Туфелька села на нее как влитая. Когда Принц увидел, что туфелька пришлась впору, он узнал в маленькой замарашке красавицу, с которой танцевал на балу, и сказал:
– Потеря нашлась. Вот та, которой принадлежит мое сердце!
Принц и Золушка поехали во дворец, а серая птичка на дереве глядела на них и пела.
Вопрос. Кто отмывал свернувшуюся кровь – дважды! – прежде чем Золушка вставила в туфельку свою девственную ножку?
«Я не так привязана к жизни, чтоб жаждать ее продолжения, и не вижу в смерти достаточной беды, чтоб ее страшиться, но как знать: если Смерть занесет надо мною руку, может, кровь и плоть моя воспротивятся и пожелают ее избегнуть…»
Елизавета I
Суд, день 11:
– Как я понимаю, у вас был разговор с бабушкой?
– Нет, она только покричала нам вниз, спросила, что за шум. Я ответила, что это собака лает. Я не говорила, что мне магнитофон на ногу упал, это неправда.
– Но он упал тогда же, когда бабушка услышала крик жертвы?
– Нет.
– Вам не кажется странным, что крик уже стих, а она все равно спросила?
– Нет. Она, наверно, спала и от шума проснулась. Пока встала, пока дошла до двери, уже тихо было.
– И вы не хотели, чтобы она знала?
– Да, я ей сразу покричала, что все в порядке. Если бы она спустилась, у нее, наверно, разрыв сердца был бы.
– У вас были пятна крови на туфлях?
– Да. Брызнуло, наверно. Я их в гостиной оставила. Они на высоком каблуке.
– Сегодня одиннадцатый день заседания. Ранее вы упоминали, что туфли остались в гостиной и вы были босиком?
– Нет.
– Внутри туфель есть следы крови?
– Нет.
– Потому что вы были в туфлях, и брызги внутрь попасть не могли?
– Нет.
– Вы сейчас в тех же туфлях, что в день убийства?
– Да.
– Покажите, пожалуйста, какую-нибудь одну.
Секретарь передает туфлю генеральному прокурору.
– И вот в этих туфлях вы были на пустоши?
– Да. Я на улицу всегда надеваю туфли на каблуке. Мы туда на машине поехали, ходить не собирались, только остановиться.
История о камне
Питер Стоун – скульптор с каменным именем[234], студент Художественного училища Сэмюэла Палмера. Щуплый, сутуловатый молодой человек с землистым рябым лицом, вялым ртом и шапкой бесцветных волос, вечно покрытых каменной пылью. Потом мне показали, над чем он работал. Это был небольшой менгир, белый мрамор с розовыми прожилками. Его выставляли в конце учебного года: цилиндрической формы, со скругленным верхом. Стоун отделал его столь безумно-странно, что у камня получились живые ямочки, оспины, сухожилия, и от этого он поблескивал то здесь, то там. Совсем не похоже на классический гладкий мрамор. Небольшой камень, метра полтора в высоту. Привыкнув искать в новом искусстве приметы бунта, я решила, что автор отрицает засилие сварного металла, литой пластмассы и стеклопластика. В тот год его менгир единственный выставлялся в разделе каменной скульптуры. Я была наблюдающей у Стоуна на последнем экзамене – последнем во всех смыслах. Он сидел, кажется, на предпоследнем ряду. Дело было в большой студии, куда на время поставили парты и стулья. Он вошел, широко улыбаясь, сел и принялся озираться по сторонам. Довольно долго ничего не делал, только ерзал и как-то подрагивал лицом. Потом начал писать очень крупным и каким-то безликим почерком. Несколько раз брал себе еще бумаги. Потом стал выходить. Поднимет руку, выйдет, вскоре вернется, напишет немного (слова огромные), возьмет бумаги и опять выскочит в коридор, сея с волос каменную пыль. На это никто не смотрел: там целая студия сидела таких же чудаков-художников. Под конец дошло до того, что он писал по одному слову на странице, выбегал, возвращался, писал новое слово и опять выбегал. Стопка листков росла. Потом он выбежал и больше не вернулся. «Обкурился наш менгир до окаменения мозгов», – сказал кто-то из студентов. Мы засмеялись. Экзамен кончился, я заглянула в его работу. Раз за разом огромными, круглыми, по-детски слепленными буквами там была выведена одна и та же фраза: «ИЗ КАМНЯ КРОВИ НЕ ВЫЖМЕШЬ».
Позже выяснилось, что в тот же день он на станции «Холборн» сбежал по эскалатору, идущему вверх, выскочил на платформу Центральной линии, раскинул руки и прыгнул навстречу поезду. «Мгновенная смерть», – повторяли все подряд, потому что так заведено в подобных случаях. Может, он уверовал, что способен летать, может, из-за экзаменов сдали нервы – этого никто не знал. Наверно, было много крови. Машинист упал и никак не мог встать, больше на работу не вышел. Камень, кровь, слово – история столь изящно прямолинейна, что кажется, ее создал сам язык, так не бывает. Бывает. Это обычная история наших дней, и удивительно в ней только то, сколь невероятно, таинственно, блистательно-точен может быть язык.
Но Шелоб была не чета драконам: у нее уязвимы были только глаза. Шкура ее обросла чешуей из окаменелых нечистот, а изнутри наросло много слоев гнуси. Широкой раной вспорол ее меч, но пронзить этот гнусный панцирь не могли бы ни Берен, ни Турин, ни эльфийским, ни гномским оружием. Безвредно вспоротая, она вскинула тяжкое брюхо высоко над головой Сэма. Рана пенилась и сочилась ядовитым гноем. И, широко расставив ноги, она с мстительной силой обрушила брюхо на Сэма, но поторопилась: он устоял на ногах, обронил свой клинок и направил острием вверх эльфийский, держа его обеими руками, и Шелоб в смертельном ожесточении нанизалась на стальной терн так глубоко, как не вонзил бы его ни один богатырь. Тем глубже вонзался он, чем тяжелей и беспощадней придавливало Сэма к земле зловонное брюхо.
Такой страшной боли Шелоб не знавала за все века своего безмятежного злодейства. Ни могучим воинам древнего Гондора, ни остервенелым, затравленным огромным оркам не удавалось даже задеть ее возлюбленную ею самой плоть[236].
Морис Ричардсон, «Обсервер», 8 мая 1966 г.
«Если бы они были нормальными, то давно бы рехнулись» – так сказал об убийцах с пустошей швейцар местной гостиницы, и эти слова врезались мне в память. Чудовищные преступления Иэна Брейди и Майры Хиндли можно описать лишь в терминах гегельянской – или ирландской – логики противоречий. Но можно ли их объяснить? Легко рассуждать о том, что все мы прошли полиморфно-перверсную стадию детских изуверств, что подсознание мирного обывателя – бурлящий котел садомазохистских импульсов. Тем более легко, что это правда. Но в тщательно подготовленных и бестрепетно осуществленных зверствах не было ничего импульсивного, и я скорее посочувствую Джеку-потрошителю, чем этим двоим. К слову, странное за ними закрепилось двойное прозвание: Брейди и Майра.
Необычен и фактор двойственности. Впрочем, Folie à deux – индуцированный психоз, безумие на двоих – для специалистов не новость. Истерический тип, полюбив шизофреника, перенимает его бредовые представления, но стоит их разлучить, и истерик вернется в прежнее состояние. Согласно Фрейду, истеричные женщины склонны разделять извращения своих любовников…
На скамье подсудимых.
Брейди долговяз, худощав и костист. У него худое лицо с прямым, торчащим носом и плоским лбом. Темно-каштановые волосы, чистые и опрятно причесанные, почему-то припорошены пылью. На нем серый костюм и голубая рубашка с мягким ультрамариновым галстуком – безликая одежда, не скажешь какого времени (Дэвид Смит, его бывший приятель, а ныне свидетель обвинения, одет по последней моде). Сразу бросается в глаза, что Брейди землисто, нехорошо бледен. Он выглядит тяжелобольным. Майра, напротив, цветет и каждую неделю по-новому красит волосы. Вначале они были у нее серебристо-сиреневые, теперь канареечно-желтые. Майра – крупная девушка с эффектным лицом: классический нос, красиво очерченные, хоть и тонковатые, губы, решительный подбородок и голубые глаза. Анфас она почти красива, этот тип очень ценился в Викторианскую эпоху. На ней черно-белое крапчатое пальто и голубая блузка с раскрытым воротом – в тон рубашке Брейди. Я склонен подозревать, что она подражает ему во всем, вплоть до аккуратно сложенного носового платка. На первый взгляд, в части нарядов она не уступит светской даме, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что все это – дешевый шик с приторным душком сахарной ваты.
Оба они постоянно что-то записывают и перегибаются через барьер, чтобы ткнуть карандашом в спину господина Фицпатрика, привлекая таким образом внимание своего неунывающего защитника. Время от времени они передают друг другу пакетик мятных леденцов. Во время показаний Дэвида Смита Майра вдруг посылает любовнику быструю, лукавую улыбку. Когда Брейди приходит очередь отвечать, Майра не сводит от него глаз. Когда спрашивают ее, он рисует в блокноте рожицы.
Я обедал в забегаловке с несколькими молодыми детективами, каких много работает над этим делом. Говорили о современной молодежи, о насилии, цензуре, попустительстве и так далее. Один из собеседников, знаток грешков свингующего Манчестера, заметил, что в обществе распространяется опасный дух разврата. Слово «фетиш» вошло в повседневный лексикон. Он даже видел рекламу виниловых плащей: «Ваш новый фетиш». «Говорили бы прямо: плащи для извращенцев», – громко возмущался он. Реакция, может быть, чересчур уж пуританская, но после процесса над убийцами с пустошей мы будем наблюдать ее все чаще.
Читая об этом деле, я не пытался представить его кровавые подробности. Но в суде, ближе к вечеру, поймал себя на том, что воображаю, как разделался бы с теми двумя на скамье подсудимых – неплохое напоминание о темных тайнах подсознания. Я, помнится, даже задавался вопросом, сколько мне заплатят за автобиографию, если я в костюме Бэтмена спрыгну на преступников со зрительской галереи и дам волю гневу.
Сейчас два часа ночи, а я не сплю, потому что какому-то исчадию Сатаны вздумалось надавить на гудок по пути с попойки, – ночные клубы, оказывается, завелись и в Честере. Я стараюсь найти подходящую цитату в «Святом Жене» Сартра. Книгу любезно одолжил мне мой здешний приятель, считающий, что Брейди мог бы стать, в каком-то смысле, противоположностью Жене. Я склонен возразить: во-первых, это весьма непросто, а во-вторых, у него нет таланта, которым Жене столь несомненно наделен. Возможно, вот эти строки подойдут: «Следовательно, злодей и есть Другой. Зло – изощренное, многоликое, скрытное – можно увидеть лишь краем глаза, и именно в других… Наш Враг – близнец наш, наше отражение… Поэтому Общество в мудрости своей сотворило тех, кого я назову профессиональными злодеями.
Хорошим людям злодеи столь же необходимы, как шлюхи – порядочным женщинам. Они – абсцессы, в которых скапливается общественный гной. На одного садиста приходится множество обывателей с утоленной, чистой, спокойной совестью. Поэтому кандидаты на роль злодея отбираются со всей возможной тщательностью. Настоящий злодей должен быть порочен безнадежно, от самого рождения…»
Гм. Кажется, я знаю, что ответил бы на это судья Фентон Аткинсон. И я склонен с ним согласиться. У нас наблюдается явный излишек злодеев.
Наступают летние каникулы. Лео на лето поедет в Брэн-Хаус. Это смутно напоминает размеренный порядок жизни, и Фредерика отчасти надеется, что Лео именно так и думает. Но это неправда, конечно. Все шатко, на нее давят, ей угрожают. Адвокаты Найджела засыпают ее письмами. Она режет их на куски и вклеивает в «Наслоения».
Пора подумать и о собственном лете. Может быть, она поедет в Йоркшир. Ее размышления прерывает телефон, это Джон звонит с работы. Ни эту работу, ни дом его Фредерика еще не видела. Живет он, кажется, где-то у Эрлз-Корт, а работает – тут ей представляется просторное помещение с огромными, до блеска чистыми, сдержанно гудящими машинами. На стенах мерцают сине-серые экраны с какими-то графиками, машины спускают из прорезей бесконечные гармошки хрусткой белоснежной бумаги со столбцами странных слов бинарного языка. А вот и Джон, окруженный такими же, как он, торжественно серьезными людьми в строгих костюмах и даже, кажется, в белых лабораторных халатах. Прохладные металлические жалюзи, блестящая стальная мебель… Наверно, у них там все по-другому, но так уж ей видится.
– Сходим вечером в ресторан? Ты свободна?
– Думаю, да. Я найду кого-нибудь, чтобы посидел с Лео. Агата сегодня поздно придет. Попрошу кого-нибудь из студентов.
– Тогда «Chez Victor»[237], в восемь.
Фредерике нравится этот ресторанчик, маленький, темноватый и по-французски изысканно-простой. Тут настоящая французская кухня, тут резное стекло и темно-зеленые стены – все это напоминает ей раскаленный Прованс, чету Гримо, вино и чеснок. Она надела черное льняное платье-чехол много выше колен, а сверху накинула шаль черного шелка с длинной мерцающей бахромой, вышитую кремовыми, капустной пышноты, розами и золотыми лилиями. Фредерика научилась подводить глаза, чтобы взгляд удивленно распахивался и чернел, научилась удлинять ресницы тушью. Ее угловатая непоседливость исключает сравнения с куклой, но что-то кукольное все же видится… Широкий рот она подкрасила бежевой помадой с шоколадным подтоном – светловато и не вполне ей идет. Джон в своем обычном костюме. Фредерике он нравится таким, она боится всю жизнь прожить средь неухоженных филологов с клочковатыми бородками и обвислыми толстыми свитерами. Они старательно – во всем – избегают четких линий, а она как раз это и любит. Джон в костюме, со светлыми волосами, длинноватыми, но хорошо подстриженными, – четкая линия и четкий очерк. И антураж ему к лицу: серьезный мужчина, серьезная еда. Они едят паштет, марсельский суп из разных рыб, ската в черном масле, антрекот под беарнским соусом, гратен, превосходный салат, непревзойденный лимонный тарт. Говорят о лете.
– Я, наверно, поеду во Фрейгарт.
– Там прекрасно.
– Да, было несколько хороших дней.
– Не просто хороших…
Фредерика чувствует его напряжение:
– Хочешь приезжай. У тебя отпуск будет?
Обычно она никогда не зовет его, ждет, пока он сделает первый шаг. А теперь вот не выдержала, открылась.
– Конечно хочу! Конечно…
– Но?..
– Ты сама знаешь. У «Тигров» будет месяц духовных поисков в Четырех Пенни. От Тимоти Лири приедут люди, еще буддисты какие-то. И Гусакс. И Пол, конечно, там будет. Гусакс мне опять письма пишет. – Джон не смотрит на Фредерику, изучает крахмальную скатерть. – Пол хотел, чтобы я спросил тебя: ты приедешь?
– Боже мой, нет, конечно! – отрезает Фредерика, в которой вмиг восстало все существо. Смотрит на его печально-задумчивое лицо, опущенное, чуть подсвеченное белой скатертью в темно-зеленом зальчике. – Прости, я не хотела так… Просто я неверующая и ненавижу всякие группы, собрания… Ненавижу, когда давят, хотят, чтобы я влилась, растворилась, стала не я. Я не вынесу просто, не смогу.
– Я так ему и сказал. Слово в слово.
– И?
– Он сказал: «Именно поэтому она должна приехать. Она сама не знает, чего она не знает».
– Может, он и прав. Но я уж лучше продолжу жить в неведении. Если ты не против, конечно. Наберу с собой книг побольше и поеду на север читать, писать. Вольюсь в свою семейку, ибо тут у меня выбора нет.
– Я тебя потеряю.
– Кто знает, может, и нет. Но мы должны понять, что нам важно. Я не могу тебя – вот этого тебя – представить в их дурацкой соборной любви, со стонами, «омами», выворачиванием души наружу. Но у людей много сторон. Во мне тоже есть такое, что ты и представить не можешь.
– Это все не так. Нет там ни стонов, ни «омов».
– Я знаю… Я сейчас зря говорю, зло. Давай прекратим.
– Квакеры молчат… – начинает Джон и тут же обрывает.
– Квакеры?
– Когда я был маленький, мне в молчании было легче с людьми, не так больно. И потом тоже. Квакеры – это ведь были самые обычные люди – молчали, и я молчал. И через какое-то время в этом вот молчании я не то что терял себя… Просто весь шум уходил, вся муть, и мы молчали вместе. Я не сливался со всеми, никто ни с кем не сливался – я бы сам этого не вынес, точно так же как ты. Но в этом была правда, понимаешь? Без «Тигров» я бы, честно сказать, обошелся, но вот это – молчание, правда… Нет, словами не скажешь. Я вот говорю: «правда», а ты не знаешь, что я хочу сказать, и слово ничего не выражает.
– Может быть, и знаю.
– В общем, мне без этого трудно, и я должен… Вряд ли в Четырех Пенни это будет, но ведь есть еще Пол. За ним приходится смотреть, тут уж ничего не сделаешь.
– Я понимаю.
В эту минуту она любит его. Она могла бы словом «любовь» назвать то, что рождает в ней его пристальная правда.
– Я тебя потеряю.
– Может, и нет, не знаю. – Она хочет честностью ответить на честность. – Я тут наговорила тебе всяких гадостей, но ведь я правда все это не выношу. «Тигров», химический экстаз, всеобщие объятия. Меня это…
– Отвращает.
– Да.
– И я отвращаю. Не нужно мне ехать, ради себя – не нужно. Но Пол…
– Ты же хотел быть от него отдельно.
– И сейчас хочу. Ничего не изменилось. Но мне иногда кажется, что Гусакс может помочь.
– Правда?
– Уверенности нет. Я вообще не знаю, в чем я уверен. А Пол знает, в том и беда. В каком-то смысле я сильней, крепче. Но у него зато есть убеждения, он уверен своих чувствах, он одержим…
– Вас двоих я не выдержу.
– Конечно… Так я тебя и потеряю.
Джон уперся взглядом в скатерть. Фредерика пробует лимонный тарт, на языке сладко и терпко. Не нужна ей никакая химия: вот они, сладость и кислинка, и запомнятся, может быть, навсегда.
– Решать тебе, – говорит она.
Он поднимает голову:
– Я поеду с тобой. Я не хочу тебя потерять – вот что для меня важно. У нас будет своя тишина, свое молчание.
Он хочет коснуться ее руки. Фредерику охватывает страх: вдруг она обещала больше, чем может дать, вдруг ненароком взвалила на себя все то сложное, что связывает братьев?
Джон слышит ее мысль:
– Не нужно ничего обещать. Просто поедем и отдохнем.
Фредерика берет его за руку – теплая ладонь, сухая. Хорошая. Они расплачиваются и едут на метро обратно в Кеннингтон.
На Хэмлин-сквер почему-то толпятся люди. Вон семейство Аджьепонг, вон Аттеры. Примелькавшийся человечек с маленьким кашляющим «остином» выглядывает из-за машины. В доме 42 дверь настежь, из освещенной рамы тревожно тянут шеи Лео, Саския и эрзац-бабушка. Фредерика с Джоном выходят с «ручки» на круг «сковороды», и в этот миг по лестнице, ведущей из Фредерикина подвальчика, взлетает золотое существо и, мелькая ногами-ножницами, в три длинных балетных скока достигает проплешины посреди площади. У него треплются волосы, на нем какое-то длинное переливное одеяние из прозрачного винила в радужных разводах, похожих на бензин в луже. Винил шуршит и посвистывает. Существо – это мужчина – бережно кладет что-то большое на старое кресло, завалившееся набок среди взрытой глины, где чернеют еще следы праздничного костра. Мужчина нагибается над креслом, и тут же площадь наполняет музыка – не поп-радио, а Брунгильда в огненном круге[238]. Почему-то никто из зрителей не шевелится, все вокруг застыли. Мужчина достает бутыль от кьянти в соломенной оплетке и, совершив ритуальное возлияние на кресло, принимается поливать какие-то книги, которые – теперь Фредерика их разглядела – стопками-башенками окружают проплешину. Он то ли поет, то ли просто мычит – это уже не Вагнер, а что-то смутно-экстатическое. Он приплясывает, раскинув руки, в фонарном свете, под плащом он совершенно голый и покрыт узором: золотые и бордовые линии обвивают руки и ноги, концентрическими кругами ложатся на грудь, превращая соски в подобие мишеней, гнутся и пересекаются на животе над членом, торчащим из золотого куста волосков. Вот, под множеством взглядов, он достает зажигалку и начинает, как новоявленный Лэтем[239], поджигать книжные башни – их семь, и они довольно высокие. Лицо у него тоже разрисовано: из-под взметнутых волос угрожающе скалится кошачья морда. Он поет и отплясывает среди горящих книг, скачет, кланяется неведомым божествам, строит гримасы, кричит:
– Пляшите, вакханки! Ио Загрей![240]
Это абсурдно и страшно. Книги сперва ярко вспыхивают, потом горят угрюмо и дымно, распространяя неприятный запах. Поджигатель подливает парафина из бутыли. Фредерику, поначалу оцепеневшую вместе со всеми от шума и мерцания пламени, током ударяет страх. Она вырывает руку из руки Джона, кидается к ближайшей башне и хочет пинками ее развалить. Но книги как-то странно слиплись от жара, и вся башня падает разом, рассыпая искры. Фредерика видит корешки с названиями. Это ее книги – те, по которым она учит студентов. Это часть ее самой: «Замок», «Процесс», «Идиот», «Мадам Бовари», «Анна Каренина», «Мэнсфилд-парк», «Падение», «Век разума», «Повелитель мух», «Свободное падение», «Влюбленные женщины», «Говардс-Энд».
Фредерику охватывает безумный, слепой гнев – верней, разумный и оправданный, тем более что все ее заметки, все, что наработано, осталось там, в огне, на исписанных форзацах. Она пытается ногой раскидать книги, сбить пламя, потом бросается к следующей башне: «Потерянный рай», трагедии Еврипида, «Фауст»… Из-за остова кровати выскакивает пестрый человек в прозрачном плаще, из глотки у него рвется вибрирующий кошачий визг. Даже сейчас, окруженная огнем, Фредерика инстинктивно находит le mot juste[241]: «верезг».
– Убью! – хрипло воет она. – Убью гадину!
– Меня нельзя убить! – нараспев возражает Пол – Заг. – Я из огня рожден, для пламени неуязвим…
– Ты мне заплатишь!
Она пытается ухватить его, но Пол, жаркий и скользкий, вывертывается, оставляя на пальцах лишь жирный бордово-золотой грим. Прозрачный винил обжигает ей ладонь, он обмяк и вот-вот начнет плавиться. Пол кидается обратно к креслу и поджигает его. Брошенная на сиденье бутыль взрывается, к темному небу взлетает огненный столп. Пола здорово задело: светлые волосы обгорели, винил с одного бока коробится и течет от жара, испуская густой дым и особенную, едкую вонь. У Фредерики сквозь убийственный гнев пробивается мысль: спасти книги! Она бежит к следующей башне, но Пол – Заг опережает, подскакивает в диком танце, хватает книги и, к ужасу Фредерики, ревниво прижимает к груди. Слышится страшный запах горящий плоти. Пол, оскользнувшись в грязи, валится навзничь. Фредерика поспешно спихивает с его обожженной груди мрачно тлеющие тома. В эту минуту к ней – слишком поздно – подбегает Джон. Он плачет навзрыд. А Пол так и лежит, глядя сквозь фонарную муть в небо, где к черноте подмешались охра и бледное серебро и едва различимо мигают далекие звезды. Боли он пока не чувствует, это будет потом. Подходит Мари Аджьепонг с банкой касторовой мази. Пол бросает на Фредерику лукавый взгляд нечеловеческих глаз, подведенных черным и красным, текущих цветными слезами по золотым щекам. В небе, объявляет он, великанские пауки плетут паутину. Восьминогие твари всех цветов кишат там и черви, что питаются плотью и изрыгают кровь. Укрыться бы от них, но некуда. Над площадью несутся крики Брунгильды, в которых покорство мешается с бунтом. Фредерике кажется, что ее враг остро следит исподтишка, какой эффект его речи производят на зрителей, потихоньку подходящих к проплешине.
– Он на измене, – говорит Мари. – Пройдет. Съел дрянь какую-то, и вон куда его занесло.
– Занесло высоко, – подтверждает Пол. – Если спрыгну, ангелы мои подхватят меня[242]. Измена изменила, пауки за мной гонятся, я упаду, и будет падение мое великое[243]. Я упаду, и все упадет, и что поддерживало, то потянет вниз, а вы будете смотреть – не хотите, а придется… Аааа! Жжет! – кричит он вдруг. После этого слышны только стоны.
– Скорую я вызвала, – говорит Мари. – Сильно обгорел… Его в Рогэмптон повезут, в ожоговое.
И действительно, приближается звук сирены и, обогнув угол, наполняет площадь.
Джон говорит, что поедет с братом.
Фредерика, успокоив Лео, всю ночь разбирает обгорелое свое богатство, отделяя почти нетронутое от безвозвратно погибшего, побуревшие листы от черных, печатные буквы от пепла. Участливые соседи разошлись по домам, и можно тихо плакать. Джон мог бы позвонить из больницы, но не звонит. И на другой день тоже.
XVIII
После дикой эскапады Пола от близнецов – ни слова. Фредерика день-два прислушивается к телефону, потом вспыхивает чем-то похожим на прежний ее гнев и едет в студию Десмонда Булла. Восхищается масками и недреманными коллажными глазами. Пьет стаканами красную «бычью кровь» и, смутная от вина, гнева и скипидарных паров, падает в Булловы объятья на лежащий тут же матрас. Булл в любви напорист и мощен. Паровой молот, думает она. Это сейчас и нужно: трах, бам, разбежались по делам. Она кусает его плечо, царапается, юлит и дразнит как безумная. Ее защищает Таблетка, теоретически они с Буллом сейчас на равных. Без взлетов, без откровений, без пристальной нежности. А впрочем, вполне неплохо: везде, где нужно, туго постукивает и сладко саднит, временами промелькивает живительное забвенье. После – ригатони, сочащиеся тягучим сыром и горячей томатной подливой, страстное обсуждение полосатых картин Патрика Херона. Возможно, это и есть равенство, думает Фредерика, заталкивая близнецов подальше в расселины памяти. А может, она просто ведет себя так, как вел бы мужчина? У нее горят искусанные губы, припухает кожа там, где его скула терлась о ее скулу. «Приметы утоленного желанья», – думает она и снова не произносит.
– Как там Джуд и его книга? – спрашивает Булл.
– Пока никак. Адвокаты время тянут…
Фредерика едет на север, одна, в раздражении: не знает, что делать с отпуском, не знает, что делать с жизнью. По Лео она скучает, но сознает с уколом совести, что без сына чувствует себя свободной. Куда, впрочем, эту свободу пристроить? Об Оттокарах решает не думать. Лето теплое, Фредерика часто сидит на лужайке за домом и то бродит взглядом по вересковой пустоши, то читает тексты для предстоящего семестра и книги на рецензию, которых немного: летом всегда затишье. Сейчас с ней Манн («Смерть в Венеции») и Элиот («Даниэль Деронда»).
Проходит день или два, прежде чем она понимает, насколько отец постарел. Он сделался глуховат, ступает опасливо, и даже в неизбывной его правоте проскальзывает подчас робость. Через два дня приезжает Дэниел проведать детей и немного перевести дух. Он тоже заметил, что Уилл изменился. Тем временем разворачивается драма, толком им непонятная: участники ее что-то скрывают, а дело в основном происходит в Лонг-Ройстоне и Калверли. Тут как-то замешан Маркус и его подруги Руфь и Жаклин. Фредерика время от времени видит их со своего шезлонга, иногда к ним примыкает Лук Люсгор-Павлинс. Идут куда-то, спорят, сердито размахивая руками или мрачно вперяясь в землю. Перехватив ее взгляд, тут же замолкают. Однажды она встречает у калитки Маркуса и Жаклин. Жаклин, каштановая, суровая, отчитывает Маркуса:
– …Ты должен! Ты прекрасно понимаешь, чтó это – это мерзость, подлость! И можешь вмешаться. Только ты и можешь. Ну что ты за рохля такой?
– Во-первых, это не мое дело… И я все равно ничего не изменю, только хуже будет…
– Но ведь это же ужас, Маркус!
– Возможно, возможно…
Тут они замечают Фредерику, разом каменеют и обрывают разговор. Она задумывается ненадолго, но вскоре возвращается в Маннову Венецию, где среди распада дышит живая прелесть.
Маркус с Жаклин приезжают во Фрейгарт на воскресный обед. Фредерика не может понять, «вместе» они или нет, и даже спрашивает Дэниела.
– Понятия не имею. Вроде то так, то эдак. Чему никто не рад, кстати.
Уинифред приготовила хороший обед: жаркое с салатом и малиновое суфле. Кофе пьют в саду. Вот кто-то идет со стороны дома. Странно, что не было звонка в дверь… А, это Руфь. С длинной косой бледных волос, в клетчатом голубом платье с беленьким воротничком она кажется совсем юной. Руфь подходит к Уинифред:
– Извините, что врываюсь вот так, без приглашения. Я пришла попрощаться. Я уезжаю, уволилась и уезжаю.
– Вот как… Мы будем скучать, Руфь, но главное, чтобы вы были счастливы. Куда вы едете?
– Ты же говорила, что пока подумаешь? – встревает Маркус.
– Подумала. Я думала, молилась и все поняла. А раз поняла, значит нечего время терять. Написала заявление, собралась и еду. Вот зашла попрощаться.
Руфь светло улыбается Уинифред, а на друзей не смотрит.
– Так куда же? – спрашивает Дэниел.
– Я приму обет, – говорит Руфь и поспешно поясняет: – Это не то, что раньше в монастырях, меня никуда не запрут. Дети радости устраивают небольшое поселение, называется «Радостные соседи». Я еду одной из первых. Им нужны медработники, значит я пригожусь.
Руфь все улыбается своей сдержанной, беленькой полуулыбкой.
Дэниел уступает ей стул, и она присаживается, упорно не глядя на друзей.
– Это прекрасная возможность, – говорит она сдержанным, чистым голоском. Складывает руки на коленях, смотрит вниз.
– Поселение – это Фаррар устраивает? – спрашивает Дэниел.
– Ну конечно. Община сперва будет в его доме рядом с Болтоном. Там отличное место, кругом природа, покой. Приход сельский, но мы будем принимать… гостей – людей в тяжелом положении – из промышленных городов. Будем выезжать туда и искать…
– Тебе же хорошо было в детском отделении, – не понимает Маркус.
– Да, но там смерть, отчаянье… Там ужасно, и я была привязана к одному месту. А так от меня будет больше пользы. Мы будем помогать больным, несчастным, потерянным, показывать, что есть другой путь. Друг другу будем помогать. Мы будем исцелять людей, понимаете? Гидеон может исцелять – я сама видела…
– А что за обет? – спрашивает Дэниел.
– Не такой, как раньше давали. Новый обет. Я его не могу здесь произносить, но он очень простой, там о верности общине, о постоянном бдении, о полном доверии…
– Ты с ума сошла! – взрывается наконец Жаклин. – Это немыслимо. Это просто опасно – то, что ты затеяла!
– Я знала, что ты не поймешь. Никакой опасности нет, есть исцеление. Спасение.
– У Фаррара обаяние, но он – опасный человек. Опасный! И ты это знаешь.
Руфь встает и бережно оправляет голубое платье:
– Я этого ждала. Ты не понимаешь и, боюсь, не поймешь. Но ты меня не собьешь и не расстроишь. Я поэтому и пришла, хотела сказать при всех, чтобы ты… чтобы ты все не усложнила. Ты просто не понимаешь.
– Я тоже не понимаю, – говорит Маркус.
– Ты тоже. Хотя я надеялась, что поймешь. Ты мог бы. Ладно, мне пора. Нет смысла мне все это выслушивать.
Руфь за руку прощается с мрачным Биллом, потом с печально улыбающейся Уинифред. Хочет поцеловать Жаклин, но та отворачивается. Целует Дэниела.
– Смотри там, Руфи, береги себя, – говорит он.
Руфь наклоняется к Маркусу, и тот хватает ее за руку:
– Руфи, не уходи.
Непонятно, что он хочет сказать: не уходи сейчас или не уходи к Гидеону. Руфь высвобождает руку и быстро шагает к дому. Склонила голову: плачет, наверно. Маркус встает и идет следом. Руфь бежит. Один за другим они скрываются в доме. Жаклин устремляется было туда же, но передумывает. У задней калитки возникает Лук, судя по простой одежде, он бродил на пустоши. Жаклин, не замечая его, поворачивается к Дэниелу:
– Вы знаете, кто такой Фаррар и чем он занимается. Остановите ее.
– Не могу. А что это у него за община?
– Понятия не имею, какой-то пошлый идиотизм. Но его самого я знаю. Для него любая любовь значит секс. У него там девушки, девочки – и он свое обаяние, свою особенность использует, чтобы… Он их обрабатывает, я была там и видела.
– Он им как-то вредит этим?
Жаклин задумывается.
– Да. Я думаю, да. Он им внушает какую-то жуткую фантазию… какую-то идею жертвенности, единения, а на самом деле там похоть, и больше ничего.
– Это всё слова.
– Вы его что, оправдать пытаетесь?
– Наоборот, я Фаррара знаю и думаю, ты права.
– Тогда не дайте ей к нему уйти.
– Это не так-то просто. Руфь взрослый человек, сама решает, что ей делать.
Возвращается Маркус и, ни на кого не глядя, быстро уходит через заднюю калитку на пустошь. Жаклин бежит за ним, догоняет, Маркус прижимает ее к себе. Они идут дальше, сплетя руки, его голова у нее на плече.
Лук Люсгор-Павлинс наконец подходит к столу. Ему предлагают кофе.
Фредерика и Лук остаются в саду одни: Билл ушел спать, Маркус с Жаклин затерялись где-то на пустоши, Дэниел повез Уилла к его другу, и Мэри увязалась с ними. Уинифред убирает тарелки. Лук Люсгор-Павлинс не спрашивает о том, что разразилось в саду, но Фредерика решает коротко рассказать:
– Тут пришла Руфь и объявила, что уходит в какую-то священную общину и собирается дать обет. Они все расстроились, Жаклин побежала утешать Маркуса, или это он должен был ее утешить, не знаю.
– Тогда со своей новостью я лучше подожду.
– Что за новость?
– Меня зовут в Копенгаген руководить исследовательским институтом. Это большая честь, конечно.
– Значит, едешь?
– Пока не решил. Есть «за» и «против».
Лук переводит взгляд на пустошь, где уже не видны две человеческие фигурки. Фредерика заметила, как он смотрит на Жаклин. Ей хочется сказать: «Лук, ждать бесполезно. Всегда», но это прозвучит бесцеремонно. Поэтому она спрашивает:
– А водятся там на пустоши helix hortensis? Или правильно во множественном: helices hortensis?
– Вероятно. Но не та популяция, что я изучаю. И не те две колонии слизней, что так странно различаются.
У Фредерики просыпается некий интерес к Луку с его улитками. Она подозревает, что Лук – еще одно расслоенное существо, человек, способный всего себя сосредоточивать попеременно то на изучении мелких, переливчатых, извилисто-ползучих жизней, то на мыслях о генах и ДНК (неведомая для Фредерики субстанция), то на страсти жаркой и неотступной, но разума не лишающей. Слюдинки своих «Наслоений» Фредерика пытается сложить в узор пестрый, но связный. У нее была раньше мысль, что в ней живет несколько женщин: мать, жена, любовница, зоркая наблюдательница жизни – и что можно, словно в косу, сплести их голоса, разные и разноязыкие. Но так не выходит. Есть «История о камне». Есть тексты, склеенные из кусков адвокатских писем, – причудливые новорожденные сущности. Но стоит ей лишь коснуться собственных чувств, как становится мерзко, словно вляпалась рукой в какую-то слизь (метафора, безусловно, возникшая из ее краткого знакомства с helix hortensis). Когда она пытается писать о том, что чувствовала, когда Лео прильнул так крепко, что нечем стало дышать, когда Найджел ударил ее, когда Джон повернулся к ней с узорами крови на животе, ее охватывает отвращение: фальшь, банальщина, клише. Фредерика смотрит на Лука: наблюдатель, коллекционер, мыслитель, неутомимый бродяга – «любит» каштановую девушку, которая «любит» ее брата Маркуса (что для Фредерикина ума абсолютно непостижимо). И эта любовь делает его банальней. Сказать это вслух она не решается, чувствуя в Луке некое сдержанное достоинство. Вместо этого замечает, что сексуальная жизнь улиток, конечно, проще и потому приятней, чем у людей. Они ведь гермафродиты, им хватает собственной персоны.
– Об этом пока спорят, – отвечает Лук. – В основном считается, что для размножения все же нужна другая улитка. Они сползаются и начинают тихонько толкаться, эдакий деликатный спор о том, кто, что и кому. У них есть любопытный орган, называется gypsobelum, «любовная стрела». Похоже, они им друг друга ласкают. По тому, как эти стрелы устроены, отличают helix hortensis от helix nemoralis. Я сравнивал две популяции черных арионов – это такие крупные слизни – на пустошах и пониже в долине. Знаешь, очень интересно: они внешне почти одинаковые, но те, что на пустошах, сами себя оплодотворяют и генетически все идентичны, а у тех, что в долине, размножение половое и генетика разная. И при этом гермафродиты сохранили огромные половые органы, хотя, наверно, тысячи лет ими не пользуются. Не по Дарвину получается.
– Слушай, а вся эта генетика как-то повлияла на то, как ты человеческое поведение понимаешь?
Люк задумывается:
– Хотел сказать «нет», но, вообще-то… Любовь и все прочее – это свойство человека. Как язык, только он уже совсем, исключительно человеческий феномен. Поэтому мне не нравится мода учить обезьян людскому языку. Это унижает их как самостоятельный вид, все равно что в цирке их наряжают в штаны и чепчики. Но когда видишь, что все устроены из цепочек ДНК – и мы, и улитки, и слизни, – когда понимаешь, что у тебя в клетках постоянно что-то происходит, что в языковом сознании никак не отражается… Да, наверно, немного меняешься. Прежде всего перестаешь заблуждаться насчет собственной значимости, что, вообще-то, полезно. Любовь всегда любовь, это понятно. Но есть еще секс, и тут уже слепой инстинкт, как когда антитела окружают больную клетку или вирус размножается.
– Я думала, такая мысль должна утешать.
– Утешает периодически. Но только голову.
– Может, этого и достаточно?
– Лучше бы вообще без подобных утешений. Бывает же так, что все складывается…
– По моему опыту – нет. Или складывается и тут же распадается.
– Ты на что-то намекаешь?
– Да, в общем, нет…
– Значит, ничего нового.
Фредерика добавляет в «Наслоения» часть статьи, что дал ей прочесть Лук. Ей нравится, что улитки вписывают в завитки панциря свой генокод: читай кто хочет. Отдельно выписывает характеристику любовной стрелы helix hortensis и то, чем она отличается от стрелы helix nemoralis.
Наслоения
Повадки и обиталища. Садовая улитка (helix hortensis) – малоактивный, но достаточно чувствительный моллюск, при движении сохраняющий панцирь в наклонном положении. Она менее склонна к ночному образу жизни, чем ее сородичи, хотя Нагель и отмечает у нее высокую степень темновой адаптации. Днем садовая улитка не так глубоко прячется в тень (…)
Отличительные признаки. Садовая улитка отличается от лесной (h. nemoralis) меньшими размерами, более круглой формой, белым устьем раковины, более тонким и блестящим панцирем. Стоит отметить также меньшую вариативность полос, причем панцири без полос и с пятью полосами встречаются чаще. Вообще соотношение частотности различных узоров у лесной и садовой улитки достаточно сильно различается. Наблюдается разительное несходство внутренних органов, выраженное, в первую очередь, в строении любовной стрелы (gypsobelum). В отличие от стрелы лесной улитки, состоящей из длинного отростка с четырьмя продольными пластинами на конце и прилегающими пленками в форме полумесяца, стрела садовой улитки имеет раздвоенные пластины. Таким образом, каждая пластина формирует по два расходящихся острия. Пленки отсутствуют. Вагинальные слизистые железы имеют более разветвленную структуру. В отличие от желез лесной улитки, имеющих форму цилиндра, они расширяются и как бы набухают книзу.
Все это Фредерика читает (и вклеивает) попеременно с контркультурными текстами.
Тимоти Лири, «Молекулярная революция». Выдержки из лекции, прозвучавшей на Конференции по изучению ЛСД при Калифорнийском университете.
Чтение лекции включенным слушателям
Если в последние два часа вы курили марихуану, то воспринимаете сейчас не только мои символы. Все ваши чувства сделались острей и глубже, вы осознаете игру света, тембр моего голоса. Кроме правильных цепочек субъектов и предикатов, что я подвешиваю в воздухе, вам доступно множество чувственных впечатлений, намеков, подтекстов. И возможно, прямо сейчас кто-то из вас решил поднести к глазам эту мощную линзу и понять-таки, «что там вещает этот чудак». Возможно, вы приняли ЛСД, и тогда моя задача не разбудить вас, а как раз напротив, и я боюсь усыпить вас многими словесами. Я часто читал лекции людям под психоделиками. Я натыкался блуждающим взглядом на две зрячие сферы, на два темных, глубоких колодца и понимал, что читаю чей-то генетический код, что вместо символов человеческого разума, вместо путаницы из органов чувств должен апеллировать к восприятию существ, стоящих на всех ступенях эволюции. Я должен быть понятен амебе, сумасшедшему, средневековому святому.
Вращались железные маховики, неумолчно стучали молоты. Скважины изрыгали дымные струи и клубы в красных, синих, ядовито-зеленых отсветах.
Дороги меж цепей вели к центру, к башне причудливой формы. Ее воздвигли древние строители, те самые, что вытесали скалистую ограду Изенгарда; казалось, однако же, что людям такое не под силу, что это – отросток костей земных, увечье разверзнутых гор. Гигантскую глянцевито-черную башню образовали четыре сросшихся граненых столпа. Лишь наверху, на высоте пятисот фунтов над равниной, они вновь расходились кинжальными остриями; посредине этой каменной короны была круглая площадка, и на ее зеркальном полу проступали таинственные письмена. Ортханк называлась мрачная цитадель Сарумана, и волею судеб (а может, и случайно) имя это по-эльфийски значило Клык-гора, а по-древнеристанийски – Лукавый Ум.
Helix hortensis, аномалии и пороки развития:
Monstr. scalare Ferussac [рис. 1] – панцирь вытянут вверх, завитки частично смещены.
Monstr. sinistrorsum Ferussac – левозакрученный панцирь.
Мы обязаны понять: эволюция продолжается, и сегодняшний человек – не окончательный ее продукт. Как некогда развилось несколько видов приматов, так и сейчас, возможно, формируются новые виды того, что мы привыкли называть «человек» или «homo sapiens». И очень возможно, что этих видов будет два. Машинный вид будет жить в небоскребах и металлических домах и получать кайф от слияния с машиной. Со временем такой человек превратится в дешевую, быстро изнашиваемую деталь всеобщей машинерии. Он лишится имени: в улье и муравейнике не бывает имен. Секс обезличится, верность вымрет: не важно, с кем спать, если каждый, как винтик, легкозаменим. А потом кто-то переспит с симпатичной блондинкой из отдела электронных печатных устройств, и, может быть, появится третий вид: человек технологический. Но я знаю: наше летучее семя пребудет и пребудет наш вид. Мы будем жить в очагах заразы, до которых машинные люди не добрались со своими антисептиками. На болотах, в лесах мы будем смеяться над машиной, упиваться чувствованием и переживать экстазы. Мы будем помнить, откуда пришли, и детей научим, что – хотите верьте, хотите нет – человек не машина, не творец машины и не слуга ее. Чтобы любить машину, понимать ее, управлять ей, нужно быть подлинным святым, ибо машина есть дивная йога и дивный экстаз. Я ничего не имею против машин, но ведь это невероятно, что ДНК, создавшая нас, создала и все эти машины.
(Тимоти Лири, «Опыт души», с. 221)
Фредерикиной мысли непривычно среди генетических сходств и различий, машинных людей и людей-семян, камней, ножниц, бумаги. По всей видимости, ДНК-фетиш «включенных» очень мало имеет отношения к ДНК садовой улитки на пищевом комбинате или на стеклах Лукова микроскопа. Впрочем, некая связь все же просматривается… Фредерика предпочла бы знать то, что знает Лук, но, даже пытаясь понять улиток, она все равно оказывается ближе к языку Лири.
* * *
Узкие, длинные адвокатские конверты продолжают прибывать даже летом и даже во Фрейгарт. В одном из них – толстый документ с сопроводительным письмом от Бегби. Заученно-ровным цеховым тоном Бегби сообщает ей, что «ответчик, Ваш супруг» по размышлении принял решение добавить к уже поданному возражению встречное ходатайство по причине оставления истицей супруга, а также нравственной жестокости и неоднократных измен истицы. Ответчик обратился в суд с просьбой предоставить ему отсрочку для внесения в возражение необходимых дополнений и подачи встречного ходатайства.
Мистер Бегби сообщает истице, что, хотя супруг и обязан привести примеры ее неблаговидного поведения, он не обязан сообщать, на каких уликах будет построено доказательство. Оставление супруга налицо. Нравственная жестокость может быть усмотрена как в оставлении супруга, так и в увозе истицей ребенка, Лео Александра Ривера. Обвинения в неверности многочисленны и подробны. Ранее миссис Ривер предпочла не касаться этой темы в ходатайстве о разводе и заверила мистера Бегби, что вопрос о ее супружеской неверности не поднимался. В связи с этим мистер Бегби хотел бы знать, какие действия ему следует предпринять. Как миссис Ривер, несомненно, заметила, в новой редакции встречного ходатайства мистер Ривер просит оставить вопрос его собственных измен на судейское усмотрение. Мистер Бегби также ставит миссис Ривер в известность о том, что все лица, указанные во встречном ходатайстве в части супружеской измены, будут рассматриваться в качестве соответчиков по делу о расторжении брака, о чем им будут вручены повестки. В случае если соответчик не признает свою вину, он может защищать себя в суде лично или в иной форме. Если соответчик вину признает, никаких дальнейших действий с его стороны не требуется.
Мистер Бегби ожидает от миссис Ривер дальнейших указаний и был бы рад получить их возможно скорее.
Фредерика читает встречное ходатайство, документ длинный и дотошный, хитро мешающий факты с вымыслом. Мелькают имена: Томас Пул, Хью Роуз, Джон Оттокар, Пол Оттокар, Десмонд Булл. Знаки близости, прилюдные объятия, ночи, проведенные под одной крышей. Ходатайство о присвоении мистеру Риверу опеки над ребенком, рожденным в браке. Строки вьются змеями. Все письмо – черная словесная змея, красиво перевязанная шнурком от канцелярской папки. Первое и простейшее, что чувствует Фредерика, – жгучая досада: выставила себя дурой, не сказала Бегби о том, что про себя называет «окончанием целибата»! Второе – гнев: с чего это Бегби, неприятный, а может, и ненадежный, должен знать, в чьей постели она была, чьей кожи касалась, чье желание в себя впустила? Это ее личное дело.
Потом Фредерика задумывается: а что будет, если Томасу вручат повестку? Что подскажет ему его оглядчивое благоразумие? А Оттокары? Может Найджел подать на Джона в суд? Могут Пола вызвать свидетелем? Близнецы совершенно растворились среди своих «Тигров». Трудно представить, что Джон решит бороться за их хрупкую, неуверенную, опасливую любовь или обрадуется перспективе выступать в суде. Он к этому не готов, возможно, и никогда готов не будет. А может, она и не хочет, чтобы он был рядом, – ни сейчас, ни потом, ни вообще? Как знать наверняка? Эта судебная канитель неизбежно заставит их все «прояснить», «очертить»… Или перечеркнуть. К тому же тут местами (но не везде!) правда. Как решит суд – чужие, чуждые ей люди, – способна ли она «такая» в одиночку растить Лео? Лондон свингует, а суд вершат старики: парик из восемнадцатого века, ханжество из девятнадцатого. Ее разорвут, раздавят, унизят, уничтожат!
Гнусный и страшный конверт Фредерика, получив, сразу же уносит к себе: с родителями говорить об этом невыносимо. Все прочтя, она рыдает яростными, слепящими, бесполезными слезами. Дверь открывается, входит Дэниел:
– Ты что плачешь?
– На, читай!
Он читает.
– Тут половина ложь, понимаешь? Половина!
– И пусть. Развод ты все равно получишь так или иначе.
– Да, но Лео! Кому Лео достанется?
Дэниел садится на кровать:
– Ребенка обычно оставляют с матерью.
– Но я в этой бумажке получаюсь какое-то чудовище! Безответственная, жуткая тетка. У них тут всё, и Уголек, и спор о школе…
– Но ты же хочешь, чтобы Лео остался с тобой?
– Тут не вопрос желания. Он должен быть со мной. И Найджел это видел. Я думала, что смогу оставить Лео, уйти, но нет, это, это…
Фредерика думает: Дэниел хороший человек, в отличие от меня. Как он мог уйти от Уилла и Мэри? Она никогда этого не понимала, но и не спросит его никогда, конечно.
Дэниел прижимает ее к себе. Фредерика утыкается ему в плечо и плачет все неутешней. Он гладит ей волосы, рот его сурово сжат. По коридору проходит Мэри, она что-то поет правильно и чисто, как Поттерам не дано.
– У Мэри слух есть, – говорит Фредерика.
– У отца моего был хороший слух. Он в больших хорах пел, «Мессию» и прочее такое.
– Голосок веселый.
– Человек живуч.
Совет Мудрых (1)
Практически случайно Фредерика оказывается на большом совете в «Бауэрс энд Иден»: решают, как строить защиту «Балабонской башни». Приглашены юрист Жако, маленький осторожный человек по имени Мартин Фишер и его коллега Дункан Рэби, тоже невысокий, нанятый отдельно для Джуда. Фишер щеголеват и серебрист, Рэби элегантен, весь в темном и умеет отгибать пальцы назад, что делает, слегка похрустывая, в напряженные моменты. Защиту Жако возглавит королевский адвокат Годфри Хефферсон-Броу, защиту Джуда – Сэмюэл Олифант. Хефферсон-Броу – крупный, с мощным угловатым костяком, щеками в красных жилках и взглядом, остро блестящим из-под кустистых бровей. Олифант – один из тех адвокатов, что вцепляются в противника, как уипет в зайца. Кажется, он и во сне водит носом, вынюхивая крючок или лазейку. У него бесцветные, скромно зализанные волосы и изящной лепки лицо, в котором под париком проступают вдруг хищные углы. Пока из юридической братии пришли только эти четверо с помощниками, остальные будут появляться периодически на протяжении следующих месяцев.
В тот день Фредерика приходит со стопкой рецензий и книг из самопальной кучи и в фойе сразу же видит Джуда и Жако. Джуд режущим голосом вещает из облака миазмов, что все решения принимаются без него, за спиной у него, втайне от него и так далее. Жако, пунцово-напруженный, возражает: будь оно так, Джуда бы здесь не было. Джуд в ответ скрипит еще противней:
– Я слышал, Жако, как ваша секретарша говорила: без автора всем будет проще, автор трудный человек, неуравновешенный!..
Фредерика не выдерживает:
– Хватит, Джуд! Если подслушал, имей достоинство промолчать, иначе некрасиво получается. И вообще для тебя это комплимент, ты же любишь считаться трудным и неуравновешенным. Все и так для тебя стараются.
– Ты-то что об этом знаешь?
– Я тебя знаю. Знаю, сколько Руперт для тебя сделал. Поэтому заткни фонтан.
– Мы тут, как у Толкина, собираем Совет Мудрых, – говорит Жако. – Думаю, и тебе, Фредерика, нужно бы к нам примкнуть. Интересно послушать твое мнение. Мы пока предварительно, в малом составе, так сказать… Несколько юристов да наши авторы. Мари-Франс Смит согласилась прийти, Роджер Магог. Им книга понравилась, очень, они дали блестящие отзывы. И я еще Филлис Прэтт уговорил. Хотя ты-то нас всех знаешь: ты же и привела к нам Джуда и миссис Прэтт. Оставайся, поможешь по части литературных прецедентов…
И вот они все сидят за блестким овальным столом красного дерева в комнате наверху, о которой Фредерика и не знала. Тут пахнет плесенью и запустением, но с примесью засохших орехов и лежалых яблок. На одном конце стола в обрамлении адвокатов сидит Жако, на другом – Джуд с Фредерикой. Еще в числе Мудрых каноник Холли, представляющий Церковь, Элвет Гусакс как знаток душ и их недугов, Мари-Франс Смит, Роджер Магог и некто плотненький, рыжий и кудрявый: в волосах и бородке легкий беспорядок, из золотой оправы очков весело смотрят голубые глаза, рубашка в яркую клетку на пару пуговиц расстегнута.
– Знакомьтесь, – говорит Жако. – Это Аврам Сниткин, этнометодолог.
Джуд кладет на красное дерево длинные серые ладони и вполне серьезно вопрошает:
– А что такое этнометодолог?
– Сразу и не ответишь, – улыбается Сниткин. – Мы еще сами никак не договоримся, кто мы такие. У нас целые конференции проходят на тему «Что есть методология».
– То есть рабочее определение вы дать не можете? – наседает Джуд. – В суде нужно будет определение.
– Скажем так. Человек постоянно что-то делает, а мы смотрим, как он эти свои действия понимает и называет. Этим мы и отличаемся от социологов: те сперва сами категоризуют возможные действия, а потом пытаются вообразить, что человек думает в процессе.
– Но вы все равно что-то вроде социологов?
– Многие, почти все, начинали с социологии, да. Но вот вам пример нашего исследования: недавно мы поставили жучок в комнату присяжных, чтобы узнать, как они понимают свою функцию. Чистые данные, без вмешательства наблюдателей и прочих посредников. Так понятнее?
– О да, – кивает Джуд.
– Где это вы жучок присяжным подсунули? – интересуется Сэмюэл Олифант.
– Не волнуйтесь, не здесь. В Калифорнии, – весело отвечает Сниткин.
– Доктор Сниткин изучал, что мужчины делают с… Скажем так, со смелыми произведениями искусства, – говорит Жако. – Поэтому я пригласил его на наш совет. Доктор Сниткин считает, что порнография выполняет важную общественную функцию. Так сказать, обеспечивает безопасный выплеск…
– Неудачная метафора, – высовывается Джуд. – Крайне неудачная. Должен подчеркнуть, что моя книга не порнографическая. Если уж хотите метафору извержения, то она – рвотное средство. И полезнее будет нам слово «порнография» вообще не употреблять…
– Коллеги, вернемся к сути, – говорит Жако. – Мы затеяли наш совет, чтобы свести законников и тех, кого можно назвать экспертами в некоей новой «области знания», если можно так выразиться. Она связана с установлением художественной и общественной ценности произведений искусства, которые «могут оказать разлагающее влияние на общество». Помните, как блистательно был оправдан «Любовник леди Чаттерли»? Так вот: защита дала слово писателям, великим и просто хорошим, поэтам, педагогам, священникам и, наконец, обычной девушке-читательнице. И все они сказали, что в книге – не мерзость, а нежность, любовь, свет, проповедь верности. А что делали обвинители? Зачитали вслух откровенные места, а потом задали риторический вопрос: «Вы бы позволили читать эту книгу своей жене, дочерям, слугам?» Теперь, конечно, этот вопрос – притча во языцех… Но – так считаю не только я, но и наши юристы – в этот раз обвинение построят по-другому. И не только потому, что книга другая. Вот это и есть поле деятельности для наших экспертов. Они не просто знатоки литературы, не просто люди с именем. Впрочем, я умолкаю и передаю слово им.
Фредерика осматривает экспертов. Мари-Франс Смит выглядит иначе, чем она ожидала: высокая, элегантно-худощавая блондинка, поразительно красивая, с длинными волосами, собранными в хвост и перехваченными черной бархатной лентой. Взгляд добрый, но во всем какое-то сторожкое напряжение.
Филлис Прэтт формой приближается к деревенскому бокастому караваю, описанному в «Хлебе насущном». У нее крупная голова в крутых, темных с проседью кудряшках, улыбчивые морщинки-лучики у глаз и мягкого рта. Добротный брючный костюм из бутылочно-зеленого джерси, под ним блузка в цветочек (кажется, жимолость).
Всклоченная серебристая грива и желтые волчьи зубы каноника Фредерике хорошо знакомы. Магог мясист и распираем энергией, все время вертится. Гусакс лыс, у него благородно-внушительное лицо с длинным носом, резкими скулами, широким волевым ртом и глубоко сидящими темно-серыми глазами. Его голова полагалась бы человеку высокорослому, какому-нибудь потомку рыцарей, но сидит на неожиданно коротком теле с несколько сутулой спиной, длинными руками и гнутыми ногами. Кожа у Гусакса сероватая, но не с мутным отливом оконной замазки, как у Джуда, а с серым холодком камня, полированного гранита.
Далее беседу ведут двое юристов, адвокаты периодически подают реплики. Намечают основные линии защиты: ценность психологическая, социальная и художественная, «рвотное средство», религиозная глубина. Адвокат Рэби опасается, что священники в качестве свидетелей защиты «могут выйти боком».
– Жаль, – говорит каноник. – Книга в богословском смысле действительно глубокая и передает муки богоискательства.
– И вы это докажете? – любезно интересуется Олифант, одновременно остерегая и подначивая.
– По делу «Любовника» выступал епископ, – говорит Хефферсон-Броу. – Заявил, что книга продвигает семейные ценности. Его хорошо потрепали. Был слух, что он потом еще получил нагоняй от архиепископа. Прецедент неприятный, конечно…
– Я знаю одного епископа, – говорит Холли. – Он выступает по радио, его многие слушают. Может быть, согласится: он много думал о боли, об одиночестве…
– Я против епископов, – вступает Рэби.
– Если у обвинения будет епископ, значит и нам нужен, – возражает Фишер.
– Церковники – такие же кретины и скоты, как все прочие, – скрипит Джуд.
– Люди пытаются вам помочь, Джуд. – У Филлис Прэтт тон, как у председательницы Союза матерей (правда, в описываемое время женщины возглавлять Союз не могут).
– Я просто подумал…
– Не нужно. Не нужно «просто думать». У вас здесь своя задача, и часть ее – не осложнять жизнь вашим друзьям.
– Кто мне друг, если каждый мне враг? – вопрошает Джуд.
– Мания величия и нимб мученика, с которым вы, Джуд, немного поторопились, тоже мешают делу, – благостно отвечает Прэтт.
– И конечно, внешность нужно привести в норму, – добавляет Хефферсон-Броу.
– В норму?!
– Именно. Вами займутся. Стрижка, костюм, галстук. Вымыться как следует. Обязательно. Sine qua non[244].
– Ну уж нет! – вопит Джуд. – Я неустроенный человек[245], несчастное животное, голое и книзу раздвоенное. Я таков, каков есть, таким меня и берите. Ибо человек и его одежда суть единая плоть, и разделить их нельзя. Своим тайным богам я поклялся, что ни волосы, ни ногти стричь не буду. И на ногах тоже. И пилкой их не оскорблю. В этом состоянии я и пребуду, хоть бы весь мир провалился в тартарары!
– …Сзади коротко и виски подровнять, – спокойно продолжает Хефферсон-Броу.
– А может быть, – говорит Олифант, – вас как свидетеля вообще лучше не вызывать? Так, наверно, проще всего…
– Исключительно глупо – меня не вызывать. Я буду говорить. Я приду и растолкую им книгу. Я буду ее защищать.
– В таком случае говорю сразу: если явитесь в суд в таком виде, ни на что хорошее можете не рассчитывать. У меня все, – отрезает Хефферсон-Броу.
Рэби меняет тему: кто будет говорить о литературных достоинствах? Решают попросить Энтони Бёрджесса, поскольку он хорошо отозвался о книге. Еще профессора Фрэнка Кермода, профессора Барбару Харди, профессора Кристофера Рикса, Уильяма Голдинга, Энгуса Уилсона, Уну Эллис-Фермор…
– И того кембриджского господинчика, – оживляется Хефферсон-Броу. – О котором все сейчас говорят…
– Доктора Ливиса, – подсказывает Фредерика.
– Да, его.
– Он по «Любовнику» отказался выступать, – возражает Фишер. – Хотя сам специалист по Лоуренсу. И я не думаю, что «Башня» ему понравилась.
– Я у него учился в аспирантуре, – говорит Магог. – Брюзга и параноик. Но гений, конечно. Я лучше сам выступлю как представитель его критической школы. Он невозможный человек и вряд ли согласится.
– Спасибо, – кивает Фишер. – Нам это очень ценно.
– Да, ведь вы будете говорить и от лица педагогов, – добавляет Рэби, отгибая пальцы.
– Я выступлю против цензуры и вообще любых запретов. Запрещать искусство – это абсурд.
– Вы эксперт по литературе, – прерывает его Рэби, – и ваша задача подчеркнуть литературную ценность книги. Или общественную.
Магог не удостаивает его ответом, и Фредерика вдруг понимает, что книгу он не читал. Она уже не раз видела в аудитории этот глубокомысленный кивок и ускользающие зрачки.
– В Стирфортовской комиссии есть люди с именем, которые могли бы вступиться за книгу, – говорит Магог. – Например, Александр Уэддерберн. Писатель заурядный, но его проходят в школе, и он умеет себя подать. Он должен произвести впечатление.
– Да-да, вот такие нам и нужны, – кивает Хефферсон-Броу. – Присяжные таких любят.
Секретарша Жако приносит чай в серебряном чайнике, изящные чашечки дорогого, красивого фарфора. Передают по кругу тарелку с магазинным печеньем: шоколадное, с ванильным кремом, «Гарибальди» с черной смородиной. Аврам Сниткин рядом с Фредерикой мурлычет себе под нос:
– Это потрясающе.
– Что именно?
– Ваш британский ритуал принятия решений. За чаем с печенюшками. Я подумываю написать работу о составлении списков. Например, кто составил список тех, кого пригласили сюда, чтобы они составили список тех, кого пригласят в суд? И сколько в этом списке ритуальных имен, тех, кого полагается пригласить, хоть они и не придут? Ну и так далее…
– Наверно, вам, как этнометодологу, интересно наблюдать за людьми, которые на время суда будут определять себя как экспертов защиты?
– Конечно. Тем более что один из этих людей – этнометодолог.
Совет окончен, все выходят на улицу. Фредерика оказывается между Джудом и Элветом Гусаксом. Джуд непривычно тих и угрюм. Гусакс заговаривает с Фредерикой:
– Мы официально незнакомы, но я много слышал о вас.
– И что же вы слышали? – Боевой тон ей не вполне удается.
Повестки соответчикам разосланы, а Джон молчит. Изъял себя из ее жизни, исчез, как не бывал. Заседание назначено на ноябрь. Фредерике страшно.
– Только хорошее. О вас много было говорено в Четырех Пенни, и разговоры эти были непростые. Я не нарушу врачебную тайну, если скажу… Впрочем, вы наверняка и сами согласитесь, что ваша ситуация не из обычных. Простите, если я некстати…
– Да уж не особенно. Я не хочу сейчас о ней говорить. И вообще ни о чем говорить не хочу.
– Один из братьев выбрал ту же линию. Зато второй рассказал предостаточно. Я попытался уравновесить: молчуна разговорить, крикуна утишить. Итог был печален…
Фредерика молчит.
– Полуночный поджог, – объявляет Гусакс. – Полуночный поджог, несколько маломощных взрывов, урон частной собственности.
– Путь излишеств ведет во дворец мудрости.
– Насмехаетесь. А я, представьте, во многом с Блейком согласен. Я хочу вам помочь, но вы пока не готовы. Думаете, я шарлатан.
– Не думаю.
Гусакс выжидательно молчит.
– …Но наверняка не знаете, да?
– Я не уверена, что хочу знать.
– Может так случиться, что вы вдруг – совершенно неожиданно – поймете, что я вам нужен. Знайте, что я всегда вам рад. Вы мне интересны.
– Не слушай искусителя, – говорит Джуд. – Он тебе мозг взорвет.
Последняя фраза – совершенно не Джудова. Наводит на мысли о противопехотных минах, поджогах (опять!), взрывах…
– Вы правы, Фредерика, добро может обернуться злом, как в «Макбете», – кивает Гусакс. – И наоборот. Не доверяйте случайным знакомцам. Мы еще встретимся при менее сложных обстоятельствах. Вам, Джуд, скажу: процесс над книгой будет большим испытанием для ваших защитных механизмов, а они у вас весьма поверхностные. Если нужна будет помощь, зовите.
– А вы всему миру готовы помочь, – буркает Джуд. – Поголовно.
– Нет, Джуд. Мы встречаем в жизни только тех, кому должны помочь. Это некое особое притяжение, это карма. И мы втроем идем сейчас вместе не случайно. Это наш общий путь. Даже если возник он лишь полчаса назад. Поэтому я и говорю вам то, что читаю по вашему лицу, по вашим жестам. То, что мне открылось в вашей судьбе. Если я ошибся – ну что ж, тогда прошу меня извинить…
День суда приближается, Фредерика худеет, черты и жесты становятся резче. Она одержима страхом потерять Лео – того, кто осложняет ей каждый шаг, кто, как мнится порой, заедает ее жизнь, сосет кровь, кто не вписывается ни в один удобный ей способ мысли и совместного бытия. Того единственного, на чье малейшее движение и чувство настроен в ней каждый нерв, чье приближение – злобный топот или радостный бег – возносит ей сердце, чья улыбка наполняет ее густым и светлым теплом, чье спящее личико трогает ее до слез, чье сонное дыхание она ловит, едва дыша, в бессмертные, навечные мгновения.
Можно было бы поговорить с Агатой, но она все чем-то занята в последнее время, ускользает, раздражается. Почему? Фредерика замечает, что Дэниел и Александр, давние и особенные друзья ее, чаще подымаются теперь к Агате, чем спускаются к ней в подвальчик. Что ж, естественно: Агата красива, Агата умна. Александр всегда был падок на загадочно-молчаливых дев, а Дэниелу тяжко самому с собой, вот его и тянет на люди. Агата стала часто «задерживаться» на работе, что во Фредерике, сидящей с детьми, рождает тоскливые подозрения. В один из таких вечеров, когда Агата еще не вернулась, приходит Александр и спускается к Фредерике.
– Faute de mieux[246], – говорит Фредерика.
Александр в этом слышит лишь шутку, но Фредерика порядочно зла. Он соглашается выпить кофе и сообщает Фредерике то, что сама она понять не удосужилась: Агата на пределе. Отчет идет тяжело, тут не только груды данных, которые нужно перелопатить, но и разные подковерные игры. Просто Агата не говорит с Фредерикой о своей работе. Фредерикины дела они обсуждают, да, – потому что это интересно им обеим. Александр откидывается на спинку дивана:
– Большой толпой вообще трудно что-то писать. Но, знаешь, интересно наблюдать изнутри наши взаимные маневры. За все отвечают два человека – Агата и я, мы весь материал поделили на главы и понемногу их сводим. У нас там группы работают по разным темам. «Письменный и устный английский», например, или вот: «Психология школьного класса: любовь и (или) власть». Как тебе? «Классовые проблемы в классе: что значит „правильно“ и что нужно исправить», «Принципы образования: во имя ребенка или во благо общества – можно ли это совместить?». Одна группа пишет о том, какую грамматику преподавать, в каком объеме и зачем. И еще есть тема с подзаголовком: «Язык как объект исследования». Тут уже что-то от зоологии или математики… И поразительно, какие страсти из всего этого родятся! Самые настоящие, серьезные страсти – впрочем, и темы серьезные. Учителя говорят, что хотят формировать «цельную личность», создавать «дружескую атмосферу». У них там весь набор: «полноценная школьная жизнь», «развитие потенциала», «поощрение любознательности», «уверенность», «рост», «упорство», «свежесть восприятия»… А начнешь смотреть, чем они заняты, что для них стоит за этими фразами, – и все словеса теряют смысл. Ты как будто смотришь в микроскоп и видишь каких-то существ, причем они тут же вырастают в анаконд и начинают друг друга душить, кусать и прочее… Мы пишем о преподавании языка, но язык, которым мы это пишем, на деле ничего не отражает. Жизнь идет сама по себе. Стирфорт молчал-молчал, пока мы месяцами все это обсуждали, а потом произнес вдруг речь о том, что разум противится изучению собственных функций. Они с Пахтером и Вейннобелом пишут что-то вроде предисловия, и там говорится, что и дети, и язык в наши дни сильно изменились, потому что на них взглянули по-новому и стали подробно изучать.
– Слушай, это же интересно! Агата мне ничего не рассказывает. Продолжай.
Александр говорит о группах, работающих по разным темам, о нежданных альянсах, баталиях, примирениях. Малькольм Френд, журналист, в обсуждениях почти не участвует, зато пишет удивительно четко и понятно. Он теперь руководит группой по теме «Во имя ребенка или во благо общества?». Учителя разделились по вопросу о роли учителя. Одни решительно против программы и зубрежки: ученик должен «открывать мир в согласии с собственной потребностью в знаниях», точно так же как двухлетние дети сами осваивают родной язык. Другие уверены, что учить нужно все, а не только то, что захочется. Во-первых, так создается запас знаний, за который дети будут потом благодарны, а во-вторых, общество требует, чтобы ребенок знал определенные вещи. Слово «общество» еще не обросло до неузнаваемости нежелательными коннотациями, но уже вызывает некое напряжение. В комиссии большинство не любит ни саму грамматику, ни дело ее преподавания. Меньшинство одержимо ею: стройностью, сложностью, красотой. Эмили Перфитт считает, что учить нужно не грамматику, а поэзию. «Грамматика – это нравственная жестокость», – в полной простоте говорит она. Вейннобел находит ее определение интересным. Агата держит группы в узде, угрожая натравить на них Магога или Микки Бессика. Эти двое ни к кому не принадлежат, а странствуют меж групп, исполняя роль парламентеров.
– Магога я видела в издательстве на совете по поводу книги. То еще мероприятие. Адвокаты бесконечно что-то разграничивали, выделяли, определяли, решали, о чем могут говорить эксперты, о чем не могут… Жизнь прямо кишит адвокатами и комитетами, и все рвутся определять вещи, которые определить нельзя: детство, разлагающее влияние, язык, распущенность, измену, вину. Я страшно виновата перед Найджелом, нельзя было за него выходить, но то, в чем меня обвиняют, – по сути, в большинстве случаев это не так. Что-то я признаю, конечно. Но им-то какое дело?
– Когда меня пригласили в комиссию, я подумал, что у меня будет момент четкого понимания, что такое учитель, что такое дети и что такое язык. А потом начнется чехарда с определениями, мнениями, теориями – и всё, я перестану что-либо понимать! Так оно и вышло, и знаешь, путаница там изрядная. Но мы наблюдаем за хорошими учителями и видим: они знают, что такое дети, язык и прочее, и в работе отталкиваются от этого знания. И не вини себя так. Скоро все это закончится.
Фредерика хочет сказать: «Я боюсь потерять Лео», но страх так силен, что язык замирает. Вместо этого она говорит:
– На совете хотели попросить тебя выступить в защиту Джуда.
– Это необходимо?
– Это нужно. Если книгу приговорят, он умрет.
– Но она мне не нравится.
– Настолько, чтобы ее запретить?
– Отнюдь, но…
Слышны шаги: Агата вернулась.
– Ну ступай, долг зовет…
Наслоения
Уильям Блейк. «Песни опыта».
В данной работе мы касаемся двух явлений, или, говоря иначе, концептов, которые с недавних пор привлекают особое внимание ученых и представляют проблему, которой, возможно, не существовало ранее. Мы имеем в виду «ребенка» и «язык». До начала девятнадцатого столетия ребенок был либо младенцем, либо маленьким взрослым. Он носил такую же одежду, как его родители, подлежал тем же моральным законам и нес ту же кару за их нарушение, включая казнь через повешение. В отличие от предков, мы понимаем, что требуется время, чтобы дитя созрело духовно и физически и превратилось в независимую, ответственную личность. Нас глубоко интересуют процессы, благодаря которым такая личность формируется, и важное место в их ряду занимает освоение языка. Язык тоже изменился: теперь это не только стекло, через которое мы смотрим на «внешний мир», но и инструмент, определяющий и ограничивающий как наши жизненные установки, так и восприятие самой жизни. Наша философия – философия языка. Недаром Витгенштейн понимает ее как «языковые игры», сравнимые с «формами жизни», а автор «Языка, истины и логики»[248] считает, что язык способен порождать истинные и ложные представления о природе вещей. В некоторых философских школах крепнет убеждение, что «язык отрешен от мира» и являет собой лишь частичную систему, лучше всего отражающую собственную структуру и внутренние связи. Одновременно растет нешуточный интерес к языку как инструменту власти, порабощения и манипуляции обществом, и в связи с этим – уверенность, что детям сызмала нужно объяснять коварную силу слова. Тут встает больной вопрос: есть ли связь между использованием языка как политического орудия и неискоренимой тягой британцев к «правильной» речи, отвечающей обычаям и нормам некоей социальной среды или класса, а также к соотнесению грамматических «правил» с правилами жизни правящих кругов.
Проект Введения к Отчету Стирфортовской комиссии по исследованию преподавания английского языка в школах (впоследствии исправлено).
Нам неприятно слышать о том, что детская сексуальность полиморфно перверсна, а Фрейд считал, будто на дне наших сокровенных желаний таятся все те же многоликие извращения детства. На первый взгляд, это совершенный абсурд. Но если отрешиться от предрассудков, связанных с перверсией, и взглянуть на детскую сексуальность в свете беспристрастного анализа, мы будем вынуждены вернуться к столь неприятному нам определению. Детская сексуальность есть поиск удовольствия от любых функций организма. Именно это имел в виду Фрейд, в чем легко можно убедиться, изучив «перверсные» компоненты детской сексуальности. Они включают в себя удовольствие от прикосновения, от созерцания, от мышечной деятельности и даже от боли.
Фрейд и Блейк утверждают, что наша суть – в неосознанной и неотступной верности принципу удовольствия, или, говоря в блейковском духе, блаженства.
В человеке нарушено диалектическое единство между слитностью и обособленностью, взаимозависимостью и независимостью, видом и особью – говоря короче, между жизнью и смертью. Это нарушение происходит в самом раннем детстве и является продуктом семьи. Институт семьи подразумевает длительное пребывание детей в состоянии беспомощной зависимости. Заботливые родители ограждают ребенка от реальности, и в этой искусственной обстановке рано развивается детская сексуальность и выходит на передний план принцип удовольствия. В отсутствие принципа реальности детская сексуальность – назовите ее, если угодно, Эросом или инстинктом жизни – порождает нарциссическую мечту о всемогуществе в мире любви и удовольствий.
Если семья дает ребенку субъективный опыт свободы, неведомый другим видам живых существ, то цена ему – долгий период объективной и глубокой зависимости от родителей, также неведомой другим видам. Объективная зависимость от родительской заботы формирует у ребенка пассивную потребность в любви, идущую вразрез с его мечтой о нарциссическом всемогуществе. Таким образом, институт семьи поощряет в нас противоположные стремления, и эта диалектика выражается в том, что Фрейд называет конфликтом амбивалентности. По сути же здесь вступают в конфликт инстинкт жизни и инстинкт смерти.
Норман О. Браун. «Жизнь против смерти», глава «Смерть и детство», с. 113
Когда они наконец проснулись, была уже темная ночь. Гретель заплакала и сказала:
– Как же мы выйдем теперь из лесу?
– Не бойся, – ответил Гензель. – Пусть только луна нам посветит, а там уж отыщем дорогу!
И как только вышла на небо полная луна, Гензель взял сестрицу за руку, и они пошли по следу из камешков, блестевших, как новые грошики. Так они шли всю ночь и на рассвете вышли к родному дому.
Т. С. Элиот. «Бёрнт-Нортон», «Четыре квартета»[249]
Сон
Женщина, ждущая бракоразводного процесса, оказывается у быстрой речки, очень английской, полускрытой склоненными деревьями. Свет и тень вперебой пробегают по воде, ветерок ворошит листву и гоняет волночки. Женщина идет в высокой траве вдоль течения, на руке у нее обручальное кольцо, в котором перемежается синее с белым: сапфиры и лунные камни. Вдруг лапки оправ разжимаются, камешки сыплются и раскатываются, крошечные, блесткие. Их много – много больше, чем было в кольце. Она хочет собрать их, но они скользят меж пальцев, как капли воды, отскакивают от травинок, словно слезы от ресниц, когда плачешь с силой отчаянья. Сновидица – теперь она и женщина не одно и то же – «видит» лицо женщины с пустыми глазницами, похожими на пустые оправы, из которых сыплются синие и белые каменные слезы. В речке под выступом берега прячутся «дети вод»[250], завернутые, как личинки ручейника, в клочья палых листьев, облепленные кусочками улиточьих панцирей. Они льнут к глине, выглядывают наружу, повисают в струях, что бурлят и спешат мимо.
Слезы и камешки текут в реку и тают в ней, как капли воды.
Уильям Вордсворт. «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. Ода»[251]
С самого мига рождения, когда дитя каменного века оказывается на руках у матери из века двадцатого, оно становится жертвой насилия, именуемого любовью, как некогда его отец, и мать, и многие поколения до них… Мы уничтожаем себя насилием под маской любви.
Р. Д. Лэйнг
По меньшей мере восемьдесят три человека погибли и сорок шесть остаются под завалами после оползня в валлийской деревне Аберфан недалеко от Мертир-Тидвила. Вчера утром на склоне горы возле угольной шахты размокший от дождя отвал породы сдвинулся с места и со страшной скоростью обрушился на приготовительную школу Пантглас, близлежащую ферму и одну из улиц деревни. Восемьдесят восемь детей находятся в безопасности, тридцать шесть доставлены в больницу. С. О. Дэвис, депутат-лейборист от Мертир-Тидвила, сообщил, что до самого момента катастрофы на склоне продолжали сваливать породу…
В числе спасенных и доставленных в больницу оказалась директор школы, шестидесятичетырехлетняя мисс Энн Дженнингс. Тело ее заместителя мистера Д. Бейнона было найдено под завалом вместе с телами пятерых учеников, которых он прижал к себе, чтобы защитить…
Пятьдесят детей из соседней деревни Маунт-Плезант избежали страшной участи. Их автобус задержался на десять минут из-за утреннего тумана и прибыл на место уже после трагедии.
– Если бы не туман, мой Джоэл был бы в школе, – говорит миссис Олуэн Моррис. – Он прибежал домой в слезах и рассказал мне, что там случилось.
У. Х. Оден. «Эхо смерти» (1936)
XIX
– Лео, надевай куртку, опоздаешь!
– Я сегодня в школу не иду.
– Еще как идешь. Поживей, Агата с Саскией ждут.
– Мы сегодня разводимся. Я тоже иду разводиться.
Ах вот как… Странно, Фредерика ему о суде ничего не говорила.
– Тебя не пустят. Маленьким в суд нельзя.
– Можно!
– Нельзя. Собирайся и иди с Агатой.
Лео мертвой хваткой вцепляется Фредерике в халат (она оденется, когда он уйдет), принимается топать и кричать:
– Можно! Можно! Можно в суд!
– Нет, нельзя! – Фредерика кричит под стать ему, оба побелели от злости и чуть не плачут.
– Можно! Я с тобой пойду!
В дверях возникает Агата.
– Мы разводимся, – заявляет ей Лео.
– Ты, дружок, ни с кем не разводишься, а пойдешь сейчас с нами в школу. Давай, не расстраивай маму.
Лео переводит взгляд с одной женщины на другую, прикидывает эффект от дальнейших протестов и молча берет Агату за руку. На Фредерику не смотрит.
– Ну, счастливо! – говорит Фредерика и заискивающе, фальшиво добавляет: – Чао-какао…
Лео сердито топает прочь, не удостоив ее ответом. Нехорошее начало…
* * *
Фредерика надевает черное платье. Прямое черное платье из тонкой шерсти с отложным воротником и манжетами на пуговицах. Смотрится в зеркало: сдержанно, благородно, лондонский стиль. Думает подкраситься, но решает, что лучше так: острые лисьи черты в рыжей раме челки на две стороны… Потом все равно начинает краситься, то ли в честь события, то ли вместо брони, то ли потому, что «естественная красота» еще не вошла как следует в моду. Как всегда в важных случаях, тычет щеточкой для туши в светло-рыжие брови и, как всегда, все портит, смазывает, размазывает, принимается стирать черноту и трет, пока не вспухает розовым кожа. Может, оживить немного кулоном или брошкой? Вообще она не любительница украшений, но… Находится только индийское ожерелье из гранатов и жемчуга – красивое, но подарено Найджелом. Нет, это будет бестактно.
Фредерике несколько человек предлагали сходить с ней в суд, но она отказалась. Она вообще старалась об этом много не думать, да и сейчас не думает, по крайней мере так ей кажется. И чего ей, собственно, бояться? Людей она не боится, на публику говорить умеет (хоть бы и в суде!), она отличный педагог, эрудированный человек… Да, она боится потерять Лео, но в себе уверена, напор не растеряла… Фредерика надевает черные лаковые лодочки, перекидывает через плечо сумочку, выходит из дому и твердо шагает к метро. Предстоящий суд как-то не рисуется в сознании, пусто. Но в конце его что-то кончится, разрешится. Она будет – не свободна, нет, это слово потихоньку теряет смысл. Но она снова будет сама по себе, никому, кроме себя, не подотчетна. У нее вдруг пересохло во рту.
В суде Фредерику встречают адвокат Бегби и юрист Гоутли. У Гоутли папка с бумагами по ее делу и еще груда каких-то папок. Он светловолос, корректен, педантичен, имеет дивную бледную кожу и дивные выхоленные руки.
– Не волнуйтесь, – говорит он.
– А я и не волнуюсь.
– Главное – говорите, выскажите все. Не смягчайте, не бойтесь кого-то шокировать. Если есть что сказать, говорите. С нашей стороны вы единственная «говорящая» свидетельница, остальное – письменные показания. Мы их запросили у вашего врача – по поводу инфекции, у официантки в «Клубничном клубе», у официантки и швейцара в «Сластене» (насчет возможной неверности супруга). Этого должно хватить. Не будь встречного ходатайства, было бы даже чересчур. С той стороны будет Лоуренс Аунс, у него много свидетелей. Из ваших соответчиков явился только один.
– Кто?
– Мистер Томас Пул.
– Это не страшно. У нас ничего не было, он так и скажет…
– Разумеется. А вот и мистер Аунс, и с ним, видимо, ваш бывший муж.
Фредерика рассеянным взглядом обводит старинный каменный коридор, где все они ждут суда. Вот Найджел, коренастый, свирепо победительный, в темном костюме с кроваво-красным галстуком. На крепком подбородке, несмотря на ранний час, уже синевато проступает щетина. Вот Оливия с Розалиндой, обе в твидовых костюмах, золотисто-охровом и темно-зеленом в лиловую елочку. Обе приземистые, в солидных замшевых туфлях с рантом. Пиппи Маммотт в чем-то цвета ржавчины, с розовым, до блеска намытым лицом, седые волосы прихвачены множеством «невидимок».
Мистер Аунс и мистер Тиггер. Аунс пышно-увесист, с бордовыми щеками пьяницы и плотоядным изгибом губ. Его тусклые темные волосы прискорбно редеют, но под париком это будет незаметно. Он уже в адвокатской мантии, щедро облегающей его мягкие выступы. Аунс чему-то смеется, и Найджел смеется в ответ. Три женщины нарочито игнорируют Фредерику. Найджел вполне искренно ее не замечает.
Это как будто экзамен, и ты ждешь под дверью. Где-то тикают часы. В узких колбах с ноябрьским светом подвешены пылинки. Фредерика думает: я слишком легкая, слишком тонкая, я для них не имею веса. Странная мысль, ирреальная, рожденная в ирреальном воздухе, пропитанном застарелой пылью, застарелой болью, страхом, торжеством, отчаяньем.
Потом внезапно они уже в суде, и перед ними судья Гектор Пунц, под париком своим вовсе не пунцовый, а бледный, с желтушным отливом на скулах, с крючковатым, до прозрачности тонким носом и морщинами, ползущими по иссохшим щекам к складчатой шее. Вот Пунц закашлялся и поднес ко рту костистую, восковую от старости руку с толстыми бледным ногтями…
Судья. Человек с белесыми глазами под разросшейся белизной бровей, человек, пораженный недугом, берегущий силы, следящий за всеми из своего пурпурного кокона.
Гриффит Гоутли мелодично объявляет, что два иска – от Фредерики Ривер к Найджелу Риверу и от Найджела Ривера к Фредерике Ривер – будут рассмотрены совместно.
Гоутли: Я представляю интересы Фредерики Ривер, а мой уважаемый коллега Лоуренс Аунс представляет ее супруга. Первым будет рассмотрен иск госпожи Ривер.
Оглашают Фредерикин иск: жестокое обращение, моральная жестокость, супружеская неверность. Фредерику приглашают на свидетельскую трибуну. Теперь ей виден весь зал: Найджел, Бегби, какие-то неизвестные ей люди.
Гоутли задает Фредерике вопросы о ее недолгой семейной жизни. Он бесконечно предупредителен, словно она юная девушка, очутившаяся вдруг в коварном и опасном мире.
Гоутли: Вы говорите, что вышли замуж обдуманно, после трехлетнего знакомства с ответчиком. В начале ваш брак был счастливым?
Ривер: Да. Во многом да. Но это было не совсем то, чего я ожидала.
Гоутли: Чего же именно вы ожидали?
Ривер: Я думала, он любит меня за то, какая я есть. Но потом оказалось, что его что-то не устраивает, он хотел, чтобы я сидела дома, никуда не ходила, не виделась с друзьями. И чтобы я не работала.
Гоутли: У вас ведь кембриджский диплом с отличием?
Ривер: Да.
Гоутли: Раньше у вас было много друзей? Учеба ладилась?
Ривер: Да. Думаю, да. Я человек интеллекта, собиралась писать диссертацию…
Гоутли: И ваш муж – тогда еще жених – знал об этих планах?
Ривер: Не мог не знать. Он восхищался тем, какая я независимая, уверенная в себе…
Гоутли: После свадьбы все изменилось?
Ривер: Да. Но когда родился сын, наверное, логично было ожидать, что я какое-то время посижу дома.
Гоутли: Вы считаете, муж противился вашей независимости только из-за сына?
Ривер: Нет. Я чувствовала, что он ревнует, хочет запереть меня. Он считал, что женщине место дома.
Фредерика слышит собственный голос и не узнает его. Сейчас в нем звучат все голоса, все жалобы таких же женщин, как она.
Гоутли: В доме была прислуга? Вам было кому помочь?
Ривер: Да.
Гоутли: То есть у вас была возможность встречаться с друзьями и писать диссертацию без ущерба для ребенка, для семьи?
Ривер: Думаю, да. Мой муж очень богат, а с Лео так и так все нянчились…
Гоутли продолжает спрашивать умно и мягко. Он подводит Фредерику к следующей главе: вот она узнала, что ее письма читают, Найджел хамит по телефону ее друзьям, Найджел все больше времени проводит вне дома…
Гоутли: Вы чувствовали, что он не уделяет вам достаточно внимания?
Ривер: Да, так можно сказать. Он думал, что раз я тут заперта, то все, уже не нужно ухаживать, добиваться. Он вернулся обратно в свой мир, а мне это запретил.
Гоутли: А в сексуальном плане у вас был счастливый брак?
Ривер: Поначалу да. Очень. (Пауза.) Это было как раз самое лучшее… Это был язык, на котором можно общаться.
Гоутли: Потом что-то изменилось?
Ривер: Да.
Гоутли: Можете сказать, почему?
Ривер: Отчасти, наверное, потому, что я отдалилась. Я поняла, что нельзя было за него выходить.
Гоутли: В поведении вашего мужа было что-то, что вызывало такие мысли?
Ривер: Он стал вести себя жестко – это в нем все время нарастало.
Гоутли: В каком смысле? Жестко как любовник или как ревнивый муж?
Ривер: В обоих смыслах. Он начал делать мне больно в постели. А потом и просто так…
Гоутли: Если я правильно помню, вы как-то заглянули в его комод, когда его не было дома?
Ривер: Да.
Гоутли: Почему вы это сделали?
Ривер: Он украл у меня письмо. Мне написал муж покойной сестры, он священник. Написал, чтобы подбодрить. Я хотела это письмо забрать.
Гоутли: Что было в комоде?
Ривер: Грязные картинки, целая коллекция. И порножурналы.
Гоутли: Вы были потрясены?
Ривер: Да, у меня был абсолютный шок. Мне стало физически плохо, как будто меня всю испачкали. Это даже интересно: я никак не ожидала от себя такой реакции.
Гоутли: Вы можете сказать нам, что это были за картинки?
Ривер: Садомазохистские.
Фредерика чувствует, что столь определенный термин – не совсем то, чего от нее ждут…
Ривер: На этих фотографиях женщин мучат, унижают. Ножи, цепи, кожаная одежда. И голое тело, плоть. Я чувствовала, что меня вываляли в грязи. Я не ожидала такого.
Гоутли: Ваш муж поднимал на вас руку?
Ривер: Да, под конец начал поднимать.
Гоутли осторожными вопросами наводит ее на остальное: битье, нелепые прятки в уборной, погоня, топор, рана. Долгое заживление.
Гоутли: За все это время вы кому-нибудь говорили, откуда у вас шрам?
Ривер: Нет, мне было стыдно.
Гоутли: Почему?
Ривер: Люди часто стыдятся, что им сделали больно. Что они себя поставили в такое положение, что их можно… можно было мучить.
Гоутли: А как вел себя муж после?
Ривер: После он становился другим, был очень ласков.
Гоутли: Раскаивался?
Ривер: Да, но его это возбуждало: сильные чувства, драма. Поэтому я знала, что он не остановится.
Гоутли: И вы решили уйти?
Ривер: Я понимала, что однажды придется. Я была в плохом состоянии: раздергана, напугана, изменить ничего не могла… Я думала, нужно отсюда выбраться и на воле все обдумать.
Гоутли расспрашивает ее, как она бежала сквозь лес, искала, где пристроиться с ребенком. Как решила, что назад не вернется.
Гоутли: Но все это время вы считали, что муж вам верен? У вас не возникало подозрений?
Ривер: Теперь, если подумать, я понимаю, что видела все, просто не хотела признать. Он все время пропадал, ходил с «деловыми партнерами» по клубам, а в клубах – полуголые официантки…
Гоутли оглашает показания официантки из «Клубничного клуба» и швейцара из «Сластены», согласно которым Найджел Ривер часто уезжал из клубов с женщинами, чья работа – «развлекать мужчин». Швейцар показал, что мистер Ривер – постоянный посетитель клуба, любит и стриптиз, и женщин. Вкусы мистера Ривера хорошо известны. «Нежности не по его части. У него, так сказать, всё наотмашь».
Гоутли: Миссис Ривер, вы понимаете, что имеет в виду свидетель?
Ривер: Нет, не до конца.
Гоутли: Но вас удивляют его показания?
Ривер: Нет. То есть да, в каком-то смысле. Я не все знала. Вернее, знала – что-то нечисто, но закрывала глаза…Разве это важно теперь?
Гоутли: Может быть, очень важно. Теперь – извините, что приходится этого касаться, – теперь я обращусь к показаниям вашего лечащего врача. Здесь сказано, что в ноябре 1964 года вы дважды обращались в Мидлсексскую клинику по поводу заболеваний, передающихся половым путем.
Ривер: Да, я обращалась.
Гоутли оглашает показания врача.
Гоутли: Как вы считаете, каким образом вы заразились?
Ривер: Заразилась от мужа.
Гоутли: Вы уверены?
Ривер: Уверена. Я ни с кем другим не спала от свадьбы и до разрыва. Когда я узнала, готова была его убить.
Гоутли: Убить?
Ривер: Да! И было за что: ребенок мог пострадать, ослепнуть, стать идиотом! Он должен был сказать мне, обязан был.
Судья Пунц: Эти показания вы приводите в подтверждение измены или моральной жестокости?
Гоутли перечисляет несколько случаев того и другого.
Напоследок спрашивает Фредерику о нынешней жизни: какая у нее квартира, как у Лео в школе, есть ли друзья. На этом все. Он рассказал суду историю молодой интеллигентной женщины, возможно слишком самоуверенной, слишком образованной, если только такое бывает. Эта женщина запуталась в жизни, в любви, в страстях и, возможно, заслуживает осуждения. Но это ее били, унижали, оскорбляли…
Лоуренс Аунс просит разрешения задать свидетельнице несколько вопросов от лица своего клиента. Судья разрешает.
Аунс: Фредерика Ривер, зачем вы вышли замуж за Найджела Ривера?
Ривер: Зачем?..
Аунс: Да, зачем? Вы умная женщина, у вас были свои планы на жизнь, вы не первый день знали Ривера – знали, вероятно, во всех смыслах этого слова. И все же решили за него выйти. При этом, как я понимаю, внезапной и безумной страсти у вас не было. Так зачем же?..
Ривер: Он не принимал отказа.
Аунс: И что же? Вы сильная женщина, волевая, умная – нам только и твердят, какая вы умная. И вы, наверно, отказывали другим ухажерам?
Ривер: Да, отказывала.
Аунс: А почему же тут вдруг согласились? Вы тогда уже были любовниками, так?
Ривер: Да. Но я уже говорила: в постели мы совпали идеально. В этом я была уверена и надеялась, что остальное со временем тоже…
Аунс: Странные надежды. Вы, кажется, назвали себя человеком интеллекта…
Ривер: Не такие уж и странные. Сейчас все интеллектуалы читают Лоуренса, а он говорит, что нужно слушать свою страсть, свое тело… Страсть была.
Где Гоутли держался отстраненно и уважительно, Аунс лишь остро глянул Фредерике в глаза – и тут же иронически скривил губу, кивнул крупной головой: «Я тебя понял, девочка. На уровне низа понял, и ты меня поняла».
Аунс: Ну да, конечно: Лоуренс… «Довременный восторг мистического осязания иного бытия». Его-то вы и ощутили?
Ривер: Я не знаю, зачем вы это спрашиваете, но да: в каком-то смысле ощутила. Выражено чудовищно, ну и что с того? Ощутила. Да.
Аунс:…И вышли замуж в постель. Зная, что мистер Ривер ваши интеллектуальные запросы не разделяет и, может быть, Лоуренса ни строчки за всю жизнь не прочел.
Ривер: Это было притяжение противоположностей. Я ничего о нем не знала, он казался – вы сами процитировали – иным. Мне это нравилось. Мне казалось, он более взрослый, более самодостаточный, чем остальные мужчины.
Аунс: А мужчин вы знали немало?
Ривер: Это было естественно в моем положении.
Аунс: Странный ответ. Вы, конечно, имеете в виду привилегированное положение женщины в Кембридже. И сексуальный опыт к моменту замужества у вас имелся?
Гриффит Гоутли протестует: половые связи до брака не могут служить аргументом в бракоразводном процессе. Но Аунс тут же поясняет: он лишь хочет понять, насколько вероятно, что миссис Ривер была поражена «любовными, скажем так, изысками со стороны супруга». Судья отклоняет протест:
– Миссис Ривер, вы можете отвечать.
– Итак, выходя замуж, вы не были наивной девой? – спрашивает Аунс. Он смотрит с прищуром, зная, что сейчас на секунду опять установится между ними это низовое понимание.
– Нет.
– Со сколькими мужчинами вы спали до свадьбы?
Гоутли возражает, и судья поддерживает его. Впрочем, судья и присяжные видели, как она оторопела, очевидно не зная точного числа.
– Продолжим, – говорит Аунс. – Продолжим и перейдем к этим, как вы несколько по-детски выразились, «грязным картинкам». Вы женщина тонкая, опытная – вам не кажется, что вы слегка преувеличили свою реакцию? У вас диплом литературоведа, и хороший диплом. Вы, наверно, весьма смело обсуждали разные шекспировские шалости, игривые рассказы Чосера, тексты Рочестера. Неужели грязные картинки могли вас так шокировать? Это ведь столь же неизбежная вещь, как скабрезные куплеты или сортирные шуточки, которые повторяют все мальчишки, включая и вашего сына.
– Я говорю, как есть: я была страшно потрясена. И мне самой интересно почему. Соглашусь, если бы мне сказали, что у меня будет такой шок, я бы не поверила. Но мне было физически плохо.
– Воистину вы заглянули в комод Синей Бороды. Наверно, лучше вам в будущем комоды оставить в покое. Потому что в любом браке и у мужа, и у жены есть такой комод. Или похожий. Он необходим. Муж не заставлял вас смотреть на эти картинки? Не разбрасывал их по дому? Он, наоборот, убирал их подальше, чтобы вы не нашли и не расстроились. Так ведь?
– Так.
– Теперь вернемся к вашим показаниям. Мой уважаемый коллега задал вам вопрос, почему расстроилась ваша сексуальная жизнь с мужем. Вероятно, он ожидал в ответ что-то вроде: «Муж от меня отдалился», «Муж был со мной жесток». Но я записал то, что вы сказали. Вы сказали: «Я отдалилась от него. Я поняла, что нельзя было за него выходить». Возможно, вы согласитесь нам это пояснить, миссис Ривер?
Фредерика смотрит на свои ладони. Слова не идут. Аунс услышал ее мысли. Ответ ей известен, нужно отвечать, но она не может.
– Прошу вас, миссис Ривер. Вы всегда так точны и красноречивы. Я задал простой вопрос. Хорошо, я начну за вас: «Я поняла, что нельзя было за него выходить».
– Я поняла, что обещала больше, чем могла дать.
Высказав это наконец, Фредерика ненадолго чувствует облегчение. Потом ее снова поражает немота.
– Значит ли это, что, выходя замуж, вы были с мистером Ривером нечестны? – спрашивает Аунс.
– Это не совсем так.
– Не совсем так. Но похоже, не правда ли? Возможно, вы сейчас внутренне соглашаетесь, что ошиблись, и ошиблись крупно. Вы понимаете, что мужчина, живой и чувствующий человек, пусть и не столь утонченный, как вы, мог раздражаться, видя, что вы отдалились, впадать в гнев.
– Я не отдалялась.
– Извините, миссис Ривер, вы употребили именно это слово.
– Хорошо, но это не значит, что в меня можно кидать топором.
– Не значит. Впрочем, эпизод с топором мой клиент не признает. А теперь скажите, миссис Ривер, зачем вы все-таки вышли замуж?
– Я уже сказала. Из-за секса, из-за телесной радости. И потому, что он не отступал.
– А то, что мистер Ривер очень богат, никак не влияло на ваше решение?
– По большей части нет. Конечно, мне нравятся… нравились хорошие рестораны и тому подобное, но то был ореол иной жизни, блеск, новизна. Хотелось посмотреть, как живет другая часть человечества. Наверное, тут я тоже была не вполне честна. Но я не прошу для себя содержания, только для ребенка. И надеюсь, что могу сейчас это прояснить: я вышла замуж не из-за денег. Блеск привлекал, да. Блеск, соблазн иной жизни…
– Спасибо, вы все крайне четко сформулировали, – произносит Аунс.
Фредерика чувствует, что ее унизили.
Аунс: Теперь, если позволите, обратимся к вашему внезапному бегству из Брэн-Хауса. Там ведь совершенно случайно оказались ваши друзья на «лендровере». И они вас ждали, несколько молодых людей. Удачное совпадение…
Ривер: Моим друзьям дали понять, что им не рады. Они могли больше вообще не приехать. Мне было страшно, казалось, сейчас или никогда. В тот момент, по крайней мере, казалось.
Аунс: А ребенок? Вы его как-то подготовили к этому ночному исходу? Сказали ему, что нужно уйти из дома, от отца, который его любит, от тетушек, от домоправительницы, которая занималась его воспитанием, от пони, к которому он так привязался? Он уходил по своей воле?
(Свидетельница явно шокирована вопросом.)
Ривер: Он сам решил уйти.
Аунс: Что вы хотите этим сказать? Что вы пришли к нему – к маленькому ребенку в детскую – и велели выбрать между матерью и отцом?
Ривер: Нет. Я бы так никогда не сделала. Нет. Я просто не стала его будить. Мне казалось, что я не смогу… что это нечестно. Я не собиралась уезжать надолго… навсегда. В ту минуту не собиралась. И считала, что дома ему будет лучше.
Аунс: Считали, что дома лучше.
Ривер: Ну да. В каком-то смысле так и было, конечно.
Аунс: Но как же получилось, что вы его все-таки забрали?
Ривер: Он выбежал, закричал, что хочет со мной. Он как-то сам понял, что я ухожу.
Аунс: И он не просил, чтобы вы остались?
Ривер: Нет, он повторял: «Мама, я с тобой!» Если бы просил, я бы осталась. Но он сказал, что хочет со мной.
Аунс: Маленький мальчик – ночью, испуганный, ничего не понимающий, плачущий?
Ривер: Да. Но он настаивал… Вы его не знаете, он очень волевой.
Аунс: Но вы, надеюсь, не будете утверждать, что ребенок в четыре года может навязать свою волю любящей матери, которая – из материнского бескорыстия, видимо, – решила, что ему лучше остаться дома? А может быть, миссис Ривер, все было по-другому? Может быть, мальчик, которого вам удобней было не брать, как назло, взял да и почувствовал, что вы его бросаете? Выбежал к вам, просил, умолял? И вы, боясь, что молодые люди вас не дождутся, сдернули его с места и поволокли с собой, как ненужный чемодан?
(Свидетельница молчит.)
Аунс: Все ведь было примерно так?
Ривер (шепотом): Нет. Было не так… Я его люблю.
Голос Фредерики звучит слабо и жалко. Невозможно говорить, слова не слушаются. Она нервно облизывает губы – нехороший признак, особенно для судьи и присяжных.
Очередь Гоутли. Он спокойно задает Фредерике несколько нейтральных вопросов, а потом знакомит суд с письменными показаниями Билла Поттера и Дэниела Ортона о том, что после побега Фредерики Найджел Ривер вел себя с ними агрессивно.
Аунс вызывает свою первую свидетельницу, мисс Оливию Ривер. Спрашивает, верно ли, что она незамужняя сестра Найджела Ривера и проживает в родовом поместье Брэн-Хаус. Потом переходит к сути.
Аунс: Вы удивились, когда узнали, что ваш брат женится на Фредерике Поттер?
О. Ривер: К тому времени уже нет. Она часто к нам приезжала, гостила. Они оба были влюблены, это было видно. Я так радовалась за Найджела, он прямо светился в те дни.
Аунс: А Фредерика? Она светилась?
О. Ривер: Не знаю… Ей непросто было привыкать к нашей жизни, у нее другое прошлое, другие корни.
Аунс: Может, она поначалу просто робела? Новые люди, новый уклад, жизнь в поместье?
О. Ривер: О нет! Скорее, она всех нас немного презирала. Мы для нее были глуповаты, скучноваты… Оживала, только когда Найджел приходил, а с остальными не особенно общалась.
Аунс: Может, ей не хватало прежних друзей?
О. Ривер: Не сказала бы. К ней постоянно кто-то приезжал. Постоянно. В основном мужчины из Лондона. Мы их, конечно, хорошо принимали, так у нас заведено.
Аунс: Кто-то мешал ей приглашать их или еще как-то с ними общаться?
О. Ривер: Нет-нет, мы всегда всем рады. Но они, наверно, считали нас немного отсталыми – такими занудами в твидовых костюмах. (Смеется.)
Аунс: А когда родился Лео, ваш племянник, Фредерика немного успокоилась?
О. Ривер: Наоборот. Все время хандрила, была чем-то недовольна. Мы пытались ее как-то отвлечь, развеселить, но без толку. Полюбила сидеть одна в своей комнате…
Аунс: У нее была депрессия?
О. Ривер: Да, наверно, можно и так сказать. Хорошо, что нас много, было кому помочь с ребенком.
Аунс: Но ребенка она любила?
О. Ривер: Да, думаю, любила. Но знаете, бывают матери, для которых ребенок, забота о нем – это что-то естественное, чему не нужно учить. Она не такая. Она даже держала его как-то неловко, неестественно. Хмурая, не поцелует лишний раз…
Аунс переходит к вопросу о жестоком обращении.
Аунс: Вам приходилось видеть, что ваш брат сердится на жену?
О. Ривер: Ссоры бывали иногда. Но они ведь оба за словом в карман не полезут. Сперва крик, потом поцелуи. В общем, как у всех. Она, правда, часто ходила недовольная, молчала. Это его задевало. Но они всегда мирились – взглянешь, а они уже улыбаются, обнимаются…
Аунс: Вы когда-нибудь видели, чтобы брат поднимал не нее руку?
О. Ривер: Нет. Никогда.
Аунс: Но он был на это способен, по-вашему?
О. Ривер: Я, конечно, не знаю, что происходило на их половине, но на брата это не похоже. Да и мы бы увидели у нее синяки и прочее. Если бы они были…
Аунс: Правда ли, что в шестьдесят четвертом году в поместье приезжал врач и обрабатывал большую рану у миссис Ривер на бедре?
О. Ривер: Она сказала, что зацепилась за ограду на пастбище, там колючая проволока. Ходила смотреть на луну.
Аунс: Эта история не показалась вам странной?
О. Ривер: Да нет, она часто куда-то ходила, гуляла по ночам. Ей было скучно…
Аунс: И рана была как от колючей проволоки?
О. Ривер: Судя по дыре на брюках, это была проволока. Рану я специально вблизи не рассматривала.
Аунс: Значит, она была не в ночной рубашке?
О. Ривер: Про рубашку я ничего не знаю, рубашку я не видела. Я видела брюки, порванные, как о проволоку. И кровь на брюках.
Аунс: Ваш брат мог иметь к этому отношение?
О. Ривер: Нет! Даже странно такое слышать. Он ее любит… Любил. И очень терпимо ко всему относился, и очень старался ее вернуть, чтобы они с Лео жили дома, в родном гнезде. Конечно, он раздражался иногда: она ведь его на посмешище выставила, сбежала среди ночи с какими-то богемными типами. Но он бы никогда ей ничего плохо не сделал: от этого ведь только хуже.
Аунс: Как, по-вашему, должна разрешиться эта ситуация? Теперь, когда миссис Ривер три года прожила отдельно от мужа?
О. Ривер: Развод я не одобряю. По Писанию, женитьба – это на всю жизнь. И ребенок должен жить в родном доме, с обоими родителями. Но если она не вернется и не постарается в этот раз что-то изменить, я думаю, ей лучше отпустить Лео к нам, в Брэн-Хаус. Это его дом, он в нем родился, он будет потом его хозяином, здесь его любят, здесь его защитят, если нужно…
Лоуренс Аунс вызывает Розалинду Ривер. Свидетели ждут в коридоре и не могут слышать, что говорится в зале суда. Розалинда подтверждает, что к Фредерике часто приезжали мужчины, что она и не пыталась прижиться в мужнем доме, что «хандрила» и вызывала мужа на ссоры. Ей тоже сказали, что рана у Фредерики от колючей проволоки, и по виду брюк было похоже. О ночной рубашке ей ничего не известно.
Обе сестры глубоко заурядны и как раз потому производят впечатление внушительное. Рассудительные, ограниченные, начисто лишенные воображения – такими и должны быть английские помещицы. Они хмурят брови, стараясь быть справедливыми к заблудшей невестке. Они явно преданы Лео, их толстые губы улыбаются, а темные глаза вспыхивают любовью, как только речь заходит о мальчике. Розалинда добавляет к показаниям сестры трогательную картинку: вот они вместе учат сияющего Лео ездить верхом на Угольке. А вот его мать: ребенок освоил рысь, а она не хочет выйти взглянуть, потому что у нее «очередная книга». Да, Розалинда тоже считает, что Найджел был очень терпелив.
Аунс вызывает Пиппи Маммотт. Лицо ее пышет розовым огнем праведного гнева. Это не тугоподвижные, скупые на слова сестры – видно, что она себя порядком накрутила и теперь готова биться за правду до конца. Волосы у нее слегка растрепались, она поправляет обеими руками торчащие «невидимки», словно сдерживает беспокойные мысли, распирающие голову. Аунс начинает с тех же предварительных вопросов: первые месяцы после свадьбы, друзья Фредерики, ее одиночество, жизнь в поместье, рождение Лео.
Аунс: Миссис Ривер обрадовалась, когда узнала, что беременна?
Маммотт: Какое там! Наоборот, расстроилась ужасно.
Аунс: Это была для нее неожиданность?
Маммотт: Я слышала, как она говорила по телефону, – она ведь только и делала, что кому-то звонила… Так вот, она сказала: «Я залетела. Это кошмар. Теперь конец всему, и моей жизни конец!»
Аунс: Вы уверены, что она именно так выразилась? Или вы сейчас пересказали общий смысл?
Маммотт: Нет, я запомнила. Как же можно так про ребенка? Такое услышишь – поневоле запомнишь.
Аунс: А когда Лео родился, она не изменилась? Бывает, женщина сначала пугается, а когда малыш родится, любит его без памяти…
Маммотт: Да не сказала бы. У нее с ним не получалось, все как-то неестественно было. Я ей пыталась одно подсказать, другое: как успокоить, как подгузник надеть половчей, что делать, если грудь не берет. А она только злилась и куксилась, еле руками двигала. Ей это все не нужно было. И так смотрела на него иногда, что меня ужас брал…
Аунс: Ну, это ваша трактовка.
Маммотт: А кто им занимался? Кто коленки заклеивал? Кто знал, сколько ему яйца варить, как тосты жарить? Когда у него морская свинка умерла, он ведь ко мне пришел, бедный.
Аунс: Может быть, она себя чувствовала de trop?
Маммотт: Что?
Аунс: Чувствовала себя лишней? Раз вы так о нем заботились?
Маммотт: Ну уж нет. Ей просто неинтересно было. Вот книги ей интересно было читать, или бродить одной, или по телефону говорить. Бывало, кормит его, а в другой руке книгу держит и смотрит только в книгу, как будто его и нет. Или слышу, ребенок плачет-надрывается, бегу к нему… Оказывается, он ножиком перочинным играл и порезался, а она через стенку сидит и не слышит. Вот не слышит, и все. Это как, по-вашему?
Аунс: Но мальчик ее любил?
Маммотт: Конечно любил. Как он старался, чтобы она на него внимание обратила! А она все больше в сторону смотрела. Ну, слава богу, у него я была – его Пиппи! И тети его были, мы о нем заботились…
Что касается Найджела и его вспыльчивого нрава, разорванных брюк, ночной рубашки, раны на бедре у Фредерики, Пиппи говорит то же, что и Оливия с Розалиндой. И даже больше.
Аунс: Вы видели рану?
Маммотт: Конечно видела. Если надо промыть, перевязать, подлечить – это всегда я. Даже и ей перевязывала…
Аунс: Как бы вы описали рану?
Маммотт: Рваная, края неровные. Это колючая проволока: кто в полях охотился, знает. И доктор Ройленс так сказал, слово в слово. Ей что-то вздумалось полезть через живую ограду, а там проволока была. Ну и упала, конечно. Ей после города непривычно – мы-то все знали, что там затянуто. Найджел тогда очень расстроился, весь день с ней сидел, утешал, развлекал…
Фредерика срочно царапает записку Гоутли: «Она все врет!»
«Преувеличивает?» – пишет тот.
«Врет! Нагло и аляповато врет!»
«Может, сама себе верит?»
«Нет. Все было не так!»
– Она вас явно не любит, – шепчет Гоутли. – И думаю, судья это заметил. Только вот откуда у нее фантазия, чтобы врать по-крупному?
– Но она…
– Сейчас важно, поверят ей или нет.
Аунс не спрашивает Пиппи, чем, по ее мнению, должна разрешиться ситуация. Вместо этого он интересуется:
– Как вы думаете, Пиппи, есть надежда на примирение? Прошло три года…
– Не знаю. Найджел хотел, чтобы все было как раньше, как положено. Семья должна быть вместе. А если она по-хорошему не хочет, значит Лео надо вернуть домой. Дом – это дом, его там любят, души не чают. Ребенку наконец-то будет любви хватать. А она пусть приезжает, пусть видится сколько захочет. Она знает, никто ей мешать не будет. Но у ребенка должна быть спокойная жизнь, все в срок, все на своих местах. Он сейчас живет с ней где-то в подвале в Лондоне, думаете, ему хорошо? Деревенскому мальчишке в городе…
Выслушав Пиппи, суд объявляет перерыв на обед. Фредерика выпивает полпинты шенди[252]. Есть она не может, пиво не любит, но в горле пересохло, и нужен алкоголь. Она пытается шутить с Бегби:
– Такое чувство, что меня судят за любовь к книгам.
– Да. Отчасти, – отвечает тот.
– Будь я мужчиной, этого бы не было.
– Возможно. Я знаю одну пару: чуть за тридцать, детей иметь не могут и очень хотят взять ребенка из приюта. А соцработник, от которого много что зависит, пишет в отчете: «В целом производят хорошее впечатление, но в доме слишком много книг. Жена читает».
После перерыва Аунс вызывает нового свидетеля. Тот сообщает, что его имя Теобальд Дроссель, но «все зовут меня Тео». Он совершенно лыс и настолько мал ростом, что над трибуной виднеется только его длинное, скорбное лицо с нездоровой кожей. Одет Дроссель в коричневый костюм с клетчатой рубашкой. Фредерике он смутно знаком, и, как только он называет свою профессию, она вспоминает: это же человечек с Хэмлин-сквер, тот самый, с вечно перхающим автомобильчиком. А работает он, как выясняется, директором в сыскном бюро «Острый глаз».
– Я веду слежку, добываю сведения. Фактически любые сведения могу раздобыть. Но работаю в основном по изменам: это уж как водится, измен больше всего.
Аунс: И вы сейчас работаете на мистера Ривера?
Дроссель: Да. С декабря шестьдесят четвертого года.
Аунс: В чем состоят ваши обязанности?
Дроссель: Следить вот за этой дамой, за миссис Ривер. Куда пошла, что делала, где ее мальчик был в это время…
Аунс: И где проживала миссис Ривер с октября шестьдесят четвертого года?
Дроссель: В Блумсбери, в квартире Томаса Пула. Я наблюдал, как она входила, выходила, на работу ездила с мистером Пулом, с ним же и возвращалась. В квартиру я тайно попасть не пытался, что там у них было, не скажу.
Аунс: Но у вас сложилось некое представление об отношениях между мистером Пулом и миссис Ривер?
Дроссель: Очень теплые отношения, очень. Целовались, обнимались на прощание. По магазинам ходили с детьми, ее и его. На вид – семейная пара, все у них так сердечно, без церемоний… С их няней два раза говорил. Мол, сосед, пришел дрель одолжить. Дрель правдоподобней, чем, скажем, сахар, дрель не у каждого есть. Няня – осторожная девушка, молодец: в квартиру меня не пустила, поэтому насчет кроватей и кто где спал – ничего сказать не могу. Я притворился, будто думаю, что миссис Ривер – это, скажем так, миссис Пул. И няня (свидетель проверяет имя по блокноту) – мисс Рёде – меня просветила, насколько сама знала, конечно. Сказала, что они, наверно, скоро поженятся, мол, к этому идет. И что из них выйдет прекрасная пара.
Аунс: Позже миссис Ривер переехала?
Дроссель: Да. Новый адрес – Хэмлин-сквер, сорок два. Проживает с мисс Агатой Монд и ее дочкой. Мисс Монд, как я понял, не замужем, к ней почти никто не приходит.
Аунс: А миссис Ривер? К ней тоже не приходят?
Дроссель: Приходят, еще как. Сплошь мужчины, поодиночке и компаниями. Я вел список, когда там бывал. У меня ведь не только это дело, есть еще другие, поэтому в сведениях могут быть пробелы. Регулярных, так сказать, визитеров я насчитал человек семь-восемь, и тут тоже поцелуи, объятия и все подобное…
Дроссель зачитывает список: Тони Уотсон, Хью Роуз, Эдмунд Уилки, Александр Уэддерберн, Дэниел Ортон, Десмонд Булл, Джуд Мейсон. Далее оглашается примерное число посещений, как одиночных, так и групповых. Фредерика оторопело смотрит на него. Ее частная жизнь – лишь занимательный спектакль для человечка в маленьком «остине». Ее вечера с друзьями – для него «разгульные вечеринки»…
Дроссель: Я слышал, как соседи жаловались. Вообще у миссис Ривер там довольно скандальная репутация.
Аунс: Вам не показалось, что ее отношения с некоторыми из мужчин выходили за рамки дружеских?
Дроссель: Я следил за миссис Ривер, когда она ходила к мистеру Буллу на Игл-лейн. Подружился, можно сказать, с его квартирной хозяйкой миссис Аннабел Пэттен. Ей даже льстит, что у нее живет художник, богема. И вот что она мне сообщила, я процитирую: «У него в студии на полу матрас. На нем он всех их это самое: натурщиц, студенток и мало ли там кого еще…» У миссис Пэттен сложилось впечатление, что мистер Булл, цитирую, «маньяк неуемный». Но я думаю, она не имела в виду, что он сумасшедший или извращенец. Скорее, что он, так скажем, ходок. Она и сама была – со стороны, конечно, – причастна к его похождениям и даже…
Судья указывает свидетелю на недопустимость показаний с чужих слов.
Аунс: А сами вы наблюдали что-то подобное в доме миссис Пэттен?
Дроссель: Да, я заслужил ее доверие, и двадцать восьмого июля шестьдесят шестого года она разрешила мне посмотреть. У мистера Булла на двери такое матовое стеклянное окошко, я туда заглянул и увидел миссис Ривер, так сказать, в костюме Евы. И с бокалом вина.
Аунс: Евы?
Дроссель: Да. Она была полностью голая и держалась очень свободно…
Аунс: Может быть, мистер Булл просто писал ее обнаженной? Как натурщицу?
Дроссель: Может, и писал, но он тоже был голый и, так сказать, в приподнятом настроении. Потом он повалил ее на матрас, тот, который на полу. Я уговорил миссис Пэттен составить письменное описание всего, что мы видели. Собственно, она и не возражала, потому что, цитирую: «Плевать ему сто раз, кто там что узнает. Он этим, наоборот, гордится».
Судья Пунц: Насколько я понимаю, мистер Булл повестку получил, но в суд не явился.
Секретарь: Да, Ваша честь.
Судья Пунц: Иными словами, он не будет оспаривать обвинение.
Аунс: Мистер Дроссель, по вашим наблюдениям, были еще мужчины, с которыми миссис Ривер находилась в близких отношениях?
Дроссель: Да. Мистер Джон Оттокар.
Аунс: Когда вы его впервые увидели?
Дроссель: В мае-июне шестьдесят пятого. Он ей вечерами в окно смотрел, как, извините меня, кобель. Поначалу я еще сомневался, думал, может, домушник квартиру накалывает. Но я ведь часами наблюдаю. Сижу в машине, в глаза не бросаюсь. Иногда, правда, почитаю немного с фонариком… Так вот, я видел, какими глазами он на нее смотрел. А потом как-то вечером она его впустила. Ну, я тихонько подобрался и заглянул в окошко. Она в полуподвальчике живет и часто шторки не закрывает, да и шторки-то тонкие, из темноты на просвет все видно. Я заглянул и установил: имело место соитие. Потом еще пятого июля, потом четырнадцатого и еще как минимум в четырнадцати случаях.
Аунс: Вы видели миссис Ривер с мистером Оттокаром где-то, кроме подвала?
Дроссель: Летом шестьдесят пятого они ездили в Йоркшир, и я за ними проследил. Они записались в гостинице как мистер и миссис Оттокар.
Судья Пунц: Вы считаете, это было необходимо – ехать за ними в Йоркшир? Кажется, вы и так достаточно узнали.
Дроссель: Да, милорд. Я, во-первых, получил письменные показания от персонала, а во-вторых, мне клиент поручил следить за ней везде и из виду не выпускать.
Аунс: Вы видели еще кого-то с миссис Ривер при компрометирующих обстоятельствах?
Дроссель: Еще есть Пол Оттокар. Беда в том, что они близнецы, как две капли воды, что называется. Я сперва и не понял, что их там двое орудует, оба блондины с длинными волосами. Не ожидаешь ведь такого, чтобы по ночам два одинаковых типа смотрели по очереди в одно окно. Но потом я увидел, что один смотрит, а второй в это время с миссис Ривер приятно время проводит. Так я и установил, что их два. Джон работает в аналитическом центре, а Пол поет, у него своя группа. Себя он называет Заг, а группа называется «Заг и Зигги-Зикотики». Зигги с двумя «г».
Судья Пунц: Повторите, пожалуйста, название.
Дроссель: «Заг и Зигги-Зикотики».
Судья Пунц: Остроумно. Весьма…
Дроссель: Простите, не понял.
Судья Пунц: Продолжайте. Вы выяснили, что к миссис Ривер ходят братья-близнецы.
Дроссель: Да, милорд. Так ведь их еще поди различи. То они в костюмах с галстуком, а то как в цирке: какие-то свитера пестрые, мантии. Или вовсе голышом и в краске. А ночью оба в черных плащах, тут уж не определишь, кто внутри, а кто в окошко подсматривает.
Судья Пунц: Что значит «голые и в краске»?
Дроссель: Так они вообще странно себя ведут, вызывающе, я бы сказал. И все напоказ, на публику. А насчет краски – один из них как-то раз книги жег. Там посреди площади небольшой пустырь, он туда натаскал книг, сложил кучами, облил парафином и поджег. И был при этом голый, в прозрачном плаще, весь разрисованный разной краской. У меня впечатление, что он тогда что-то принял, какой-то наркотик. У них с миссис Ривер прямо-таки битва была из-за этих книг. Книги-то ее были. Так вот, они боролись, а потом он упал в огонь и сильно обжегся. Вызвали скорую, а миссис Ривер все не могла его отпустить, кричала, плакала. Он все это время голый был, конечно.
Аунс: А сын миссис Ривер? Вы его видели с этими голыми джентльменами?
Дроссель: Конечно, постоянно видел. И когда она дома была, и когда нет. У него там компания, черные мальчишки, они хулиганят, молоко крадут, в дверь звонят и убегают. Два брата всем верховодят, один его научил мне под машину подсунуть хлопушки и поджечь. Покалечили машину…
Аунс: У вас есть основания полагать, что миссис Ривер состояла в связи с обоими братьями?
Дроссель: Один раз они ссорились, а я у крыльца слушал. Там тень падает, и если из нее не выходить, то с улицы не видно. Он кричал, говорил, что у них с братом женщины всегда на двоих, что это он настоящий, а брат «его тень», и прочее в таком духе. Я думаю, он хотел сказать, что с одним и без второго – это не то, прошу прощения.
Аунс: И что на это ответила миссиc Ривер?
Дроссель: Ничего. Они легли, и он стал ее раздевать. Тут я услышал, что идет мисс Монд, и ретировался.
Выдержки из показаний Томаса Пула:
Аунс: Вы предложили миссис Ривер пожить в вашей квартире. Почему?
Пул: Мне было ее жаль. Она боялась, не знала, что делать, хотела спрятаться от мужа, который ее бил. А у меня как раз было место. Вообще получалось разумно: мы оба одинокие и с детьми, обоим нужно работать. Я ей с работой помог, мы вместе хозяйством занимались, няне платили.
Аунс: Вам хорошо жилось вместе?
Пул: Да, очень. Мы хорошо друг друга знали, я с ее отцом работал в школе Блесфорд-Райд.
Аунс: То есть вы были in loco parentis?[253]
Пул: В какой-то степени.
Аунс: Это притом, что у вас дети одного возраста. Или почти одного.
Пул: Мир делится не только на отцов и детей.
Аунс: Вы правы. По возрасту вы ей в отцы не годитесь. Вы считали… Вы считаете ее привлекательной?
Пул: Да, она привлекательная женщина.
Аунс: У вас не было мыслей сделать ей предложение? У вас хорошие отношения, вы бы работали вместе, занимались детьми – собственно, так ведь уже и было?
Пул: Да, я об этом думал.
Аунс: Если бы миссис Ривер была свободна, вы бы связали с ней жизнь?
Пул: Ну, это уже из области гипотез…
Аунс: Да или нет?
Пул: Да. Я отношусь к ней с большой любовью, восхищаюсь ей.
Аунс: Эта любовь имела физическое выражение?
Пул: Нет, ей это было не нужно. Она много пережила, много боли… Ей нужен был угол и время, чтобы все обдумать. Я постарался ей это дать.
Аунс: А почему она ушла?
Пул: Она решила подавать на развод и считала, что жизнь в одной квартире с мужчиной может ее скомпрометировать. Думаю, она была права. Жаль, что все так получилось…
Аунс: А может, она просто искала кавалеров помоложе и жизни с перцем?
Пул: Может быть. Но она была твердо намерена развестись и жить по-своему. Не думаю, что она стала бы этим рисковать.
Аунс: Вы бы удивились, если бы я сказал, что она устраивала «разгульные вечеринки» и общалась с поп-певцом по имени Заг?
Пул: В случае с Фредерикой меня ничто не удивляет. Да, в ней есть некое безрассудство, но она взрослая, интеллигентная женщина. Она сделала ошибку и теперь за нее расплачивается.
Аунс: Это вы ее замужество называете ошибкой?
Пул: На нее очень повлияла смерть сестры. Все случилось внезапно, и Фредерика была просто раздавлена. Она выходила замуж, еще не отойдя от этого горя. Конечно, не стоило принимать решение в таком состоянии, но что сделано, то сделано.
Последним дает показания Найджел Ривер. Он начеку, но спокоен, на лице маска вежливого внимания, тело «готово к прыжку», как внезапно думает Фредерика. На нее он попросту не смотрит – ни с вызовом, ни с раскаяньем, никак. У него новая стрижка, длинней и глаже: Найджел тоже входит в «свингующие шестидесятые».
Фредерика вдруг невероятно отчетливо вспоминает их первый раз в холостяцкой комнате, среди пыли и грязных рубашек. Наклон, пристальный темный взгляд. Жар, изумление: истаяла преграда, и Фредерика вся была с ним, в его руках, в его неге. Порой с другими мужчинами ей некстати являлся призрак того мига, того блаженного избытка. Не нужно это сейчас вспоминать. Она опускает лицо, чувствуя, что к шее прихлынула горячая кровь. Все слова, вся правда и ложь, все увертки и оскорбительные обобщения связаны вот с этим, с прихлынувшим, с тем, что описать нельзя.
Найджел говорит об их жизни обычными своими словами, бесцветными и осторожными. В отличие от сестер, говорит без гнева, спокойно, не пытаясь выставить себя жертвой. Фредерика тронута этим.
Гоутли: Ваша жена сообщила, что вы часто надолго отлучались, но не хотели, чтобы у нее была своя жизнь.
Н. Ривер: Я ожидал, что она будет вести себя как жена. Но мы с ней по-разному это представляли. Теперь я понимаю, что нам тогда обоим нужно было немного уступить.
Гоутли: Когда она внезапно ушла, это стало для вас потрясением?
Н. Ривер: Да. Я не думал, что все так плохо. Знал, конечно, что Фредерика расстроена, но был уверен, что она вернется.
Гоутли: Вы поднимали на нее руку? Запугивали ее?
Н. Ривер: Пару раз я выходил из себя, мне было тяжело. Обычно я держу себя в руках, это мой принцип, я этим горжусь. Поэтому, наверно, люди пугаются, когда я кричу или машу руками. Фредерика тоже испугалась, может быть, даже слишком.
Аунс: Вот вы говорите, что кричали на нее. А руку подымали все же?
Н. Ривер: Один раз встряхнул ее в спальне, когда она меня довела.
Аунс: Довела?
Н. Ривер: У меня было чувство, что она не со мной, а где-то еще. Постоянно. Это как жить… с ходячим трупом. Постойте, я не это хотел сказать. Просто физически она была со мной, а душой… Души я не видел. Мне хотелось ее встряхнуть, чтобы она очнулась, вспомнила, что я есть, что я живой. Пару раз я срывался. Больше ничего.
Аунс: Вы кидали в нее топор?
Н. Ривер: Нет.
Аунс: Она утверждает, что кидали. Вы помните случай, который она может иметь в виду?
Н. Ривер: Нет. (Пауза.) Она могла это вообразить, воображение у нее богатое. (В словах Найджела явно слышится: «А у меня нет».)
Гоутли: Когда ваша жена ушла, вы надеялись, что она вернется?
Н. Ривер: Конечно. Я думал, все это глупость, недопонимание.
Гоутли: Вы пытались ее вернуть?
Н. Ривер: Да. Я ее везде искал, ходил к ее друзьям, родным, но она от меня пряталась. А когда нашел наконец, понял, что она свою жизнь уже выбрала.
Гоутли: Но вы все равно хотели, чтобы она вернулась?
Н. Ривер: Для меня семья – это серьезно. У нас ребенок. Место женщины рядом с мужем и ребенком. Но она даже говорить со мной не хотела, не то что обсуждать какое-то решение. Сразу наотрез отказалась. Я не святой, но я нормальный человек. Я ждал, надеялся. Теперь думаю, что пора мне перестать ждать и начать новую жизнь. Но сына я люблю и хочу, чтобы он был со мной. В Брэн-Хаусе ему хорошо, это его дом.
Гоутли спрашивает о непристойных картинках, о заведениях вроде «Сластены» и «Клубничного клуба». Найджел отвечает: картинки ему подарил школьный товарищ, «у него такие шутки». «Я их сунул в комод, где форма для регби, и забыл». Они, наверно, и сейчас там лежат. А клубы были, да.
Н. Ривер: С деловыми партнерами, если нужно, ходишь и в клуб. Особенно с иностранцами, для них это в порядке вещей. Сам я не любитель таких мест, но дело есть дело. Признаю, раз или два уезжал с тамошними женщинами. Хвастаться нечем, конечно, но за измену я это не считаю.
Гоутли: Тем не менее это измена.
Н. Ривер: Я понимаю, формально да. Но по сути ведь это так, баловство, на мою жизнь с Фредерикой это никак не влияло. Это не то, как если бы я ухаживал за настоящей женщиной.
Гоутли: Настоящей?
Н. Ривер: За женщиной из моего круга, из моего мира, которая может претендовать на что-то, может всерьез увлечь. (Пауза.) И какое это отношение имеет к тому, что она от меня ушла? Никакого.
Гоутли: Возможно, миссис Ривер думает иначе.
Н. Ривер: Не думает, я вас уверяю. И дело в другом: она добивалась независимости в том виде, в каком ее понимает, вот и все. Хорошо, пусть так, я подал на развод. Она не хочет быть женой, и я это принял. Если бы мы оба были умнее в начале, избежали бы много горя. Но у нас есть сын. Ради него я бы держался за брак, за семью, потому что ребенок должен быть на первом месте, и ему лучше всего дома. Я очень хотел, чтобы она вернулась, но у нее были все эти мужчины, и в какой-то момент я сказал себе – хватит.
Лоуренс Аунс оглашает показания семейного врача Найджела, доктора Эндрю Ройленса. Доктор утверждает, что не лечил миссис Ривер от венерических заболеваний. Рану бедра он помнит: ему сообщили, что она получена при попытке перелезть через изгородь с колючей проволокой, что подтверждал и характер повреждений.
Потом Аунс снова вызывает Фредерику, теперь по поводу истории с Пулом.
Она достаточно уверенно отвечает, что с Пулом у нее ничего не было, и язвительно добавляет: «Даже если бы я и хотела, то не могла бы из-за венерической болезни».
Аунс: Не будь ее, вы спали бы с мистером Пулом?
Ф. Ривер: Нет, не думаю. Просто подчеркиваю, что об этом не могло быть речи.
Аунс: Так вы это и воспринимали тогда: нельзя из-за болезни?
Ф. Ривер: Мистер Пул сказал, что задумывался о… о более близких отношениях, но я нет. Он это тоже сказал, и достаточно четко.
Аунс: Значит, вам важно, чтобы вас считали женщиной, которая не спит с кем попало?
Ф. Ривер: Не важно. Пусть считают, кем хотят.
Аунс: В каких отношениях вы состоите с Джоном Оттокаром?
Ф. Ривер: Я опрометчиво считала, что это наше с ним личное дело. Да, мы с ним были любовниками, я этого не отрицаю. Мы встречались, и все было примерно так, как рассказал мистер Дроссель.
Аунс: Вы любите мистера Оттокара?
Ф. Ривер: Я больше не знаю, что значит это слово. Я не знаю, как сказать здесь, на суде, что я к нему чувствую. Думаю, что это любовь… Это была любовь. Да. У нас серьезные… У нас были серьезные отношения.
Аунс: Были или есть? Как сейчас обстоят дела?
Ф. Ривер: Не знаю. Я его с лета не видела.
Аунс: Насколько я знаю, он ваш студент.
Ф. Ривер: Был студентом.
Аунс: И у вас была перед ним некая ответственность?
Ф. Ривер: Не сказала бы. Он ходил ко мне на занятия для взрослых. Мы там все взрослые люди.
Аунс:…И поэтому друг с другом спите?
Ф. Ривер: Нет. Это другое.
Аунс: Мистера Оттокара сегодня здесь нет. Ему вручили повестку, и он решил обвинение не оспаривать.
Ф. Ривер: Я знаю.
Аунс: У вас с мистером Оттокаром когда-нибудь была мысль о будущем? О женитьбе?
Ф. Ривер: Не думаю. То есть нет. Тем более что после… после этого процесса, наверно, ничего уже не будет. Я имею в виду наши отношения, о женитьбе никогда и речи не шло.
Аунс: И речи не шло. И была у вас всего-то связь за спиной у сына. Так, ничего серьезного…
Ф. Ривер: Не просто связь. И да, я старалась встречаться с ним так, чтобы Лео не знал и не расстраивался.
Аунс: А что у вас было с его братом?
Ф. Ривер: С братом ничего не было.
Аунс: Но все же были какие-то отношения?
Ф. Ривер: Я предпочла бы, чтобы не было, но он – он просто приходил. Верней, вторгался. И точно так же он вторгается в жизнь Джона, в любые его отношения… Это в двух словах не объяснишь.
Аунс: Мистер Дроссель сообщил, что мистер Оттокар под действием какого-то наркотика сжег ваши книги.
Ф. Ривер: Да, сжег, и я тоже думаю, что он был под чем-то. Это как раз Пол. Я пыталась его остановить, но это бесполезно. Теперь я, естественно, не хочу его видеть ни у себя, ни тем более рядом с Лео. Все это очень нелепо и некстати.
Аунс: Соглашусь, действительно нелепо. Вам не кажется иногда, что вы не можете с ними совладать? С братьями, с их эмоциями, с их образом жизни?
Ф. Ривер: Может, я их больше и не увижу. Они много месяцев не показываются. Это уже в прошлом.
Аунс: Но вы что-то чувствуете к Полу… простите, к Джону Оттокару?
Ф. Ривер: Чувствовала. А теперь не знаю. Не знаю.
Аунс: Еще имеется мистер Булл. Вы же слышали показания мистера Дросселя?
Ф. Ривер: Это было один раз.
Аунс: Один?
Ф. Ривер: Да. Я спала с ним один раз.
Аунс: Но ходите к нему часто?
Ф. Ривер: Он мой коллега, мне нравятся его работы.
Аунс: И единственный акт любви на том многострадальном матрасе совершенно случайно совпал с появлением под дверью мистера Дросселя?
Ф. Ривер: Да, совпал.
Аунс: Боюсь, господам присяжным будет нелегко в это поверить. И почему же вы нарушили свои правила – если таковые есть – ради этого единственного случая?
Ф. Ривер: Мне нужно было как-то утешиться. Я была в страшной ярости после той лэтемской мерзости.
Аунс: Лэтемской мерзости?
Ф. Ривер: После сожжения книг. Это Лэтем ввел в моду как новую форму искусства.
Аунс: То есть некий художник сжег ваши книги, и вашей естественной реакцией было лечь на матрас к другому художнику, потому что вы были в «страшной ярости» и желали «утешиться»?
Ф. Ривер: Да.
Аунс: И вы всегда так утешаетесь – в постели?
Ф. Ривер: Нет.
Аунс: Вы утверждаете, что не были любовницей Хью Роуза?
Ф. Ривер: Нет.
Аунс: А Тони Уотсона и Алана Мелвилла?
Ф. Ривер: Нет. То есть после свадьбы нет.
Аунс: А Эдмунда Уилки?
Ф. Ривер: Это было давно, в пятьдесят четвертом.
Аунс: Что для вас секс, миссис Ривер? Священный акт любви или быстрый способ утешиться и развеять гнев?
Ф. Ривер: Слово «священный» я не употребляю. Я думаю, секс бывает разный, все зависит от человека и от ситуации. Это может быть что-то очень важное, а может – так, случай. Главное, нельзя лгать и нельзя делать человеку больно. Да, наверно, это не самый удачный ответ, особенно в суде, где секс считают блудом, а в каждом мужчине видят потенциального мужа и отца. Но правда в том, что мужу я была верна, пока не ушла, а он мне нет, даже если это были только «Клубничные клубы». Секс не…
Аунс: Не что?
Ф. Ривер: Не важно.
Аунс: Что вы хотели сказать?
Ф. Ривер: Здесь секс не главное. Главное – жестокость, черствость.
Аунс: Миссис Ривер, вы как интеллигентная женщина наверняка читали Фрейда. А Фрейд учит, что сексуальный элемент есть во всем. Возможно, жестокость и черствость были проявлением сексуальной неуверенности мужчины, не дождавшегося тепла, отвергнутого на глубинном уровне, неоцененного, разочарованного.
(Молчание.)
Аунс: У вас нет ответа?
Ф. Ривер: Это был не вопрос, а утверждение.
Аунс: А на утверждение вы ответить не хотите?
Ф. Ривер: Нет. Нет, не хочу.
Адвокаты произносят заключительные речи. Первым говорит Гриффит Гоутли. Его клиентка, молодая, великодушная, необычайно интеллигентная женщина – он делает особое ударение на слове «молодая», – без тайных расчетов и задних мыслей вышла замуж за человека с другим прошлым, из другого, более привилегированного сословия. Это сословие живет по жестким законам и возлагает на своих представителей определенные обязательства. Ожидалось, что она впишется в новую среду, причем впишется с благодарностью, – это видно из показаний сестер и домоправительницы мистера Ривера. Ни о каком компромиссе тут речи не шло.
– У мужа родовое поместье, где почти безвыездно живут три обожающие его женщины. Госпожа Ривер должна была стать четвертой. Она вполне естественно надеялась, что продолжатся дружбы и общение, которые она так ценила в своем мире, но надежда не оправдалась. Муж часто уезжал, и его отлучки становились все длиннее. Он, по собственному признанию, был занят не только делами фирмы, но и разными сомнительными увеселениями, которые могли повредить здоровью его жены и будущего ребенка. В его идиллическом на первый взгляд доме она чувствовала себя лишней, какой-то непрошеной гостьей. И как бы вы ни оценили, милорд, фактическую сторону показаний сестер Ривер и мисс Маммотт, очевидно, что они не понимали мою клиентку и не питали к ней ни любви, ни сочувствия.
Гоутли ясно и точно суммирует все, что пришлось пережить Фредерике в доме Найджела: удар по спине, ужас в уборной, топор.
– Ее муж, золовки и мисс Маммотт все это отрицают. Они сплотились, они сила, их показания даже чересчур складны и похожи. Моя клиентка оказалась одна, без всякой поддержки, – впрочем, именно так и прошла вся ее замужняя жизнь. Фредерика не святая и не героиня. Она – молодая женщина, которая, выйдя замуж, оказалась не готова ни к жизни в ином сословии, ни к жестокости, с которой столкнулась. Да, при всех своих молодых шалостях, она не ждала, что муж будет мучить ее и унижать, как женщин со скабрезных картинок или «девушек» из «Сластены». Я говорю, например, об определенных услугах, которые оказывает Мира Танопулос, проститутка, связь с которой мистер Ривер не отрицает.
Гоутли просит суд удовлетворить ходатайство его клиентки о разводе на основании моральной жестокости, насилия и супружеской неверности.
Приходит черед Аунса. Его клиент – дельный, энергичный молодой человек. Да, он сильно увлечен работой, но ведь это нормально, это не вина его и не грех. Он женился на девушке, учившейся в Кембридже, тогда она цвела и светилась, окруженная мужским вниманием. Он знал о ее репутации, знал, что у нее есть некий любовный опыт, – впрочем, вряд ли он догадывался, что она настолько многоопытна и малоразборчива. Возможно, ему казалось тогда, что он умчал принцессу из-под носа у женихов. Это бывает: практический человек верует в сказку и пытается ее воплотить. Потом, конечно, ему приходится расстаться с частью иллюзий, и здесь уже не каждому хватает выдержки, ибо такое расставание бывает весьма болезненным. Мистер Ривер верил, что они поженятся и будут жить долго и счастливо и принцесса, по обычаям предков, станет настоящей хозяйкой замка. Но принцесса не желала жить счастливо. Тут обоим нужно было бы немного подстроиться, приспособиться – как, впрочем, и в любом браке, замечает Аунс. Но миссис Ривер не желала подстраиваться, она скучала по свите поклонников, ей нужна была ее «карьера», книги, «независимость». Как будто она не клялась мужу, как будто не было маленького сына, который, казалось бы, мог занять ее на пару лет, а там, глядишь, и счастье осуществилось бы. Но она, по ее собственному признанию, «отдалилась» и «поняла, что нельзя было выходить замуж». Причем, исходя из ее слов, это отдаление предшествовало приступам гнева, в которых она обвиняет мужа, – тут миссис Ривер помимо воли правдива, что бывает не всегда. Она ведь сочинила целый роман о жестокостях мужа, напоминает Аунс. Жестокостях столь внезапных и беспричинных, что ей пришлось бежать в ночи через темный лес (вспоминается история Синей Бороды, только вместо чулана с трупами у миссис Ривер комод с картинками). В последний момент она решила прихватить с собой сына, хотя ему «лучше было остаться дома». Всю эту историю уверенно отрицает мистер Ривер, его сестры и мисс Филиппа Маммотт. Аунс продолжает: у миссис Ривер диплом с отличием по английской филологии. Она знаток европейской литературы, о которой с успехом читала лекции мистеру Оттокару и другим поклонникам ее красноречия. Она на короткой ноге с Достоевским, Стендалем и Вальтером Скоттом. Она все знает о мужьях, мечущих топоры, и о женщинах в белом, бегущих ночью через лес. А вот ее золовки, женщины более прозаические, видят обычные брюки, порванные о колючую проволоку. Неужели эти «зануды в твидовых костюмах», как они сами себя назвали, эти примерные прихожанки сговорились и сочинили гладкую ложь, к которой не подкопаться? А потом принудили солгать честнейшего доктора Ройленса? Мы живем не в Средние века, и он не вассал, подчеркивает адвокат. Нет, все это скорей похоже на плод изощренного ума и литературной фантазии самой миссис Ривер. Ее обвинения бездоказательны.
Взгляните сами, призывает Аунс, и решите, кому можно с большим основанием верить. В большинстве супружеских диспутов повинны обе стороны, между ними существует некий баланс добра и зла. Но в данном случае этот баланс явно нарушен. Поведение миссис Ривер после ухода от мужа ясно показывает, к какому образу жизни она тяготеет.
Начинает говорить судья, и снова у Фредерики мелькает в голове: «Я слишком легка. Мне не хватает веса. Меня нет». То, что она знает, она высказать не может, а высказанное предательски не выражает того, что она знает и чувствует. Судья не услышал ее и решит в пользу Найджела. Вон он восседает на своей высоте и кисло глядит мокрыми глазами из кожаных складок.
Судья Пунц: Понятия о браке меняются, и нам, старикам, нужно об этом помнить. Все меняется – и обычаи, и ожидания. Например, вот этот бракоразводный процесс происходит в христианской стране. Официальная Церковь, к которой один из вас принадлежит, считает, что брак не может быть расторгнут. Вы оба хотите развода, но обоюдного желания недостаточно, закон требует, чтобы вы доказали факт посягательств на супружество, достаточных для расторжения брака. Сначала миссис Ривер ходатайствовала о разводе на основании жестокого обращения и супружеской неверности, а мистер Ривер проявлял терпение и стремился восстановить свои супружеские права в родном доме. Теперь, возможно не без оснований, он решил, что надежды его наивны, долготерпением делу не поможешь и лучший выход – честно взглянуть в лицо действительности.
Я внимательно изучил материалы дела. Мистер Ривер признает факт супружеской неверности, но отрицает обвинения в жестокости. Важнейшие из них – эпизоды с рукоприкладством и топором – не подтверждены ничем, кроме собственных слов миссис Ривер. Суд мог бы принять их во внимание, если бы в описываемое время миссис Ривер рассказала кому-либо о поведении мужа. Но она никому ничего не сказала, включая и таинственных джентльменов, ждавших ее в «лендровере» в ночь побега. Впрочем, суд располагает показаниями мистера Роуза, согласно которым миссис Ривер рассказала ему о случае с топором целых одиннадцать дней спустя.
Теперь обратимся к другой стороне. Тут имеются ясные и подробные показания сестер Ривер и мисс Маммотт. Хоть и можно теоретически предположить, что три респектабельные дамы сговорились и придумали историю, чтобы обелить брата и нанимателя, это маловероятно. То же относится и к печальной истории с венерическим заболеванием. Миссис Ривер утверждает, что могла заразиться только от мужа. Мистер Ривер не отрицает, что у него были связи с женщинами, но он представил медицинские доказательства того, что болен не был. Миссис Ривер говорит, что не могла видеться с друзьями и подругами, но сестры Ривер и мисс Маммотт это опровергают. Судя по недавнему поведению миссис Ривер, половая воздержанность не настолько для нее характерна, чтобы исключить заражение от кого-то еще.
Супружеская неверность миссис Ривер после побега из Брэн-Хауса доказана вполне. Несколько случаев она оспаривает, но остальные признает. Суду нет нужды устанавливать истинность первых, поскольку вторые составляют достаточно цельную картину. Что до меня, я, признаться, в чем-то сочувствую обоим супругам: они не поняли, что по-разному смотрят на свои обязанности в браке, хотя, разумеется, дело можно было поправить проще, чем говорится в несколько мелодраматичном ходатайстве миссис Ривер. Мистер Ривер надеялся, что миссис Ривер будет вести себя как жена и примет ограничения, естественным образом вытекающие из роли жены. Миссис Ривер полагала, что мистер Ривер любит ее такой, какова она есть, – то есть, видимо, за интеллектуальные достижения – и потому предоставит ей такую свободу личной жизни, к какой он явно был не готов. Вообще, по моим наблюдениям, женское высшее образование немало принесло бед обоим полам. Оно сформировало у женщин ожидания, которые общество в нынешнем виде не способно удовлетворить, и навыки, которые не находят достаточного спроса. Другая женщина, осознав проблему, возможно, проявила бы больше терпения, гибкости, находчивости. Миссис Ривер была молода и неуравновешенна. Она предпочла убежать.
Здесь много зависит от правдивости истории с топором, на ней построено единственное весомое обвинение в насилии. Я полагаю, было бы опрометчиво в этом случае принять как доказательство заявления миссис Ривер. Наш суд опирается на принцип большей вероятности и потому склонен верить показаниям мистера Ривера и его домашних. Факт оставления супруга сомнению не подлежит. Мистер Ривер не раз пытался уговорить жену вернуться, эти попытки хорошо задокументированы, их искренность сомнений не вызывает. Супружеская измена имела место с обеих сторон. При этом, насколько можно судить, ни та, ни другая сторона не планирует в скором времени вступить в брак и создать семью, где нашлось бы место маленькому Лео.
На основании вышеперечисленного суд принимает сторону супруга, признает его встречное ходатайство и выносит условное решение о расторжении брака, которое вступит в силу в установленный срок, если не будет оспорено ранее. Супруге в ее ходатайстве суд отказывает.
Что касается опеки над ребенком, Лео Александром, суд в ближайшее время назначит соответствующее заседание. Представитель суда поговорит с обеими сторонами, оценит жилищные условия и побеседует с самим Лео. Он, как я понимаю, мальчик умный, вполне может выразить свои чувства и пожелания. Я хотел назначить заседание еще до Рождества, но секретарь подсказывает, что скопилось много дел, вряд ли успеем. Поэтому Лео пока останется с матерью, чтобы не нарушать устоявшийся порядок жизни. Далее. Поскольку Лео явно нравится гостить у отца, Рождество он проведет в Брэн-Хаусе. Уедет двадцать четвертого числа, вернется двадцать седьмого.
Фредерика в своем черном коротком платье стоит в коридоре под дверью судебного зала. Открытые колени дрожат и стукаются друг о дружку. Ей точно показали фильм о глупой, в чем-то презренной женщине, которую взвесили и нашли легковесной. Она не узнаёт больше свое прошлое. Другие пересказали ее жизнь, и она стала другой. Правда, благие самообманы, откровенная ложь сплелись в новую фабулу, и Фредерика – кто она? существует ли она вообще? – запуталась в большой тонкой сети. Не важно уже, кто победит, – думает она, – только бы свершился развод. В суде сейчас рассказали историю о женщине холодной и мало любящей сына. Фредерика оказалась в мире, где все наоборот, где чтение – грех и материнское небрежение, где порыв любви и нежности к одному мужчине есть ущемление прав другого. Она не может унять дрожь в коленях. «Кто скажет мне, кто я есть?» Чьи слова? Короля Лира?
Кто-то подошел сзади и обнял ее за плечи:
– Мерзкая процедура. Ну как ты?
Найджел. Она вздрагивает, потом оборачивается и смотрит ему в глаза. Он тоже впутан в словесную сеть, покрывшую нагие тела в постели, топор, спящего мальчика, то, что нельзя ни определить, ни назвать.
– Меня трясет.
– О деньгах не беспокойся.
– Спасибо.
– Насчет Рождества договоримся.
– Да.
– И не взыщи, на войне и в любви все средства хороши.
– Нет, не все. Не все. Ложь не хороша.
– Я хочу, чтобы мой сын был со мной.
– Я тоже.
– Нет. По-настоящему, до глубины – не хочешь. В этом и суть. Поэтому я за него борюсь.
Найджел прав. Фредерика опускает глаза.
– Посмотрим, – ломким голоском отвечает она.
– Посмотрим. Если он останется дома, будешь приезжать сколько хочешь, брать его на праздники. Мы все устроим как надо, тебе всегда будет место.
– Он хочет жить со мной.
– Посмотрим.
Он снова касается ее плеча, и она снова оборачивается, вздрогнув.
В ту ночь ей снится сон. Она стоит у высоких ворот, обвитых поверху колючей проволокой. День жаркий, обложенный тучами. Собирается гроза. Над головой огромная замочная скважина, но роста не хватает заглянуть внутрь. Никто не придет и не поможет, нужно на что-то встать, тогда можно будет дотянуться. Она ищет по сторонам и находит платформу на колесах. Фредерика знает – как знают во сне, – что на таких подвозят к эшафоту людей, когда им не служат ноги. Поближе к палачу. Фредерика толкает платформу к воротам, деревянные колеса скрипят и жалуются. Потом она восходит по ступеням и хватается за перекладину. Теперь видно. Скважина как длинный тоннель. Внутри темно, а с той стороны – сад. Во многом это сад поместья Лонг-Ройстон, где Фредерика играла юную Королеву-девственницу в «Астрее», главной пьесе Александра. Широкие лужайки с крокетными воротцами и розовыми деревцами обведены рамой из темных ветвей с красивой черной листвой в разводах золы и золотыми плодами, припорошенными сажей, так что золото светит смутно и прерывисто.
По лужайкам мягко бродят большие кошки. Львы, тигры, черные пантеры с глазами золотыми и зелеными, с окровавленными клыками, беззвучные и неустанные. Фредерика знает: нужно их выпустить, но тогда они ее сожрут. Ключа у нее нет. Мелькает мысль просочиться в скважину. Глупость, конечно. Голос в голове: «Вспомни, ты – тонкая». Голос прав. Тонкая, потому что двумерная. Бумажная женщина. Фредерика видит саму себя, как она проскальзывает в щель меж створками ворот. Дюйм, еще дюйм – ей нетрудно, в ней нет ни веса, ни сути. Вот она парит над садом на манер воздушного змея. В конце сада что-то вроде святилища: пещера с каменным ложем. На ложе – каменный лев, совсем небольшой. От него, пульсируя, исходит свет, сильный и жаркий. Фредерика после небольшой заминки опускается и идет к нему. Огромные звери идут следом. На ней платье из красной и белой бумаги, оно рвется при каждом движении, и клочки лепестками сыплются в траву. Она сейчас как юная Елизавета, за которой гонится с ножницами мачеха Катерина Парр и мачехин муж, повадливый шутник Томас Сеймур. Они всего-то хотят для шутки изрезать ей платье – так, по крайней мере, сказано было на суде. Судили Сеймура за измену и присудили к отсечению головы. «Лишился головы», – говорит голос, а в траве густо от красных и белых лоскутков. От платья остался бумажный поясок, с которого свисают красные и белые ленты, не прикрывающие рыжего треугольника у нее между ног. «Спаси бог душеньку мою: сама себя не узнаю!» – это Фредерика кричит реплику из пьесы. Это Елизавета в пьесе кричит вслед за нищенкой из баллады: лихой молодец искромсал несчастной ее красную бумазейную юбку. Потом за Фредерикой гонятся. Каменные женщины, белые и красные, громыхая, мчат и воют: «Голову долой!» Главное – добежать до каменного льва. Фредерика бежит, а сад разрастается. Под ногами крокетные воротца, ноги в крови. Красная женщина гремит: «Она воображает, будто она Уна со львом[254], да только всем известно, что это басни, вранье, пустое пустозвонство! Уна была девственницей, а у девственниц львов не бывает».
У девственниц каменные львы, отвечает Фредерика, зная, что это неправда. Каменный лев скалит клыки и обрастает каменной шерстью. Шерсть дыбится, глаза загораются красным, зверь разевает пасть. Только бы добежать до него.
«Она не девственница!» – кричат каменные женщины. Теперь видно, что их три и все они красные. А она побелела от страха и холода, она дрожит в студеных сумерках и хочет ладонями прикрыть наготу. У женщин лица истуканов с острова Пасхи, только красные, не то кровавик, не то сердолик. «Она ничего не может! – кричат они. – Она бумажная, картонная! Просто картонка тонкая, просто линия…»
Бумага сильней камня, выдыхает она, рушась, припадая наконец к сияющему существу на каменном ложе. Все вокруг валится, она погребена, а под ней – каменный лев.
Фредерика просыпается.
XX
– Господа присяжные! – произносит секретарь суда. – Издательство «Бауэрс энд Иден» и мистер Джуд Мейсон обвиняются в том, что тринадцатого марта сего года опубликовали непристойное издание, а именно книгу под названием «Балабонская башня. Басня для детей нашего времени». Ответчики виновными себя не признают. Вам предстоит, ознакомившись с доводами обеих сторон, вынести вердикт о виновности или невиновности ответчиков.
В загончике для подсудимых всего один человек. На нем сизый костюм и белая сорочка с хорошо завязанным тускло-красным галстуком. Он коротко стрижен, железно-серые с сединой волосы похожи на шлем. На изможденном лице глаза опущены – то ли освобожденный узник, то ли монах, после глубокой молитвы вернувшийся в «реальный» мир. Одежда, подобающая для суда, облегает его превосходно, и все же в первое мгновение кажется, что она велика, вспоминается не то пиджак на вешалке, не то пугало в тряпье. Из ворота сорочки торчит худая серая шея. Средневековое лицо: высокие, острые скулы, крупный нос, полуприкрытые, запавшие глаза.
Фредерика сидит в зале, с ней Дэниел. Человека в загончике она не сразу узнала, хоть и была на совете, где обсуждалось его перевоплощение. Она и сказала тогда решающее слово:
– Боже мой, Джуд, это просто маска. Суд – спектакль, и мы каждый играем свою роль. Это как шахматы, а ты Белый рыцарь на белом коне. От тебя требуется выглядеть – понимаешь, выглядеть – как приличный человек. Это важно, на тебя будут смотреть. Костюмы – часть спектакля.
– Это не спектакль, а жизнь, – отвечал Джуд. – Я предстану пред ними таким, каков есть. Мой вид – моя правда и отражение моей сути.
– Не пойму, признаться, что он отражает, – пожал плечами Джудов юрист Дункан Рэби.
– Вы попросту не умеете читать по одежде. Мой камзол голубой – это цвет правды. Покрой двойственен: в восемнадцатом веке его носили философы и распутники. Да, мой камзол замаран – потому что правда замарана клеветами.
– Очень познавательно, – отозвался Рэби, – но судью Балафрэ вы этим не покорите. В перспективе это катастрофа.
– Образумься, Джуд, – вмешалась Фредерика. – Маска должна соответствовать ритуалу. В суде нужно играть по сценарию суда и выглядеть респектабельно. Волосы отрастут, а камзол повисит пока в шкафу. Ты же любишь позировать голым за деньги…
– Когда я позирую, я честен.
– Вы хотите выиграть или нет?! – возопил наконец Жако.
И все же, увидев в суде нового Джуда, Фредерика вздрагивает. Он кажется приниженно-жалким, больным.
За барьером поместилась коллегия присяжных. Поначалу был спор о том, вводить ли в нее женщин: традиционно дела о непристойных действиях рассматриваются мужчинами. Судья склонялся к полностью мужской коллегии, представители сторон возражали, что присутствие женщин позволит полнее представить мнение общества, этой великой совокупности здравомыслящих людей. В результате в числе присяжных три женщины, все не моложе среднего возраста: одна вдова, владелица салона красоты, другая служила физинструктором на флоте, третья домохозяйка. Мужчины тоже в летах, за исключением смуглого молодого человека, у которого свой магазин грампластинок. Тут есть банковский служащий, бухгалтер, директор бассейна, преподаватель физики из технического вуза, электрик, владелец ресторана, портной и учитель средней школы. Большинство, не запинаясь, гладко приносит клятву на Библии. Портной, еврей в кипе, клянется на Ветхом Завете.
Возникают вопросы по процедуре. После небольшого обсуждения решено, что, следуя прецеденту процесса над «Любовником леди Чаттерли» в 1960 году, прежде чем ознакомиться с книгой, присяжные выслушают не только прокурора, но и адвоката. Будет несправедливо, если они удалятся читать «Башню», памятуя только комментарии обвинителя. Судья Гордел Балафрэ – очень крупный, мрачно-красивый мужчина с удлиненным, смуглым лицом. Судейский парик от его смуглоты прямо-таки светится белизной. Говорят, Балафрэ благожелателен к адвокатам и свидетелям. Говорят также, что он интересуется искусством.
Решено, что поскольку с обеих сторон свидетелями выступают эксперты, они могут оставаться в зале на всем протяжении разбирательства.
Королевский прокурор сэр Августин Уэйхолл начинает:
– С позволения Вашей чести. Уважаемые присяжные, сторону обвинения в этом деле представляю я и мой уважаемый коллега мистер Бенедикт Скейлинг. Компанию-ответчика «Бауэрс энд Иден» представляют мои уважаемые коллеги мистер Годфри Хефферсон-Броу и мистер Перегрин Свифт. Мистера Джуда Мейсона представляют мои уважаемые коллеги мистер Сэмюэл Олифант и мистер Мерлин Рэн.
У прокурора приятное лицо с римским носом и умным выражением тонких, поджатых губ. В нем есть что-то от орла. Он обладает ценным даром: когда говорит, сохраняет полную неподвижность, причем с вежливым вниманием смотрит в глаза присяжным, одному за другим по очереди. Выражение всего существа – беспристрастная забота о справедливости. Ясным, ровным, деловым голосом он сообщает присяжным, что им предстоит решить, является ли книга «Балабонская башня. Басня для детей нашего времени» непристойной в соответствии с Законом о непристойных изданиях 1959 года.
Оксфордский словарь английского языка, говорит сэр Августин, толкует слово «непристойный» следующим образом: «оскорбительный для чувства скромности и приличия; выражающий или подразумевающий развратные мысли; неприличный, безнравственный, распутный». Есть у него и другие значения, включая «выраженный неясно, невнятный»[255]. Прокурор замечает, что действовавший ранее Закон о непристойной клевете как раз таки не отличался ясностью формулировок. Закон 1959 года в Статье 1(А)1 дает такое определение непристойности: «Непристойным считается издание, которое может оказать разлагающее и пагубное влияние на тех, кто его прочтет, увидит или услышит независимо от обстоятельств».
– Это определение тоже не вполне прозрачно как в смысле формулировки, так и в смысле основных понятий. Думаю, вам, уважаемые присяжные, хотелось бы знать, какое значение вкладывать в слова «разлагающий» и «пагубный». Насколько серьезно их следует понимать? Обратимся к тому же словарю. «Разлагающий» – способствующий физическому и нравственному разложению, внутреннему распаду, упадку. «Пагубный» – вредный, гибельный, угрожающий бедствием. «Разлагать» – дезорганизовать, приводить к внутреннему распаду, упадку. «Губить» в одном из значений тоже можно свести к тому же определению: «приводить к душевному упадку». Несомненно, именно в этом значении оно понимается в Законе пятьдесят девятого года.
Однако, продолжает сэр Августин, на практике «разлагающее и пагубное влияние» трактуется как толкающее на дурные поступки, на поступки, идущие вразрез с законом или с общепринятыми представлениями о пристойности. Он приводит прецедент: в начале похожего процесса судья Стейбл напомнил присяжным, что «книгу обвиняют в разлагающем и пагубном влиянии на читателей. Она может шокировать, она может отвращать, но ни то ни другое не есть нарушение закона».
На всех процессах о непристойных изданиях адвокаты справедливо повторяли то же самое: «шокирующий» и «отвратительный» не значит «непристойный». И все же сэр Августин уверен, что эта формулировка – «разлагающее и пагубное влияние» – дает присяжным право, а возможно, и вменяет в долг задуматься о действии книги на человеческую душу и разум. Даже если книга никого не толкнет на преступление, пусть присяжные задумаются о том, что она сделает с человеческой душой. Решать – им, напоминает сэр Августин.
О художественных достоинствах книги, о разных прочих обстоятельствах, продолжает прокурор, расскажут эксперты с обеих сторон, но присяжным следует помнить: их мнение касается только литературной стороны. Ни о чем другом экспертов не спросят, а если они выскажутся сами, этим нужно пренебречь. Перед коллегией стоит вопрос: является ли данная книга непристойной. Это решают не эксперты, а двенадцать мужчин и женщин, представляющие гуманное, цивилизованное общество и здравый смысл.
И только когда решение будет принято, встанет вопрос о литературных и прочих достоинствах. Потому что, согласно статье 4(2) Закона о непристойных изданиях, книга может быть оправдана, если присяжные считают, что, несмотря на непристойное содержание, она представляет ценность для науки, литературы, искусства, образования и прочих общественно важных сфер. Представители защиты намерены апеллировать к указанной статье и доказать ценность книги на основе показаний экспертов. Они утверждают, что «Балабонскую башню» нужно разрешить по причине ее литературной, общественной и психологической значимости, что это – в интересах общества.
– Выслушав их показания, вы сами решите, так это или нет. Его честь господин судья распорядился, в виде исключения, заслушать сперва экспертов защиты, чтобы обвинители знали, на чем строится их позиция, и соответственно вызывали своих свидетелей.
Когда слушалось дело «Королева против „Пингвин букс лимитед“», говорит сэр Августин, – да-да, то самое дело о «Любовнике леди Чаттерли», судья Бирн запретил обвинению приводить цитаты из книги, пока присяжные не прочтут ее целиком. Об этом просил Джеральд Гардинер, защитник. Сэр Августин приводит его слова: «Я не возражаю против того, чтобы мой уважаемый коллега раскрыл присяжным суть книги и изложил причины, по которым обвинение считает ее непристойной. Я лишь не хочу, чтобы он настраивал их, зачитывая лишь отдельные отрывки, прежде чем они прочтут ее сами». Поэтому сейчас прокурор намерен лишь суммировать позицию обвинения, а к цитатам обратится в свое время. Раньше, когда книги судили по обвинению в непристойной клевете, литературные достоинства и общественная польза не учитывались. Достаточно было зачитать те самые отрывки, и книгу признавали непристойной. Сегодня речь не об отрывках, а о романе в целом, говорит сэр Августин и добавляет: он рад, что судья велел присяжным его прочесть. Они там увидят предостаточно: извращенный секс, патологии, уродства и, что еще хуже, – жестокость, мучительство, описанное в подробностях, с упоением… Но главное не детали, а общая направленность книги, ее дух, то, как она повлияет на читателя. Сэр Августин уверен: это и будет то самое «разлагающее и пагубное влияние». Перед вами, говорит он, книга дурная, гнусная, растлевающая душу, унижающая в человеке все, что в нем есть человеческого. Да, у нее есть некие литературные достоинства, но прокурор верит, что присяжные не позволят им заслонить суть. А суть такова: извращенно жестокое мировоззрение и стремление навязать его читателю.
– Во время процесса над «Любовником леди Чаттерли» говорили, что судят не книгу, а саму леди, – говорит сэр Августин. – За супружескую измену, за то, что она была женщиной и хотела любить. Сегодня пред судом предстал вполне материальный человек, сидящий на скамье подсудимых. Предстал мир, созданный его воображением и призванный определенным образом воздействовать на читателя. Каково это воздействие? Отвечу: «Балабонская башня» не оставляет читателю надежды. Сюжет до предела прост: какие-то люди с французскими именами объединяются в коммуну, построенную на принципе свободы – в кавычках, разумеется, поскольку свобода эта исключительно половая, при которой дозволены любые мерзости. Она скоро переходит во вседозволенность, а дальше следуют садизм, безумие и смерть. И тут уж автор не жалеет красок! В каких подробностях все описано: пытки, унижения, муки не только взрослых, но и детей, маленьких детей… Что же за книга перед нами? Слово «порнография» – греческое и возникло от слияния двух греческих корней: πόρνη – «блудница» и γράφω – «пишу». То есть изначально это писания о блудницах и публичных домах. Но можно толковать и по-другому: «писания блудниц» – ибо такое тоже случалось… Прочтя «Балабонскую башню», вы можете решить, что это продукт грязного, извращенного воображения. А защита, напротив, захочет представить ее как нечто высокоморальное: мол, автор показывает, как вседозволенность приводит к насилию и угнетению одних другими. Вам самим решать, что тут правда. Возможно, вы придете к мысли, что вся эта высокая мораль лишь повод разбередить читателя, разбудить в нем самые низкие, подавленные инстинкты. Защита скажет, что «Башня» – вещь страшная и трагическая. На это вы можете возразить, что в ней отсутствует главное, то, что Аристотель называет «катарсис», очищение души через ужас и сострадание. Это мерзость от начала и до конца. Больше чем мерзость – это попытка отравить человеческую душу, создать кадавра из похоти и жестокости. Впрочем, о психологии вам расскажут эксперты с обеих сторон… Лоуренса осуждали за откровенные описания в «Любовнике леди Чаттерли», за непечатные слова: по тем временам это считалось вызовом, оскорблением общественной морали. Но вместе с этим он поднимал вопросы классовых отношений, рассуждал о природе брака. Многие свидетели, люди уважаемые и образованные, говорили, что книга пронизана нежностью…
Адвокат издательства Хефферсон-Броу возражает: сравнение по степени непристойности неуместно.
Судья отвечает, что уместно, если сравнивающий в первую очередь принимает в расчет литературные достоинства обеих книг.
Сэр Августин соглашается: да, это непростой вопрос, сродни хождению по канату. Он лишь хотел сказать, что «Балабонская башня» не поднимает тех вопросов, которые мы встречаем в романе Лоуренса, да и сам роман в конечном итоге был оправдан. Тут нет рассуждений о любви, о браке, о природе языка. Автор говорит лишь об извращениях и жестокости.
Прокурор переходит к следующему пункту и говорит о потенциальных читателях. Вот как их определяет закон: «те, кто прочтет, увидит или услышит произведение независимо от обстоятельств». Страна только что пережила процесс над убийцами с пустошей, присяжным не нужно напоминать об этом ужасе. Поэтому сэр Августин призывает всякий раз, как защита заведет речь о литературе, о художественном вымысле, о том, что из-за книг не убивают, – вспоминать, что читал и чем вдохновлялся Иэн Брейди. И как внушал все это любовнице, и чем это закончилось. Пусть присяжные вспомнят, куда привели этих двоих фантазии, вычитанные из де Сада, из желтых книжонок про фашистов. А ведь до встречи с Брейди Майра Хиндли была самой обычной девушкой… Мистер Мейсон наверняка имеет полное собрание сочинений де Сада: его Балабонская башня – плагиат, копия замка из «Ста двадцати дней Содома».
– Поэтому прошу вас, господа присяжные, не отмахивайтесь, не говорите, что это всего лишь книга. Книга может указать путь, скрасить существование, а может сломать человеку жизнь. Диктаторы запрещают и жгут книги, видят в них иногда смертельную опасность. И об этом вам тоже напомнят коллеги со стороны защиты. Но диктаторы по-своему правы: хорошие книги опасны для дурных людей. А дурные книги опасны для хороших.
Прокурор закончил. Его место занимает адвокат издательства мистер Годфри Хефферсон-Броу. Это крупный мужчина с красным мясистым лицом и густой щетиной волос под белым париком. Он не сыплет острыми словечками, не стремится очаровать публику, голос его порой угрожающе погромыхивает. В сущности, он кажется прокурором, случайно попавшим на адвокатское место, и явно предпочитает защите лобовую атаку. Где Уэйхолл сдержан и логичен, его противник настроен решительно и не боится громких слов. Он, как и помогающий ему Мартин Фишер, – заслуженный свин, то есть выпускник Свинбернской школы. В данном случае это важно. Жако, как мы видели, тоже из свинов.
Хефферсон-Броу произносит целый панегирик издательству «Бауэрс энд Иден». Это старинная, уважаемая фирма с давними традициями. Редакция очень придирчива в смысле отбора материала: в основном книги по богословию, философии, обществоведению. Есть и более легкое чтение: беллетристика, кое-что из современного, но никаких любовных романчиков и раздирательных ужасов, никакого авангарда. Есть классические детективы, где дело расследует любопытный викарий или его супруга. Вышло несколько романов, например «Хлеб насущный» Филлис Прэтт – великолепная вещь, живое отражение церковного быта…
Адвокат переходит к Жако. Он молод, но уже умудрен опытом, это хороший христианин, счастливый муж и отец. На посту он недавно, но уже сумел вдохнуть в издательство новую энергию. До него у руля были люди консервативные и несколько оторванные от современных тенденций, а он расширил тематику, и теперь там освещается все самое актуальное. У них есть буквально все: новые направления в богословии, холокост, «Самаритяне»[256], методы социальной поддержки, психоанализ, психиатрия, философия, социология, новейшие явления, такие как психоделики и поп-музыка. Разумеется, с самых серьезных позиций, без радикализма, но в ногу со временем…
О «Балабонской башне» Жако узнал от человека, сведущего в литературе, человека, мнению которого он доверял. Он сразу понял, что перед ним за книга. Да, это – крепкий орешек, раскусить который читателю будет непросто! Он предвидел споры, восторги, нападки, но это его не остановило. «Балабонская башня» – книга сильная, самобытная, прекрасная сатира на прожектеров-утопистов и чересчур уж раскрепощенных мыслителей, которые утверждают, что в сексе все позволено. Хефферсон-Броу уверен, что господа присяжные, ознакомившись с ней, составят такое же мнение.
Да, автор не стесняется, говорит адвокат, последствия заблуждений показаны смело, сочно! Но это – высоконравственная книга, книга, зовущая на бой с порнографией, с пустой жаждой наслаждений, со всем разлагающим и пагубным, что пустило корни в британском обществе. «Балабонская башня» борется с теми же пороками, что и Закон 1959 года. Присяжные скоро убедятся, что ее герои были жестоко наказаны за свои преступления. Эта книга безжалостно обнажает язвы общества, и если, читая ее, присяжные испытали отвращение, значит она достигла своей цели. Это не изящная беллетристика, это манифест, это предупреждение и призыв остановиться. В британском обществе существуют вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Их нужно знать, с ними нужно бороться не на жизнь, а на смерть! Потому и была написана «Балабонская башня», потому она проникнута подлинным знанием и праведным ужасом.
Хефферсон-Броу хочет, в свою очередь, объяснить, что значит «разлагающее и пагубное влияние». Закон 1959 года направлен против порнографии, против гнусных листков для утоления похоти старых извращенцев, против мерзости, сочащейся из окон борделей, против садистских шуточек, которые каждый слышал в определенном возрасте. Автору «Балабонской башни» и ее издателю все это ненавистно не меньше, чем господам присяжным. Закон 1959 года не препятствует изданию настоящих, смелых книг, обличающих распад устоев, распад половых запретов, за которым следует разгул порнографии – псевдолитературы, разъедающей самую ткань общества. Он как раз и написан для того, чтобы настоящая литература печаталась свободно, чтобы авторы и издатели не боялись нападок со стороны ханжей. Защита покажет суду, что книга встретила самую широкую поддержку, что читатели оценили ее за глубокий психологизм, за важное общественное значение.
– Как мудро заметил мой коллега, дурные книги опасны для хороших людей. А хорошие книги – для книг дурных. «Убить хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека. Кто убивает человека, убивает разумное существо, подобие Божие; тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает как бы зримый образ Божий».
Цитата из «Ареопагитики» Мильтона[257] – это, пожалуй, чересчур, думает Фредерика, оглядывая лица присяжных. Кто-то из мужчин оживился – узнал, какая-то женщина радостно улыбнулась и кивнула. Остальные озадаченно и недвижно смотрят в пространство…
Хефферсон-Броу закончил. Теперь очередь Сэмюэла Олифанта, представляющего Джуда. Олифант начинает с того, что напоминает присяжным: его подзащитный – писатель. Он молод и живет в бедности, чтобы без помех заниматься литературой. Разумеется, он не порнограф: он написал большой и сложный роман, где разбирается соотношение половой свободы и общественных норм, связь между тиранией и жестокостью. Его творчество, как будет доказано в дальнейшем, продолжает великую европейскую традицию сатиры, в которой авторы оперируют самыми неортодоксальными, подчас шокирующими методами. Согласно существующим прецедентам, в вопросе о пристойности издания намерения автора и издателя не учитываются. Однако известны случаи, когда намерения учитывались при обсуждении литературных достоинств.
– Когда слушалось дело «Любовника леди Чаттерли», неизбежно и много обсуждались намерения Лоуренса. Многие свидетели защиты утверждали, что Лоуренс – пуританин. Да, он написал откровенную книгу о жизни тела, но намерения его были пуританскими. То же самое, леди и джентльмены, можно сказать и о моем подзащитном. Единственный по-настоящему положительный персонаж в этой хронике извращений и пыток – человек со странным именем Самсон Ориген, и он проповедует воздержание, он в своем роде аскет. И как бы странно это ни прозвучало, при всем натурализме, оргиях и прочем, дух книги – это дух воздержания и аскезы. Там даже есть некая ирония, и она опять-таки исходит от Оригена. Ее легко не заметить, особенно если специально выискивать разложение и разврат, – поэтому прошу вас, будьте внимательны, возможно, именно ирония искупает все прочее. Что же до намерений, Джуд Мейсон намеревался обличить безрассудство, эгоизм и другие вещи, гораздо хуже, – и поэтому показал их как есть, правдиво и без жалости. Это старый прием, классика…
Все это время Фредерика слышит не то сзади, не то под сиденьем своего стула какое-то странное жужжание и пощелкиванье. Когда судья говорит: «Что ж, теперь нужно, чтобы присяжные прочли книгу», – Фредерика оборачивается и видит Аврама Сниткина: рыжая бородка топорщится, ярко-голубые глаза опушены желтыми ресницами.
Судья спрашивает, как будет организовано чтение. Сколько времени понадобится, в каком помещении все будет проходить?
– Ты что, все на магнитофон пишешь? – шепчет Фредерика.
– Конечно.
– А так можно?
– У меня разрешение. Не стал им говорить про науку, просто сказал, что издательство хочет иметь запись. Представляешь, они сами ничего на пленку не записывают! Вон сидит стенографистка с ручкой – и на этом всё. Но мне мешать не стали: пишите что хотите.
Пленочная змея, шелестя, заглатывает слова.
Судья и представители сторон решают, как организовать чтение. Олифант предлагает раздать присяжным книги и отпустить всех домой, чтобы прочли не торопясь, в спокойной обстановке. Хефферсон-Броу говорит, что на процессе «Любовника» присяжным отвели особую комнату с удобными креслами. Кто-то напоминает, что есть практика на время суда селить присяжных в гостинице. Призывают старшину присяжных, и тот сообщает, что у них в комнате стулья жесткие. Это решает дело. Судья раздраженно отвечает, что раз стулья имеются, значит на них все и будут сидеть. В конце концов, их позвали сюда не для развлечения. Все мы сидели на жестком, добавляет он, и в школе, и в библиотеке, и никто не умер. Это и лучше, чем развалиться на подушках, лично ему на жестком лучше думается. Да, стульев вполне достаточно.
Присяжные удалились читать в два пятнадцать. Суд ждет. Гусакс шепчет канонику и Сниткину, что судья, похоже, сам с садистскими наклонностями. Впрочем, неясно, хорошо это или плохо. Фредерика хочет переговорить с Джудом, но тот исчез где-то во чреве старинного здания. Жако повторяет одно и то же: прокурор – устрашающий индивид. Он еще больше порозовел, лицо лоснится. На нем павлиново-синий жилет и иссиня-серый, тонкой шерсти костюм.
В четверть пятого судья посылает спросить, долго ли осталось. Несколько человек уже дочитали. Старшина – директор бассейна – просит передать толковый словарь потолще и, если не трудно, еще франко-английский словарь. Несколько человек скоро дочитают. Хефферсон-Броу просит напомнить им, что читать нужно внимательно и вдумчиво, а если у кого-то не получается, то пусть сообщит секретарю, чтобы суд нашел замену. Но вот присяжные возвращаются из комнаты с жесткими стульями. Двенадцать мужчин и женщин, двенадцать книг в черной обложке с розово-синим рисунком: кто-то вчитывался, кто-то скользил поверх строк, кто-то спотыкался на сложных словах или вовсе пропускал куски. Одна из присяжных забрала книгу домой и уже там ночью дочитала до смерти Розарии – несчастную вырвало, она в ужасе разбудила мужа. Об этом узнали после суда, потому что муж работал в прессе и рассказал знакомому журналисту из таблоида «Ньюз ов зе уорлд»…
На другой день заседание продолжается. Вызывают первого свидетеля защиты, это Александр Уэддерберн. Он сообщает свое имя, потом профессию: драматург. Александр входит в Стирфортскую комиссию, изучающую преподавание в Англии английского языка. У него есть опыт освещения вопросов культуры на радио и телевидении. Он преподавал в частной школе для мальчиков, его пьесы включены в учебники литературы. В прессе его хвалят за особое обаяние, пишут, что сегодня «мистер Уэддерберн выбрал хорошо сшитый вельветовый костюм темно-зеленого цвета, лимонную рубашку и синий галстук с узором из зеленых гвоздик. У него приятный голос и целая грива седеющих волос. Даже в напряженные минуты его не покидает выражение сдержанной учтивости и благожелательности».
Александр дает показания три часа. Он говорит разумно и внешне спокойно. Хефферсон-Броу проходится с ним по тексту книги, зачитывая из нее долгие отрывки, в которых почти нет эротики и вовсе отсутствуют описания жестокостей. О каждом спрашивает Александра: хорош ли язык с литературной точки зрения, достаточно ли тонко прописаны характеры, достаточно ли веско содержание. Здесь не нужны тонко прописанные характеры, отвечает Александр, жанр этого не требует. Хефферсон-Броу просит его пояснить присяжным, что такое жанр, мол, они не владеют литературоведческой терминологией. И вообще, если возможно, добавляет он, не углубляйтесь в специальные термины. Дело в том, говорит Александр, что герои книги представляют определенные человеческие типы, как в аллегории, сатире или комедии нравов.
Александра просят пояснить, что такое аллегория, сатира и комедия нравов. Просят также подтвердить, что слово «тип» не имеет в данном случае пренебрежительного оттенка: ведь говорят же «неприятный тип», «подозрительный тип»… Конечно нет, говорит он. По залу пробегает смешок. Непонятно, над кем смеются, над ним или над адвокатом. Да и есть ли разница, если они на одной стороне? «Тип» означает некий набор душевных качеств, отвечает Александр. Хороших? – интересуется Хефферсон-Броу. Александр качает головой: не обязательно. Разных, как в жизни.
Адвокату катастрофически не хватает подготовки, чтобы говорить о литературе. Поначалу Александр думает, что его придирчивость – от излишней заботы о присяжных как рядовых читателях, или, говоря невнятным штампом, «рядовых людях». Но, отвечая на вопросы, он словно продирается сквозь толщу удушающей ваты. Он пытается говорить как можно точнее, но ему постоянно указывают, что его язык слишком сложен, что нужно перефразировать. Александр добросовестно пытается объяснить, что один отрывок удачнее другого, что эта сцена почти трагична, а вот эта – лишь черный юмор в стиле гран-гиньоль, но в ответ раздается:
– Мистер Уэддерберн, поясните нам, пожалуйста, на английском языке, что такое гран-гиньоль.
Стоит ему вообще коснуться более слабых сцен, как встревает адвокат:
– Но вы находите, что язык неплох? Это ведь имеет литературную ценность? Прошу вас, мистер Уэддерберн, скажите просто: хорошо написано или нет?
Загнанный в угол, Александр принужден повторять: да, сцена хороша. Постепенно в головах слушателей книга упрощается до вереницы «хороших сцен».
Потом вступает Олифант, которому Александр еще раз подтверждает, что на кону – серьезное произведение, в котором многообещающий молодой автор ставит вопросы нравственности.
Потом приходит очередь прокурора.
Уэйхолл: Мистер Уэддерберн, вы человек всесторонне начитанный, вы посвятили жизнь великой литературе. Я позволю себе сделать признание: я очень люблю ваши пьесы, и не важно, читаю я их или смотрю на сцене. Это не лесть – я рад сейчас, говоря о вас, вспомнить фразу Герберта[258]: «дивный, чарующий язык». Поэтому у меня к вам очень простой вопрос: вы получили удовольствие от чтения «Балабонской башни»?
Уэддерберн: Удовольствие? И да, и нет.
Уэйхолл: В данной ситуации ответ вполне понятный. Давайте разберем его поглубже. Начнем с «да». Что именно доставило вам удовольствие?
Уэддерберн: Яркие описания, сам мир книги: это наполовину сказка, наполовину дистопия.
Уэйхолл: Дистопия?
Уэддерберн: Антиутопия. Описание неидеального мира. Автор хорошо пишет: выразительный язык, все время чувствуется эта гнетущая атмосфера…
Уэйхолл: Сейчас я задам вопрос, на который, я уверен, вы ответите честно как писатель и как мудрый человек. Скажите, читая эту книгу, вы ощущали сексуальное удовольствие?
(Пауза.)
Уэддерберн: В некоторой степени, в некоторых главах… Но ничего чрезмерного… Литературный процесс вообще связан с сексуальным удовольствием. Вордсворт сказал, что ритмы языка суть ритмы человеческого тела, в них выражен «вселенский принцип удовольствия, дающий нам жизнь и направляющий каждый наш шаг».
Уэйхолл: Очень интересно. Вы находите, что ритм художественного текста связан с сексуальным удовольствием. Это действительно очень интересно и многое проясняет. Я перефразирую вопрос: книга доставила вам сексуальное удовольствие, какое можно получить, скажем, от эротической картины?
Уэддерберн: Лишь в некоторой степени.
Уэйхолл: И все же вы сказали, что книга хорошо написана, что она живая и яркая. Не так ли? При этом она почти целиком состоит из описаний половых актов и голых тел. Неужели они не доставили вам удовольствия?
Уэддерберн: Почти нет.
Уэйхолл: Может быть, вы пытаетесь таким образом оправдать автора?
Уэддерберн: Дело в другом. Я думаю, автор именно стремился к тому, чтобы удовольствие было неполным. Стоит чувству перейти некую грань, как автор его охлаждает.
Уэйхолл: Чем? Омерзительными сценами?
Уэддерберн: Да, и это неприятная сторона книги. Но у автора есть на то веские причины.
Уэйхолл: Допускаю. Значит, сексуальное удовольствие у вас было смешано с отвращением?
Уэддерберн: Это не так просто.
Уэйхолл: Не так просто… Гм. Что ж, возможно, книга должна была подействовать как рвотное средство? Отвратить вас от героев и их поступков?
Уэддерберн: И здесь вы опять упрощаете.
Уэйхолл: Вижу, вопрос и впрямь крайне сложный. Ясно одно: вы будете и дальше утверждать, что автор не хотел разбередить вашу чувственность жестокими сценами. Что он этого и в мыслях не имел.
Уэддерберн: Я этого не говорил.
Уэйхолл: Не говорили и не думали?
Уэддерберн: Вы сейчас пытаетесь поймать меня на слове.
Уэйхолл: Но вы же понимаете, о чем я?
Уэддерберн: Я не думаю, что автор хотел жестокостью разбередить чувственность, мою или чью-то еще.
Уэйхолл: И вы ничего не ощутили? Ни малейшего возбуждения, ни малейшего удовольствия?
Уэддерберн: Нет. Или почти нет…
Уэйхолл: Я понял вас, мистер Уэддерберн. Вы предельно честны и потому не можете сказать, что не испытали удовольствия. Вы его почти не испытали. Теперь о литературных достоинствах. Насколько «Башня» хороша с литературной точки зрения? Нам нельзя сравнивать книги по степени непристойности, но литературную ценность мы можем сравнить. Когда шел процесс о «Любовнике леди Чаттерли», Лоуренса изучали в университетах по всему миру. Мой уважаемый коллега Гардинер по этому случаю отметил, что некоторые ранние работы Чосера, возможно, тоже сочли бы непристойными, не будь за ними имени великого автора. Скажите мне, мистер Уэддерберн, как учитель и как писатель, насколько велик Джуд Мейсон? Он равен Лоуренсу? Или, может быть, Берроузу? Или Микки Спиллейну?[259]
Уэддерберн: Это его первая книга, и книга серьезная. Не грошовый детектив с морем крови, как у Спиллейна, которого, по-моему, вообще читать невозможно. Она хорошо написана, у нее далеко не пустячная тема. Замечу, кстати, что нельзя судить об окончательном масштабе живого автора в начале его пути.
Уэйхолл: Иными словами, нельзя судить о литературных достоинствах книги, если автор жив и это его первая вещь?
Уэддерберн: Я сказал: «об окончательном масштабе».
Уэйхолл: Значит, в отличие от Лоуренса, речь здесь может идти только о предварительной оценке?
Олифант возражает. Судья отклоняет возражение. Александр говорит, что оценка, конечно, предварительная, но это не значит, что она не имеет права на существование.
Вызывают следующего свидетеля. Это доктор филологии Наоми Лурие, преподавательница английской литературы в Оксфордском университете, член совета Сомервилльского колледжа, автор книг, в числе которых «Диссоциация чувственного. Миф или реальность?» 1960 года издания. У нее много студенток, молодых девушек, и она была бы рада, если бы они прочли «Башню». Да, она бы посоветовала им эту книгу. Нет, она безусловно не стала бы включать ее в свой курс литературы. Она вообще против изучения современных авторов. До недавнего времени в Оксфорде не изучали книг, написанных после 1830 года.
У Лурие темные волосы и костюм из добротного шотландского сукна. На вид ей пятьдесят с небольшим.
– Вы не замужем, живете при женском колледже и изучаете духовную поэзию, – говорит Хефферсон-Броу. – И все же книга вам нравится? И вы думаете, что она обладает художественной ценностью?
– Я безусловно не замужем и учу женщин. Но я не считаю, что женщины понимают литературу как-то иначе, чем мужчины.
По залу пробегает легкая волна смеха. Доктор Лурие отвечает сдержанной улыбкой.
Прокурор Уэйхолл ловкой чередой вопросов заставляет Лурие признать, что «Балабонская башня» шокирует читателя так же, а то и больше, чем «Скромное предложение» Свифта, который призвал решить ирландский вопрос[260], настряпав из ирландских младенцев множество лакомых блюд.
– «Скромное предложение» вызывает у читателя аппетит к этим «лакомым блюдам»?
– Нет.
– А оргии «Балабонской башни», содомия, пытки – они внушают такое же отвращение?
– Полагаю, да.
На красивом лице прокурора играет ироничная усмешка. Он обращает ее к присяжным:
– То есть для вас юные шалости Нарцисса и похождения Дамиана и Розарии столь же отвратительны, как свифтовские младенцы, жаренные на вертеле?
– Я этого не говорила. Свифт – сатирик в чистом виде. Он пишет с saeva indignatio…
Прокурор любезно поясняет присяжным, что saeva indignatio означает жестокое негодование против людских пороков.
– …У Мейсона другая цель, – продолжает Лурие. – Он хочет, если можно так выразиться, заставить читателя сполна пережить все наслаждения «Балабонской башни».
– «Заставить пережить». Как сухо сказано. Не раздразнить, не распалить, не ввести в соблазн?
– Иногда он соблазняет, конечно…
– То есть автор включает и выключает соблазн, как воду в кране?
– Можно сказать и так.
Следующий свидетель – Энтони Бёрджесс. У него грубой лепки лицо и округлый, удивительно поставленный голос. Он хвалит «Башню» в музыкальных терминах: «кон брио», «аппассионато», «фуга» – и сообщает Хефферсону-Броу, что книга поднимает вопросы морали: еще немного, и было бы, пожалуй, слишком моралистично.
Хефферсон-Броу: Слишком моралистично?
Бёрджесс: Я раньше уже писал где-то, что книга не должна побуждать к действию, от этого ее ценность снижается. А «Башня» побуждает и поучает. Поучение всегда проигрывает чистой эстетике. Поучительная книга имеет планы на читателя, таким книгам доверять нельзя.
Хефферсон-Броу: Вы хотите сказать, что в «Башню» заложен некий морализаторский замысел?
Бёрджесс: Конечно. Читателя обрабатывают, его пугают, ему показывают мерзкие картинки.
Хефферсон-Броу: Но это же литературное произведение…
Бёрджесс: Не понимаю, при чем тут «но». Это именно литературное произведение. Многообещающее, серьезное произведение, заслуживающее похвалы. Это не «Улисс» и не «Радуга», но «Башню» читать нужно, читать и обсуждать.
Сэр Августин Уэйхолл поднимается, готовясь задать вопрос, и оценивающе оглядывает писателя.
Уэйхолл: Вы только что процитировали себя, сказав, что книга в силу своего дидактизма уступает вещам, написанным с позиций чистой эстетики. Автор строит на читателя планы и побуждает его к действию…
Бёрджесс: Да, это дидактичная книга.
Уэйхолл: Вы дали на нее блестящий, глубокий отзыв. Но в нем говорится, что «Башня» побуждает к действию не только потому, что она дидактична. Вы пишете, что порнография тоже побуждает к действию, пишете применительно именно к «Башне».
Бёрджесс: Да, это так. Вы правильно поняли мою статью.
Уэйхолл: Получается, что «Башня» – роман не только дидактический, но и порнографический.
Бёрджесс: Конечно, это не высокое искусство, где главное – принцип гармонии, а читатель получает эстетическое удовольствие. Это смешанная форма, некий гибрид, достигающий эффекта через побуждение к действию. Но это тоже произведение искусства, и оно заслуживает публикации. Нельзя запретить книгу только потому, что она хуже «Улисса» или «Радуги».
Судья Балафрэ: Согласен. Напоминаю присяжным, что они не должны принимать во внимание мнения литературных экспертов о пристойности или непристойности книги.
Уэйхолл: Мистер Бёрджесс, я задам вам тот же вопрос, что задавал вашим коллегам. Эта книга доставила вам сексуальное удовольствие? Затронула она в сексуальном плане?
Бёрджесс: О да. Несомненно. Это хорошая книга, и задачу свою она выполняет, бередит, будоражит. Чтение прямо связано с сексуальным возбуждением.
Уэйхолл: Но не в случае «Улисса»?
Бёрджесс: И в случае «Улисса» тоже! Недостойный вопрос. Связано, но иначе.
Уэйхолл: Иначе?
Бёрджесс: В «Башне» все более натуралистично.
Уэйхолл: Мистер Бёрджесс, вы писатель. Писатель смелый, не боящийся рисковать. Когда вы описываете секс или жестокость, вы представляете себе состояние того, кто это прочтет?
Бёрджесс: Да.
Уэйхолл: Как именно?
Бёрджесс: Представляю, что читатель чувствует то же, что и я. Что он одновременно возбужден и отстранен.
Уэйхолл: А вы представляете, как может повлиять ваш текст на людей не столь образованных, с более прямолинейным воображением?
Бёрджесс: С этим сложней. Глупо делать вид, что все читают одинаково. И что можно предсказать, как книга подействует на каждого.
Уэйхолл: Среди ваших читателей есть люди без морального компаса, слабые, болезненно возбудимые – вы чувствуете за них какую-то ответственность?
Бёрджесс: Отвечать за всех я не могу. Но долю ответственности чувствую. Что же касается вашего намека – да, я уверен: Джуд Мейсон не ставил целью спровоцировать невежественных читателей на преступление. Но вовсе такой исход исключить нельзя.
Уэйхолл: Вовсе исключить нельзя…
Вызывают следующего свидетеля. Дуглас Корби тоже писатель и к тому же ведущий литературный критик в авторитетном воскресном издании. Он одет с иголочки, невысок, миловиден, с мелодичным, но настойчивым голосом. Время уже наметило ему морщины от углов рта, как у Щелкунчика. Его светлые, с холодным отливом волосы начинают седеть и, как бывает в таких случаях, переходят в кремовый цвет. Корби написал много толстых, полюбившихся критикам романов («Пагубное влияние», «Конь победителя», «Голос черепахи Квази», «Жизнь в стеклянном доме») и успел побывать членом правления в Писательском обществе и литературном отделе Комитета искусств. На вопросы Олифанта Корби отвечает, что он действительно имеет вес как писатель и входит в число ведущих британских критиков. Книгу он читал и оценивает ее высоко.
Олифант: Вы считаете, что это серьезное литературное произведение?
Корби: Несомненно. Молодой человек чрезвычайно одарен. Ему предстоит многому научиться, но потенциал у него потрясающий. Просто нужно помочь ему. Начинающим писателям вообще нужно помогать, я это знаю по опыту. В первое время мне было совсем не просто.
Олифант: Итак, «Балабонская башня» – это серьезное произведение литературы. Не могли бы вы обосновать эту мысль?
Корби: Тема книги – зло, а наше общество, как вы, наверно, замечали, о зле задумываться не любит. Мы англичане, просвещенная нация, нас больше волнуют приличия, манеры, роли, которые мы играем в обществе. Да-да: какой вилкой есть рыбу, кого куда посадить на приеме, интеллигентный выговор, представительная обувь… И все это в век Освенцима и Хиросимы. Стыдно сейчас заботиться о клумбах, спорить, можно ли белые цветы сажать в рабатках, или это моветон…
Олифант: И Джуд Мейсон в своей книге поднимает проблему зла?
Корби: Конечно! И в каких красках, с каким увлечением! Еще чуть-чуть, и было бы даже слишком: вся эта готика, застенки, цепи – эффектов многовато, пестрó, но в своем роде очень действенно, очень. Голдинг тоже писал о зле. Вспомните «Повелителя мух»: мальчишки на необитаемом острове получают возможность безнаказанно творить зло. Человеческая натура там показана очень тонко. У мистера Мейсона тоже в каком-то смысле мальчишки в замкнутом пространстве, тоже зло, но в духе гран-гиньоль. Сам я предпочитаю описывать зло в повседневности: в гостиных, в театральных буфетах, на провинциальных кухнях, в учительских. В ощутимой жизни, говоря словами Генри Джеймса. Оден пишет: «Трещина в чайной чашке – ущелье в подземный мир». Писателю вполне хватает чашки, но мистер Мейсон, видимо, другого мнения, у него тут полный набор зверств. Для писателя это риск, это труднее сделать хорошо. Но ему удается – в значительной мере. Я, кончено, предпочитаю жизнь ощутимую, ведь палачи из Освенцима шли потом к себе домой. Где-нибудь в пригороде у них была семья, кухня с розовым абажуром, свиная рулька на ужин. Все, что нужно, легко можно передать через абажур, через рульку, необязательно…
Олифант: А что вы скажете в целом о книге мистера Мейсона? Это серьезная вещь? Хорошая?
Корби: Конечно. Я ведь уже сказал: мистер Мейсон хороший писатель. Сейчас он пока учится, а будет еще лучше. Главное – самое главное – не подрезать ему крылья.
Олифант закончил. У его оппонента вопросов нет.
Следующая – профессор Мари-Франс Смит из колледжа Принца Альберта, женственно красивая и хрупкая, в элегантном костюме черной шерсти с тонким белым кантом. Хефферсон-Броу делается подчеркнуто вежлив и деликатен, чем нервирует ее и раздражает: она настроена сухо и коротко рассказать о философских корнях книги. Хефферсон-Броу шаг за шагом разбирает с ней ее статью в «Энкаунтере».
Хефферсон-Броу: Профессор, вы пишете, что книга, которую только что прочли господа присяжные, «принадлежит к центральному течению европейской философии и неразрывно связана с историей интеллектуальной жизни в Европе». Это смелое утверждение…
Смит: Я могла бы на примерах доказать, что автор прекрасно знаком с французской философией времен Революции. Тогда шли дебаты о пределах личной свободы, о том, нужно ли ее ограничивать.
Хефферсон-Броу: Вы упоминаете нескольких мыслителей, например Фурье. Не могли бы вы рассказать о его учении и о том, как оно отразилось в «Балабонской башне»?
Смит: Фурье был просто чудак, добродушный чудак. В конце восемнадцатого – начале девятнадцатого века многие – и сам он, конечно, – верили, что революция в сфере чувств и обычаев даст начало Эре гармонии. Фурье считал, что за последние века цивилизация разложилась и пропиталась злом, что она только угнетает человека, а гармонии можно достичь через свободное утоление всех страстей. Он их насчитывал, кажется, восемьсот десять… По Фурье, «цивилизованный» человек испорчен и при этом уверен, будто все сотворены одинаково, а это не так. Лесбиянок, содомитов, флагеллантов, фетишистов, нимфоманок нужно не карать, а отвести им место в обществе. У него есть роман «Новый мир любви»: колонисты приезжают в Книд, что в Малой Азии, и организуют коммуну половой свободы – устраивают оргии, причем не только сексуальные, но и гурманские. Фурье, кстати, считал, что в Эру гармонии война сведется к состязанию кондитеров в приготовлении пирожных, а пирожные он очень любил. Еще он любил изобретать всяческие иерархии, придумал, например, королевский двор Любви. У него там были верховные жрецы, понтифики, матроны, исповедники, факиры, феи, вакханки…
Хефферсон-Броу: И все это, как вы говорите, плод фантазии добродушного чудака?
Смит: Да, безусловно. Его мир – это пастораль Ватто, этакое «Паломничество на остров Киферу»[261]. И он правда верил, что если бы идеологи Террора пошли чуть дальше, то разрушение устоев и обычаев привело бы к отмене института брака, а брак он считал чуть ли не причиной всех несчастий. Он писал, что в Эру гармонии «всем зрелым мужчинам и женщинам должен быть обеспечен достаточный минимум полового удовлетворения»
Хефферсон-Броу: И вы считаете, что «Балабонская башня» написана в той же традиции?
Смит: Первая часть – да. Герои хотят построить Новый мир любви. А вот то, что из этого получается, вдохновлено не только Фурье, но и де Садом.
Хефферсон-Броу: Расскажите нам, пожалуйста, о де Саде. Вы признаете его как мыслителя?
Смит: Не могу не признавать. Де Сад сыграл важную роль, показал философию Просвещения в новом свете. Он циник, он спрашивает: если нам будет дана свобода в утолении страстей, кто помешает нам мучить, убивать, насиловать? Это ведь тоже человеческие страсти, тоже часть нашего естества. Если взглянуть с этой стороны, то философия Вольтера, Руссо, Дидро с их верой в разум и свободу воли логическим путем ведет или к виселице, или в садовский будуар. И мистер Мейсон это понял. Понял и показал.
Ответчик не смотрит на профессора Смит, он упорно разглядывает свои руки. Некоторые присяжные это заметили.
Хефферсон-Броу: Вы не могли бы это обосновать?
Смит: Конечно. Начнем с названия. Ла Тур Брюйар переводится как шумная, вопящая или воющая башня. «Bruyard» еще означает лай гончих. А само слово «башня» отсылает к башне Вавилонской. Ее строители хотели свергнуть Бога с небес и были наказаны за гордыню: Бог смешал их языки, и они перестали понимать друг друга. Иначе говоря, группа людей восстала против Бога. Ла Тур Брюйар – это Новый мир любви пополам с садовским замком Силин: его обитатели тоже отгородились от мира, чтобы творить злодейства.
Хефферсон-Броу благодарит профессора Смит за то, что она столь ясно очертила моральную значимость книги. Защитник садится, поднимается обвинитель.
Уэйхолл: Спасибо вам, профессор, за интереснейшую лекцию. Вы очень убедительно показали нам книгу как типично французское умственное упражнение, эдакий диалог философов под названием «Ла Тур Брюйар». Скажите, пожалуйста, этих философов – де Сада, Фурье, – их печатают во Франции?
Смит: Да.
Уэйхолл: И свободно продают?
Смит: Да. То есть Фурье напечатан не весь, многое до сих пор не обработано, рукописи хранятся в Национальной библиотеке.
Уэйхолл: А их тематика – вы не находите, что она тоже типично французская? Ведь во Франции всегда было больше сексуальной свободы?
Смит: В каком-то смысле да.
Уэйхолл: И англичане ездили во Францию за запретными книгами, за канканом, кабаре и прочим. Некоторые у нас считают, что такая свобода – это хорошо. А вот другие говорят, что мы правильно делаем, когда заботимся о нравственности и обуздываем все то, что так увлеченно проповедовал господин Фурье. Рискну предположить, что составители закона, по которому судят эту книгу, принадлежали ко второму лагерю.
Олифант возражает: это не вопрос, а утверждение.
Уэйхолл: Профессор Смит, о «Башне» и о де Саде вы говорили предельно ясно, отрешенно, с чисто французским интеллектуальным блеском. Простите меня за прямоту – вы не похожи на поклонницу маркиза и его мерзостей, к тому же описанных с таким адским педантизмом. Скажите, вам нравится читать де Сада? Вы получаете от этого удовольствие?
Смит: Удовольствие? Нет. (Она явно не лжет, ее отвращение искренне.)
Уэйхолл: Но читаете, потому что так надо?
Смит: Да. Читаю, потому что это важно. Но больше люблю Фурье.
Уэйхолл: Фурье. Добродушный чудак, мечтавший все и всем разрешить. Пастораль с нимфами и мазохистами… А «Башня»? «Башня» доставила вам удовольствие?
Смит: Нет. Но это хорошая книга.
Уэйхолл: А автор – как вы думаете, автор хотел, чтобы вы получили удовольствие?
Свидетельница и подсудимый краснеют и опускают глаза.
Смит: В наши дни считается – и меня так учили, – что намерения автора априори неизвестны и не должны влиять на оценку произведения.
Уэйхолл: И вы не почувствовали, читая, некоего волнения, некой – простите – сладкой дрожи?..
Смит (покраснев еще больше): Может быть. Не помню. Это было не главное.
Уэйхолл: Благодарю вас.
Следующий свидетель – театральный режиссер Фаусто Гемелли. Он работал с Питером Бруком и Чарльзом Маровицем, в то время последователями Арто. Он увлеченно рассказывает о «Спасенных» Эдварда Бонда – пьесе, в которой бессмысленное убийство младенца в коляске прямо перекликается со знаменитой фразой Блейка: «Блаже дитя удушить в колыбели, чем собственные желания». Потом переходит к «Служанкам» и «Балкону» Жене, к Арто с его театром жестокости, в котором актеры, по словам создателя, должны быть «подобны людям, сжигаемым на костре и пытающимся докричаться до зрителя сквозь пламя». Олифант спрашивает, есть ли, по его мнению, в книге нечто неслыханное по меркам сегодняшней культуры, в которой видное место занимают Жене, Бонд, Арто, «Марат/Сад» Петера Вайса и «Лир» Питера Брука. Нет, отвечает Гемелли. Он возбужден, он лихорадочно жестикулирует и вопиет из облака черных волос. У обвинителя вопросов нет. Вероятно, он полагается на то, что Гемелли хоть и понравился определенной аудитории, зато оттолкнул всех прочих.
Третий день процесса. Защита вызывает Элвета Гусакса. Гусакс сообщает, что он врач-терапевт, психиатр и психоаналитик. Да, он работает с шизофрениками, с трудными подростками, пишет о языке и людях, о психическом здравии и недугах общества. Да, он автор таких книг, как «Язык мой – смирительная рубашка», «Словарь угнетения» и «Сторож ли я брату моему?». Его особенно интересует тема языка как орудия подавления человеческой самости (но и самовыражения, тоже, разумеется).
На свидетельской трибуне он производит впечатление: тверд и блестящ. Блестит лысый череп, блестит нос и длинные зубы. Огромные глаза скульптурно запали. Гусакс говорит, постепенно переходя на заклинающий речитатив, под конец даже покачивается, как факир, чарующий змею, и ребром ладони отстукивает ритм по кафедре. На нем кремовая водолазка, мятый пиджак черного вельвета и вельветовые же брюки. По причуде воображения Фредерике он видится лоснисто-кремовым мрамором и полированной слоновой костью. Хефферсон-Броу задает вопросы и постепенно наводит его на ответ: «Балабонская башня» – «важная книга, живописующая разложение личности как признак тяжелой malaise – болезни – общества в целом».
Гусакс говорит обильно, торжественно-звучно и наколдовывает в зале недолгое согласие, хоть многие потом и не могут вспомнить хорошенько, о чем шла речь. Человек раздроблен, и общество раздроблено, восклицает он. Мы все дальше от других людей, все дальше от собственной души, от понимания собственного «я». В книге отразилась эта раздробленность и глубокая жажда цельности, личностной и общинной. Автор повторяет главный посыл исходного сказания о Вавилонской башне. Человек, продолжает он, воспринимает себя как проекцию чужих идей, в основном родительских, или как жертву собственных страхов и подавленных влечений. В этом мире людям вешают ярлыки, по которым судят и карают: «преступник», «сумасшедший», «извращенец», «садист». А ведь другие слова подошли бы больше: «отчаявшийся», «нежный», «разумный», «сбившийся с пути». Язык не только творит, но и разрушает: книгу Лоуренса осудили за простые и честные слова, описывающие жизнь тела. Люди изобрели для них столько околичных замен, что разучились себя понимать, сами загнали себя в клетку. Есть такая болезнь – синдром Туретта. Тело извергает через рот запрещенные слова: «елда», «говно», «дрочка»…
Гусакс не находит нужным извиниться перед судом за непристойность. Он продолжает.
Тело извергает темные слова, и нас учат обращаться с ними как с извергнутым семенем: скорей стереть пятно и забыть. Извержение слов и есть по сути извержение семени. Запрещая и подменяя слова, выражающие нашу телесную суть, мы играем с огнем. И Джуд Мейсон показал нам последствия этих игр: кто убоится языка и рук человеческих, узрит языки пожара и клещи палача.
Хефферсон-Броу негромко, но упорно пытается унять поток и вернуть Гусакса к заданной теме. А тот как раз увлеченно приравнивает диалог к соитию, а внутренний монолог к онанизму:
– Есть данные, что при онанизме мужчина извергает больше семени, чем при половом акте…
– Свидетель, – вмешивается судья, – какое отношение это имеет к делу? Где тут связь с содержанием книги?
– Ваша честь, в книге осознанно обличаются такие вот онанисты-балабоны. Она написана человеком, полностью отрезанным от общества, переставшим воспринимать мир как нечто реальное…
И он бурно мчит дальше. Жители Башни, говорит он, пребывают в поисках утраченного довременного единства:
– Они ищут невозможного – полиморфно-перверсного общинного самосознания. Я процитирую Рильке, Ваша честь. Он молил Бога о том, чтобы превратиться в самодостаточного гермафродита.
– Рильке о таком молил? – удивляется судья.
– О да!
Mach Einen herrlich, Herr, mach Einen groß,
bau seinem Leben einen schönen Schoß,
und seine Scham errichte wie ein Tor
in einem blonden Wald von jungen Haaren…
– Я в затруднении: просить вас перевести это для господ присяжных или вычеркнуть из протокола как не относящееся к делу? Немецкий я, признаться, подзабыл, но, насколько мог понять, эта ваша цитата несколько… несколько… Может быть, мистер Хефферсон-Броу нас просветит? Стоит ли это перевести?
– Если я правильно понял, мистер Гусакс имел в виду, что… Конечно, он человек увлеченный, он и нас сумел увлечь, но все же мы несколько удалились… Суть, по-видимому, в том, что это общество в замке – оно больно, оно ищет единения и не находит.
Судья Балафрэ: Но как сюда относятся балабоны-онанисты и цитаты из господина Рильке?
Гусакс: Если позволите, я отвечу. Лоуренс говорил, что исцелит свой мир – мир романа, – призвав в него каждую змею, что скользит и вьется в топях бессознательного. Мишель Лейрис, французский сюрреалист, говорит, что мазохизм, садизм и вообще все почти пороки – лишь средство полнее ощутить свою человеческую суть. Кюльвер, герой книги, подобно Фурье, о котором говорила профессор Смит, хочет в свою Башню, в свое новое общество, призвать все и вся. Каждый отверженец, каждый заблудший дух найдет там место, и все будут едины. Он, разумеется, терпит неудачу, но само желание его благородно. Да, благородно и здраво. Метафору Рильке я привел, потому что она меня позабавила, позабавил этот образ недостижимого, но такого желанного единства – гермафродитной, полиморфно-перверсной, прекрасной, самодовлеющей целокупности.
Судья Балафрэ: Не знаю, возможно, мы тратим сейчас время, но я попрошу вас перевести эту цитату.
Гусакс: Спасибо, Ваша честь. Сек… секунду… Примерно так…
Сделай человека прекрасным, Господь, сделай человека
великим.
Сотвори внутри прекрасную утробу для его жизни
И воздвигни его стыд, как колонну,
В белокуром лесу юных волос.
Судья Балафрэ: Спасибо. Большое спасибо. Уверен, что господам присяжным это было полезно.
Гусакс: Прекрасное стихотворение. Сильное!
Судья Балафрэ: Возможно. По-немецки, должен признать, звучало лучше. Мистер Хефферсон-Броу, полагаю, нам нужно вернуться к предъявленному обвинению.
Хефферсон-Броу: Конечно, Ваша честь. Мистер Гусакс, не могли бы вы своими словами объяснить литературную задачу этих, как вы выразились, садо… садомазохистских сцен? Какой эффект они должны произвести на читателя? Чем ближе к концу, тем мрачнее становится книга и тем больше мы видим таких сцен…
Гусакс: Безусловно. Каждая сцена – гражданская казнь, абсолютное публичное унижение. Позволю себе порекомендовать господам присяжным статью Гарольда Гарфинкела – это американский этнометодолог. Она называется «Об условиях успешной гражданской казни». Год издания пятьдесят шестой, шестьдесят первый номер «Американского социологического журнала». В современном мире это церемония отчуждения человека от общества. И она происходит повсеместно, во всех наших гражданских институтах. Королевское научное общество издало сборник «Ритуализация поведения у животных и людей». У Рональда Лэйнга там есть статья, в которой он вынесение психиатрических диагнозов приравнивает к церемонии отчуждения, а точнее, к гражданской казни. То же можно сказать иногда и о публичном покаянии. Я считаю, что покаяние и театр в «Балабонской башне» – формы публичной казни. Их можно сравнить с тем, что бывает в особого рода борделях: мужчин переодевают в детские костюмчики и наказывают, как малолетних шалунов. Или тоже унижают, но уже в образе мучеников с цепями и прочим. Жене не зря пишет, что людям это необходимо: играть в жрецов, судей, епископов, генералов – то есть унижать, казнить, отчуждать… Не только в борделях, но и в жизни. Иногда лишь так и можно добраться до своей истинной сути – через насилие, через кровь, через бунт…
Судья Балафрэ: Я вас не вполне понимаю. Вы хотите сказать, что суды, психиатрические клиники, а может, и Церковь нужны для унижения и разобщения? По-вашему, об этом пишет мистер Мейсон?
Гусакс: Нет, он пишет, что в некоторых ракурсах они могут восприниматься как инструменты унижения и разобщения. И в «Балабонской башне» глубоко, блестяще, изящно разбирает все извивы, все тайны ритуала… ритуала взаимного унижения. Я бы сказал, Ваша честь, что желание унижать – один из аспектов первородного греха, один из аспектов той разобщающей силы, которую воплотил в себе Господь, когда покарал строителей Вавилонской башни.
Судья Балафрэ: Вы выражаетесь точно, но весьма сложно, мистер Гусакс. Правильно ли я понимаю, что, по-вашему, Бог согрешил, разделив строителей башни?
Гусакс: Да, поскольку Бог – человеческий миф и проекция человека.
Судья Балафрэ: Напоминаю, что вы сегодня клялись на Библии, мистер Гусакс.
Гусакс: Да, я поклялся именем Божьим. И снова готов поклясться. Но этот Бог – не жестокий судья, разобщающий людей. Он сила соединяющая, световое поле, сосуд красоты.
Судья Балафрэ: Я узнал от вас много нового, мистер Гусакс.
Гусакс: У меня есть цитата, Ваша честь, которая объяснит вам, что я имею в виду. Это слова Симоны де Бовуар[262] о маркизе де Саде…
Хефферсон-Броу: Возможно, нам лучше будет цитату опустить и вернуться к «Балабонской башне». Насколько я мог уяснить, мистер Гусакс, вы считаете, что жестокость в книге оправдана тем, что автор глубоко проник в суть общественного недуга? Вы, помнится, сказали по-французски – malaise. Что, собственно, и значит «недуг», «несчастье»…
Гусакс: Но цитата как раз все и объясняет, и у де Сада, и у Мейсона. Просто послушайте, Бовуар говорит предельно понятно. Это большая писательница, и ее уважают как мыслителя. Вслушайтесь: «Слишком охотно соглашаться с де Садом – значит предавать его, ибо он желает нам горя, порабощения, смерти. Всякий раз, как мы становимся на сторону ребенка, которому горло перерезал сексуальный маньяк, мы выступаем против де Сада. Но он и не запрещает нам защищаться. Он допускает, что отец имеет право предотвратить изнасилование своего ребенка или отомстить за него – даже убийством. Сад лишь требует, чтобы в борьбе непримиримых существований каждый защищал именно себя самого. Он одобряет вендетту, но порицает судилище. Мы смеем убивать, но не смеем судить. Судья в своих притязаниях нахальней тирана, ведь тиран всего лишь остается собой, а судья норовит свои мнения возвести в ранг вселенских законов. Все, что он делает, основано на лжи, ибо каждый заключен в тюрьму собственной кожи и не может быть посредником между отдельными личностями, сам будучи отдельной личностью».
Хефферсон-Броу: Но не утверждаете же вы, мистер Гусакс, что мистер Мейсон оправдывает убийство и отрицает суд?
Гусакс: О нет. Он отрицает де Сада, решительно отрицает. Но его идеи готов обсудить. Мы живем в свободном обществе, Ваша честь. Серьезная идея имеет право быть услышанной.
Судья Балафрэ: Идея серьезная, без сомнения. «Он одобряет вендетту, но порицает судилище…»
Гусакс: Это всего лишь идея. Вы мудрый человек, Ваша честь, и я верю в мудрость этого суда. Должны же вы понимать… Простите, я не так выразился. Я уверен, что вы понимаете: это идея серьезная. Вы и Джуд Мейсон ее, конечно, отрицаете. Даже я со всем моим скепсисом насчет права на осуждение, насчет всевозможных диагнозов, ярлыков, проекций, эманаций, призраков – даже я этот суд предпочту вендетте, то есть банальному убийству. Я тоже отрицаю де Сада. Но я признаю его вес. Вы не можете запретить его философию. И не можете запретить книгу Джуда Мейсона.
Судья Балафрэ: Спасибо, мистер Гусакс. Мистер Хефферсон-Броу, ваш свидетель завел нас в философские дебри.
Хефферсон-Броу: Но мы говорим о серьезной, философской книге, Ваша честь. Ее неприятно читать, но это не поделка, это глубокое произведение.
Приходит очередь Уэйхолла. Обвинитель спрашивает Гусакса, какие книги тот запретил бы, если бы мог. Тот отвечает: Барбару Картленд с ее любовной дребеденью. Там все ложь, а несчастные поклонники верят и, как следствие, страдают. Но ведь и эти романы по-своему отражают общество, возражает Уэйхолл, – хотя бы нашу склонность к несбыточным мечтам. Что, если тут тоже описан человеческий тип, достойный глубокого изучения?
– Я поспешил, увлекся спором, – улыбается Гусакс. – Вы правы. Ничего нельзя запрещать.
Уэйхолл: То есть все дозволено?
Гусакс: Полагаю, да. Все дозволено.
Уэйхолл: У меня нет больше вопросов, Ваша честь.
Хефферсон-Броу утратил часть лоска, у него покраснели щеки, и весь он как-то отяжелел. Он советуется с младшим коллегой и с Жако: стоит ли вызывать еще свидетелей и каких. Наконец решается и вызывает Аврама Сниткина. Тот поручает магнитофон Фредерике и идет к трибуне.
От Сниткина, в сущности, требуется привести данные исследований, призванных доказать, что люди, предрасположенные к сексуальному насилию, реже идут на преступление, если у них есть доступ к «литературе особого рода». Но он оказывается весьма неудачным свидетелем. Во-первых, он ничего не может высказать без многочисленных вставок и поправок: «с одной стороны», «с другой стороны», «как принято говорить», «при некоторых, весьма узко определенных условиях» и так далее. Во-вторых, на вопрос обвинения, можно ли упомянутую «литературу особого рода» классифицировать как порнографию, он выдает длиннейшую тираду о том, что понимание термина зависит от определения порнографии, которое, в свою очередь, зависит от того, как используется такая литература теми, чье привычное поведение при контакте с литературой, которую можно условно определить как порнографическую, исследовалось с учетом…
Судья решительно его прерывает – вероятно, сказалось раздражение от беседы с пламенным Гусаксом.
Сниткин сообщает также, что, согласно исследованиям, непристойное поведение и непечатная речь – извечное оружие отверженных и сломленных жизнью. Он уже готов дать определение непристойности, отверженности и сломленности жизнью, но тут разом восстают судья и Хефферсон-Броу. Далее он говорит о взглядах «юных идеалистов, мечтающих перестроить наше общество».
– Если анархия – необходимый пролог к созданию альтернативного общества, значит, дефлорировав язык, наполнив его непристойными словами, лишив его всех полезных функций, мы сделаем шаг навстречу новому языку.
Уэйхолл спрашивает, значит ли это, что Сниткин считает «Балабонскую башню» непристойным произведением.
Хефферсон-Броу возражает: мнение свидетеля о пристойности или непристойности книги учитываться не может.
Судья поддерживает возражение.
Сэр Августин спрашивает, считает ли Сниткин «Балабонскую башню» примером «дефлорации языка», к которой стремятся «юные мечтатели».
– Нет, вовсе нет. Ничуть. Автор против дефлорации, он, напротив, крайне бережен с языком, его язык гиперточен, гиперлитературен. Я лишь хотел сказать, что в сегодняшнем мыслительном климате, в котором мы все живем, непристойность сюжета мало кого шокирует. Вот и все.
Уэйхолл: Некоторые действительно живут в таком климате. Некоторые, но не все.
Следующий свидетель – каноник Адельберт Холли. Холли потрясает белой гривой, беспокойно шевелит пальцами, желтыми от табака, и взблескивает порой белым «ошейником». Его представляют как каноника собора Святого Павла, автора работ по теологии и психологии, «врача-сексолога» и руководителя службы телефонной психологической поддержки.
Хефферсон-Броу спрашивает, находит ли он, что «Балабонская башня» – книга хорошо написанная и с явным нравственным посылом? Холли говорит, да, написано хорошо, и посыл налицо.
Хефферсон-Броу: Вы – как пастор и христианин – посоветуете ее своим прихожанам?
Холли: Безусловно. Это книга глубоко, по-настоящему христианская.
Хефферсон-Броу: Почему вы делаете такой вывод?
Холли: Это книга о страдании и о причинении страдания. То и другое лежит в сердце христианской веры. Мы поклоняемся мертвому телу человека, которого били розгами, пытали, короновали терниями, пронзили мечом, гвоздями за руки прибили к кресту. Более того, мы утверждаем, что все эти муки на него навлек Бог, с которым он един, – в уплату за наши грехи. У нас жестокий, ревнивый бог, об этом в Библии на каждой странице. Жестокость и страдание – вот наше кредо и ритуал. То, что ныне называют садомазохизмом, мы сами поставили в центре своего бытия. Христианство лишь отражает этот факт.
Судья Балафрэ: То есть вы, христианский священник, считаете, что Бог жесток и в «Балабонской башне» говорится о том же?
Холли: Часть того, что мы ранее называли Богом, жестока. Другая человечна – это Иисус Христос. Я согласен с Уильямом Блейком: «Полагая, что Создатель сего Мира есть весьма Жестокое Существо, и веруя во Христа, восклицаю: „О, сколь мало Сын походит на Отца!“ Сперва Господь Всемогущий охаживает нас по голове, потом является Христос с целительным елеем». Мы должны славить в Христе Человека, мы должны в память о нем причащаться его истерзанного тела и пролитой крови, как он нам завещал.
Хефферсон-Броу наводит, вернее, пытается навести своего свидетеля на обсуждение моральной стороны книги, сцен охоты на детей, чудовищной смерти Розарии. Нужно, чтобы он сказал: никакого полового возбуждения у читателя тут быть не может, только нравственное потрясение. Вместо этого каноник, как в экстазе, повторяет: «сильнейшее впечатление», «ужасающая красота», «великолепный кошмар». Потом сворачивает к общим рассуждениям о детях и смерти, причем ссылается на психоанализ Нормана Брауна. «Балабонская башня», Библия и работы Брауна, восклицает он, повествуют о сотворении любви и смерти в человеческом обществе. Ни первичная клетка, ни Единый Дух смерти не знают. Смерть начинается с индивидуации, с мига, когда ребенка отлучают от груди и он становится отдельным сексуальным существом. Смерть рождается, когда он отходит от родителей и заводит собственную семью. Когда Сын становится Отцом, Отец может умереть – Отец умереть обязан.
– Человеческая семья, – заключает он, – возникает из мощного модуса любви и порождает еще более мощный модус смерти – об этом говорит Браун, Ваша честь, и это демонстрирует Джуд Мейсон.
Судья Балафрэ: Вот как? Признаться, я не успеваю за ходом вашей мысли. Все слова по отдельности я понимаю, но общую идею, простите, нет.
Холли: Я могу пояснить.
Судья Балафрэ: Не стоит. Думаю, господа присяжные поняли достаточно. Предоставим им судить, насколько ваша интерпретация книги отвечает их собственному пониманию.
Сэмюэл Олифант, представляющий автора, спрашивает каноника, знаком ли тот с Джудом Мейсоном.
Холли: Немного.
Олифант: Как бы вы его описали? Он серьезный писатель?
Холли: Он очень одаренный молодой человек с очень непростой жизнью, как часто бывает у одаренных. У него нелады с обществом, он беден и неприкаян, но он борется, он творит, он говорит с миром…
Олифант: Он пишет, несмотря на трудности?
Холли: Он жил на грани, в одиночестве, в нищете. Его книга – симптом болезни, его травили, порицали, сделали козлом отпущения.
Олифант, не ожидавший такого ответа, приостанавливается, но решает, что продолжить сейчас лучше, чем отступить.
Олифант: Вы говорите, что у него трудная жизнь, что он столкнулся с черной стороной современности?
Холли: Да. Он мне кажется кем-то вроде юродивого, святого Жене, говоря словами Сартра. Или Идиотом Достоевского – чистым существом в жестоком мире. Для Сартра Жене шаман, он в смерти растерзан духами, разорван в клочья, но рождается заново мудрецом. Мудрость Джуда Мейсона – это мудрость воскресших. Он прошел через муки и возродился в творчестве…
Обвиняемый без благодарности выслушивает этот странный панегирик. Сторона защиты не знает, куда деть глаза от неловкости. Сэр Августин Уэйхолл поднимается с места: его черед.
Уэйхолл: Меня заинтересовали ваши слова о христианстве и садомазохизме. Вы утверждаете, что в «Балабонской башне» пытки представлены как религиозный опыт, как познание жестокости этого мира и его Творца?
Холли: Да, утверждаю. Я в этом убежден.
Уэйхолл: Вы считаете, что, описывая половые изуверства, автор руководствовался исключительно религиозным чувством и желанием открыть читателю все бездны унижения, боли и садизма?
Холли: Человек, в муках умерший на кресте, познал бездну – значит, и мы должны.
Уэйхолл: Сексуальному унижению его, кажется, не подвергали.
Холли: Любое унижение связано с сексом. Он был Человеком и страдал как человек.
Уэйхолл: И вы полагаете, что через эти подробные, путаные описания зверств люди как-то приобщаются к Страстям Христовым?
Холли: Мы должны знать, какое зло возможно в этом мире.
Уэйхолл: Давайте напрямоту: вы считаете, что хвалить и распространять такую книгу – христианский поступок?
Холли: Я вам отвечу словами Мильтона из «Ареопагитики»: «Я не могу воздавать хвалу той трусливой монашеской добродетели, которая бежит от испытаний и воодушевления, никогда не идет открыто навстречу врагу и незаметно уходит с земного поприща, где венок бессмертия нельзя получить иначе, как подвергаясь пыли и зною».
Уэйхолл: Но разве Господь не дал нам молитву: «Не введи нас во искушение»?
Холли: Перевод поменяли, теперь мы молим: «Не подвергни нас испытанию».
Уэйхолл: Надо же, а я думал, «не испытывай Господа своего»… Спасибо, больше вопросов нет.
Тут Фредерике приходится пропустить несколько показаний: нужно поговорить с соцработницей суда насчет Лео. Миссис Антея Барлоу оказывается дамой средних лет, в каракулевой шубке и меховой шапке, с яркими, широко расставленными глазами и проседью в светлых волосах. В лице – нечто экстатическое. Фредерика сразу настораживается: не хватало только доброй христианки по образу Чарити, супружницы Гидеона Фаррара… Но нет: своим легким, торопливым голоском миссис Барлоу задает довольно разумные вопросы:
– Вы не думали о том, что, может быть, мальчику лучше будет в Брэн-Хаусе? Там он на воле, там лошади, поля, сад…
– Думала. Я его почти что оставила там – как раз из-за этого.
– А почему все же не оставили?
– Он захотел со мной. Я тогда первый раз по-настоящему поняла, что он мой. Мой ребенок, мои гены. Уж какая ни есть, а я его мать, не Пиппи Маммотт, а я. И нужна ему я, со всеми недостатками. Мы похожи, мы друг в друге отражаемся, как в зеркале…
– А как же отец?
– И отец нужен, в том-то и ужас! Но Лео – умный мальчик и с сильной волей, он знает, чего хочет.
– Вы его любите?
– Больше всего на свете, включая саму себя и книги. Может, и не хотела бы так, но… Это естественно, понимаете? А вот вопрос ваш – нет.
– Знаю. Но всегда спрашиваю, чтобы послушать, что ответят. Мне ведь разное отвечают. Для некоторых ребенок – оружие: ударить побольней бывшего мужа или жену. Или, например, заявляют: «У меня что, есть выбор?»
– У меня тоже выбора нет. Это на уровне биологии.
– Я не сомневаюсь, что вы его любите.
– А что дальше?
– От меня это не зависит. Я должна еще поговорить с его отцом, с тетями, с самим Лео. Можно будет с ним наедине поговорить?
– Если он согласится.
– Я его не расстрою, я умею говорить с детьми.
– Он сейчас немного на взводе. Дело в том… Я против пансиона для таких маленьких. Это ужас, это просто опасно! И Лео – он как я, он одиночка, он не может жить по чужому расписанию. Ему там будет плохо, ужасно. Поймите, ему в пансион нельзя!.. Простите, что я так резко.
– Нет, вы очень разумно говорите. Но вы сможете ему уделять достаточно внимания?
– Я уже обо всем договорилась. У нас есть Агата и Саския, и школа у нас хорошая.
– Да, я эту школу знаю.
– Но чем все кончится?
– Суд в таких делах обычно берет сторону матери. С мальчиками, может быть, чуть меньше, но все равно считается, что женщина лучше позаботится о ребенке. С чем я, кстати, согласна.
– Ну, в моем случае есть и другие женщины. Но я – мать.
– Да. И я вижу, насколько вам это важно.
В суде тем временем Хефферсон-Броу вызывает Руперта Жако. Я горжусь, говорит он, что выпустил в свет «Балабонскую башню». Книга пусть и спорная, но безусловно важная, глубоко нравственная, поднимающая важнейшие вопросы нашего времени. Жако говорит приятным, текучим голосом с небольшим патетическим призвуком. Он преувеличенно любезен и чуть старомоден. Голубые глазки сияют, круглые щеки покрыты румяным лоском. Когда ему задают вопрос, он весь обращается в слух, а потом вдумчиво отвечает. Все это – немного чересчур.
Хефферсон-Броу: В самом начале у вас были опасения, что книгу сочтут непристойной, возмутительной, недопустимой?
Жако: Да, конечно. Это сильная вещь, бескомпромиссная, бьющая под дых. Но я был уверен, что не только публика, но и власти правильно истолкуют ее замысел. А замысел тут серьезен и честолюбив. Я чувствовал, что время «Башни» пришло, и мне выпало представить ее миру. Это книга о нашем обществе, о его пороках, которые давно пора было вытащить на свет.
Хефферсон-Броу: О каких именно пороках?
Жако: Обвинение, как мы слышим, возмущено сценами насилия над детьми. А для меня они были знаком, что книгу нужно печатать обязательно. Потому что я узнал эти изуверства и узнал дортуары, в которых они творились, – я все это сам видел и пережил в частной школе…
Хефферсон-Броу: Вы – заслуженный свин?
Жако: Да. И вы, кажется, тоже. А главное – Джуд Мейсон, автор «Башни», учился в Свинберне. В книге много прекрасных мест, но особенно хороши описания того, что творилось в дортуарах частных школ. И сейчас творится, я почти уверен.
Хефферсон-Броу: Позвольте все же уточнить: вы ведь не утверждаете, что в дортуарах убивали людей?
Жако: Вот только убийств там, пожалуй, и не было, а остальное… И все молчали и до сих пор молчат. Это заговор молчания. Вселенское попустительство. Конечно – у нас ведь прекрасные мальчики, а учителя все как один святые люди. И вот наконец кто-то сказал правду! Для стороннего читателя это все дикий бред, но я многое, многое узнал из своего детства. Поэтому книга так меня потрясла в самом начале. Потом я разглядел, конечно, и другие ее достоинства. Но этот жестокий реализм… Те, кто сам такое не пережил, могут не понять.
Хефферсон-Броу: Вы считаете, людям полезно знать, что в жизни бывают вещи под стать ужасам из этой книги?
Жако: Да. В разумных пределах. Общество не может пребывать в блаженном неведении. Мы слышали, о чем говорил Фаусто Гемелли, да и все замечают: сегодня общество стремится говорить, обсуждать все, что его волнует. Не прятать, а обсуждать. Таков моральный климат. Нас как нацию сегодня труднее шокировать, чем в прежние времена. Это и хорошо и плохо. Я думаю, что людей особого склада, тонко чувствующих, газетные сообщения ранят гораздо больше, чем романы типа «Балабонской башни». Сэр Августин упомянул дело убийц с пустошей. Помните, как их преступления описывали в газетах? Это страшней и вредней для души, чем любая литература. Но, кажется, мы понемногу перестаем прятать голову под крыло. Судья, который приговорил Уайльда к двум годам тюрьмы, заявил: «Это худшее дело за всю мою практику». Он еще добавил, что с большим трудом удерживался от грубых слов, которые – цитирую – «рвались бы из уст любого порядочного человека, услышавшего эти чудовищные подробности». И только один голос прозвучал в прессе, один человек осмелился сказать, что у судьи наверняка были дела похуже, убийства, шантаж и прочее, и что общество погрязло в лицемерии. Почему бы тогда… опять цитата: «Почему бы тогда не осудить всех мальчишек в пансионах, а с ними половину студентов и профессоров? Они предаются тем же утехам, о чем всем нам прекрасно известно». Мы знаем о человеческой природе больше, чем нам позволено сказать. Те из нас, кто мучился в частных школах, – например, ваш покорный слуга и, думаю, мистер Мейсон – страдали еще и от заговора молчания. Он всегда есть у мальчишек. И когда молчит все общество, это нисколько не лучше, чем когда мальчишки молчат в своих дортуарах. Но то мальчишки, они боятся, а мы взрослые люди и живем во взрослое время. Нам нужно честное, взрослое описание зверств, на которые мы способны. Мы имеем на это право.
(В зале редкие аплодисменты. Судья требует тишины и предупреждает зрителей, чтобы это больше не повторялось.)
Сэр Августин Уэйхолл задает Жако лишь пару вопросов.
Уэйхолл: Господин Жако, вы издатель с именем, вас считают человеком эрудированным, современным, даже передовым.
Жако: Соглашусь…
Уэйхолл: Вы публикуете произведения мистера Гусакса, который любезно просветил суд касательно публичного унижения и полиморфной перверсности…
Жако: Вы напрасно усмехаетесь. Это большой мыслитель, человек, достойный всяческого уважения и восхищения. Я горжусь тем, что я его издатель.
(Редкие аплодисменты.)
Уэйхолл: Я и в мыслях не имел усмехаться. Продолжу, если позволите: вы издаете каноника Холли, сообщившего нам, что суть христианства в мазохизме, в причинении и претерпевании боли.
Жако: Издаю и горжусь этим. Я не во всем с ним согласен, но он безусловно очень тонкий и смелый богослов.
Уэйхолл: Безусловно. Но мне кажется, что вы издание «Башни» восприняли как некую высшую миссию. Или я не прав? Для вас это борьба за сексуальную свободу, за право открыто говорить о тайных грехах общества?
Жако: Да. Вы пытаетесь выставить мои чувства как блажь, предмет для шуток, но смеяться тут не над чем. Это прекрасная, глубокая, смелая книга. Автор не боится встать на борьбу с тьмой. И я повторю: я горд тем, что помог донести эту книгу до людей.
Уэйхолл: У вас ведь есть еще и другая миссия? Вы хотите явить на общее обозрение школьные ужасы и тайны, известные вам, и мистеру Мейсону, и, насколько я понял, моему уважаемому коллеге со стороны защиты?
Жако: В некотором смысле да.
Уэйхолл: В некотором смысле. Вы не думаете, что ваша оценка «Балабонской башни» может быть искажена вашим собственным опытом, воспоминаниями о школьном дортуаре? Мистер Гусакс напомнил нам давеча, что детские раны заживают плохо и могут нагноиться. Вы уверены, что личные переживания не повлияли на вашу объективность?
Жако: Напротив. Они укрепили меня в желании покончить с лицемерием, из-за которого годами страдают дети.
Следующий свидетель защиты – сам Джуд. Поначалу он стоит, опустив глаза, сдвинутые кулаки держит перед собой. Фредерика вдруг понимает, что это на нем воображаемые кандалы. Она смотрит в его худое лицо, в запавшие глаза и вспоминает шевелюру, ныне состриженную. Джуд санирован и приглажен, он кажется серым после розового Жако, костлявым, непрочным и несущественным. Что сталось с его запахом, чем веет от Джуда вместо сала с жаровни, застарелого пота, телесных выделений – карболовым мылом? Одеколоном? Ей представляется запах свежей, только что отпечатанной газеты. Фредерика улыбается. Сэмюэл Олифант приступает к допросу подзащитного.
Олифант: Назовитесь, пожалуйста.
Джуд: Джуд Мейсон.
Олифант: Это ваше настоящее имя?
Джуд: Да. Но сперва родители мне дали другое.
Олифант: Какое?
Джуд: Джулиан Гай Монктон-Пардью.
(В зале смех.)
Олифант: Вы поменяли имя?
Джуд: Не один я, так многие делают. Поменял и имя, и судьбу.
Олифант: Из какой вы семьи?
Джуд: Семьи не имею, отринут. Отец разбогател на мясных пирогах, пек и поставлял в пабы. Я лично вегетарианец. Не из высоких принципов, просто слаб желудком. А мать была модель, снималась для модных журналов. Ее звали Поппи. Поппи и Паппи – так я их называл. Мы жили в Уилтшире. У родителей были деньги на кормилиц, нянь и прочее. В пять лет меня услали в приготовительную школу, а в тринадцать в Свинберн. Не скажу, что мы успели сблизиться перед взаимным отречением. Не знаю, живы они или нет. И они обо мне ничего не знают. Нас всех это вполне устраивает.
Скрипучий голос монотонен, но в нем прорывается нетерпение: Джуда не нужно тянуть за язык, он все отрепетировал и рвется говорить.
Олифант: Мистер Жако упомянул о том, что творилось в Свинберне. Вы были там счастливы?
Джуд: Бывал. Бывал безудержно и гибельно счастлив. Тем и погубил свой характер и жизнь в целом. Но в основном мне было плохо и страшно до невозможности. Как было сказано ранее, в школе творилось много жестокостей, причем весьма утонченных.
Олифант: Кто творил жестокости?
Джуд: Учителя, разумеется, и с завидной регулярностью. Кто и как нас только не лупил, по поводу и без. А выживать проще тому, кто приохотился к битью и научился потрафлять. Мальчишки, надо признать, от учителей не отставали: и просто кулаком, и с выдумкой – дразнили, травили, измышляли мерзости. Впрочем, как везде. Думаю, это норма.
Олифант: Но вам удалось выжить?
Джуд: Нет. Коротко говоря, нет. Вопреки моему экстерьеру, я не мазохист, и весь мой богатый опыт вынужденный. Я ведь думал, что это навсегда, навечно. Дети все так думают, когда им плохо, – взрослым нужно бы об этом помнить.
Олифант: Вы хорошо учились?
Джуд: Неплохо. Языки мне давались прекрасно. Моя милая матушка Поппи, которую я мельком видел раз пять в году, была наполовину француженка – так, по крайней мере, мне было сказано. Впрочем, возможно, я зря говорю о ней в прошедшем времени. Она иногда позировала в довольно игривых нарядах. По-французски я говорил хорошо.
Олифант: А родной язык и литература?
Джуд: О, родной язык! Было время, когда учитель английского мистер Гризман Гулд предсказывал мне великое будущее: стипендии в лучших университетах, высокая поэзия. В благословенном детстве я был первым учеником и звездой всех школьных постановок. Ставили, понятно, Шекспира.
Олифант: Кого вы играли?
Джуд: Из меня вышла прелестная Клеопатра с писклявым таким голоском. Мистер Гулд говорил, что лучше он не видал. Тогда я ему верил. Потом я перешел на амплуа друга, играл Горацио, Кента и прочих здравых и надежных. Хотел Яго сыграть, но в школе «Отелло» не ставят.
Судья Балафрэ: Мистер Олифант, в чем цель этих вопросов?
Олифант: Меня интересует читательский опыт мистера Мейсона, он поможет нам прояснить вопрос о литературных достоинствах книги.
Судья Балафрэ: Понятно.
Олифант: Мой уважаемый коллега мистер Хефферсон-Броу уже провел связь между школьным прошлым мистера Мейсона и глубиной его писательского замысла.
Судья Балафрэ: Замысел вашего клиента не связан с вопросом пристойности или непристойности книги.
Олифант: Понимаю, Ваша честь. Но он напрямую связан с ее литературными достоинствами, и все это тесно, очень тесно связано с тем, как формировалась личность писателя.
Судья Балафрэ: Прекрасно, однако не думаю, что нужно вдаваться в подробности его учебы или школьных спектаклей. Суду уже понятно, что мистеру Мейсону нравилось играть на сцене.
Джуд: Не всегда, Ваша честь.
Судья Балафрэ: Вот как? Мистер Олифант, продолжайте, будьте так добры.
Олифант: Мистер Мейсон, я правильно понимаю, что после школы вы не стали поступать в университет?
Джуд: Да.
Олифант: Но ваше окружение, вероятно, ожидало, что вы продолжите учебу?
Джуд: Мне было очень плохо. Я сбежал из школы. Побег был классический или, лучше сказать, романтический. Глубокой ночью я украл велосипед, доехал до самого Хариджа, сел на паром до Амстердама. Поболтался немного там, а потом один человек увлек меня с собой в Париж.
Олифант: Вам тогда было шестнадцать?
Джуд: Да. Кажется, родители меня не искали, – по крайней мере, я никогда об этом не слышал. Из Парижа я им послал открытку с адресом, куда писать до востребования. Они мне ответили открыткой же, что мои приключения их не интересуют.
Судья Балафрэ: И вы предлагаете нам поверить, что больше вы не общались?
Джуд: А что тут невероятного? Я не лгу. Очень просто спрятаться, если тебя не ищут. Впрочем, нужно признать, я был сплошным разочарованием. Поппи не уставала мне об этом напоминать и в открытке тоже написала. С правописанием у нее не очень: «разочерование». Наверно, моя открытка их тоже разочаровала, там был сфинкс Моро[263]. Решили, наверно, что я декадент и разложенец.
Судья Балафрэ: Вы специально выбрали такую открытку, чтобы их спровоцировать?
Джуд: Не такая уж и провокация от мальчишки шестнадцати лет, полгода прожившего черт-те как.
Судья Балафрэ: Возможно. Меня здесь интересует, насколько вы правдивы.
Джуд: Я говорю правду, и только правду.
Судья Балафрэ: Но не всю правду?
Джуд: Всю правду не выскажешь в двух словах, Ваша честь. Да она бы вам и не понравилась, уж поверьте. Она некрасива. Но я и не солгал вам ни разу. Я дал клятву, и я ее сдержу.
Судья Балафрэ: Мистер Олифант, продолжайте, пожалуйста.
Олифант: В Париже вы пытались вернуться к учебе?
Джуд: Я записался в Национальную библиотеку, подружился с самыми разными людьми. Все они понемногу занимались моим образованием. Я разговаривал с людьми в кафе, работал какое-то время билетером в кино, в театрах. Заинтересовался французской литературой. Потом познакомился с одним странным, интересным человеком… Он как-то заговорил со мной о Фурье, а я взял да соврал, что сам его изучаю. Пошел в библиотеку, начал читать и увлекся, действительно стал его изучать. Я автодидакт – проще говоря, самоучка – и в автодидактику верю. Автодидакты обычно изучают за раз что-то одно, изучают до дна, до упора… Я закончил с Фурье и перешел к Ницше.
Олифант: А когда сами начали писать?
Джуд: Я пишу всю жизнь, с раннего детства. А еще до того сочинял истории и сам себе рассказывал. Или наряжался и разыгрывал их перед зеркалом. Один раз для Поппи и Паппи поставил целую пантомиму про Золушку, сам сделал костюмы, сам всех сыграл. Друзей у меня не было. Впрочем, няня была: она играла фею-крестную и еще читала от автора. Родители хлопали пару раз по ходу действия, но до хрустальной туфельки так и не дошло: им в тот вечер надо было не то в театр, не то в гости. Простите, что утомляю подробностями, Ваша честь. Вам, должно быть, изрядно скучно, но вы сами просили говорить всю правду. Вот так и состоялся мой авторский дебют. До сего дня я никому об этом не рассказывал – тем более под клятвой, – кроме одного человека, о чем впоследствии здорово пожалел.
Олифант: Когда вы начали писать всерьез?
Джуд: Я всегда писал всерьез. В самый что ни на есть смертельный серьез. Моя настоящая жизнь проходила в черновиках. Гораздо более настоящая, чем школьные застенки и жуткие спортивные игрища.
Олифант: Когда вы сели писать «Башню»?
Джуд: В некотором смысле – в раннем детстве. Кто-то сказал, что вся мировая литература сводится к пяти или шести сюжетам. Мой сюжет всегда был одинаков: компания друзей сбегает в некий счастливый край, к новой жизни, к радости, к свободе, чтобы каждый мог делать что вздумается. Эдакая «Золушка», помноженная на «Путь паломника»[264] и «Коралловый остров»[265]. Из неволи, из подвала с золой – на бал, на небо, спать на пуховых перинах и есть с золотых блюд… Но я взрослел и становился недоверчив, я начинал понимать, что на новом месте есть опасность в точности воссоздать старую жизнь, ту самую, от которой бежал…
Он сейчас играет великого писателя, думает Фредерика, творца, скромно говорящего о становлении своего дара… Адвокат решает, что пора вмешаться.
Олифант: Но «Балабонская башня» – не детские фантазии, это взрослая книга.
Джуд: Это мрачная взрослая книга о детских фантазиях. И о фантазиях взрослых. Признаться честно, это моя собственная взрослая фантазия, и в этом нет ничего плохого. Человек творит фантазии столь же естественно, как пчела – мед. Сейчас ведь если говорят о естественности, сразу приплетают мед… Позвольте, а о чем вы, собственно, хотели меня…
Олифант: Вы слышали мнение профессора Мари-Франс Смит, она его высказала очень четко. Что бы вы могли сказать в ответ?
Скрипучий голос Джуда приобретает визгливые нотки.
Джуд: Профессор Смит теоретик, и ее мнение пахнет книжной пылью. Послушать ее, получается, что я написал шаблонный интеллектуальный роман, эдакую удобную толстенькую книженцию: перевязать нитками, как фаршированную индюшку, запечь и вкушать с расстановкой. Сухонькое, бескровное мненьице, скажу я вам, у госпожи Смит: я не узнаю моих героев, не узнаю их чудовищные страсти… Я мной написанное прожил, мистер Олифант, я прожил все муки…
У Джуда в уголке рта возникает пузырек пены, и он нервно слизывает его кончиком языка.
Олифант: Возможно, вам не нравятся какие-то аспекты ее трактовки. Но вы же сами сказали, что читали Фурье, и вы настаиваете, что «Башня» несет серьезный нравственный посыл. Разве не так?
Джуд: Возможен ли вообще в искусстве «серьезный нравственный посыл»? Искусство трогает душу, отвращает, радует, смешит, повергает в отчаянье… Я вижу, вам не нравится, как я отвечаю. Что ж, вы имеете на это полное право. Я и впрямь веду себя как дурак и никак не могу уняться. Но книга моя не глупая. Это хорошая книга, она призвана не отвращать и вредить, а брать за душу и просвещать. Тем, кто этого не понял, нужно поучиться чтению…
Еще несколько минут Джуд и его адвокат однообразно пререкаются на тему «посыла» книги. В полемическом азарте Джуд норовит опровергнуть все, что должно бы сыграть ему на пользу. Но Олифант терпелив и в конечном итоге заставляет подзащитного согласиться с тем, что, хотя его взгляд на природу человеческую «мрачен и пессимистичен», он ни в коем разе не аморален и не извращен. Джуд принимается ворчать о бессмысленных прилагательных, но Олифант решительно возвращает его к теме. Джуд заявляет, что, подобно Ницше, жаждет мощного пессимизма и веселого отчаяния. Затем просит разрешения процитировать Ницше. Судья разрешает.
Джуд: «И где только кто-нибудь без раздражения, а скорее добродушно говорит о человеке как о брюхе с двумя потребностями и о голове – с одной; всюду, где кто-нибудь видит, ищет и хочет видеть подлинные пружины людских поступков только в голоде, половом вожделении и тщеславии; словом, где о человеке говорят дурно, но совсем не злобно, – там любитель познания должен чутко и старательно прислушиваться, и вообще он должен слушать там, где говорят без негодования. Ибо негодующий человек и тот, кто постоянно разрывает и терзает собственными зубами самого себя (или взамен этого мир, или Бога, или общество), может, конечно, в моральном отношении стоять выше смеющегося и самодовольного сатира, зато во всяком другом смысле он представляет собою более обычный, менее значительный, менее поучительный случай. И никто не лжет так много, как негодующий»[266].
Мы называем «английским грехом» пристрастие к телесным наказаниям, но негодование, милорд, – тоже чисто английский грех. Мы постоянно негодуем: марки на почте дороги, в публичных сортирах грязно, дети распустились, политики врут, погода скверная, кто-то осмеливается кровью сердца писать книги, продиктованные искренним чувством! Англичане негодуют и потому устраивают суд над моей книгой, видят в ней то, чего нет, строят пустые гипотезы о том, как она повлияет на читателя. Да, человек в ней показан в нелучшем виде, но разве я один так пишу? Многие авторы, включая святого Августина, насчет людей не обольщались. Негодование – нечистое чувство, милорд, сродни похоти. Не слушайте голос негодования!
Судья Балафрэ: Возможно, вместо Фурье и де Сада вам лучше было бы посвятить себя адвокатской карьере.
Приходит очередь Хефферсона-Броу. Он предпочитает не заострять внимание на книге, что в целом довольно мудро. Вместо этого он со странным упорством возвращается к тому, что творилось в школе Свинберн в конце сороковых годов. Позже кто-то заметит в прессе, что как на процессе о «Любовнике леди Чаттерли» создавалось порой впечатление, что судят саму леди за супружескую измену, так в деле «Башни» обвиняемыми стали ученики и учителя школы Свинберн, заслуженные свины и свинопасы. Один журналист, задаваясь вопросом о том, что заставляло Хефферсона-Броу вновь и вновь возвращаться к Свинберну – притом что его клиенту это было, мягко говоря, невыгодно, – выдвинет теорию, что у адвоката были со Свинберном свои счеты. «Школа, – напишет он, – одна из основ общества, но именно в нашей системе образования необъяснимо и уродливо переплелись социальное неравенство и секс. Заметьте, де Сада в детстве истязали и развращали наставники-иезуиты, а Фурье не знал ужасов школьного дортуара».
Хефферсон-Броу: Мистер Мейсон, вы говорите, что вас учил Гризман Гулд?
Джуд: Да.
Хефферсон-Броу: Он был хорошим учителем?
Джуд: По-своему – гениальным.
Хефферсон-Броу: Понимаю. У него были любимчики?
Джуд: Да, но не слишком явные. Некоторых мальчиков он выделял. Развивал их сверх программы, развеивал, так сказать, невинные иллюзии детства.
Хефферсон-Броу: Вы были в числе любимчиков?
Джуд: Был, но недолго, потом лишился милости и выпал из фавора. Так было со всеми. Сперва он тебя любил, потом «разочаровывался». Начинал придираться, наказывать ни за что, а потом уничтожал совсем.
Хефферсон-Броу: «Уничтожал» – сильное слово.
Джуд: Отнюдь. С большинством любимчиков что-то случалось. Были скандалы: кто-то якобы списал на экзамене, кого-то в уборной застали с мальчиком помладше. Кто-то стал пить. Один покончил с собой. Каждого ждало блестящее будущее, и с каждым в итоге что-то случилось.
Хефферсон-Броу: С вами тоже был скандал?
Судья Балафрэ: В чем смысл этих вопросов?
Хефферсон-Броу: Показать, что «Башня» – не вымысел, а отсылка к реальным событиями, Ваша честь.
Судья Балафрэ: Сомнительно.
Джуд: Я не против. Сегодня я расскажу все до конца.
Судья Балафрэ: Это пока еще решаю я. Продолжайте, господин адвокат.
Хефферсон-Броу: Мой вопрос в силе, Ваша честь?
Судья Балафрэ: Не думаю, что суду нужен ответ.
Джуд: Повторяю: я не против.
Судья Балафрэ: Свидетель, вы будете говорить, когда вас спросят.
Джуд: Но как я могу что-то объяснить, если говорить нельзя?
Судья Балафрэ: Вы здесь не для того, чтобы объяснять обстоятельства вашей жизни, мистер Мейсон. Ваше дело защищать книгу. Продолжайте, мистер Хефферсон-Броу.
Хефферсон-Броу: Мистер Мейсон, Гризман Гулд когда-нибудь домогался вас?
Джуд: Ну, домогался – неподходящее слово. Он был бесконечно обаятелен и деликатен. Впрочем, да.
Хефферсон-Броу: Вы знаете, что он написал «Свинскую ромашку»? Читали ее?
Джуд: Нет, расскажите. Интересно, что это…
Хефферсон-Броу: Вам известно, что с ним стало?
Джуд: Умер, кажется. Если и впрямь так, то скорбеть не буду.
Хефферсон-Броу: Он покончил с собой в пятьдесят втором году. После того, как его уволили с позором из-за «Ромашки».
Джуд: Как?
Хефферсон-Броу: Простите, не понял.
Джуд: Как покончил? Что он сделал?
Хефферсон-Броу: Лег в горячую ванну и перерезал вены.
Судья Балафрэ: Остановитесь, господин адвокат. Свидетель сказал, что ему эти факты неизвестны.
Хефферсон-Броу: Слушаю, Ваша честь. Мистер Мейсон, согласны ли вы, что Гризман Гулд был совратителем юношей и в сороковых – начале пятидесятых создал в Свинберне целый клуб разврата и мерзости?
Джуд: Да, только не клуб. Он, сколько я знаю, выбирал за раз кого-то одного. Так у него было устроено: каждый считал себя первым и единственным. Если и знал о предшественнике, то думал, что тот «разочаровал» учителя – это его словечко, Гулда. Он был как архангел Михаил: строгий, чистый, в каком-то золотом ореоле. Думаю, вы его знали. Противно думать, что он лежал там в ванне, в крови… Некрасиво. Лучше, чем пуля в голову, но некрасиво.
Хефферсон-Броу: Это от Гулда вы узнали о садомазохистских приемах, которые описали в «Башне»?
Джуд: Вполне возможно. Он дал мне прочесть «Исповедь» Руссо, тот ведь достигал оргазма только от бичевания. Впрочем, в моей книге чего только нет, а вот мистер Гулд – он специализировался на исповедях после. На устном, так сказать, изложении.
Хефферсон-Броу: Понимаю. Значит ли это, что Гулд стал прототипом вашего прожектера Кульверта?
Джуд: Кульверт – это отводная труба. Правильно Кюль-вер. По-французски это зеленое или юное от… отверстие. Гм. Знаете, я никогда не задумывался, что Кюльвер – это Гулд. В нем столько разных людей: Прекрасный принц, Алый Первоцвет, Карл II, Яков I, Фурье, я сам… Может, и Гулд есть. Думаю, Гулд бы даже признал родство, как Просперо в «Буре» говорит про Калибана: «А эта дьявольская тварь – моя»[267]. Как человек, придумавший Кюльвера, я мог бы выдать исповедь на много часов и много голосов. Вы меня расстроили. Я придумал Кюльвера не для того, чтобы опять подластиться к Гулду.
Джуд дрожит. Где давеча белел пузырек в углу рта, теперь все губы обведены тонкой каемкой засохшей пены. Его ответы сопровождаются шорохом и постукиваньем коленей о стенку трибуны. Руки беспокойно пляшут. Это похоже на биение крыльев или сердца, не вполне ровное, но упорное. На бумаге речь Джуда может показаться надменной и презрительной, но в его театральных интонациях звучит хриплая нотка, раздражает нервы, от нее не по себе.
Сэр Августин Уэйхолл, готовясь задать вопросы, бережно оправляет мантию. Вид у него серьезный, на Джуда он смотрит с беспокойством, почти с сочувствием.
Уэйхолл: Вы сообщили моему коллеге, что ваше настоящее имя – Джулиан Гай Монктон-Пардью. Вы отказались от него в знак отказа от родителей? Или вам чужды ассоциации, которые оно вызывает?
Джуд: И то и другое.
Уэйхолл: Что же именно вам не нравится?
Джуд: Все. То, например, что оно чудовищно претенциозно. Гай – дешевая романтика, в старину всех крестоносцев, всех английских и норманнских завоевателей звали Гай. Джулиан – розовая водица, вкупе со смазливым личиком для мальчика мучение. К тому же дорогие родители в погоне за аристократизмом слепили вместе две фамилии: он был Монктон, она – Пардью, видимо от французского Pardieu[268]. Ужасно неудобное, громоздкое имя, вроде гипсовой статуи в церкви.
Уэйхолл: Доходчиво и эффектно сказано. В пику им вы выбрали новое имя, и тоже с романтическим, я бы даже сказал, поэтическим флером. Не ошибусь ли я, предположив, что Джуд – отсылка к герою Томаса Гарди, Джуду Незаметному?
Джуд: Не ошибетесь. Я хотел быть незаметным, и мне это удалось.
Уэйхолл: У Гарди Джуд ремесленник, самоучка, интеллектуал, не допущенный в узкий университетский круг…
Джуд: Да. Мне это имя подходило. Романтизм, соглашусь, но в романтизме нет ничего плохого.
Уэйхолл: Безусловно. У Гарди фамилия Джуда была, если я не ошибаюсь, Фаули, а вы выбрали Мейсон. Это потому, что Джуд был каменщиком?[269]
Джуд: Да. Он был честный труженик и видел в своем ремесле поэзию. И для меня искусство – в первую очередь Ремесло. Я всегда хотел заниматься искусством, и Мейсон-каменщик – хорошая фамилия для начала.
Уэйхолл: Да, ваше имя продумано идеально. Насколько я помню, когда «Джуд Незаметный» только вышел, его много критиковали?
Джуд: Его хулили и хаяли. Один епископ даже сжег книгу. Гарди сказал по этому поводу: «Мы, британцы, ненавидим идеи и готовы до конца защищать свое прирожденное право на эту ненависть. В произведении может не быть ничего неистинного, необычного или даже противоречащего канонам искусства, но мы, вскормленные условностями, все равно не дадим ему хода».
Уэйхолл: Вы произнесли эту цитату наизусть. Очевидно, она много для вас значит. Давно вы ее выучили?
Джуд: Еще в школе.
Уэйхолл: Получается, что имя себе вы выбрали задолго до написания «Балабонской башни» из-за ассоциаций с неприметным самоучкой и неординарной, отвергнутой цензорами книгой?
Джуд: Да. И в этом тоже нет ничего плохого.
Уэйхолл: Это Гризман Гулд вам показал «Джуда Незаметного»?
Джуд: Нет, как раз нет. Я сам его нашел. Целиком и полностью сам. Гулд Гарди не любил, считал, что тот пишет топорно и не знает жизни. Он вообще предпочитал поэзию.
Уэйхолл: Какую?
Джуд: Шекспира: сонеты, ранние поэмы. «Венеру и Адониса», «Обесчещенную Лукрецию» – раннюю эротику, иными словами. Умел скользить перышком по израненной коже, изобретал игры. Розы щек и капельки крови… Просвещал нас вполне и насчет Смуглой госпожи, и насчет прелестника из первых сонетов. Ценил и смаковал изображения христианских мучеников. Крошоу[270] любил за описания языческих изуверств. Уайльда – по родству пристрастий и за «Балладу Редингской тюрьмы»: «Каждый, кто на свете жил, любимых убивал»[271]. Ему ли этого не знать. После более основательного знакомства читал нам сонеты Бози:
Да-да. «Я – любовь, что не смеет назвать своего имени». Бози был плохой поэт. Катастрофически плохой. Я чуть не разочаровался в Гулде, когда тот принялся пичкать меня его творениями.
Уэйхолл: Бози – это юный лорд Альфред Дуглас?
Джуд: Да.
Уэйхолл: Тот самый, которому Уайльд писал страстные письма?
Джуд: Глупые письма, к тому же дурно написанные.
Уэйхолл: Вам нравится Уайльд?
Джуд: Как писатель – местами, как человек – нет. Он был дурак и сноб. Выставлял себя дураком ради дураков еще больших.
Уэйхолл: А Гулд его любил?
Джуд: Умеренно, как и я. А что вам, собственно, дался Уайльд? Хотите провести аналогию?
Уэйхолл: А вы с ней согласны?
Олифант возражает, судья поддерживает возражение. Сэр Августин меняет линию допроса.
Уэйхолл: Чем вы зарабатываете?
Джуд: Зарабатываю – с большим трудом – тем, что выставляюсь напоказ. Стяжаю бессмертие в угле, акриле и масле. Проще говоря, работаю натурщиком в худучилищах. Это честный труд, помогающий смирить гордыню.
Слова так и скатываются с его языка. Заученный номер.
Уэйхолл: Вы и в Париже этим зарабатывали?
Джуд: Нет, я еще не знал, как все это делается, да и в голову тогда не пришло.
Уэйхолл: Как же вы сводили концы с концами?
Джуд: Научился быть полезным. Бывал в роли протеже. Мной интересовались, моим творчеством, мыслями, будущим…
Уэйхолл: А где вы жили?
Джуд: Много где. Ночевал за кулисами, под стойками баров.
Уэйхолл: И у добрых покровителей?..
Джуд: Нет. Если вы намекаете, что я был на содержании, то нет. Нет. Больше никогда. Нет.
Уэйхолл: Больше никогда?
Джуд: Я сплю один. Живу один. Я замкнутый человек. Не понимаю, какое это отношение имеет к вашему дознанию, или как там вы это называете, но – да, я отказался от половой жизни. Ее вообще сильно переоценивают. Лучший секс происходит в голове (вопреки господину Лоуренсу, который не так много знал о мире, как сам воображал).
Уэйхолл: Вы хотите сказать, мистер Мейсон, что еще с парижских времен соблюдаете целибат и записываете свои красочные сексуальные фантазии? Таков ваш сознательный выбор?
Джуд: Не всегда и не целиком. Но принцип таков, и таково мое идеальное состояние. Философа злит и отвращает чувственная сторона его натуры – это сказал Ницше. Он считал, что секс вредит духовному и творческому росту: «Сильнейшим не стоит убеждаться в этом на собственном несчастном опыте». И он был прав.
Уэйхолл: Мистер Мейсон, теперь мы лучше понимаем ваши убеждения, поэтому давайте обратимся к вашему собственному творчеству. Несмотря на любовь к Ницще, вы были не очень довольны, что профессор Смит определила вашу книгу как философское исследование на тему свободы и запретов…
Джуд: У нее все так сухо, так логично, правильно. А книгу пишут со страстью, в нее вкладывают прожитое. Человек пишет книгу и одновременно ею живет – это живей хваленой реальной жизни!
Уэйхолл: Живей реальной жизни?
Джуд: Если бы люди не лицемерили, большинство бы признали, что воображаемый опыт реальней действительного. Это как с кофе: запах всегда лучше вкуса, на вкус он всегда с какой-то душной кислинкой. Я начал писать, чтобы уйти от необходимости жить, и обнаружил, что воображаемая жизнь гораздо богаче.
Уэйхолл: Жизнь. Тут у вас перекличка с Библией, мистер Мейсон. Впрочем, вам это, конечно, известно. Но жизнь, которую вы предлагаете вашим читателям, скажем так, не вполне обычна. Как уже много раз было сказано в этом зале, эта жизнь состоит из застенков и изощренных пыток, из растления детей, оргий, копрофагии, бичевания и медленного убийства на потеху зрителям. Чего вы хотите добиться от читателей, мистер Мейсон? Хотите, чтобы они возбудились от описания мерзостей? Чтобы отвратились от них? Или чтобы взялись подражать?
Джуд молчит. Долго молчит, облизывая корку вокруг губ. Наконец произносит:
Джуд: Не знаю. Когда я пишу, то не думаю о читателях. О конкретных читателях – нет. Я пишу о том, о чем должен писать, о том, что сам вижу. Да, у людей бывают такие фантазии, и некоторые их воплощают. Люди таковы, и их – таких – больше, чем вы думаете. Я не знаю, зачем им нужны фантазии. А зачем нужны сны?.. Я только знаю, что, если помешать человеку видеть сны, он сойдет с ума. Если запретить фантазировать, он, думаю, сделается опасен.
Уэйхолл: Но у вас Кюльвер, начав воплощать свои фантазии, дошел до убийства.
Джуд: Да, ему это не пошло на пользу.
Уэйхолл: Это не пошло на пользу в первую очередь его жертвам. Вы получили удовольствие от смерти Розарии, мистер Мейсон? Получили удовольствие, когда писали о ней?
Джуд: Удовольствие?
Уэйхолл: Не тяните, мистер Мейсон, вопрос простой. Получили вы удовольствие, когда Розария медленно, мучительно умирала от сексуальных пыток?
Джуд: А Шекспир получил удовольствие, когда в «Короле Лире» Корнуол вырвал Глостеру глаза? Хотел он подвигнуть дворян-елизаветинцев ослеплять врагов направо и налево? Они-то это делали и так, причем с восторгом, а мы вот уже нет: Шекспир отвадил.
Уэйхолл: «Король Лир» – великая и ужасающая трагедия. Вы сравниваете «Балабонскую башню» с «Королем Лиром»?
Джуд: Нет-нет, что вы. Я всего лишь Марсий с флейтой. Марсий, которого освежевал Аполлон.
Уэйхолл: Поясните, пожалуйста, свое сравнение.
Джуд: Он был козлоногий. Сатир. Вызвал Аполлона на состязание: он на флейте, а бог на кифаре. Проиграл, и Аполлон содрал с него, живого, кожу. Выдрал его из колчана тела, по выражению Данте: «Della vagina delle membre sue». После того сатир уж на флейте не играл. Уайльд говорит, что современное искусство – жалобный вопль Марсия. Жалобный, но не трагический, нет. Трагедия осталась в прошлом.
Уэйхолл: Значит, ваше искусство не трагическая флейта, а сатирически свистящая? Вы желаете сыграть на губах малинку?
Джуд: Малинку? Что это, я не понимаю?
Уэйхолл: Пóлно, мистер Мейсон. Вы это слово наверняка слышали. Малинка – неприличный звук, который издают губами.
Джуд: Попрошу без «пóлно», да еще таким тоном! Да, я не понимаю, почему грубый звук называют малинкой. Возможно, из-за малиновых венок вокруг отверстия, из которого исходит пук.
(В зале местами смех, местами явное раздражение.)
Уэйхолл: Вы согласитесь, мистер Мейсон, что непросто примирить в сознании свирепую жестокость «Балабонской башни» c вашим нынешним поведением?
Джуд: Мне и самому непросто. Писать книги гораздо приятнее, чем давать показания. Тут ты сам себе не хозяин, все так и норовят вытянуть из тебя какую-нибудь глупость.
Уэйхолл: Мистер Мейсон, вы решили преподнести себя суду в определенном амплуа: эдакий прямодушный самоучка, жертва школьной системы. Вы себя сконструировали из литературных образов и отсылок, тут у вас и Гарди, и Уайльд, и Марсий. Кажется, вы готовились к роли жертвы, к роли творца, неправедно обвиненного в написании развратной книги, задолго до того, как начался этот процесс. Вы отчасти позер, мистер Мейсон.
Джуд: Это вопрос? (Свидетеля так трясет, что голос звучит неровно и сипло.)
Уэйхолл: Я стараюсь понять глубинный смысл и задачу вашей книги. Мистер Сниткин, свидетель защиты, говорил о желании современного человека шокировать, нарушать табу, произносить «плохие» слова во имя пришествия анархии…
Джуд: Я все это отрицаю. Анархия меня не интересует. Я художник. О «плохих» словах говорится много чуши – их нельзя писать и произносить, на странице они как сгустки выделений. Вот, кстати, эти два слова: «сгустки» и «выделения», они лучше, чем «говно» и «сопли», и все же вы на них среагировали. Потому что если я захочу, то самыми приличными словами так опишу наслаждение, боль, извержение семени, что у вас это описание как ножом пройдет по мозгу и засядет там до самой смерти. Бедолага Лоуренс пытался запрещенные слова приручить, пристроить среди обычных слов, подсунуть читателю на манер старых, стертых медных грошиков. Все зря, разумеется, потому что они только и нужны для того, чтобы шокировать. А я пишу не ради эпатажа или позы, мистер Уэйхолл. Запомните это.
Уэйхолл: Соглашусь. Вы пишете, чтобы ранить, чтобы ножом орудовать в мозгах и душах.
Джуд: Закон этого не запрещает.
Уэйхолл: Позвольте мне закончить. Вы только что сказали, цитирую: «Я пишу о том, о чем должен писать, о том, что сам вижу. Да, у людей бывают такие фантазии». Эти фантазии воплощаются в борделях и на страницах книжонок, которым похабную обложку прикрывают коричневой оберткой. А вы, мистер Мейсон, облекаете их в красивую литературную форму и увеличиваете разрушительный эффект. Неужели вы не видите, что они наносят вреда не меньше, чем обычная порнография?
Джуд: Вреда? Вреда? Не думаю, что это подходящее слово, мистер Уэйхолл. Уж поверьте мне. Я провел достаточно времени в дыму опиума и благовоний, среди пестрых шелков, бархата и органзы. Я видел кандалы и цепи, видел взрослых мужчин в подгузниках и с соской во рту. Видел, как судьи в кружевных передничках и черных чулках изображают горничных. Как почтальоны наряжаются судьями. Один видный хирург, помнится, изображал из себя костер, который можно потушить только одним, весьма мерзким, способом. Напиши я об этом психологический трактат, меня бы никто не тронул: наука. Но я художник, что на вашем языке значит блудник. В юности я, может, и бывал блудлив, но я художник, а не порнограф.
Уэйхолл: Вы очень красноречивы в гневе, мистер Мейсон, но вы так и не ответили на мой вопрос, вы ускользнули. Гризман Гулд осквернил ваше тело и отравил разум смесью садизма и книжных красот. Теперь вы намерены причинить такое же страдание миру: вашим читателям, возможным жертвам ваших читателей. Будут ведь и жертвы, если найдутся читатели, похожие на Гулда, человека, который вас предал.
Джуд: Вы ничего не поняли. Я его любил. Вы зря его представляете каким-то Свенгали[272]. Он был… Он был… Не важно, кем он был, – его больше нет, и судят не его, хоть на то и похоже. Он умер, а я любил его… С тех пор никого больше не любил и не полюблю.
Уэйхолл: Вы не ответили на мой вопрос. Вас обманули, развратили, измучили – и теперь вы хотите, чтобы мучился весь мир.
Джуд (судье): Я должен отвечать? Это… это даже не вопрос. Это все бред какой-то.
Судья Балафрэ: Это мнение обвинителя. Вы можете не отвечать.
Джуд: Он мог бы не спрашивать.
Судья Балафрэ: Господа присяжные, прошу вас не учитывать этот вопрос.
Слышно, как мягко жужжит магнитофон Сниткина. Уэйхолл говорит, что больше у него вопросов нет, и последний вопрос, вопрос-утверждение, отмененный судьей, невытравимо впечатывается в сознание присяжных как кульминация обвинения.
Дальше вызывают учителя, который подтверждает рассказы о свинбернских мерзостях и говорит, что разрешил бы ученикам читать «Башню». Фредерика на это время выходит в коридор, где встречает Александра.
– У защиты дела плохи, – говорит он. – Этот Уэйхолл намного умней, чем Хефферсон-Броу. Думаю, он изначально что-то знал о прошлом Джуда – такое, чего адвокаты не знали.
– Наверно, встречал его в борделе на Пикадилли, – едко отзывается Фредерика. – Но Джуд! Как говорит отец, павлиньи пляски. Что за идиотизм? Он может хотя бы сейчас не красоваться?
– Он художник…
– Ты тоже, а не красуешься.
– Ужас в том, что как художник он, возможно, со временем будет лучше меня. А его могут и посадить. Он совершенно лишен здравого смысла, и в этом его трагедия. А моя трагедия в том, что у меня его слишком много.
– Только не надо дешевых парадоксов. Ненавижу Уайльда.
– Джуд тоже.
– Ненависть, не смеющая назвать своего имени. Ну вот, я от тебя заразилась…
– Ты очень нервничаешь.
– Я как-то вопреки себе привязалась к Джуду. Не думала, что хоть в чем-то соглашусь с каноником Холли, но тут он прав: Джуд – юродивый. Настоящий, беспримесный идиот.
* * *
Последняя свидетельница защиты – писательница Филлис Прэтт, подарившая издательству Жако его единственный бестселлер. На ней розовый костюм поверх блузки в цветочек, на груди крестик: аметисты в серебре. Она всем отвечает с одинаковой готовностью, одинаковым вкусным голосом, похожим на мед с лимоном: сладко, а все же покалывает кислинка. Книга доставила ей «…большое удовольствие. Это такая взрослая сказка: злодеи в конце наказаны, есть несколько страшных сцен, но и они какие-то сказочные, не настоящие». Как жена священника, она «много видела несчастных, которые причинили страдания другим или хотели причинить», и уверена, что «книга бы их в целом приободрила. Точнее, ободрила бы мысль, что кто-то взял ручку и бумагу и свои желания превратил в сказку. От сказок и детективов гораздо меньше вреда, чем от правды об Освенциме. В них все окружено неким розовым ореолом, отделено от настоящей, страшной жизни».
Хефферсон-Броу спрашивает, дала ли бы она эту книгу своим детям.
– Каждая мать знает, что дети воспринимают все по-разному. Один что угодно переварит, а другой плачет, потому что в книге умер тюлень, или Бэмби, или еще кто-то, и это с ним остается на всю жизнь. По-моему, мистер Мейсон был не совсем прав, назвав «Башню» басней для детей. Дети не любят описания секса. Им нравятся сопливые носы и грязные попы. Гениталии, употребленные по назначению или не совсем, их мало интересуют. Поэтому детям я бы советовала «Башню» с осторожностью. Но это в равной степени относится к любой взрослой книге.
Сэр Августин задает ей тот же вопрос, что и всем свидетелям защиты: ощутила ли она сексуальное возбуждение.
Прэтт: Конечно. Мистер Мейсон знает, что делает. Там, где книга перекликалась с моими собственными фантазиями, было возбуждение – у вас наверняка тоже. Где-то я смеялась, где-то пропускала страницы. Думаю, при обычных обстоятельствах вы бы вели себя точно так же.
Уэйхолл: Не может быть, чтобы вы часто читали подобные книги, миссис Прэтт. Ваши романы основаны на реализме, вы пишете о сельской жизни, о традиционном домашнем укладе, о Церкви и ее служителях…
Прэтт: Вы только что весьма строго допрашивали мистера Мейсона насчет фантазий. Так вот, героиня моей первой книги зарезала мужа, который ее довел. И еще как зарезала, с морем крови! Это тоже была фантазия, и, возможно, она воплотилась бы в жизнь, если бы я не доверила ее бумаге. А теперь, благодаря книге, легче стало миллионам таких же, как я, церковных жен, миллионам женщин, у которых бывают такие фантазии. Мистер Мейсон сказал очень мудрую вещь: фантазии и сны спасают нас от поступков.
Уэйхолл: Даже предостерегающие, пророческие сны, которые снятся будущим убийцам?
Прэтт: Будет вам, сэр Августин! Вы же не станете доказывать мне, что такая сильная книга, филигранно написанная, ужасно смешная местами, – что она отражает безумные фантазии убийц? Или что бедный мистер Мейсон хочет убить кого-то? Он хороший писатель, до полусмерти измученный неврозом, что очень жаль, конечно.
Уэйхолл загодя изучил прошлые процессы о непристойных изданиях и пришел к выводу, что обвинение неправильно выбирало свидетелей. Его собственные свидетели, после долгой череды филологических корифеев, защищавших Джуда, должны говорить четко, веско и убедительно. Всего их пятеро: Гермия Кросс, поднявшая часть общества на борьбу с книгой, начальник отдела стаффордширской полиции, викарный епископ из неблагополучного района Бирмингема, Роджер Магог и профессор Эфраим Зиз, историк иудаизма.
Гермия Кросс оказывается неожиданно и даже пугающе рассудительна. До парламента она была членом городского совета, работала с малолетними рецидивистами, консультировала по вопросам семьи и брака. Кросс не только депутат, но еще школьная инспектриса и мирская проповедница. Она держится спокойно и, несмотря на маленький рост, производит впечатление уверенной силы. У нее прямые темные волосы и прямо прочерченный, упрямый рот. Она говорит, что «Балабонская башня» написана лучше, чем обычный порнороман, но литературой это не назовешь. Литература – вещь сложная и разнообразная, а «Башня», как любая порнография, примитивна и состоит из повторов, «как хорошая дрочка, извините за выражение». В книге бесконечно повторяются сцены мучительства и страданий, что, безусловно, вредно: так вкладываются идеи в голову тем, кто склонен к садизму.
– Одно дело хорошая дрочка, Ваша честь, и совсем другое – насилие над ребенком. Сейчас многие говорят, что мы живем в попустительском обществе. Куда это приведет, уже видно: Брейди, Хиндли и им подобные мучат и убивают детей. Вот и все. Терпимость и прочее – просто красивая обертка. Эта книга вредна и опасна.
На вопрос, согласна ли она с Филлис Прэтт, что фантазии помогают безболезненно выпустить разрушительную энергию, Гермия Кросс отвечает, что не согласна.
– Мой опыт говорит другое. Думаю, это, простите, фантазии самой миссис Прэтт. Благие мечтания. Если есть такой соблазн, полезней не потакать ему, расписывая все в подробностях на бумаге, а действовать по Библии: «Бодрствуйте и молитесь»[273].
– Даже когда возникает соблазн убить человека хлебным ножом? – спрашивает Олифант.
– Суть не в этом, но думаю, что да. Нужно бодрствовать и молиться. А прочитав о таком, кто-то однажды и впрямь возьмется за нож.
Зрители ерзают и бормочут: тут много поклонников Филлис Прэтт. Адвокат развивает преимущество:
– Вы не так уж много читаете, правда, мисс Кросс? У вас нет страсти к чтению?
– Нет. Многие теряют массу времени на пустые книги и пустые разговоры о них. Но я понимаю разницу между книгой похабной и книгой действительно вредоносной.
– На чем же основано это понимание?
– На практике моей работы. Я хорошо знаю тип людей, которые окажутся уязвимы и подпадут под влияние этой книги.
– А на вас эта книга оказала разлагающее действие?
– Она вызвала у меня тошноту и отвращение.
– Я спросил не об этом.
– Нет, не оказала. Но я и не отношусь к тем, на кого она рассчитана. Я бодрствую и молюсь.
Стаффордширский полицейский по фамилии Рэн оказывается крупным, поразительно ухоженным мужчиной с восковой кожей и неожиданно мягким голосом. Он долго и скучно перечисляет дела, в которых преступник, по его мнению, действовал под влиянием прочитанного.
– Таким людям, – говорит он, – чтения хватает до поры до времени. Потом появляются мысли: а почему бы нет, а почему бы так не сделать? И вот человек решается…
Среди прочего он рассказывает о человеке, который, послушав по радио отрывок из «Братьев Карамазовых», вдруг ощутил соблазн, пошел в угольный чулан, взял там топор и зарубил тещу в ее собственной постели. Уэйхолл, желая опередить защиту, вставляет вопрос.
– Но вы же не считаете, что из-за этого нужно запретить Достоевского?
– Нет, сэр. Просто есть уязвимые, внушаемые люди, и они иногда действуют по прочитанному. Но «Балабонская башня» ничего общего не имеет с «Братьями Карамазовыми». «Карамазовы» книга сложная, она заставляет думать. И человечная – ты чувствуешь, живешь вместе с героями. А в «Башне» ничего не происходит, кроме секса и убийств. Типичная порнография…
– Я возражаю! Мнение свидетеля о порнографическом характере книги учитываться не может.
– Возражение принимается.
Викарного епископа зовут Хамфри Суон. Это грустный, худой, невыразительный мужчина в очках. Он говорит, что «Балабонская башня» – книга порочная, что, вопреки утверждениям Холли, она вовсе не отражает христианское мировосприятие. Более того, из-за превратного представления Страстей Господа нашего она, возможно, подлежит преследованию за богохульство. На этом Суон останавливается подробнее. Книга вводит слабых во искушение, искушает великим злом.
Хефферсон-Броу спрашивает, испытал ли он сам это искушение. Суон говорит, что его словно по грязи проволокли, заставили смотреть на какую-то мерзость.
Хефферсон-Броу: Я не спрашивал, было ли вам противно. Скажите, лично вас эта книга ввела в искушение?
Суон: Если нужно сказать да или нет, я вынужден сказать: да. У меня замутилась душа, я стал хуже. Мне будет непросто это перебороть, нужно будет время. Что-то хорошее во мне убили, и оно словно гниет там внутри…
Хефферсон-Броу: Это сильные выражения, епископ.
Суон: Не сильней, чем в самой книге. Вспомните, как она сильно и гнусно написана. Не просто гнусно, но и соблазнительно: эта серьезность подачи тоже соблазн. Эта книга – зло. Настоящее зло.
К свидетельской трибуне разболтанной походкой приближается Роджер Магог. Жако багровеет и театральным шепотом сообщает своему адвокату: «Он решил, что на стороне обвинения будет смотреться эффектней». Судья бросает на издателя осуждающий взор. Магог сообщает, что он работник образования, исследователь социальных, литературных и образовательных вопросов, а также член комиссии Стирфорта. Для этого случая Магог облачился в темно-синий пиджак и повязал красную бабочку. Он обводит зал лучезарной улыбкой, по доброте своей не исключая и Жако.
Уэйхолл: Многие будут удивлены, увидев вас в роли свидетеля обвинения. Вы ведь, насколько я знаю, имеете репутацию либерального мыслителя и поборника всяческих свобод.
Магог: Так и есть, я этим горжусь. Я много писал о свободе слова, я выступал в поддержку «Любовника леди Чаттерли» и защищал законопроект о сексуальных преступлениях. Он сейчас рассматривается в палате общин, а к лету, думаю, будет уже внесен в свод законов.
Уэйхолл: Когда вышла «Балабонская башня», вы написали статью в «Гардиан» под названием «О словах и стрелах». В ней вы доказывали, что печатное слово не может никому навредить – по крайней мере, взрослым читателям – и что нельзя запрещать описания действий, разрешенных законом, потому что на практике невозможно провести четкую линию между порнографией и произведением литературы, а свобода литературы важнее, чем борьба с порнографией.
Магог: Да, я это писал.
Уэйхолл: Причем наверняка встретили большую поддержку в близких вам кругах. И все же сегодня вы готовы утверждать на суде, что «Балабонская башня» может оказать на читателя разлагающее и пагубное воздействие?
Магог (твердо): Готов.
Уэйхолл: Что вызвало перемену ваших взглядов?
Магог: Простое обстоятельство. Я прочел «Башню». (Хохот в зале.) Я знал, что будет смех. Ну что ж, смейтесь, у вас есть на это полное право. Я выставил себя дураком, зато в итоге поумнел. Когда я писал статью, то искренне верил, что человеку моего типа никакая книга повредить не может: я ведь начитан, неглуп, психически здоров. Таков был мой принцип. А потом я прочел «Башню», и это было ужасно. Я понял, что значит разложение души. Эта книга – смейтесь, если хотите, – вскрыла во мне то, о чем я не подозревал, и я ужаснулся. Я понял, что, будь я слабее, будь я на месте одного из моих несчастных учеников, я, возможно, поддался бы искушению. Говоря коротко, я увидел свет. Я намеренно использую выражение, означающее на религиозном языке обращение в веру. Это был знак. Если общество поощряет описания жестокости, если оно им аплодирует – я предпочту в этом обществе не жить. «Марат/Сад» вызвал у меня сильнейшее отторжение, мне было мерзко, казалось, что я весь вымазался в грязи, но я верил, что все эти ужасы нужны для развития души. А теперь оказывается, что некий драматург решил разыграть на сцене зверства Брейди и Хиндли, – он это называет искусством. Он говорит, что взял «цивилизационный страх» и «перевернул его вверх тормашками в творческой игре». Я слышал, что он вместе с братьями по духу требует, чтобы им дали доступ к трупам и разрешили потрошить их в витринах магазина «Хэрродз». Потому что «художники имеют такое же право на трупы, как анатомы». Не сомневаюсь, что мистер Мейсон легко оправдал бы ужасы «Балабонской башни» на этих же основаниях. Но я не хочу жить в обществе, которое видит в этих ужасах хоть малейший элемент «творчества» или «игры». Их нужно не замалчивать, а выжигать, выжигать каленым железом. Я по горло сыт попустительским обществом, да и те, кто сейчас за него ратует, однажды заплачут о потерянной чистоте. Подлинная свобода не есть свобода причинять боль другим.
Олифант, когда приходит его черед, подхватывает последнюю фразу.
Олифант: Мистер Магог, вы сказали, что подлинная свобода не есть свобода причинять боль другим.
Магог: Да. Немодная идея в наши дни, но я в нее верю.
Олифант: Но, мистер Магог, разве это не центральный посыл романа? Так считают и профессор Смит, и доктор Гусакс, и мистер Уэддерберн.
Магог: Не знаю. Текст извивается, крутится, как змей вокруг древа; кто скажет, какой там настоящий посыл… Кто-то из свидетелей сказал: маркиз де Сад хотел, чтобы было разрешено насиловать и убивать. Дьявол вполне может прикрыться подставной моралью. Для меня посыл «Башни» вполне десадовский, тот самый, что сейчас в моде у богемной интеллигенции. Автор и Кюльвера убивает только затем, чтобы еще раз доставить читателю садистское удовольствие. Нет, «Башня» – книга умная, гнусная и заразная…
* * *
Последний свидетель обвинения медленно идет к трибуне, а когда доходит, оказывается, что его за ней едва видно. Это крошечный, хрупкий старичок с приветливым морщинистым личиком: пергаментная кожа исчерчена, как древняя карта, и присыпана старческими бурыми островками. У него золотые очки на крючковатом носу и черная шелковая кипа в окружении кипенно-белых, младенчески тонких волос. Просторный черный пиджак топорщится на горбатой спине. Руки, похожие на когтистые птичьи лапки, на пучки косточек, переплетенных венами, сжимают кромку трибуны. Он представляется: профессор Эфраим Зиз, Кембриджский университет. Профессор – специалист по еврейской истории и раввиническому иудаизму. Он выжил в Треблинке, где погибли его жена, дети и сестры. Среди его работ – исследования еврейских мифов о языке и молчании, такие книги, как: «Язык людей и ангелов», «Смешение языков и молчание», «Кафка и немецкий язык» и «Сокровенный приют». Последняя, поясняет он тонким, отчетливым голосом, посвящена чувству «внутреннего, сокровенного, молчаливого приюта», благодаря которому «некоторым узникам, к счастью или к несчастью для них, удалось выжить».
Сэр Августин спрашивает, читал ли он «Балабонскую башню».
Зиз: Читал.
Уэйхолл: Каково ваше мнение?
Зиз: Талантливый автор написал умную книгу, за которую заплатил подлинным страданием. Но в конечном итоге это не литература. Это порнография.
Уэйхолл: Не могли бы вы это обосновать? Чтобы присяжным был ясен ход вашей мысли?
Зиз: Порнография апеллирует лишь к некоторым сторонам человеческой натуры. Тут важна власть одного человека над телом другого, весь человек сводится до телесных функций, причем всего нескольких. Эти функции бесконечно повторяются в преувеличенном виде – напоказ, без покровов, без малейшей тайны. А без тайны невозможна мечта, нежность, доброта, нега – все несказанное невозможно. Порнография срывает покров стыда, и то, что под ним, превращается в гниющую рану, в смертельную заразу. Так мы понемногу теряем человеческую сущность.
Уэйхолл: Насколько я понимаю, вы об этом писали.
Зиз: Писал. Если позволите, я процитирую отрывок из сборника «Олимпия» Мориса Жиродиа[274], который я критикую в своей книге. «Нравственная цензура – наследие прошлого, долгих веков, прошедших под гнетом Церкви. Сегодня, когда мы почти освободились от этого гнета, можно ожидать, что литература преобразится. Я говорю не об отрицательных аспектах свободы, а об исследовании положительных сторон человеческого разума, которые так или иначе связаны с сексом или порождены им». Это, конечно, глупость, автор катастрофически увлекся. Но увлекся он, развивая те самые постулаты, которых придерживаются сегодня видные, уважаемые интеллектуалы. И в том числе – те, кто так красноречиво защищает «Башню». Ничего невысказанного быть не должно, говорят они. Не должно быть молчания, не должно быть тайны. А о чем говорить? О сексе, о теле как абсолюте. Общество, лишенное веры, логическим путем может дойти и до этого. Ницше, которого мистер Мейсон так любит, писал: «Некогда Богом был дух, потом человек, сегодня – толпа». Толпа – это публичный человек, упрощенный до животной сути, до бездушного тела. Я видел, что такое тоталитарная власть, власть людей, получивших тотальную свободу распоряжаться телами других. Конечно, власть над телом ограниченна: с ним не так уж много можно сделать, но все, кто ей обладает и упивается, устроены одинаково…
Дело не только в том, что говорит Зиз притихшим зрителям и присяжным, – он так стар и хрупок, он так много пережил, он так обходителен и обаятельно серьезен. Олифант спрашивает его, как и Магога, не считает ли он, что автор «Башни» на его стороне, оперирует его же постулатами и «противостоит тотальной – или тоталитарной – свободе».
Зиз отвечает:
– Мистер Мейсон опирается на миф о Вавилонской башне – древний миф о Боге и языке, – чтобы высказать современную мысль о человеческой плоти, о ее раскрепощении, о ее страданиях. Многие раввинические комментаторы задумываются: почему Бог не погубил строителей Башни, как жителей Содома и Гоморры или поколение Потопа? Иегуда га-Наси дает такой ответ: они друг друга любили и работали ради общей цели. Поэтому Бог пощадил их и послал восемьдесят ангелов научить их восьмидесяти языкам. Племенам стало труднее общаться между собой, но они спаслись. А герои мистера Мейсона не спаслись, потому что в его книге нет ничего, кроме раскрепощенной плоти и тотальной свободы. Они лишены человеческого достоинства, а значит, для них надежды нет.
Олифант: То есть вы считаете, что книга проникнута пессимизмом, но при этом обладает литературными достоинствами?
Зиз: Я не говорю, что их нет. Но их недостаточно. Недостаточно, чтобы утверждать, что книга принесет больше пользы, чем вреда.
Олифант: Вы это говорите как религиозный наставник?
Зиз: Да. И еще как человек, слишком хорошо знающий, что значит страдание. Я хочу, чтобы люди страдали как можно меньше.
Обвинитель и защитник произносят заключительные речи. Сэр Августин говорит ясно и в целом спокойно. Он напоминает суду, что тема «Балабонской башни» узка, а сюжет состоит из повторов. Зачитывает несколько особенно жестоких отрывков. Цитирует де Сада:
Является ли убийство преступлением в глазах Природы? Мы заденем гордость человека, приравняв его к другим тварям, и все же он лишь животное, подобное прочим, и для Природы смерть его не важней смерти мухи или быка… Разрушая, Природа движется вперед, это она подталкивает убийцу, чтобы он в уменьшенном виде повторил действие чумы или голода… Говоря проще, убийство ужасно, но часто необходимо, никогда не преступно и потому должно быть дозволено республикой.
Кто выписал эти слова для памяти и часто перечитывал? – спрашивает сэр Августин. Кто невинных жертв своего садизма называл животными? Иэн Брейди. Убийца, который подобными писаниями и вытекающим из них черным нигилизмом заморочил голову своей несчастной сообщнице-жертве. Не верьте, говорит он, что жестокость не заразна. Гуманные эксперты защиты позабавили суд речами о невинных радостях садомазохизма. Почти все они, в либеральном задоре твердившие, что все дозволено, отказались признать, что описанное в книге хоть как-то их взволновало, в половом или ином смысле. Они отказались признать, что, читая об издевательствах над маленькой Фелиситой или о мучительной смерти Розарии, ощутили стыдное томление или холод мурашек. И это эксперты, это специалисты, повторяет прокурор. Вот, например, профессор Мари-Франс Смит: красавица с холодным галльским умом по неведомым причинам решила посвятить себя изучению сексуальных прожектов Фурье и гнусностей де Сада. Мистер Холли, священник, извращенные фантазии Мейсона сравнивает с муками Бога своего. Мистера Гусакса понять сложнее, но вместо нормальной реакции на изображения насилия, секса, садизма суд услышал от него поток абстрактных слов, которым он по желанию придает какое угодно значение: «свобода», «угнетение», «раскрепощение»… Тут сэр Августин замечает, что все эти игры возможны лишь потому, что мистер Гусакс живет в цивилизованном обществе и его право на словоизвержение защищают суды и здравомыслящие присяжные – такие, как вы, господа.
– Вы прочли эту книгу. Я не знаю, что вы почувствовали. Может, вам стало мерзко, может, она пробудила в вас что-то, что вам не понравилось. Может быть, вас, как и меня, прочитанное ужаснуло… У меня было много дел о непристойных публикациях. Да, любая порнография отвратительна, но с этой книгой дело сложнее. Обычная порнография вульгарна и однообразна – никакого ужаса она не вызывает. Может показаться, что она противостоит настоящей, живой жизни, но это лишь потому, что авторы с зачахшей фантазией пишут для читателей, у которых ее отродясь не было. Соглашусь, «Балабонская башня» написана лучше, чем весь тот мусор, который тоннами проходит через наши суды. Именно поэтому она сильней и опасней. Эксперты довольно витиевато сообщили нам, что это из-за ее литературных достоинств. Правда, по их же словам, достоинства только что вышедшей книги оценить сложно. Заступники «Башни» почти в один голос утверждают, что те самые описания никак на них не подействовали. Думаю, господа присяжные, вы не настолько наивны, чтобы в это поверить. Ваша реакция проще и честней, без абстрактных словес, без догм. Вы хорошо понимаете, какие выводы сделали бы из «Башни» Брейди и Хиндли, – и не только они, но и садисты помельче, которые, сидя по своим углам, могут много причинить зла.
Что до мистера Жако, то я убежден, что он человек великодушный и честный и намерения питал самые благие. Но, как все мы заметили, он несколько чудаковат. Он был обманут модными словами, ложно понятыми либертарианскими идеалами, и потому решился на весьма сомнительное предприятие. Теперь о мистере Мейсоне. С юности – можно даже сказать, с детства – его растлевали телесно и духовно. И я ему глубоко сочувствую. Мой коллега мистер Хефферсон-Броу познал ужасы Свинберна, поэтому, когда он защищает мистера Мейсона, в его словах звучит личная нотка. Безусловно, я сочувствую и ему. События детства и юности определили дальнейший путь мистера Мейсона, его тягу к темным сторонам жизни, суть и стиль его «Балабонской башни». Думаю, вы не раз слышали популярную аксиому, что родителей-садистов самих били в детстве, а большинство педофилов в прошлом жертвы растлителей. Это порочный круг насилия, и, когда мы с ним сталкиваемся, человеческий долг каждого – попытаться его разрушить. Мистеру Мейсону причинили много боли, но теперь он стремится – возможно, даже неосознанно – причинить такую же боль другим.
Здесь уже не раз говорили, и я повторю: в деле о разлагающем влиянии книги мотивы и намерения автора не учитываются. Да, вполне возможно, что мистер Жако прекрасный человек, а мистер Мейсон считает себя серьезным писателем. Но перед вами стоит главный вопрос: может ли «Балабонская башня» оказать разлагающее влияние – не на экспертов и литераторов, а на обычных людей? Людей, которым и без того непросто дается жизнь, людей, не защищенных от соблазнов, от ошибок, на которые порой толкает отчаяние? Если вы решите, что книга может оказать на них такое влияние, перед вами встанет новый вопрос: компенсируется ли это литературными и иными достоинствами книги, ее глубиной, гуманизмом, важностью темы, красотой языка? Чье мнение вам важнее? Многословных экспертов, которые все видят через дымку собственных заумных теорий и благих намерений? Или профессора Зиза, мудрого человека, много страдавшего и не желающего, чтобы страдали другие? Напомню: профессор считает, что «Башня» – не литература, а порнография и что она опасна.
Хефферсон-Броу говорит пространнее, с возгласами и частыми повторами. Снова и снова он напоминает суду, что «в наши дни» допустимо многое из того, что некогда сочли бы непристойной клеветой. При этом не вполне понятно, как он сам относится к такому повороту событий. Мы публикуем научные исследования, посвященные садизму и мазохизму, говорит он. Почему нельзя публиковать серьезные романы о том же самом?..
Далее он горячо и, по общему мнению, длинновато рассуждает о том, сколько горя причинило замалчивание преступлений Гулда и ему подобных. Потом переходит к Джуду и твердит замусоленные слова: «блестящий роман», «выдающееся произведение», «многообещающий талант». Жако хвалит за ответственный подход к делу: невозможно представить, чтобы такое издательство допустило до печати пагубную книгу! Восхищается здравым подходом Александра и Филлис Прэтт. Магога ровняет с землей, употребив для этого единственную припасенную литературную аналогию:
– У Беньяна в «Пути паломника» есть герой, которого зовут Двуличник. Мистер Магог мне его напомнил: он тоже любит высказаться на насущные темы. Сегодня он ругает «Башню», а завтра будет хвалить, как уже делал неделю назад.
От показаний Зиза защитник пытается отмахнуться, причем не слишком удачно. Брейди и Хиндли, говорит он, так же подходят на роль средних читателей, как охранники концлагерей.
– Есть вырожденцы, а есть нормальное большинство, обычные англичане, такие же как мы с вами. Уверяю вас, они всё поймут правильно и не кинутся убивать людей из-за нехорошей книжки. А если уж запрещать все, что может спровоцировать отдельного психопата, то начать надо с братьев Гримм и наших народных сказок. Нам всем читали в детстве про великана-людоеда: «Ищу-порыскиваю, чую кровушку английскую!» Может, однажды кто-нибудь вдохновится его примером: убьет соседа, перемелет кости в муку, испечет хлеб… Но это же не значит, что сказки нужно запретить! А миссис Прэтт, разумнейшая женщина, считает, что «Башня» и есть сказка.
Олифант начинает с того, что зачитывает отрывки из «Балабонской башни». В них нет ни секса, ни садизма: описания природы, реплики Самсона Оригена, повседневная жизнь героев. Читает он хорошо.
– Скажите, господа, что тут разлагающего? – спрашивает он. – Это просто талантливая проза. Проза молодого автора, которого хотят раздавить господа моралисты, фанатики, не понимающие современной жизни. Вы слышали, каково пришлось мистеру Мейсону в юности, но он преодолел боль и создал блестящую, смелую, сильную книгу, за которую его нужно не карать, а благодарить. Перед вами не развратитель умов, господа, а строгий моралист и трагический поэт.
Присяжные изучают потолок и собственные руки, разглядывают подсудимого…
Судья Балафрэ кратко подводит итог и отдельно благодарит присяжных за терпение, причем кажется, что он тоже порядком устал от речей. Вы должны установить, говорит он, является ли «Балабонская башня» непристойной книгой, способной оказать на читателя разлагающее и пагубное влияние. В случае положительного ответа нужно решить, компенсируют ли это влияние литературные и прочие общественно значимые достоинства книги.
– Защита воспользовалась правом привлечь свидетелей-экспертов. Мы, как известно, живем в мире специальных знаний – эксперты имеются по каждому вопросу. Но английский суд опирается на мнение присяжных. Вам, и только вам, дамы и господа, предстоит рассмотреть все факты и вынести вердикт. Мое дело разъяснить вам принципы суда, остальное за вами. Вам зачитали словарные определения слов «пагубный» и «разлагающий». Я не берусь их трактовать или дополнять.
Судья вкратце обобщает показания сторон. В целом он вполне беспристрастен, но, когда доходит до показаний Гусакса и Холли, в голосе его прорывается раздражение:
– Обвинение утверждает, что некоторые так называемые эксперты играют словами, подменяют понятия, идут против здравого смысла и так далее. Возможно, тут есть доля истины. Ваша задача – представлять интересы простых людей и защищать здравые ценности.
Кстати, замечает он, в Канаде каждая сторона может привлечь только пять свидетелей, и после стольких речей невольно завидуешь канадским коллегам…
Далее судья говорит о святом долге присяжных, о том, что им предстоит взвесить возможный вред и пользу книги, а это непросто: обе стороны признают, что оценить достоинства книги при жизни автора – задача нетривиальная. Он еще раз повторяет, что все зависит от присяжных, им решать на основе прочитанного и услышанного, является ли книга непристойной, и если да, то искупают ли это ее литературные достоинства и отвечает ли ее публикация интересам общества.
Присяжные удаляются. Представители издательства обсуждают речь судьи и чего в ней было больше: доброй или злой воли. Не придя к единому мнению, решают, что в целом это хороший знак. Холли доволен.
– Хорошую трепку мы им задали, – заявляет он.
– Да помолчите вы хоть сейчас! – взрывается Жако, но тут же просит прощения.
Судья тем временем выносит приговоры по делам, уже рассмотренным присяжными. Джуд исчез. Каково ему сейчас? Аврам Сниткин заявляет:
– Это нонсенс – в наш просвещенный век бояться, что книгу запретят.
– Только про век не надо, пожалуйста, – зло обрывает его Фредерика.
– Почему?
– Потому что это дурацкое, пафосное клише.
– Тем не менее оно выражает совершенно определенные вещи.
– И имеет совершенно чудовищную коннотацию. Кстати, не все так радужно. Я следила за лицами. Холли им, мягко говоря, не пришелся. И Джуд тоже, они решили, что он сноб и вообще издевается.
– Присяжные не действуют по принципу «нравится – не нравится», они понимают, что это серьезно. И вернутся не скоро.
Через три часа присяжные ненадолго возвращаются, чтобы уточнить: правильно ли они поняли, что требуется отдельное решение по вопросу о непристойности книги и принять его нужно прежде, чем переходить к вопросу о литературных достоинствах? Да, говорит судья. Это сложно, замечает старшина присяжных, обсуждалось-то все разом. Судья соглашается, но больше ничем помочь не в силах.
Еще через пять часов вердикт готов. Джуд возвращается на скамью подсудимых. Настает молчание, и в нем – голос секретаря.
Господа присяжные, вы пришли к единому решению?
Старшина присяжных: Да.
Секретарь: Виновно ли издательство «Бауэрс энд Иден» в опубликовании непристойного произведения?
Старшина присяжных: Виновно.
Секретарь: Виновен ли Джуд Мейсон в опубликовании непристойного произведения?
Старшина присяжных: Виновен.
Небольшая, неуверенная пауза, потом вступает судья:
– Для ясности, господа. Вы считаете, что издательство и автор книги виновны в опубликовании непристойного произведения. Защита, опираясь на Закон о непристойных изданиях, выдвигает тот довод, что литературные и иные достоинства книги перевешивают ее возможное разлагающее влияние. Вы считаете, что книга обладает такими достоинствами?
Старшина присяжных: Нет, Ваша честь. Не считаем.
Секретарь: Вердикт вынесен единодушно?
Старшина присяжных: Да.
Фредерика – неожиданно для себя – плачет. Жако, побелев как мел, слушает судью. Тот говорит, что, поскольку книга опубликована почтенным издательством, не имевшим при этом злого умысла, штраф назначается небольшой, пятьсот фунтов стерлингов. Все имеющиеся в продаже экземпляры книги должны быть изъяты. Затем судья обращается к Джуду:
– Я мог бы приговорить вас к тюремному заключению, но не буду: судя по заслушанным показаниям, в том числе и вашим собственным, вы считаете свой роман серьезным произведением искусства. Присяжные иного мнения. Видя ваше сложное финансовое положение, я присуждаю вам штраф в пятьдесят фунтов стерлингов, поскольку вы явно не в состоянии заплатить больше.
– Я знал, что вы все против меня, – говорит Джуд.
XXI
Жако заявляет, что будет апеллировать. Адвокаты против: шансы на успех крайне малы, выйдет попросту трата времени, денег и сил. Добывать протокол суда долго и дорого, к тому же там фиксируется не все. Не страшно, говорит Жако, Сниткин весь процесс записал на магнитофон, я уже велел секретарше сделать распечатку. Требуется замена Хефферсону-Броу, который решительно воспротивился любому продолжению. Советуют некоего Джона Мортимера, адвоката по разводам, у которого было несколько крупных побед. Он молод и сам пишет пьесы. В «Таймс» завязывается едкий спор между общественниками о суде присяжных и о том, кто или что есть тот здравомыслящий англичанин, которого присяжные призваны представлять. Возникает Фонд юридической защиты искусства от государства, но пожертвования притекают вяло. Олифант, в отличие от коллеги, настроен более оптимистично и какое-то время изучает распечатку, прирастающую у секретарши в лотке для исходящих. Беда только в том, что клиент его куда-то запропастился. Пока Жако делал заявление для журналистов, Джуд отошел в уборную, и больше его не видели. Письма до востребования остаются без ответа. В училище вместо него позирует бывший боксер, шоколадный и мускулистый.
Фредерика не особенно вслушивается в жалобы Жако на сбежавшего подопечного: у нее свои горести. Приближается слушание об опеке, а суд над Джудом расстроил ее еще больше. Ей кажется, что они с Джудом просто непослушные дети. Об их шалостях стало известно взрослым, и те, рассудив по своим непостижимым законам, объявили: это вовсе не шалости, а преступления. У нее детское чувство, что взрослый мир – то, что казалось ей взрослым миром, – вместо логики живет системой чувств и предрассудков, и ничего в ней предугадать нельзя. Их заставили рассказать о несуразице собственной жизни на чужом для них языке. Их судили и нашли легковесными. Впрочем, не важно. Какая разница, что думают о «Башне» двенадцать обывателей, не понявших в ней ни слова? Какая разница, что думает судья Пунц о женщинах с образованием и сексе после пришествия Таблетки?.. Да нет, разница есть, конечно. Теперь Джудову книгу не прочтут и – что во сто раз хуже! – у нее отберут Лео.
Поначалу Фредерика находит утешение в обществе миссис Барлоу, соцработницы из суда. Та приходит часто, не устает подбадривать и восхищаться: они с Лео нашли общий язык, мальчик «мудр не по годам», с ним «что ни день, то какое-то открытие» и «вы должны им очень гордиться». Потом ее начинают раздражать цитаты из Юлианы Нориджской[275], которые так любит миссис Барлоу:
– Все разрешится. «Все разрешится и сделается хорошо»[276].
– Не уверена.
– А я – верю. Она, конечно, имела в виду жизнь в целом, но… Вы совсем не веруете, миссис Ривер?
– Нет, – отвечает Фредерика и думает, что даже сейчас, с чистым рассудком говоря простую правду, она предстоит суду, который может забрать Лео. – Моя сестра была замужем за священником, – не к месту добавляет она.
– «Все разрешится и сделается хорошо». А знаете, какое там продолжение? Все разрешится, если, прося о чем-то, мы будем заботиться о чистоте своих побуждений. В основе всего – чистота побуждений.
– Я вас не понимаю.
– Не обращайте внимания, просто вспомнилось. Главное ведь сейчас то, что лучше для Лео, миссис Ривер.
Фредерика видит поля и пастбища, леса и холмы – самые английские вещи на свете. Вон черный Уголек флегматично трусит по лугу под мелким дождичком…
– Тут нет «лучше». В любом случае что-то будет хорошо, а что-то плохо. Запутанная, нелепая ситуация, как и вся жизнь. Жизнь по преимуществу нелепа, но суду об этом не сообщили.
– И не нужно сообщать, там это и так знают. Ведь в редкие моменты, когда все хорошо, люди к судье не идут. Это его работа – разбираться в нелепице. Поэтому не отчаивайтесь и верьте в лучшее.
– Они все проглотили. Все вранье, все, что им про меня наговорили…
– Может, в этот раз будет другой судья. Главное, верьте.
Судья тот же. Лео сидит в зале под присмотром миссис Барлоу, а его родители по очереди рассказывают, как они обустроят его жизнь. Адвокат Найджела показывает фото: сперва поместье, фруктовый сад, прекрасная детская. Потом свалка посреди Хэмлин-сквер, кроватные остовы и гниющие кресла в зловещих отсветах костра, у которого пляшут чернокожие ребятишки. Адвокат сообщает, что за Лео уже закреплено место в Свинберне.
– Как вы знаете, господин судья, школа очень изменилась. То, о чем кричали из-за процесса над книгой, – это глубокое прошлое. Стандарты, безусловно, сохранились, но там новое руководство, это прогрессивные люди, и условия в Свинберне сейчас прекрасные.
Адвокат добавляет, что тети Лео и его няня тоже здесь, в зале, они расскажут, какой славный и любящий дом его ждет, ждет с тех пор, как матери вздумалось сорвать ребенка с места и увезти в город.
Потом говорит Найджел, коротко и резонно. Сын есть сын. По счастью, есть возможность обеспечить ему спокойную жизнь в Брэн-Хаусе, любви и заботы хватит с избытком. Его бывшая жена, конечно, по-своему любит сына, но прирожденной матерью ее не назовешь, ей это все не очень интересно, и вскоре она поймет, что для общения с сыном ей вполне достаточно визитов в поместье, где ей, разумеется, всегда рады. Она живет в сомнительном районе, заводит сомнительные знакомства. Найджел не хочет, чтобы Лео рос среди всего этого. Сейчас он даже резок, он говорит с судьей как мужчина с мужчиной, смотрит уверенно, но голос выдает волнение.
Теперь очередь Пиппи Маммотт. Мать, говорит она, Лео никогда не любила, в ней ничего материнского и нет, а мальчик ей нужен, только чтобы всем отомстить. Это она, Пиппи, была ему матерью, после всех болезней его выхаживала, учила шнурки завязывать, вообще все что нужно делала, а «она» только «куксилась» и «книжки свои читала».
Фредерика хочет говорить, но губы движутся без звука. В этом зале она неслышима. Пунц кисло взирает на нее сверху вниз, сморщив длинное белое лицо:
– Погромче, пожалуйста.
– Простите. Я хотела сказать, что свалку с площади убрали. Там теперь прилично, круглый газон, а посредине инь и ян из кирпичей. Все соседи помогали.
– Это хорошо.
– Просто не нужно представлять все хуже, чем есть. Понятно, что я с поместьем тягаться не могу, и Лео, конечно, должен там бывать. Но жить он хочет со мной, и я все устроила неплохо, мы справимся, хотя, конечно, женщине трудней, чем мужчине, работать и одновременно заниматься ребенком. К тому же я не одна, я живу с соседкой, мы взрослые, ответственные люди, Ваша честь. Я знаю, что в Брэн-Хаусе любят Лео, и он их всех любит, но у меня тоже есть понятие о семье и традициях. У меня читающая, думающая семья. Его отец хочет, чтобы он рос на природе, чтобы был лес, была лошадь, – но есть еще и я. Мне важно, чтобы он читал, чтобы жил среди книг. Мне важно, где он будет учиться. Это садизм: ребенок спит в жутком дортуаре, когда дома у него есть мать… Вы можете не соглашаться, но это мое мнение, и я имею на него право. Я мать Лео. Мой отец был учителем в частной школе, причем очень либеральной, и я знаю, о чем говорю. Меня тут много критиковали, и вы тоже, когда мы разводились. Там и вранье было, но это уже прошлое. Конечно, это не идеал, когда нужно и зарабатывать, и растить ребенка – лично на себя я алиментов не хочу и не возьму, – не идеал, но я справляюсь. Подумайте, если бы я была такая, как они говорят, разве бы я боролась за Лео? Когда мы разводились, вы спросили, собиралась ли я взять его с собой в Лондон. Я ответила, что хотела оставить, так было бы лучше, но он меня упросил. Это правда, это именно так: я хотела оставить, а он выбежал… Он маленький, но он знает, чего хочет. Теперь для меня это немыслимо – оставить Лео. Если только он сам не попросит.
– А если попросит?
– Если попросит, придется. Он сам… – Фредерика не может продолжать.
Судья хочет поговорить с миссис Барлоу наедине. Остальные выходят в коридор. Через какое-то время выглядывает миссис Барлоу: Пунц вызывает Лео. Но того уже увели куда-то «поиграть», и все долго ждут. Наконец их приглашают обратно в зал. Фредерике физически плохо: в эту минуту ее жизнь полностью в руках других людей. Неистовая Фредерика, умница и гордячка, сидит в казенном зале, где решают ее будущее, – и все из-за мальчика, который ждет где-то в коридоре. Мальчика, чьи права и желания важней для нее, чем ее собственные. У нее мелькает мысль, что рождение Лео – простой и явный итог блаженства, что она испытала с Найджелом. Но тогдашнее блаженство никак не связано для нее сегодня с фактом бытия маленького нового человека. Силы кончились, внутри пусто, сейчас у нее все отберут. Судья уже начал свою речь, но Фредерика не слышит его.
– …традиционно отдает предпочтение матери. Считается, что забота о детях – природное предназначение женщины, что ребенку, по крайней мере в первые годы, необходима мать, ее физическое присутствие. Но в данном случае у меня были серьезные сомнения. Свидетели другой стороны говорят, что миссис Ривер лишена материнских чувств, и действительно, ее не назовешь эталонной матерью – так сказать, Матерью с большой буквы. Но, по чести сказать, часто ли мы видим в жизни этот эталон? И тем не менее большинство женщин справляются с воспитанием детей. Мисс Маммотт приняла на себя материнскую роль в отношении Лео и, пожалуй, даже чересчур в нее погрузилась. Миссис Ривер отнеслась к этому спокойно, без ревности и досады, а вот мисс Маммотт говорит о ней очень зло и явно ревнует мальчика. Это меня слегка насторожило. Мы много услышали о старой аристократии, о старинных традициях семьи Ривер, но на меня большое впечатление произвели слова миссис Ривер: у ее семьи, пусть и не столь именитой, тоже есть традиции, и она как мать вправе желать, чтобы мальчик их унаследовал. Мир состоит из разных людей, в жизни нужны и книжники, и коммерсанты.
Я убежден, что родители очень любят Лео и в первую очередь хотят, чтобы ему было хорошо. Тут ему повезло, в отличие от многих, кого мне приходится видеть в этом зале. Ясно, что мать не сможет создать ему те же условия, но условия – еще не все. Я сам учился в закрытой школе, где из детей растили спартанцев, и согласен с миссис Ривер, хоть это, наверно, ее удивит: мальчику, особенно маленькому, лучше жить дома, там, где его любят.
Миссис Барлоу говорила со всеми причастными: с родителями, с родными в усадьбе, с соседями на Хэмлин-сквер, она очень ясно и вдумчиво мне все изложила. Лео произвел на нее прекрасное впечатление: мальчик умный и развитой. Сегодня утром я сам с ним говорил – я всегда снимаю мантию, когда говорю с детьми, чтобы не напугать, им и без того страшно… Миссис Барлоу и я пришли к одному и тому же выводу: Лео хочет жить с матерью. Отца он любит, хочет видеться с ним, бывать в усадьбе, но больше всего он боится потерять мать. «Это страшней всего» – так он сказал. Миссис Барлоу, правда, считает, что страх тут двоякий: что его отберут у матери и что она сама его бросит. Но это уже вопросы глубинной психологии, мы их касаться не будем, поскольку налицо желание мальчика. Кстати, замечу: он говорил свободно, он привык, что с ним считаются, и это, безусловно, заслуга родителей.
Итак, я присуждаю совместную опеку над Лео Александром Ривером его отцу и матери, причем настоятельно рекомендую прислушаться к мнению матери касательно выбора школы. Определяю место проживания ребенка у его матери, Фредерики Ривер.
В коридоре Фредерика оглядывается в поисках Лео. Голова плывет и звенит. Вдруг – быстрые шаркающие шаги, вопль, и в правый висок врезается боль. Это Пиппи подскочила сзади и ударила ее тяжелой сумкой. Острая застежка царапнула угол глаза, на скуле вздувается ссадина. Пиппи истерически рыдает, сестры окружают ее и тянут прочь. Найджел с озабоченным видом подходит к Фредерике, но миссис Барлоу уже приобняла ее мягкой каракулевой рукой и уводит в какой-то другой коридор, от нее пахнет старинными цветочными духами Je Reviens. Как ни странно, после дикой выходки Пиппи всем становится легче.
– Ну, увидимся, – говорит Найджел, и Фредерика кивает, прижимая к скуле испачканный кровью платок.
По каменному полу стучат каблуки: противоборствующие стороны расходятся. В каком-то официальном закутке Фредерика наконец находит Лео и тихо плачет. Миссис Барлоу принесла теплой воды и ваты промыть ссадину, слезы текут в воду. Лео прижался к Фредерике, сквозь хлорку и цветочные духи проникает теплый запах его рыжих волосиков. Он не говорит о том, что пережил, не спрашивает, откуда ссадина. Вместо этого просовывает ей в руку свою ладошку:
– Можно уже домой?
Весна 1967 года перетекает в лето. Хэмлин-сквер продолжает прихорашиваться: возникают вазоны с геранью и крохотные кипарисы, которые, впрочем, вскоре крадут. Жители белят ставни. Новенькая парковая скамья украдена, но замещена другой, более основательной, намертво вделанной в землю. Рядом вделана ярко-зеленая урна. Разрешены аборты, гомосексуализм больше ненаказуем (при условии, что все происходит скрытно). Мир вспыхивает множеством цветов: «Битлз» выпускают «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». На обложке четверо усатых мажордомов в ярких ливреях стоят рядком со своими восковыми копиями в строгих костюмах под взглядами Маркса, Чаплина, Кроули, Кассиуса Клея[277], Моны Лизы, Мэрилин Монро и Тарзана. Песни тоже яркие: мандариновые деревья, мармеладное небо, а в нем Люси с брильянтами. Второй канал Би-би-си начинает вещать в цвете. У Фредерики по долгу службы цветной телевизор: она ведет колонку телеобзоров в женском журнале «Боудикка», названном в честь бриттской воительницы. Предводимый амбициозными девами в мини-юбках, лаковых сапожках и золотистых плащах, журнал живет ярко, но недолго. А Фредерика и Лео не могут оторваться от экрана. Как сочны и лучезарны краски, какая дивная психоделика после зернистого серого мира, где обитал ослик Мафин, Бэтмен да сериальные ковбои! Разъятый надвое апельсин – мерцающее откровение, роза – одноактная драма. Увиденные в цвете, розово-голубые, зеленые, желтые, наряды королевы кажутся нелепыми и неуместными. Выходит отчет комиссии Стирфорта в двух толстых томах, и в прессе разражается буря: «Патент на вседозволенность», «Эра невежества», «Апология зубрежки», «Учеба или угнетение?», «Мой ребенок – мой гегемон», «Стирфортовские утописты», «Знания не в моде», «Прощай, грамматика!» и так далее. Магог издает ноту протеста: комиссия не поняла важности доверительного сотрудничества между учителем и учеником. Гай Крум сухо предсказывает человечеству отмирание целого ряда навыков. Журналисты отчет не читали и трактуют его кто во что горазд, часто в смысле, противоположном изначальному. Александр заказывает сценарий для обучающей телепрограммы: несколько шекспировских сцен в современном антураже. Он подумывает написать пьесу в брехтовском стиле о Французской революции.
Кассиус Клей рвет свою карточку призывника и отказывается воевать во Вьетнаме: там тоже цветные, такие же как он. В июне происходит Шестидневная война – израильтяне в страстном и действенном прорыве побеждают египтян и иорданцев, захватывают Иерусалим и под трубные звуки идут к Стене Плача, а вокруг рвутся мины-ловушки.
В июле в концертном зале «Раундхаус» проходит Конгресс по диалектике освобождения. Выступают антипсихиатры, считающие, что человечество гибнет в сетях иллюзий и мистификаций. Стокли Кармайкл[278] призывает американских негров и жителей третьего мира обратить оружие белых против них самих. Герберт Маркузе[279] радуется цветам и верит, что марксистская революция освободит инстинктивного человека от гнета технологий. Другие участники в яростных словесных атаках громят практику массовых убийств и самоубийств. Наконец Дэвид Купер[280] подводит итог в речи под названием «Превыше слов»: пора искоренить, говорит он, оппозицию «субъект – объект», «белый – черный», «угнетатель – угнетаемый», «колонист – раб», «мучитель – мучимый», «убийца – убитый», «психиатр – пациент», «учитель – ученик», «тюремщик – заключенный», «каннибал – пища», «трахающий – трахаемый», «срущий – обсираемый». Играет оркестр, состоящий из покалеченного рояля, водопроводных труб, молочных ящиков и консервных банок. Все вокруг утопает в цветах, пышных и вянущих.
Постепенно складывается план апелляции по делу о книге. Беспокоит отсутствие Джуда. Вдруг он снова уехал в Париж или – об этом пока молчат – умер? Не видно и Джона Оттокара: исчез с тех самых пор, как попал в соответчики. Фредерика вычеркнула его из жизни, у нее есть гордость, звонить ему на работу и прочее она не собирается. Не хочет – ну и не надо, она найдет чем заняться. Заглядывает пару раз в студию к Буллу, ходит на танцы с Хью Роузом. Хью танцует плохо, зато продал Жако сборник стихов под названием «Орфей Подземный», намекающим, кажется, на модный в то время андерграунд. Странное время, какое-то лихорадочное. Потом, в памяти, оно будет казаться долгим, дольше, чем было… И все же для большинства людей эти новые звуки, запахи, ослепительные цвета не составляют сути, они где-то поодаль, они – просто слова. А люди готовят ужин, катят в колясках младенцев и стариков, стоят за прилавком, работают в банках и лабораториях, порой забредают в клуб или на фестиваль. В 1967 году закрытый полицией андерграундный клуб «НЛО»[281] пышно расцветает вновь в Ковент-Гардене под именем «Электрический сад». Первый же вечер в нем отмечен большой дракой между поклонниками Йоко Оно и экспериментальной танцевальной труппы «Взрыв галактики». Аврам Сниткин переключается на изучение хиппи, электрических садов, цветных телеутопий и алхимических свадеб[282]. Он по-своему привязался к Фредерике, периодически зовет ее в разные клубы, но все как-то не складывается. Только в августе Фредерика попадает в «Сад», который, впрочем, успел уже схлопнуться и в новой ипостаси зовется «Средиземьем».
В июле Лео исполняется семь, и после очередного родительского собрания учительница просит Фредерику остаться: нужно поговорить. Фредерика с Агатой сидят в коридоре, где с потолка бесконечно свисают гирлянды бумажных цветов, и ждут положенных каждой десяти минут личной беседы. Наконец молодая учительница в замшевом кителе, с длинными, распущенными индейскими волосами и глазами, щедро и кругло обведенными черным, приглашает Фредерику в класс, и та, сутулясь, устраивается за низенькой партой.
– Лео у вас молодец, миссис Ривер. Такой умный мальчик…
– Вот! Он очень умный, правда?
– И с общением проблем нет, со всеми ладит, куча друзей.
– Хорошо…
– Не читает пока, это да. Запаздывает немножко. Ну ничего, он еще раскроется.
– Что??!
– Запоздал – не страшно, с чтением такое бывает.
– Да этого быть не может! У него огромный словарь, он на днях сказал «светозарный»! Он говорит о прототипах самолетов, о механизмах…
– Конечно-конечно. Вы не переживайте, я думаю, у него просто моторика отстает.
– Послушайте, он всю Беатрикс Поттер прочел. Он мне ее вслух читает!
– Читает или наизусть рассказывает? Он просто слишком развитой у вас, отсюда, наверно, и с чтением проблемы.
– Но он и Саскии читает!
– Саския – да, у нее чтение отлично идет… Да вы не волнуйтесь, дети все развиваются с разной скоростью. Он нагонит!
– Но я из читающей семьи, я…
– Вы его, наверно, сами немножко отвратили. Слишком торопите, слишком много от него ждете… Дайте ему передохнуть.
– Но если он не читает – он же знать ничего не будет…
– Главное, не волнуйтесь. – Учительница украдкой поглядывает на часы.
– Он читать не умеет! Он не умеет читать, а я не заметила, он же все время болтает… Я чудовищная мать, я…
– Я что-то странное замечала, – говорит Агата. – Просила его прочесть, и… Саския все быстро схватывает, а ему терпения не хватает: коротенькие слова – скучно, а длинные с ходу не даются. Ничего, сейчас столько методов: и фонетический, и без слогов, и разные экспериментальные. Кому-то одно помогает, кому-то другое. Не волнуйся, если понадобится, у меня специалисты есть, а пока паниковать рано.
Фредерика безутешна. Сыну ничего не говорит, слушает, как он «читает» сказку о мистере Тоде, провожает его на лето в Брэн-Хаус и думает: я заслуживаю, чтобы его у меня забрали. Ей просто не приходило в голову, что ее сын может не уметь читать.
Август. «Битлз» улетают в Индию медитировать с гуру Махариши, а их менеджер Брайан Эпстайн принимает смертельную дозу снотворного. Вернувшись, Битлы сообщают, что гуру запретил им предаваться скорби. Джуд по-прежнему пропадает невесть где, и Фредерика, раздерганная и одинокая, идет со Сниткином в «Средиземье». Этнометодолог не танцует, он наблюдает людей. Сниткин достает фиолетовый с золотом и серебром блокнот в стиле ар-нуво и пакетик с тянучками, которые раскладывает рядком на низком столике. Попробуй, говорит он, это с гашишем, хорошая вещь, тебе полезно. Глаза его подернулись счастливым, влажным блеском, рыжие пряди спадают на плечи, бородка глядит набок, лысая макушка мерцает под стробоскопом лиловым, зеленым, оранжевым, розовым, желтым. Он сидит в углу на корточках, похожий на гнома, дымит самокрутками и порой задумчиво тянется за гашишевой ириской. Фредерике хочется попробовать, но северное пуританство не дает: она только-только начала возвращать себе власть над собственной жизнью. На ней прямое короткое платье без рукавов, похожее на детское платьице, – крупные, невинно-кипенные ромашки и ярко-синий вьюнок на черном фоне. Стрижка-шлем, рыжие пряди огнем лижут белые щеки.
– Иди потанцуй, – говорит Сниткин, отправляя в рот очередную ириску.
Фредерика оглядывается. Клуб похож на склад или ангар, бетонные стены и пол расцвечены только пятнами стробоскопа, пляшущими пьяно и угрожающе. Кругом плывет ароматный дым, свет, попадая в него, меняется, вихляет, тускнет, вспыхивает. Свет пронизан звуком. Где-то далеко играет группа, кто-то поет. Сниткин любит наблюдать с отдаления, поэтому они сидят в нише, откуда сцену не видно.
Фредерика немузыкальна – в этом смысле она не дитя своего времени. Весь этот бит, ритм, лязг не доставляют ей никакого удовольствия. В голове колотится барабанный пульс, кажется ее сейчас разорвет от воя и грома. В ушах что-то взрывается, рикошетит в почки, ей больно, больно. А люди танцуют, кружатся как зачарованные в своих ведьминских платьях, в эльфийских мантиях, в чем-то серебристо-сетчатом, в ниспадающих слоях черной кисеи. На тканях пестреют лиловые и черные цветы зла, белые розы, опьяняющая разум датура. Люди покачиваются, словно змеи под звуки дудочки, медленно поворачиваются, заклиная кого-то танцем. На лицах одинаковая легкая улыбка, танцуют все вместе, пар нет. Фредерика хорошо танцует джайв, она умеет отлетать на вытянутой руке, вертеться, притопывать и, смеясь, возвращаться быстрым округлым движением. Джайв – это секс, джайв – это взлет, после джайва хохочешь и не можешь отдышаться. А эти создания – в основном девушки – похожи на тонконогие грибы или вьющиеся цветы: колышутся вместе, а все же врозь, ни пар, ни одиночек – людское скопление под музыку.
– Я настроен на их волну, – говорит Аврам и с блаженной улыбкой берет еще ириску. – Я настроен на их волну.
Фредерика заглядывает ему в блокнот, там написано: «Я настроен на их волну». Тут же нарисована улыбающаяся рожица и красивым курсивом выписан алфавит, ниже спираль и еще одна, которой Аврам пририсовал змеиную голову.
– Я настроен на их волну, – повторяет он.
Фредерика встает и, осторожно огибая танцующих, идет искать уборную. Разномастный шум нарастает, переходит в вой, скрежет, бешеный визг. Теперь видно группу на сцене. У солиста просторный атласный жакет, весь в пестрых заплатах, с гигантскими серебряными обшлагами и манжетами, белые атласные брюки и широкополая белая шляпа из того же атласа. Он потрясает белым посохом, увитым цветами и лентами, голова закинута, кадык пульсирует от завываний. Потом Фредерика видит лицо – лицо Джона Оттокара.
Она резко разворачивается и идет прочь. Домой, домой. От стробоскопа у нее синие зубы, зеленые руки, мутно-лиловые волосы. Она скользит в клубах дыма, пробирается меж танцующими. Вот их столик. Завидев ее, Аврам кричит:
– Я настроен на их волну!
Фредерика не может говорить. В голове вертятся строки Герберта:
Фредерика твердит их, как мантру. Потом при слове «шестидесятые» ей будет вспоминаться Заг и «Зигги-Зикотики», выступающие в «Средиземье», гул, рев, лабиринт света, толпа, в которой каждый танцует один. Один как перст, по воле волн влеком, я настроен на их волну, насквозь прохвачен каждым сквозняком. Насквозь, насквозь, насквозь.
– Джуд должен подписать заявление на апелляцию, – говорит Жако. – Фредерика, ты всегда была нашим связным, неужели и ты его найти не можешь?
– Ни слуху ни духу. Такой шум в прессе, а его никто не видел.
– Надеюсь, он не кинулся с моста в реку?
– Думаю, он бы позаботился, чтобы мы это лицезрели, – замечает Олифант. – Если не прыжок, то хотя бы тело.
– Я сам так думал, а теперь не уверен. Неужели никто не знает, где он может быть?
– Дэниел, – вспоминает Фредерика. – Он звонил Дэниелу в часовню, ему и канонику Холли.
Фредерика с Жако отправляются в церковь Святого Симеона. Дэниел сидит в своем ячеистом закутке и уговаривает какого-то парня дойти до больницы, тот завалил экзамены и принял шесть таблеток кодеина. Потом парень вешает трубку: то ли надоело, то ли в сон потянуло, то ли и впрямь от отчаяния. Дэниел делает запись в журнале.
– Он, похоже, сам знает, что от шести таблеток не умирают. Хотя их иногда не поймешь… Вы чего пришли-то?
– Джуд. Джуд пропал, а нужно, чтобы он подписал бумаги на апелляцию. Ну и волнуемся за него, конечно. Нужно найти его, убедиться, что все в порядке, это прежде всего…
– Он не приходил.
– А звонил? – не отступает Фредерика.
– Если бы звонил, я бы не имел права об этом сказать. Но нет, не звонил.
– Не знаешь, где он жил? Хоть примерно?
– В общем, нет… Было ощущение, что где-то на юге Лондона, но почему – не знаю.
– Мы как-то вместе в метро ехали в моем направлении, он сказал, что ему «домой».
– На юге – это полгорода, – говорит Жако. – К тому же он мог уехать. Хотя у него не было денег…
– А счет в банке есть у него?
– Нет. Мы почтовым переводом посылали, либо он приходил за наличными.
Дэниел отлистывает журнал обратно к тем дням, когда Джуд еще был для него назойливым Железным. Приходит Джинни, предлагает чаю, спрашивает, в чем дело.
– Погодите! Погодите, я что-то вспоминаю… – Она задумывается. – Он ведь со мной почти разговорился, когда Дэниел в Йоркшир уезжал. Он тогда сказал, что живет в башне.
– Вы с книгой путаете.
– Нет-нет. Он сказал: «Тут никто не хочет жить, потому что с башни сорвался ребенок». Видимо, с крыши высотки упал, а он, как всегда, сказал покрасивей…
– Это в книге, – повторяет Жако, – в книге с Балабонской башни упал ребенок.
– Может, он в книгу из жизни перенес, – возражает Джинни, роман не читавшая.
Дэниел качает головой:
– Он много что рассказывал…
– Но попробовать-то можно, – не сдается Джинни. – В местных газетах, в соцслужбах узнать, был такой случай на юге Лондона или нет.
На справки уходит время. Оказывается, падение ребенка с высотного здания не такой редкий случай, им называют Ротерхайт, Брикстон, Пекхэм, Стокуэлл. Дальше путь лежит в местную администрацию, узнать, кто еще жил в тех квартирах. По описанию – никого похожего. Больше всех подходит «башня Уэстуотер», так называется одна из высоток в жилом комплексе «Вордсворт», где все дома по загадочной прихоти застройщиков носят имена озер: «Грасмир», «Деруэнт», «Алсуотер». Впрочем, Вордсворт, как известно, любил Озерный край. В 1962 году с крыши упала девочка двух лет. Семнадцатилетнюю мать обвиняли в убийстве, но суд ее оправдал. Звали девочку Бриллиантина Бейтс, больше никто ничего не знает. В их квартире теперь живет безработный Бен Леппард, про которого говорят, что он «немного не в себе». Фредерика задумчиво хмурит брови:
– Монктон-Пардью. Бенедиктин Пардс. Может быть.
– Он там с шестьдесят второго живет, – сообщает клерк.
– Попробуем, – решает Дэниел.
Жилой комплекс «Вордсворт» выстроен в модерновом стиле, хоть говорить так уже и не модно. Бетонные башни упираются в небо, разделенные просторными пустыми участками. Балкончики, окна разной формы, круглые и прямоугольные, большие и маленькие. Рамы, некогда выкрашенные в голубой цвет, пошли пятнами, краска шелушится. Архитектор хотел, чтобы под действием стихий бетон и металл колоритно старели, как стареет гранит, но так не бывает, и теперь пятна и потеки на фасадах кажутся просто грязью. То, что на макете было зеленым газоном с деревцами и кустиками, на деле – асфальт в трещинах, из которого местами торчат чахлые, обломанные саженцы. Кое-где в трещинах вспучилась земля и тускло зеленеет что-то вроде мха. Серый день, ранняя осень, ветер гоняет обертки от жареной рыбы. Фредерика и Дэниел входят в вестибюль. Тут все пропахло мочой, жильцы, похоже, присаживаются у стенки, а потом вытирают об нее руки. Это всё клише, конечно, – тем более печальные, что никуда от них не денешься, привычная вещь. Лифт, разумеется, не работает. Фредерика через ступеньку взбегает на несколько пролетов и, как заяц черепаху, останавливается подождать медленно, но верно идущего Дэниела. К тринадцатому этажу оба запыхались. У Фредерики колотится сердце, легкие готовы лопнуть, Дэниел утирает лицо платком.
Голая бетонная площадка, облезлая голубая дверь, под дверью тарелка с обглоданной куриной грудкой и засохшим мазком кетчупа. Они стучат. Никто не отзывается. Снова стучат.
– Бен больше не выходит…
Перед ними девочка лет десяти в опрятном школьном джемпере, плиссированной юбочке и белых гольфах. У нее круглое, смугло-румяное личико, темно-рыжие, по-негритянски курчавые волосы и крупный рот. Полукровка.
– Ты его знаешь?
– Мы его кормим. То есть мама кормит. Ставим тут еду, а он забирает, когда никто не видит. Он все время дома сидит. Мама говорит, он немножко не в себе.
– А как он выглядит?
– Мы его уже давно не видели. Раньше странный был, волосы длинные, как у хиппи. Его за это били даже. А теперь он не выходит.
– Можно с ним поговорить?
– Если не отзывается, значит нельзя.
– Что, ни у кого ключа нет?
– А там не заперто. К нему и так никто не ходит, у него воняет ужас как.
Дэниел поворачивает ручку двери. Голая прихожая, голый пол, шаги гулко отдаются от стен. И запах – не обычная Джудова вонь от избытка жизни, а что-то посмертное. Темным коридором они проходят в довольно большую комнату. Окно во всю стену пропускает много серого света, в котором видно плесень и грибок, ползущие по обоям с узором из осенних листьев. Мебели почти нет. В углу матрас с грудой одеял, на столе шеренга пузырьков с разноцветными чернилами и стакан с перьевыми ручками для каллиграфии. Плита на две конфорки, словно вулкан корой, покрыта слоем пригорелой еды: черное, бурое, серо-зеленое, кое-где плесень.
В другом углу аккуратными башенками сложены книги. Под одеялами – скорченное неподвижное тело.
– Джуд… – зовет Фредерика.
– Вон. – Слабый шелест вместо знакомого скрипа.
– Это мы, Джуд, Фредерика и Дэниел. Твои друзья. Надеюсь, ты нас считаешь друзьями… Нам нужно поговорить.
Дэниел, нагнувшись, откидывает одеяла. Джуд лежит в рубашке, в которой был на суде, – похоже, с тех пор он ее не снимал. Волосы отросли, свалялись в сальное седое гнездо, но это лучше, чем давешняя прилизанная стрижка. Джуд сильно, болезненно похудел.
– Вы сейчас поедете с нами, – говорит Дэниел. – Я вас пристрою в больницу.
– Не стремись. Поддерживать. Чужую жизнь[283].
– Ты должен подписать заявление на апелляцию, – говорит Фредерика.
– Это бесполезно.
– Брось, Джуд. Раньше ты умел бороться – на свой лад.
– А теперь умираю на свой лад. Уходите.
В конце концов они стаскивают его по бесконечным поворотам лестницы и сажают в такси. Водитель чувствует запах, кривит лицо и хочет уже отказаться, но, взглянув на Дэниела, соглашается. Услышав адрес больницы, Джуд принимается плакать, и в итоге его везут к Дэниелу. Единственная комнатка забита ненужной, чужой мебелью, но, по сути, тут так же бесприютно и пусто, как в Джудовом гулком башенном гнезде. Джуд, постанывая, позволяет себя отмыть и вытереть. Чистые волосы как-то странно пушатся у него вокруг головы, отчего он делается похож на мудрецов Блейка в искрящих ореолах. Все это время он не открывает глаз. Его одевают в пижаму Дэниела и укладывают в кровать. Дэниел перебирается на диван:
– Не в первый раз я тут сплю и не в последний.
– Я бы его взяла к себе, – говорит Фредерика, – но там же Лео, Агата, Саския…
– Не надо, он теперь моя забота. На какое-то время.
– Он должен заявление подписать.
Джуд ненадолго открывает глаза:
– Подпишу, если не подпустите ко мне адвокатов. Да, кстати, вы нашли мое исходное одеяние?
– Нет, – отвечает Дэниел.
– Оно там где-то лежало в коробке. Другого у меня нет.
– Хотите, чтобы я съездил поискал?
– Хочу. Ваша одежда мне не подойдет, да и вы не пожелаете с ней временно расстаться. Спасибо.
Джуд закрывает глаза и поудобней устраивается в кровати Дэниела.
– Вы – Божий человек, – удовлетворенно мурлычет он.
Дэниел провожает Фредерику до двери:
– Интересно, сколько он тут будет жить…
– Ничего, вы оба с характером. Выставишь его, как время придет.
– Можешь не сомневаться.
Клуб украшен шелковыми драпировками, испещренными загадочными символами: кубками и мечами, солнцами и лунами, подсолнухами и циркулями, коронами и цепями. Все освещено косыми лучами цветного света и окурено странными смолистыми благовониями. На сцене две вереницы путников идут навстречу друг другу. Одна состоит из высоких, белокурых существ в переливчатых серых плащах поверх просторных зеленых одеяний с поясами из серебряных листьев. Их хрустальные крылья вспыхивают в переменчивом свете, длинные волосы украшены серебряными повязками, с которых на лоб свисают тонкие цепочки, оканчивающиеся самоцветами. Их предводитель в белом плаще с низко надвинутым капюшоном помавает длинным посохом.
На ногах у них сандалии и изящные сапоги из бледной кожи.
Другая группа одета в белое, лица скрыты золотыми и серебряными масками в виде солнца и луны, на головах венки из остролиста. Среди них мелькают голые люди с металлическими солнцами и полумесяцами, прикрывающими срам. Их ведет и представляет публике Бард:
Двадцать Четыре – в них Небесная Семья явилась – Едины в Нем Одном. О Божества и Человека Виденье, Иисус-Спаситель, будь благословен вовеки! Друг верный, Селси! Он всепоглощающим волнам Отчаянья предаст себя, но Эманация его воспарит Над наводненьем и прекрасным Чичестером назовется! Чу! Агнцев блеяние, крик птиц морских – то скорбь об Альбионе! А вот ужасное виденье: Винчестер, чтоб сыном Лоса Назваться, Альбиону посвятил себя и все богатства Свои несметные; и покорились Эманации его, Дабы назваться Энитармон дочерьми и вновь родиться, Из праха во плоти, под молотом, на ткальнях Алламанды С Боулахулой, где не умолкают стоны мертвецов. Я по-английски их зову: язык английский – грубая основа; Лос создал жесткую структуру языка, чтоб Альбион Не предавался меланхолии – отчаянью немому![284]
Бард выступает вперед:
– Восславим мифопоэтическое воображение Альбиона. Восславим Творцов, отказавшихся быть рабами чужих систем и создавших собственные, пробивших себе путь к Видению того, что лежит по ту сторону Языка, к вечным символам и немеркнущему Свету! Восславим семеричное видение Уильяма Блейка и истинного Иерусалима. Восславим Джона Рональда Руэла Толкина, который один создал эльфийские языки, мифологию Средиземья и земли по ту сторону Великого моря! Сейчас вы увидите Обряд и Заклинание, Призыв и Пляску, и кто знает, какие темные и светлые силы посетят наш круг, пока мы сплетаем из мощных нитей языка – текста и текстуры – уток и основу ткани, из которой будет скроен новый Плащ Мечтаний…
Люди на сцене под торжественный речитатив передают друг другу длинные блестящие нити. Эльфы поют песнь об Эарендиле и Луве[285]. Бард описывает работу Эманаций:
Мужское с Женским, разделившись, отделенные от Человека, Живут лишь для себя – Жена уже не Эманация для Мужа! Пока они кромсают ложным обрезаньем мозг, и сердце, И чресла Человека, разрастается вокруг Завеса – сеть кровавых вен, подобно багрянице…
Среди блестящих нитей проглядывают алые, один из Бардов крутится на месте, наматывая их на себя, как на бобину.
…От взора Человека их сокрыв под пеленою сна И превратив цветы Беулы в саван погребальный, Непроницаемый, на ощупь мягкий, но злотворный для объятий, Для смешения волокон нежных чувств, Где не сливается мужское с женским, где Возвышенное, Стенающее в муках, отторжено от Пафоса, Чтоб строить стены разобщенья, заставляя Пафос Ткать тайные завесы, укрывающие от мучений этих.
Эльфы поют об ужасах башни Ортханк и Минас-Моргула, о сетях Шелоб и об Оке, венчающем Барад-дур, но чей-то мягкий голос обещает, что узы будут разрублены, границы стерты и воздвигнется мост из радужного света.
Это хеппенинг, каких сейчас множество в каждом лондонском закутке. В роли верховного Барда – Ричмонд Блай. Фредерика и Алан Мелвилл пришли посмотреть из злорадного любопытства. Слово «хеппенинг» родилось из английского глагола «происходить», но что, собственно, происходит, как раз и непонятно от обилия дыма, спутанных нитей и взвихренных одежд. Слышно тоже не очень: одышливо ноют флейты, звенят колокольчики, да еще с парковки, примыкающей к зданию, глухо доносятся звуки барабанов и мотоциклетных моторов. Африканские барабаны, смутно думает Фредерика, гонги, тамбурины, медные тарелки… Шум нарастает, но причудливые создания продолжают свой задумчивый танец во славу мифопоэтического Альбиона. Раздается голос:
– Я Галадриэль, мне вверено Кольцо воды…
И тут притихший было шум со стоянки ударяет с новой силой, – видимо, те, кто его производит, проникли в помещение через подвал. Откуда-то из недр доносится ритмичный стук и топот.
– Не зря мы пришли, – говорит Алан. – Я знал, что будет интересно.
– Интересно – не то слово, – усмехается Фредерика.
Незваные гости толпой врываются в зал. Много голых и разрисованных: красной помадой выведены языки пламени, синилью – спирали и загогулины. У одних плакаты с вьетнамским монахом-буддистом: сидящая фигура в шафранном одеянии охвачена пламенем и уже клонится к каменной мостовой[286]. Другие несут на крепких шестах половины свиных голов, разрубленные сверху вниз, так что видны зубы, позвонки и мозг. Голые кидаются к сцене, начинается потасовка. Барабаны лупят все громче. Отобрав у эльфов флейты и колокольчики, голые заводят свою музыку. На авансцену выскакивает кто-то в черном, некий белокурый демон. Выхватывает у Барда микрофон:
– Нужен стих!
Демон оказывается Микки Бессиком.
– Заг грядет! Нужен стих!
Микки начинает нараспев:
Зрители, смеясь, подхватывают. Сквозь толпу, красивый и строгий, шагает Пол – Заг в белых атласных брюках и пестрой куртке шута. Взошел на сцену. За ним – «Зикотики» и прочие, все в белом атласе, в руках детские ванночки, розовые пластмассовые ванночки, в которых плещется какая-то темная жидкость.
Ричмонд Блай, в солнечной маске и белой хламиде, решительно выступает навстречу Загу, но запинается о микрофонный шнур и, едва устояв, произносит:
– Прошу прощения, но у нас серьезный ритуал…
– Знаю. Хеппенинг. Хиппининг. Яппенинг, тыппенинг, мыппенинг! Счастливый миг! Отдайся непредвиденному. Объявляю тебя почетным Зигги-Зикотиком!
Заг взмахом руки подзывает паству. На сцене становится тесно от свиных голов и горящих монахов, от поющих и пляшущих людей.
– Ты славный парень, – продолжает Заг. – И я тоже. Соединимся!
Девушка, чья нагота прикрыта лишь парой перышек да увядшим маком, погружает руки в розовую ванночку, где в темной крови плавают белесые свиные кишки. Заг воздевает над головой длинную кишку и принимается обматывать ее вокруг собственной шеи и шеи Ричмонда. Белые одежды покрываются алыми пятнами.
– Не надо, – бормочет Ричмонд, – я… я в обморок упаду…
– Хороший обморок тебе не повредит, – заявляет Микки. – Потеря сознания, растворение единицы во множестве…
– Нет, правда… – Блай слабо шевелит пальцами возле пухлого, в подтеках, ожерелья, никак не решаясь дотронуться.
– И маску долой, ты не Волшебник страны Оз! – Микки срывает с него маску; Пол – Заг улыбается с лицом трагического жреца.
Тем временем его поклонники хватают кишки и принимаются запихивать себе в брюки. Концы кишок выпускают наружу через расстегнутую ширинку. По белому атласу течет кровь.
Крупное лицо Ричмонда сперва желтеет, потом приобретает восковой цвет. Он грузно валится в обморок: не обманул. Лицом вниз, в лужу свиной крови. Раздаются смешки. Барабаны бьют, бьют, бьют – от этого весело, и смех волной расходится по залу.
– Хеппенинг! – вопит Микки. – Яппенинг-тыппенинг! Здесь нет зрителей, каждый – актер! Шевелитесь, жирдяи, пляшите!
– Все это ненастоящее, – говорит Фредерика.
– А свиные головы? А горящий монах? – возражает Алан.
– Ой, черт! Все, я побежала, надо няню отпустить. Смешно: в будущем никто и не подумает, что человек мог уйти с хеппенинга из-за няни.
К запаху крови, требухи и индийских благовоний понемногу примешивается запах горелого. Кажется, где-то горит краска…
Взрыв.
– Пожар! Пожар! Покиньте помещение!
Люди вопят и толкаются, барабаны бьют, бьют, бьют…
Позже выясняется, что в соседнем помещении кто-то поджег установленные по углам башенки книг, приготовленных для сожжения, и от жара рванула банка с акриловой краской. Фредерика стремглав бежит по лестнице в тучах дыма и струях пены из огнетушителей. Не взглянув на горящее здание, устремляется к метро: няня ждет. Спускается по глубоко и круто уходящему вниз эскалатору – это по нему сбежал навстречу смерти юный скульптор Стоун.
Народу на эскалаторах битком. Фредерика любит иногда разглядывать лица в метро, высматривать различия и сходства, улавливать мысли, а иногда – равнодушно глядит на белые пятна, плывущие мимо. Сегодня она не видит лиц, только поток белых пятен.
Вдруг снизу крик:
– Фредерика!
Из полумрака наплывает лицо. Это Джон, аккуратный, ухоженный, волосы такие светлые на фоне черного костюма и дождевика… Вот они поравнялись. Фредерика взрывается:
– Как ты мог?!
– Я испугался…
– Это не оправдание!
– Да, но это правда. Подожди меня внизу!
– Нет.
Фредерика в ярости, но, доехав донизу, начинает жалеть. Замедляется, поворачивает, бежит к эскалатору, идущему вверх. И снова они встречаются на полпути, Джон едет вниз.
– Я же сказал, подожди…
– А я сказала – нет. Но потом передумала.
И они уплывают каждый в свою сторону. На этой станции очень длинные эскалаторы, самые длинные в лондонском метро. Кажется, он снова крикнул: «Подожди!» – и она ждет, стоит у эскалатора и смотрит на лица, плывущие вверх в тусклом подземном свете. Лица все разные, а Джона нет и нет. Прождав долго, она опять едет вниз. Внизу тоже нет. А ведь няня ждет, нужно ее отпустить. Фредерика идет мимо киосков, дает монетку подземной певице, негромко выводящей пацифистскую песню: «Где же, где же все цветы?» Ждет на платформе, вперяясь в темноту под арочным сводом тоннеля, из которого тянет старой сажей. Думает о погибшем скульпторе, о живом Джоне.
В вагоне много свободных мест. Усевшись подальше от всех, Фредерика приходит к выводу, что сейчас – не ее время, что хеппенинг вещь интересная, но в целом – не то. Ее лицо тенью парит в темном окне, белое лицо с угрюмыми, темными, усталыми глазами, темней, чем на самом деле. Прозрачно-бледное лицо, призрачное, красивей и тоньше, чем живая плоть в зеркале. Фредерика смотрит себе в глаза и вдруг замечает в отражении кого-то еще. Кто-то стоит в отдалении, отраженный несколько раз, его лица наплывают одно на другое, накладываются, как маски из тонкой бумаги, но лицо одно, одно – это Джон. Фредерика несмело улыбается ему в темном стекле. Он отвечает такой же несмелой улыбкой. Фредерика, призрачно-рыжая, чуть поворачивает голову, он кивает. Шелест плаща, запах, сквозь сажу и табак, его волос, его самого. Фредерика не оборачивается. Глядя в стекло, говорит:
– Я научилась жить без тебя.
– В этом я не сомневался. Вопрос в том, сможешь ли ты жить со мной.
– Могу попробовать…
Руки встречаются, двое улыбаются теням на темном стекле.
В декабре, после стольких перипетий, в газетах выходит короткое сообщение: «Башня» победила. Апелляция удовлетворена: судья не сумел все разъяснить присяжным, заставил их разбираться в сложной книге без четких указаний.
«Апелляционный суд вынес решение в пользу издательства „Бауэрс энд Иден“ и Джуда Мейсона, автора книги „Балабонская башня: Басня для детей нашего времени“. Издательство подало апелляцию по одиннадцати основаниям. Суд отклонил большинство из них, но согласился с тем, что судья первой инстанции выказал пренебрежение к свидетелям-экспертам и не дал присяжным достаточных указаний касательно роли литературных достоинств произведения. „Предоставил им барахтаться как смогут“, – заметил один из судей апелляционной инстанции».
На газетных фотографиях Жако пьет шампанское с адвокатами. Джудовы фото все старые, новых не нашлось. Дэниел приносит газеты Джуду, по-прежнему занимающему его постель. Тот немного отъелся, к тому же Джинни снабдила его новой пижамой. Он садится и с непроницаемым лицом долго изучает статьи.
– Ну вот, все уладилось, – говорит Дэниел. – Можешь вставать, скоро будешь богат и знаменит.
– Не нужно мне ни того ни другого. Они меня до костей обгрызли. Ничего не нужно…
– Но теперь-то тебя оправдали!
– Одни осудили, другие оправдали. Говорили, говорили, разбирали меня, препарировали – мерзость!
– Ну, так или иначе, а пора тебе, друг мой, на выход.
– А куда я пойду? Вам бы следовало об этом подумать, прежде чем тащить меня сюда.
– Я-то как раз подумал. Я сказал тогда: оставайся, пока не полегчает. Тебе явно полегчало.
– Не уверен…
– Ничего, обтерпишься. Вставай-ка! Пойдем в паб, проставишься.
– Может быть. Я подумаю…
Трое друзей смотрели на груду костей: белых, недавно обглоданных черепов, ребер, лодыжек и запястий c приставшими тут и там лоскутками вареного мяса.
– Это кребы, – произнес Самсон Ориген. – Налетели, пировали, потом ушли.
– Ничего не трогайте, – отвечал Грим. – Если они вернутся, то поймут, что кто-то выжил.
– Пойдемте прочь, – сказал Турдус Кантор.
Где-то в лесу завыл зверь, в жарком голубом небе кружила большая птица. Три старика двинулись прочь, порой оглядываясь туда, где у подножия Башни мрачно высилась груда костей. Но вот уже глаз не мог различить, из чего она сложена, и стало казаться, что это свалены белые камни, поросшие кое-где мхом, а вокруг поблескивают бледные ракушки да галька. Трое все шли и шли. И если их не догнали кребы, то идут и поныне.
Благодарности
Улитки, устаревшие законы, этнометодология – когда я работала над этой книгой, меня занимало множество вещей, и я благодарна всем, кто подзадоривал и утолял мое любопытство. За подсказки в делах научных благодарю Стива Джонса, Стивена Роуза, Арнольда Файнстина, Фрэн Эшкрофт и Лоуренса Радзави. За юридические разъяснения – Ричарда дю Канна, Эндрю Пью, Стива Аглоу, Артура Дэвидсона, Радзи Мирескандари, Саймона Голдберга и Мэрион Бойарс. Лори Тейлор ввела меня в основы этнометодологии. Кармен Кэллил, Мартин Эшер, Стив Фаунтен, Джон Форрестер и Лиза Аппиньянези помогли глубже понять идеи и моды шестидесятых годов, а Джон Сазерленд – историю судебных процессов по делам о непристойных изданиях. Клодин Вассас и Даниэль Фабр открыли мне кладезь народных преданий о птицах и улитках. Отдельное спасибо Клодин за миф о птице зиз. Игнес Содре, Майкла Уортона, Жана-Луи и Анн Шевалье, моего мужа Питера Даффи, Дженни Аглоу и Джонатана Бёрнема благодарю за дар беседы. Рэндольф Квёрк и его коллеги из комиссии Джона Кингмана поделились идеями о языке. Указатели к «Деве в саду» и «Живой вещи», составленные Хейзел Белл, хоть и не задумывались как подспорье для автора, много послужили мне именно в этом качестве. Я глубоко благодарна всем моим студентам на литературных курсах в Кенсингтоне и Мэрилебоне. Джонатан Баркер был мне незаменимым советчиком по части чтения. Дэвид Ройл говорил со мной об искусстве шестидесятых и одалживал книги девяностых. Хелена Калетта и Джон Саумарез-Смит оказались не столько книготорговцами, сколько проводниками в моих книжных поисках. Перечислю здесь особенно пригодившиеся мне работы:
Jeff Nuttall Bomb Culture, Robert Hewison Too Much, Richard Neville Playpower, Bernice Martin A Sociology of Contemporary Cultural Change, James Britton Language and Learning.
Благодаря статье Брайана Кларка «О причинах биологического разнообразия» я обратила внимание на слова сэра Томаса Брауна о человеческих лицах, алфавитах и разнообразии того и другого. К авторам, чьи идеи изменили мое мировоззрение в шестидесятых и остаются актуальны для меня и поныне, относятся Айрис Мердок, Дорис Лессинг и Джордж Стайнер. Я ненадолго позаимствовала персонажа одной из книг Мердок шестидесятых годов. Спасибо Хамфри Стоуну за оформление текста и виньетки с улитками. Особое спасибо Элизабет Аллен за юридические и архивные исследования на тему непристойных публикаций, убийств на пустошах, разводов. Я благодарна Джилл Марсден, которая работала над рукописью этой книги и все держала в порядке. Я, как и всегда, не знаю, что бы я делала без Лондонской библиотеки.
Любые ошибки в этой книге исключительно на моей совести.
Сноски
1
У Природы, говорите вы, есть лишь один голос, и он обращен ко всем людям. Почему же тогда люди мыслят по-разному? Ведь выходит, что все должны пребывать в единодушии и согласии, и согласие это отнюдь не в угоду людоедству (фр.).
(обратно)2
«Сумерки идолов» (перев. Н. Полилова).
(обратно)3
Единственный пункт устава Телемского аббатства в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1564); оккультист Алистер Кроули (1875–1947) сделал это правило своим девизом. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)4
Человек человеку бог, человек человеку волк (лат.).
(обратно)5
«Ошейником» называют белый пастырский воротник, часть одеяния англиканского священника.
(обратно)6
Ср.: «Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: „Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв“» (Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра». Перев. Ю. Антоновского под ред. К. Свасьяна).
(обратно)7
Пс. 13: 1.
(обратно)8
Аномия – переходное состояние общества, когда старая система норм и ценностей разрушена, а новая еще не сложилась; термин введен философом и социологом Э. Дюркгеймом (1858–1917).
(обратно)9
Turdus cantor (лат.) – певчий дрозд.
(обратно)10
Сэмюэл Палмер (1805–1881) – британский художник-пейзажист.
(обратно)11
У. Водсворт. «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. Ода». Дж. Китс. «Ода соловью».
(обратно)12
«Howards End» (1910) – роман британского писателя Э. М. Форстера (1879–1970).
(обратно)13
Опубликованный в 1963 г. трактат английского теолога Джона Робинсона (1919–1983).
(обратно)14
Пс. 138: 14.
(обратно)15
Первая строка – она же название – стихотворения Д. Томаса (1914–1953). Перев. П. Грушко.
(обратно)16
Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (перев. Н. Рахмановой).
(обратно)17
Ср.: «Только соединить! Вот весь смысл ее проповеди. Только соединить прозу и страсть, и обе они возвысятся, и любовь человеческая предстанет во всем своем блеске. Больше никаких обломков. Только соединить – и животное и монах, способные существовать лишь порознь, тут же уничтожатся…» (Э. М. Форстер. «Говардс-Энд». Гл. 22).
(обратно)18
Выражение, встречающееся в нескольких произведениях У. Блейка.
(обратно)19
Из элегии Дж. Донна «Странствие души» (1612).
(обратно)20
Единая средняя школа – получившее распространение со второй половины 1960-х гг. учебное заведение, которое объединяло существовавшие прежде классическую, техническую и среднюю современную школы. В отличие от прежних типов школ учащиеся принимаются в единую среднюю без вступительных экзаменов и обучаются сначала по общей программе, затем – с учетом их склонностей – по специализированным.
(обратно)21
Рейчел Карсон (1907–1964) – американская публицистка, биолог, известная своими работами на тему охраны природы. В ее книге «Silent Spring» («Безмолвная весна», 1962) изучается воздействие на окружающую среду ДДТ и других пестицидов.
(обратно)22
Персонажи романа Джордж Элиот «Даниель Деронда» (1876).
(обратно)23
Обада – утренняя серенада.
(обратно)24
На первый взгляд (лат.).
(обратно)25
«Дворец Искусства» (1832) – поэма А. Теннисона. Начало поэмы: «Построил я душе дворец прекрасный, / Чтоб жизнь ей легку уготовить. / Сказал я: „Веселись, душа, и празднуй, / Пируй: все хорошо ведь“» (перев. Э. Соловковой).
(обратно)26
«Шестым классом» условно называются два года подготовки к поступлению в университет; это высшая ступень английской средней школы (12–13 годы обучения).
(обратно)27
Ср.: «Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли» (У. Шекспир. Гамлет. Перев. Б. Пастернака).
(обратно)28
Поэма Кристины Росетти (1859).
(обратно)29
Перев. Д. Псурцева.
(обратно)30
Моды – британская субкультура 1960-х гг. Отличительные черты – подчеркнуто стильная одежда, пренебрежение социальными нормами, вражда с мотоциклистами-рокерами.
(обратно)31
Пит Таунсенд (р. 1945) – британский гитарист и певец, автор песен, лидер группы The Who.
(обратно)32
Фрэнк Рэймонд Ливис (1895–1978) – влиятельный английский литературный критик, представитель социокультурного направления в литературоведении.
(обратно)33
Намек на серию скандалов на сексуальной почве, в которых оказались замешаны ведущие деятели Консервативной партии.
(обратно)34
Александр Фредерик Дуглас-Хьюм (1903–1995) – политик-консерватор, в 1963–1964 гг. премьер-министр Великобритании.
(обратно)35
Устарелое (фр.).
(обратно)36
«Улыбки летней ночи» (1955) – название фильма Ингмара Бергмана.
(обратно)37
Имеется в виду роман-антиутопия Олдоса Хаксли, «О дивный новый мир» (1931), действие которого происходит в 2054 г. В изображенном в романе обществе популярен легкий наркотик «сома».
(обратно)38
Предвзятый (фр.).
(обратно)39
Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)40
С надлежащими изменениями (лат.).
(обратно)41
Джеймс Гарольд Вильсон (1916–1995) – лидер Лейбористской партии, в 1964–1970 и 1974–1976 гг. премьер-министр Великобритании.
(обратно)42
Здесь: сентиментальность (нем.).
(обратно)43
Персонажи романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813).
(обратно)44
Герой романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847).
(обратно)45
«Сказка о мистере Тоде» (1912) – книга Беатрикс Поттер.
(обратно)46
Паровозик Томас – главный герой серии сказок Уилберта и Кристофера Одри, публикующейся с 1945 г.
(обратно)47
Перев. Пайлиш.
(обратно)48
«Колокола и гранаты» (1841–1846) – название серии сборников пьес и драматических поэм Роберта Браунинга (1812–1889).
(обратно)49
Известный детский стишок:
Да прелестные резвушки.
(обратно)50
Строка из детского стишка «Был у меня орешник».
(обратно)51
Сесил Скотт Форестер (1899–1966) – английский писатель и военный историк, прославившийся циклом романов о приключениях капитана Хорнблауэра.
(обратно)52
«Счастливые семьи» – детская карточная игра особыми картами с изображениями людей; играющие располагают их по «семьям».
(обратно)53
Сумерки (фр., нем.).
(обратно)54
«В сумерках, в стране любви, в кустах…» (нем.). Эта строка в корпусе произведений Генриха Гейне не обнаружена.
(обратно)55
Персонаж романа Дафны Дюморье «Ребекка» (1938), экономка в доме Максимилиана де Винтера, враждебно настроенная к его новой жене.
(обратно)56
Рейксмузеум – художественный музей в Амстердаме.
(обратно)57
Злорадство (нем.).
(обратно)58
Роман Лоренса Даррелла (1957), первая часть тетралогии «Александрийский квартет» (действие всех четырех романов происходит в Александрии).
(обратно)59
Здесь и далее перев. К. Свасьяна.
(обратно)60
В английском языке слово mummy или Mommy (мамочка) созвучно слову mummy (мумия).
(обратно)61
«Ты победил, о бледный галилеянин! / Мир поседел от твоего дыханья!» (А. Ч. Суинберн. «Гимн Прозерпине»).
(обратно)62
«О строгая весталка тишины, / Питомица медлительных времен…» (Дж. Китс. «Ода греческой вазе». Перев. Г. Кружкова).
(обратно)63
История Прозерпины упоминается в монологе Утраты в пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка».
(обратно)64
«И я жил (родился) в Аркадии» (лат.). Традиционно – надпись на гробнице, посмертное воспоминание о счастливых днях, выражение, сходное по значению с «Memento mori» («Помни о смерти»).
(обратно)65
Букв.: В мире (лат.). В некоторых средневековых монастырях так называли карцеры, куда заточали особо провинившихся монахов до конца жизни («глухой покой»).
(обратно)66
Тот С Топором – прозвище неизвестного убийцы-маньяка, действовавшего в Новом Орлеане в 1918–1919 гг.
(обратно)67
Генри Крэбб Робинсон (1775–1867) – английский юрист и публицист.
(обратно)68
Из ничего (лат.).
(обратно)69
Возникшее в 1960-е гг. движение, развивающее идеи Ф. Ницше и М. Хайдеггера.
(обратно)70
Возникшее в конце 1950-х гг. в ряде христианских исповеданий течение, требующее возвращения в церковную практику «даров Духа» (экстатические пророчества и пр.).
(обратно)71
Дело Профьюмо – политический скандал начала 1960-х гг. Военный министр Великобритании Джон Профьюмо (1915–2006), обвиненный в сексуальной связи с танцовщицей и моделью Кристин Килер (1942–2017), отрицал эту связь, однако под напором предъявленных доказательств был вынужден ее признать. Дело осложнялось тем, что в то же время у Килер была связь с помощником советского военно-морского атташе Евгением Ивановым (1926–1994).
(обратно)72
Образ из стихотворения У. Блейка «Иерусалим» (вступление к поэме «Мильтон»). «Есть лук желанья золотой / И стрелы страсти у меня. / Пусть тучи грозные примчат / Мне колесницу из огня!» (перев. С. Маршака).
(обратно)73
Викка – неоязыческий культ, сторонники которого утверждают, что он ведет свое начало от древнего ведовства.
(обратно)74
«Раундхаус» – культурный центр в Лондоне, где размещаются библиотека, концертный зал, кинотеатр и картинная галерея.
(обратно)75
Успех у критики (фр.).
(обратно)76
М. Маклюэн. «Понимание медиа» (перев. В. Николаева).
(обратно)77
Строка из популярной шуточной песни «Mad Dogs and Englishmen» (1931) английского драматурга, режиссера, актера и певца Ноэла Кауарда. В песне рассказывается, как спасаются от полуденного зноя жители южных стран. Рефрен песни: «На солнце остаются в жаркие часы / Только англичане да бешеные псы».
(обратно)78
Рыжая (фр.).
(обратно)79
Кассуле – рагу с мясом и фасолью.
(обратно)80
За неимением лучшего (фр.).
(обратно)81
«Для вас, мужчин, любовь – побочный эпизод; / Для женщин – жизнь сама. Мужчина – это воин» (Дж. Байрон. «Дон Жуан». Перев. Г. Шенгели).
(обратно)82
Бессонные ночи (фр.).
(обратно)83
«Мэнсфилд-парк» (1814) – роман Джейн Остин.
(обратно)84
Программа, посвященная поп-музыке, выходившая на Би-би-си в 1964–2006 гг.
(обратно)85
Мэнди Райс-Дэвис (Мэрилин Форман, 1944–2014) – приятельница Кристин Килер, замешанная в деле Профьюмо.
(обратно)86
Бробдингнег – страна великанов в романе Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1726).
(обратно)87
«Певзнеровские путеводители по архитектуре» – серия книг по архитектуре Великобритании, издававшаяся в 1951–1974 гг.
(обратно)88
Эрик Гилл (1882–1940) – английский скульптор и гравер.
(обратно)89
Строки из стихотворения У. Стивенса «Питер Квинс у клавира» (1915).
(обратно)90
Строки из стихотворения А. Ч. Суинберна «Сад Прозерпины» (1866).
(обратно)91
Здесь и далее – У. Блейк. «Бракосочетание Рая и Ада» (перев. А. Сергеева).
(обратно)92
У. Блейк. «Иерусалим» (перев. Д. Смирнова-Садовского).
(обратно)93
У. Блейк. «Иерусалим» (перев. Д. Смирнова-Садовского).
(обратно)94
Библейский Навуходоносор изображен на цветной гравюре У. Блейка.
(обратно)95
Антонен Арто (1896–1948) – французский писатель, драматург, режиссер, актер, художник, разработавший концепцию «театра жестокости»: он говорил о действенности жестоких образов, «гипнотизирующих» чувственность зрителя.
(обратно)96
Гленда Джексон (1936–2023) – английская актриса, активистка, политический деятель.
(обратно)97
Пьеса немецкого драматурга Петера Вайса, полное название которой приведено в тексте, была написана в 1963 г. и поставлена в Лондоне английским режиссером Питером Бруком в 1964 г. Вошла в историю театра как наиболее точное воплощение принципов «театра жестокости».
(обратно)98
Cavern Club – знаменитый ливерпульский клуб, где, в частности, начинали свою карьеру «Битлз».
(обратно)99
Спайк Миллиган (1918–2002) – ирландский писатель, поэт, актер и музыкант, автор комических сказок и стихов для детей.
(обратно)100
Анайрин Беван (1897–1960) – британский политик из Уэльса, лейборист, создатель Национальной системы здравоохранения Великобритании, придерживался социалистическх взглядов.
(обратно)101
Здесь и далее – У. Блейк. «Бракосочетание Рая и Ада» (перев. А. Сергеева).
(обратно)102
Ф. Ницше. «По ту сторону добра и зла» (перев. Н. Полилова).
(обратно)103
Воля к власти (нем.).
(обратно)104
Всеобщий праязык (нем.).
(обратно)105
Деян. 2.
(обратно)106
Роман Осипович Якобсон (1896–1982) – российский и американский языковед и литературовед.
(обратно)107
Фердинанд де Соссюр (1857–1913) – швейцарский лингвист, заложивший основы структурной лингвистики и семасиологии.
(обратно)108
Наум Хомский (р. 1928) – американский лингвист, публицист и философ. Основоположник порождающей (генеративной) грамматики.
(обратно)109
Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра» (перев. Ю. Антоновского под ред. К. Свасьяна).
(обратно)110
Слова Иисуса, обращенные к апостолу Петру в Гефсиманском саду: «Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?» (Мк. 14: 37).
(обратно)111
«О, Даниил здесь судит, Даниил! // Почет тебе, о мудрый судия!» (У. Шекспир. «Венецианский купец». Акт IV, сц. 1. Перев. Т. Щепкиной-Куперник). Имеется в виду библейский пророк Даниил, который своим мудрым решением оправдал в суде невинно оклеветанную Сусанну.
(обратно)112
«Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его» (Песн. 3: 2). Смитфилд – район Лондона, где с X в. располагается одноименный мясной рынок.
(обратно)113
Глокеншпиль – ударный музыкальный инструмент, напоминающий ксилофон.
(обратно)114
Целиком (лат.).
(обратно)115
Пикники (фр.).
(обратно)116
Д. Г. Лоуренс. «Влюбленные женщины» (перев. В. Бернацкой).
(обратно)117
Цветы зла (фр.).
(обратно)118
«Смерть в Венеции» («Der Tod in Venedig», 1912) – повесть Томаса Манна. «Тошнота» («La Nausée», 1938) – роман Жан-Поля Сартра. «Замок» («Das Scloss», 1926) – роман Франца Кафки.
(обратно)119
Д. Г. Лоуренс. «Почему так важен роман» (1936).
(обратно)120
Роман Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», частным порядком напечатанный в 1928 г. в Италии, был в Великобритании запрещен к публикации в полном варианте и распространялся только в «подцензурной» сокращенной версии. После первого издания в Англии полной версии (1960) издатели были привлечены к суду в соответствии с законом о непристойных публикациях, но были судом оправданы.
(обратно)121
«Naked Lunch» (1959) – роман Уильяма Берроуза.
(обратно)122
Ф. Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки». Этот образ взят из приведенной у Ницше цитаты из труда А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Principium individuationis (лат.) – принцип индивидуации.
(обратно)123
Д. Г. Лоуренс. «Почему так важен роман».
(обратно)124
«Все в мире существует для того, чтобы завершиться книгой» (фр.). (С. Малларме. «Книга».)
(обратно)125
Герои романа Дж. Элиот «Мидлмарч» (1872).
(обратно)126
Ф. Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» (перев. Г. Рачинского).
(обратно)127
Кингсли Эмис (1922–1995), Джон Уэйн (1925–1994), Джон Брейн (1922–1986) – английские писатели, представители направления, известного как «сердитые молодые люди», отрицающего буржуазные ценности.
(обратно)128
«Lucky Jim» (1954) – роман Кингсли Эмиса.
(обратно)129
«Герметический орден Золотой Зари» – оккультная организация, действовавшая в конце XIX – начале XX в.; одно время в ней состоял Алистер Кроули.
(обратно)130
Существует несколько портретов С. Палмера, выполненных его зятем, художником Джоном Линнеллом (1792–1882).
(обратно)131
Роберт Эрнест Милтон Раушенберг (1925–2008) – американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а позднее поп-арта.
(обратно)132
Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский художник голландского происхождения, один из основоположников абстрактного экспрессионизма. Речь идет о том, как в 1953 г. Раушенберг стер карандашный рисунок де Кунинга и объявил это собственным произведением на том основании, что любой творческий акт может считаться произведением искусства.
(обратно)133
Джеймс Энсор (1860–1949) – бельгийский график и живописец, близкий к экспрессионизму.
(обратно)134
Энграмма – термин немецкого биолога Рихарда Земона, означающий физический «отпечаток» памяти в организме.
(обратно)135
Планарии – отряд плоских червей.
(обратно)136
«Когда же они были там в Вифлееме, наступило время родить Ей; и родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2: 6–7).
(обратно)137
Второй день Рождества, когда празднующие обмениваются подарками.
(обратно)138
Дьердь Лукач (1885–1971) – венгерский литературовед и философ марксистского направления.
(обратно)139
Worm Runner’s Digest – журнал, издававшийся в 1959–1979 гг. американским биологом Джеймсом Макконеллом, где серьезные статьи соседствовали с псевдонаучными мистификациями.
(обратно)140
Берта Рочестер – персонаж романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847).
(обратно)141
Мф. 16: 25.
(обратно)142
Повивальная бабка (фр.).
(обратно)143
Откр. 12: 1.
(обратно)144
Cul vert (фр.) – зеленый зад.
(обратно)145
Откр. 17.
(обратно)146
Совмещение двух цитат: Ис. 1: 18 и Откр. 7: 14.
(обратно)147
Ананке – богиня судьбы в древнегреческой мифологии.
(обратно)148
Сиринга – многоствольная флейта, «флейта Пана».
(обратно)149
Мильфей – слоеный торт с глазурью.
(обратно)150
Силлабаб – десерт из взбитых сливок с вином.
(обратно)151
Дариоль – разновидность сливочного крема.
(обратно)152
Гастрософия – совокупность правил, устанавливающая разумное пользование пищей и напитками без вреда для здоровья.
(обратно)153
Франжипани – ореховый крем с миндалем.
(обратно)154
Суккоташ – похлебка из фасоли и кукурузы.
(обратно)155
Имеется в виду поэма У. Шекспира «Венера и Адонис».
(обратно)156
Образ из поэмы Э. Спенсера «Королева фей».
(обратно)157
В трагедии Еврипида «Елена» (412 до н. э.) Парис похитил созданный Герой призрак Елены, тогда как настоящую Елену Гермес перенес в дом Протея в Египет, где она провела 17 лет. Эта версия восходит к поэме «Елена» древнегреческого поэта Стесихора (VII–VI вв. до н. э.).
(обратно)158
Екк. 1: 15.
(обратно)159
Цицерон. «Тускуланские беседы». В переводе М. Гаспарова: «Есть такая сказка и о Силене: когда он попался в плен к Мидасу, то, говорят, за свое вызволение он вознаградил царя таким поучением: „Самое лучшее для человека – совсем не родиться, а после этого самое лучшее – скорее умереть“».
(обратно)160
В твои руки (лат.). Ср.: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23: 46).
(обратно)161
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).
(обратно)162
Фредерик Уильям Роуф (1860–1913) – английский поэт, прозаик и переводчик, писавший под псевдонимом Барон Корво.
(обратно)163
Здесь и далее перевод Р. Райт-Ковалевой.
(обратно)164
У. Блейк. «Ветхий денми» («Великий Архитектор»). Гравюра, изображающая Юризена, одного из главных богов в мифологическом пантеоне Блейка, творца Вселенной.
(обратно)165
Персонаж поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590), женщина-воин.
(обратно)166
Джон Мартин (1789–1854) – английский художник и гравер, один из основоположников романтизма в английской живописи, известный, в частности, своими иллюстрациями к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай».
(обратно)167
Здесь и далее – перев. В. Микушевича.
(обратно)168
Термин З. Фрейда: предрасположенность одновременно к разным видам извращенности в младенческом возрасте.
(обратно)169
Ф. Ницше. «По ту сторону добра и зла» (перев. Н. Полилова).
(обратно)170
Персонажи сказочной повести Джона Барри «Питер Пэн и Венди» (1911).
(обратно)171
Мюриэл Сара Спарк (1918–2006), Дэвид Малькольм Стори (1933–2017) – английские писатели.
(обратно)172
Имеется в виду стихотворение А. Теннисона «Мариана» (1830), где изображена томящаяся в заточении героиня пьесы У. Шекспира «Мера за меру».
(обратно)173
«Он любил, он боялся любить» (лат.). Источник выражения англоязычными комментаторами Форстера не установлен.
(обратно)174
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11: 25).
(обратно)175
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею» (Быт. 9: 13).
(обратно)176
Имеется в виду финал оперы Р. Вагнера «Золото Рейна» (1852). «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» (1878) – трактат Ф. Ницше.
(обратно)177
«Артегалл, рыцарь Справедливости» – персонаж поэмы Э. Спенсера «Королева фей».
(обратно)178
В романе Форстера упоминается вяз, в ствол которого воткнуты кабаньи зубы. Кора этого вяза, согласно местным поверьям, считалась лучшим средством от зубной боли.
(обратно)179
Леонард Баст – персонаж романа «Говардс-Энд».
(обратно)180
Мана – принятое в этнографии обобщенное обозначение сверхъестественной силы, которой обладают некоторые люди и предметы.
(обратно)181
«Овал» – стадион для крикета в Лондоне, и так же называется расположенная рядом станция метро.
(обратно)182
Имеется в виду литературное мероприятие под названием «Международное воплощение поэзии», состоявшееся 11 июня 1965 г. в Ройял-Альберт-Холле в Лондоне. В мероприятии участвовали такие яркие представители контркультуры 1960-х гг., как Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, Уильям Берроуз, Эдриен Митчелл.
(обратно)183
Марсия Уильямс (Марсия Матильда Фалькендер, 1932–2019) – секретарь (1956–1964) Гарольда Вильсона, а в 1964–1970 гг. и 1974–1976 гг., когда он занимал пост премьер-министра, его политический секретарь.
(обратно)184
Патрик Херон (1920–1999) – британский художник-абстракционист.
(обратно)185
(Агнец Божий), берущий на себя грехи мира (лат.) – часть молитвы из католического богослужения.
(обратно)186
Так называемые Олдермастонские походы стали важной частью антивоенного движения в Англии. Началось все с того, что 4 апреля 1958 г., на Пасху, несколько тысяч человек, представлявших самые разные политические профсоюзные, общественные, культурные и религиозные организации, начали четырехдневный поход к научно-исследовательскому ядерному центру в Олдермастоне, расположенном в 70 км к западу от Лондона. Цель похода состояла в том, чтобы выразить требование широких масс о полном запрещении ядерного оружия и одностороннем отказе Англии от него.
(обратно)187
Отрывок из пьесы «Второй брат» английского драматурга и поэта Томаса Ловелла Беддоуса (1803–1849).
(обратно)188
Из трактата «Вероисповедание врачевателей» (1643) английского врача и писателя Томаса Брауна (1605–1682).
(обратно)189
Узнала тотчас я зловещий жар, разлитый / В моей крови, – огонь всевластной Афродиты (фр.). Ж. Расин. «Федра». Действие первое, явление второе. Перев. М. Донского.
(обратно)190
После соития (лат.).
(обратно)191
У. Шекспир. «Зимняя сказка». Акт IV, сцена 3. Перев. В. Левика.
(обратно)192
Злорадство (нем.).
(обратно)193
Дж. Мильтон. «Люсидас». В переводе Ю. Корнеева: «Слепая фурия рукой узлистой / Нить краткой жизни обрывает…»
(обратно)194
Уильям Сьюард Берроуз (1914–1997) – американский писатель, один из крупнейших представителей бит-поколения. Широко применял в своем творчестве «метод нарезок» (монтажа фрагментов из разнородных текстов).
(обратно)195
«История „Доктора Фаустуса“. Роман одного романа» (перев. С. Апта).
(обратно)196
Цит. по: Р. Д. Лэнг. Расколотое «Я». М.: Изд. центр «Академия»; СПб.: Белый кролик, 1995. Рональд Дэвид Лэйнг (вар.: Лэнг; 1927–1989) – известный шотландский психиатр, носитель левых взглядов, «кислотный марксист».
(обратно)197
Ф. Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» (перев. А. Михайлова).
(обратно)198
С. Беккет. «В ожидании Годо» (перев. О. Тархановой).
(обратно)199
У. Блейк. «Бракосочетание Рая и Ада» (перев. А. Сергеева).
(обратно)200
Вечер 5 ноября, когда по традиции отмечается раскрытие «Порохового заговора» 1605 г. (задуманной католиками попытки взрыва парламента, где должен был присутствовать король Яков I). Сопровождается фейерверками и сожжением на костре чучела главаря заговора Гая Фокса. Для сбора средств на организацию праздника дети накануне таскают по улицам чучело Гая Фокса и просят у прохожих «монетку для старика Гая».
(обратно)201
Талидомид – транквилизатор, выпускавшийся с 1956 г. немецкой фармацевтической компанией «Хеми Грюненталь» и особенно рекомендовавшийся беременным. Отозван с рынка в 1962 г. после громкого скандала: выяснилось, что препарат часто приводит к врожденным уродствам.
(обратно)202
Персонажи сказок Элисон Аттли (1884–1976).
(обратно)203
Пауль Йоханнес Тиллих (1886–1965) – американский богослов немецкого происхождения, представитель диалектической теологии.
(обратно)204
Строки из популярной застольной песни на слова Роберта Бёрнса «Забыть ли старую любовь» (перев. С Маршака).
(обратно)205
Отсылка к описаниям цветов, введенным Гомером.
(обратно)206
Здесь: мой дорогой полковник (фр.).
(обратно)207
Отсылка к посвящению неизвестному человеку, которым Шекспир снабдил издание «Сонетов» 1609 г.
(обратно)208
Отсылка к «Четырем квартетам» британского поэта Т. С. Элиота (1888–1965). Здесь в переводе С. Степанова.
(обратно)209
Филип Тойнби (1916–1981) и Сирил Конноли (1903–1974) – авторитетные британские критики и писатели.
(обратно)210
Негромко (ит.).
(обратно)211
«Кондитерская Нанетт» (фр.).
(обратно)212
Жан Жене (1910–1986) – французский литератор и политический активист, чей интерес к природе преступления и бунта привел к запрету его книг в ряде стран. Жене не боялся нарушать закон, порой жил бродячей жизнью.
(обратно)213
Кризис веры (фр., искаж.).
(обратно)214
Полнокровная, аппетитная полнота (фр.).
(обратно)215
Тимоти Лири (1920–1996) – американский психолог и общественный деятель, проповедовавший пользу психоделических веществ.
(обратно)216
«Горменгаст» – условное название сюрреалистическо-фэнтезийной трилогии британского писателя и художника Мервина Пика (1911–1968) о Титусе Гроане: «Титус Гроан» (1946), «Горменгаст» (1950), «Титус один» (вар.: «Одиночество Титуса»; 1959).
(обратно)217
Единственная в своем роде (лат.).
(обратно)218
Джон Рёскин (1819–1900) – крупный британский искусствовед, художник и филантроп, член братства прерафаэлитов.
(обратно)219
Уильям Голдинг (1911–1993) – британский писатель, поэт и драматург. Цитируется его эссе конца 1950-х гг. «Притча», отвечающее на типичные вопросы о его знаменитом романе «Повелитель мух» (1953) и основанное на его лекциях в Лос-Анджелесском университете Калифорнии.
(обратно)220
Альфред Альварес (1929–2019) – британский поэт, писатель и литературный критик, открывший читателю творчество Сильвии Платт и Теда Хьюза.
(обратно)221
Перев. Ю. Корнеева.
(обратно)222
Герма – в Античности колонна с навершием в виде бюста двуликого Гермеса.
(обратно)223
То есть поэмы «Кубла-Хан, или Видение во сне» (1816) С. Т. Кольриджа, «Баллада о Старом Мореходе» (1798) его же, «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. Ода» (1807) У. Вордсворта, «Падение Гипериона» (напис. 1820–1821; опубл. 1856) Дж. Китса.
(обратно)224
Пятидесятничество – одно из протестантских направлений христианства.
(обратно)225
Квакер (quaker) по-английски означает «трепещущий».
(обратно)226
Дэвид Хокни (р. 1937) – крупный британский художник, один из первых представителей поп-арта.
(обратно)227
Cul vert (фр.) – «зеленая задница».
(обратно)228
Отсылка к стихотворению британского поэта-абсурдиста Эдварда Лира (1812–1888).
(обратно)229
Тишина, молчание (лат.).
(обратно)230
Перев. Г. Кружкова.
(обратно)231
Измененная Фредерикой строка из англиканской венчальной службы.
(обратно)232
Старинная песенка, которую сейчас поют на Рождество, не имеет единого размера, а строки могут повторяться в разном порядке. У нее не только христианские корни, и толкуются они по-разному. Например, «сорванцы» могут означать близнецов Кастора и Полидевка из греческих мифов, а «соперники» (rivals) считается искаженным «wisers» или «riders», то есть отсылкой к трем волхвам в христианстве. Тростник может быть отголоском традиции, по которой в дни некоторых церковных праздников распятия и статуи в церкви обвязывали охапками тростника, чтобы скрыть их от взоров. Есть и другие трактовки.
(обратно)233
Последнее четверостишие – из стихотворения Уолтера Рэли (1554–1618) «Последнее странствие», здесь в переводе Г. Кружкова.
(обратно)234
Имя Питер происходит от греческого слова πέτρα (камень), фамилия Стоун тоже означает «камень».
(обратно)235
Строки из «Поэмы Тэль» Уильяма Блейка в переводе С. Маршака.
(обратно)236
Здесь и далее отрывки из «Властелина колец» в переводе В. Муравьева и А. Кистяковского.
(обратно)237
«У Виктора» (фр.).
(обратно)238
Отсылка к опере «Валькирия» Рихарда Вагнера (1813–1883).
(обратно)239
Джон Лэтем (1921–2006) – британский художник-концептуалист, сжигавший книги в борьбе с «излишним преклонением перед миром печати».
(обратно)240
Славься, Загрей! (гр.)
(обратно)241
Здесь: точное определние (фр.).
(обратно)242
Отсылка к евангельской теме искушения Христа.
(обратно)243
Ср.: «…Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя…» (Пс. 90: 11–12).
(обратно)244
Непременное условие (лат.).
(обратно)245
Отсылка к «Королю Лиру».
(обратно)246
За неимением лучшего (фр.).
(обратно)247
Перев. В. Топорова.
(обратно)248
Имеется в виду британский философ А. Дж. Эйер (1910–1989), гуманист, сторонник логического позитивизма.
(обратно)249
Стихи приведены автором в несколько измененном виде, между седьмой и восьмой строкой выпущен большой отрывок.
(обратно)250
Отсылка к роману Чарльза Кингсли (1819–1875) «Дети вод» (вар.: «Дети воды»; 1863) об острове утонувших детей.
(обратно)251
Перев. Г. Кружкова.
(обратно)252
Шенди – смесь пива с имбирным лимонадом.
(обратно)253
Здесь: в роли отца (лат.).
(обратно)254
Отсылка к изображению на монете времен королевы Виктории (1819–1901). Королева представлена на ней в виде Уны, одной из героинь «Королевы фей» Эдмунда Спенсера (1552–1599).
(обратно)255
В английском и русском языке значения слов «obscene» и «непристойный» совпадают не полностью.
(обратно)256
«Самаритяне» – благотворительная организация, предоставляющая моральную поддержку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, имеет свой телефон доверия.
(обратно)257
«Ареопагитика: Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии» (1644) здесь и далее цитируется по русскому переводу 1905 г., опубликованному без указания переводчика.
(обратно)258
Джордж Герберт (1593–1633) – валлийский поэт и оратор.
(обратно)259
Микки Спиллейн (1918–2006) – американский писатель, автор «крутых» детективов.
(обратно)260
«Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества» – анонимно изданный в 1729 г. сатирический памфлет Джонатана Свифта с предложением продавать детей ирландских бедняков для употребления в пищу аристократией. Само название «Скромное предложение» стало в английском языке крылатой фразой для обозначения подобной сатиры. Русский перевод впервые издан в 1955 г.
(обратно)261
Идиллическая картина Жан-Антуана Ватто (1684–1721), выдающегося французского художника, одного из основоположников стиля рококо.
(обратно)262
Симона де Бовуар (1908–1986) – французская писательница, феминистка и философ экзистенциалистских взглядов.
(обратно)263
Гюстав Моро (1826–1898) – французский художник-символист. На упомянутой картине – «Эдип и Сфинкс» (1864) – сфинкс с женским телом льнет к Эдипу.
(обратно)264
«Путь паломника» (вар.: «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну»; 1678) – нравоучительная аллегория английского проповедника Джона Беньяна (1628–1688).
(обратно)265
«Коралловый остров» (1857) – робинзонада английского писателя Роберта Баллантайна (1825–1894).
(обратно)266
Отрывок из труда Ницше «По ту сторону добра и зла» (перев. Н. Полилова).
(обратно)267
Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)268
Падежная форма французского слова «Бог» и восклицание типа «Клянусь Богом!».
(обратно)269
Mason (англ.) – каменщик.
(обратно)270
Ричард Крошоу (1616–1649) – английский религиозный поэт.
(обратно)271
Перев. Н. Воронель.
(обратно)272
Свенгали – зловещий гипнотизер, персонаж романа Джорджа Дюморье «Трильби» (1894).
(обратно)273
Ср.: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 41).
(обратно)274
Морис Жиродиа (1919–1990) – основатель французского издательства «Олимпия», специализировавшегося на литературе, запрещенной цензурой в Англии и Америке.
(обратно)275
Юлиана Нориджская (1342 – ок. 1416) – английская религиозная писательница мистического толка.
(обратно)276
Перев. А. Сергеева.
(обратно)277
Кассиус Клей – настоящее имя боксера Мухаммеда Али (1942–2016).
(обратно)278
Стокли Кармайкл (1941–1998) – американский борец за права чернокожих, один из идеологов панафриканизма.
(обратно)279
Герберт Маркузе (1898–1979) – немецкий и американский философ и социолог.
(обратно)280
Дэвид Купер (1931–1986) – психиатр родом из Южной Африки, видный представитель антипсихиатрии.
(обратно)281
Название клуба «UFO» расшифровывалось двояко: 1) unknown flying object – неопознанный летающий объект; 2) unlimited freakout – неограниченный улет.
(обратно)282
«Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459» (1616) – трактат немецкого математика, оккультиста и алхимика Иоганна Валентина Андреэ (1586–1654), третий манифест Братства розенкрейцеров.
(обратно)283
«Не убивай – но не стремись / Поддерживать чужую жизнь» (перев. А. Родсет) – из сатирического стихотворения Артура Хью Клафа (1819–1861) «Современный декалог», переосмысляющего десять заповедей.
(обратно)284
Здесь и ниже отрывки из поэмы У. Блейка «Иерусалим» (перев. Д. Смирнова-Садовского).
(обратно)285
Лува – персонаж поэмы У. Блейка «Иерусалим», символизирующий любовь, страстную и эмоциональную сторону человека.
(обратно)286
Тхить Куанг Дык (1901–1963) совершил самосожжение, протестуя против притеснения буддистов правительством Южного Вьетнама.
(обратно)