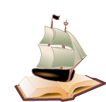| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
История Христианской Церкви в доникейский период (epub)
 - История Христианской Церкви в доникейский период 700K (скачать epub) - Архимандрит Сергий (Акимов)
- История Христианской Церкви в доникейский период 700K (скачать epub) - Архимандрит Сергий (Акимов)Архимандрит Сергий (Акимов)
История Христианской Церкви в доникейский период
Введение в изучение истории древней Церкви
Происхождение наименования церковной истории
Впервые наименование церковной истории (εκκλησιαστικη ιστορια) встречается в надписании сочинения епископа Кесарии Палестинской Евсевия, который носит почетное имя отца церковной истории. Написано это сочинение было в IV веке, хотя некоторые элементы историописания встречаются и у более ранних церковных писателей, начиная с автора книги Деяний святых апостолов – евангелиста Луки.
Греческое слово ιστορια, которому соответствует русское слово «история», а также греческое слово ιστωρ (знающий, очевидец, свидетель), которому соответствует русское слово «историк», происходят от греческого глагола οιδα (знаю, поскольку видел; знаю на основании собственного опыта, видения; знаю воочию).
В древних языках имеется несколько слов, обозначающих знание в нескольких различных аспектах, знание непосредственное и знание опосредованное. Например, в церковно-славянском языке это глаголы «знаю» и «ведаю». В первоначальном значении слово историческое знание было знанием, полученным опытным путем, путем собственного видения или путем расспрашивания непосредственных свидетелей происшедшего. Так что история в изначальном понимании – это, по словам В. В. Болотова, «расспрашивание, разузнавание человеком чего-либо совершившегося и самое стремление быть свидетелем событий»1.
В настоящее время историк далеко не всегда является свидетелем изучаемых им событий, но он по-прежнему стремится узнать о прошедшем, реконструировать на основе всех известных источников ход исторического развития человеческого общества.
В самом кратком определении история является наукой о развитии человеческого общества. И поскольку Церковь также представляет собой форму объединения людей, является особым обществом, она также имеет свое прошлое, свою историю, которая может и должна подлежать изучению.
Церковь в догматическом понимании и Церковь как объект исторического изучения
Объектом изучения церковной истории является Церковь. Греческое слово εκκλησια происходит от глагола καλεω – звать, созывать, приглашать. Таким образом, Церковь – это собрание, собрание званных, призванных, приглашенных. В историческом контексте это слово обладает оттенком всеобщности, демократичности, поскольку в Древней Греции им обозначали народное собрание, в противовес совету старейшин, геронтов, называвшемуся βουλη. Греческое наименование Церкви само по себе опровергает достаточно распространенное неправильное мнение о том, что Церковь – это только представители духовенства. Однако Церковь – это совокупность всех верующих, она объединяет в себе и клир, и мирян.
Что же касается русского слова «Церковь», то оно происходит от греческого слова κυριακη, которым греки обозначают церковь как здание2.
В Евангелиях слово εκκλησια встречается только три раза:
«Ты – Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18);
«если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17).
Во всех этих случаях это слово употреблено в речи Иисуса Христа.
Внешне Церковь представляет собой общество живых людей. Однако в догматическом понимании Церковь не ограничивается живыми христианами. По учению апостола Павла, Церковь есть Тело Христово, т. е. Богочеловеческий организм (1Кор. 12; Ефес. 1:23; Колос. 1:24). Главой этого организма является Сам Христос (Ефес. 1:22; 5:23; Колос. 1:18), а частями его – все верующие во Христа, живые и усопшие. О себе самой Церковь говорит как о двуединой – Церкви земной (воинствующей) и Церкви небесной (торжествующей). Вот эта единая Церковь, возглавляемая Христом и одухотворяемая, водимая Святым Духом – Церковь в догматическом понимании – свята и непорочна (Ефес. 5:27), столп и утверждение истины (1Тим. 3:15). Святость Церкви определяется не святостью ее отдельных членов, как утверждали некоторые еретики, например, донатисты. Святость Церкви определяется святостью ее Главы и святостью освящающего ее Святого Духа.
В церковной истории мы имеем дело с земной Церковью, Церковью воинствующей. Земная часть Церкви не задумывалась как некое идеальное общество, в которое должны входить только святые, непогрешимые, «чистые» люди. Христос, по Его собственным словам, пришел на землю не к праведникам, а к грешникам, чтобы призвать неправедных, заблудших людей к покаянию (Мф. 9:13). Земная Церковь – это общество людей, стремящихся к святости, к подражанию Христу, к очищению, для того, чтобы соединиться с Богом. Важнейшей функцией Церкви является очищение грешников, приготовление их к тому, чтобы они стали членами Небесного Града, небесной Церкви. Об этом свидетельствуют и все церковные священнодействия, совершаемые «во оставление грехов». Поэтому при изучении церковной истории не могут и не должны смущать происходившие в прошлом споры, раздоры, бесчисленные нестроения. Это споры и раздоры живых людей, пусть даже и стремящихся к святости. Однако эта земная Церковь имеет надмирное основание, о чем свидетельствует ее стойкость в истории. На протяжении своей истории Церковь переживала самые страшные гонения, но смогла пройти все испытания, поскольку к ней были обращены обетования Христа о том, что врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18).
Предмет церковной истории. Связь церковной истории с другими богословскими дисциплинами
Предметом изучения церковной истории является прошлое внутренней и внешней жизни Христианской Церкви. К внешней жизни Церкви можно отнести церковно-государственные отношения и христианскую миссию, к внутренней – формирование и развития церковного строя и форм церковного союза, литургическую жизнь, религиозно-нравственную и монашескую жизнь, древние догматические движения, ереси и расколы.
Предмет изучения церковной истории и связь церковной истории с другими богословскими дисциплинами хорошо видны из определения Церкви, данного в «Катихизисе» святителя Филарета, митрополита Московского: «Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных Православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами»3.
«Церковь есть от Бога установленное общество людей...». Церковь может изучаться как человеческое сообщество, имевшее свое развитие от горстки учеников и последователей Христа до многомиллионного сообщества, представленного во всех частях мира. История изучает христианскую миссию, распространение христианства, рассматривает благоприятные и неблагоприятные обстоятельства, сопутствовавшие распространению христианства, рассматривает отношения между Церковью и внешним миром – народами и государствами, т. е. все то, что имеет отношение к внешней жизни Церкви. В этом аспекте церковная история связана со Священным Писанием Нового Завета, миссиологией и гражданской историей.
«...соединенных Православной верой...». Церковная история изучает историю догматических движений, рассматривает борьбу Церкви с древними ересями, искажениями евангельской истины. В этом аспекте она связана с догматическим и сравнительным богословием.
«...законом Божиим...». Церковная история рассматривает особенности религиозно-нравственной жизни христиан, изучает возникновение и развитие института монашества. В этом аспекте она связана с нравственным богословием и аскетикой.
«...священноначалием...». Церковная история изучает церковную организацию, иерархические служения Церкви, древние церковные расколы. В этом аспекте она связана с каноническим правом.
«...и таинствами». Наконец, церковная история изучает литургическую жизнь Церкви, формирование христианских обрядов, чинопоследований, в том числе предметы материальной культуры Церкви, связанные с богослужением. В данном аспекте она связана с литургикой и церковной археологией.
Церковная история как богословская дисциплина
Церковная история является не только исторической, но и богословской дисциплиной. Ее богословский характер определяется несколькими факторами. Во-первых, объектом ее изучения является Церковь, которая имеет вневременный характер и божественное основание. Во-вторых, важной составляющей истории Церкви является история догматов, изучение которой требует глубокого проникновения в богословскую проблематику. Без богословского осмысления древних догматических споров внутренний смысл этих споров окажется непонятным и закрытым.
Понимание церковной истории как дисциплины богословской было закреплено в 1810 году, когда в Духовных Академиях происходило разделение дисциплин на основные и вспомогательные по отношению к богословию. Благодаря стараниям иеромонаха Филарета (Дроздова), впоследствии митрополита Московского, в то время было определено, что для богословия церковная история является одной из основных дисциплин, что, как говорилось в документах, «церковная история принадлежит непосредственно к наукам богословским»4.
Вместе с тем, существуют и различные богословские подходы к изучению истории Церкви. Каковы основные черты православного богословского подхода? Позиция православного церковного историка проявляется, главным образом, в четырех вопросах.
Во-первых, православный историк признает участие в истории Церкви надмирного элемента, Божественного промысла. В первую очередь, это касается вопроса о происхождении христианства. Православный историк в своих исследованиях как факт принимает то, что Христианская Церковь имеет божественное основание, и ее возникновение не может быть объяснено только какими-то естественными причинами.
Во-вторых, православный историк относится к Священному Писанию, рассказывающему о возникновении и становлении Церкви, как Божественному Откровению.
В-третьих, такой историк имеет свой особый взгляд на Церковь. Церковь для него – это не просто человеческое общество, это богочеловеческий организм, главой которого является Сам Иисус Христос и который оживотворяется Святым Духом. К объекту своего изучения православный историк относится осторожно, бережно, трепетно.
В-четвертых, православный историк обладает особым пониманием богословского развития, или истории догматов. Для такого историка развитие богословия не является процессом выработки церковным сознанием ранее не существовавших сторон, аспектов, положений богословского учения, но представляет собой раскрытие, объяснение, истолкование, выражение в ходе истории вневременных, неизменных божественных истин, изначально содержащихся в Откровении или прямо, или прикровенно.
Порядок работы историка. Вспомогательные исторические дисциплины
Восстанавливая, реконструируя прошлое жизни Церкви, историк в своей работе проходит несколько этапов. Первый этап работы историка – это сбор всех существующих источников, имеющих прямое или косвенное отношение к событиям прошлого, и их систематизация, группировка.
Второй этап включает в себя критику источников: установление подлинности, датировку, определение источников, использованных при создании данного памятника, решение вопроса о правдивости, объективности информации, содержащейся в источнике.
На третьем этапе историк излагает в систематическом порядке критически проверенные сведения, полученные из источников. Историк Церкви, особенно занимающийся историей богословских споров, дополнительно должен провести богословский анализ полученных сведений.
Для осуществления второго этапа работы историка, критики источников, необходимы вспомогательные исторические дисциплины. Они помогают прочитать древний памятник, правильно понять его, определить его подлинность, положение в пространстве и времени. К числу вспомогательных исторических дисциплин относятся дипломатика (наука о документах), сфрагистика (наука о печатях), нумизматика (наука о монетах), эпиграфика (наука о надписях на прочном материале), палеография (наука, изучающая памятники, написанные на папирусе, пергамене и бумаге, т. е. мягком материале), филология, помогающая определить время и место текста создания памятника, география, ономатология, право, метрология, хронология.
Объективность и конфессионализм в истории Древней Церкви
Наши познания о прошлом мы формируем на основании исторических фактов. Однако очень часто этих фактов недостаточно для того, чтобы во всей полноте реконструировать события далеких дней. Многое остается неизвестным или недостаточно объяснимым. А иногда историк обладает и противоречащими друг другу данными, определить степень достоверности которых не представляется возможным. В итоге, у историка появляется возможность выдвинуть самые различные предположения и толкования, восполнить недостающее, выбрать из противоречащих друг другу фактов только один, наконец, истолковать факты в соответствии со своими конфессиональными убеждениями. Вследствие всего этого, едва ли можно говорить о возможности абсолютного объективизма в истории.
Бесспорно, для любого исследователя характерно стремление найти истину. Это же стремление движет и религиозным поиском. Для верующего историка, который убежден в истинности своей конфессии, все элементы вероучения его конфессии являются аксиомами. Религиозный историк будет и реконструировать прошлое жизни Церкви, восполняя лакуны и истолковывая факты в соответствии со своими религиозными убеждениями. В отношении истории Древней Церкви это неизбежно. История Древней Церкви едва ли может быть внеконфессиональной. Впрочем, может быть история атеистическая. Но атеистический подход также покоится на ряде положений, которые принимаются на веру, и далек от абсолютной объективности.
Конфессиональный подход проявлялся, например, в вопросе о единстве раннего христианства. Протестантские историки, перенося современную ситуацию разобщенности и раздробленности своего мира, в древность, хотят оправдать эту ситуацию видеть в древнейшей истории подобное же «единство в многообразии», при котором уже невозможно говорить о кафолической Церкви и христианских диссидентах (еретиках).
Однако конфессиональный субъективизм должен иметь и свои границы. Крайний субъективизм в церковной истории возникает тогда, когда историческая Церковь смешивается с догматической. Догматическая Церковь – это столп и утверждение истины, она свята и непорочна. Реальные факты истории на первый взгляд могут опровергать это. Поэтому, подходя к изучению Церкви исторической как к Церкви догматической, конфессиональный историк может умышленно замалчивать некоторые факты, обеляя историю Церкви.
Кроме того, у такого историка может возникнуть соблазн считать непреложными абсолютно все традиции и обычаи, существующие в конкретной Церкви в ее конкретный исторический период. «Отстаивать все, существующее в своей Церкви, как нечто совершенное, было бы фальшивым конфессионализмом», – отмечает В. В. Болотов5.
Историк не должен в ущерб истине (но в угоду своей конфессии) игнорировать, замалчивать достоверные источники или превратно истолковывать имеющиеся данные.
Источники, периодизация и историография истории Древней Церкви
Изучение прошлого в жизни Церкви основано на сведениях, которые содержатся в исторических источниках. Все источники принято делить на две группы – монументальные и письменные памятники.
Монументальные памятники
Монументальные памятники, или памятники материальной кулыуры, делятся на следующие классы:
Данные археологии
К археологическим памятникам относятся христианские погребения, остатки христианских храмов, богослужебные предметы. География христианских погребений может дать представление о распространении христианства; обряд погребения, характер трупоположения и предметы, найденные в могиле, могут свидетельствовать о процессе и степени христианизации той или иной территории. Например, христианские погребения, относящиеся к периоду христианизации того или иного народа, нередко отражают сочетание языческих и христианских традиций.
Памятники христианского искусства
К памятникам христианского искусства относятся сохранившиеся до наших дней произведения христианской живописи, скульптуры и архитектуры.
Христианская эпиграфика
Эпиграфика занимается прочтением и истолкованием надписей, сделанных на прочном материале. Христианские надписи встречаются в погребениях, раннехристианских зданиях, богослужебных местах. Памятников такого рода сравнительно немного, но они имеют особое значение, поскольку менее всего были случайными. Эти надписи могут помочь исследованию темпов и масштабов распространения христианства, а также помочь реконструировать представления древних христиан. Существует ряд изданий, в которых представлены собрания древних христианских надписей.
Данные нумизматики и сфрагистики
Нумизматические источники играют второстепенную роль для изучения раннего христианства и христианизации Римской империи. Штемпеля на древних монетах менялись очень часто. Монеты позволяют уточнить датировку отдельных событий, в то же время, они могут свидетельствовать о религиозной политике римских императоров. Особо интересен процесс проникновения христианской символики в римские монеты. Так символика многих монет Константина содержит как языческие, так и христианские элементы. Наряду с монетами, сохранилось много древних печатей. Печати, среди которых есть епископские, свидетельствуют о лицах и должностях.
Письменные памятники
Письменные памятники имеют особое значение и ценность, поскольку дают наибольший объем информации о древних событиях. Их классифицируют или по языку, на котором они написаны (латинский, греческий, арамейский, коптский, сирийский, армянский и т. д.), или по религиозной принадлежности их авторов (христианские и языческие).
1. Христианские письменные памятники
– Священное Писание Нового Завета
Состав книг Нового Завета был определен на Лаодикийском соборе 363 года из 26 книг, а в окончательном виде – из 27 книг – утвержден только в 419 году на Карфагенском соборе.
– Апокрифические книги
Большинство апокрифов («апокриф» в переводе с греческого – «тайный, секретный») до нас не дошло; некоторые сохранились в переводах на другие языки или в отрывках у более поздних авторов.
– Деяния древних церковных соборов
В группу соборных деяний входят материалы поместных и Вселенских церковных соборов. На русском языке материалы древних соборов можно видеть в издании «Деяния Вселенских соборов», осуществленном в Казанской духовной академии, а также в «Книге Правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец». Основной объем этой группы источников доступен на иностранных языках.
– Литургические источники
К литургическим источникам относятся богослужебные памятники, тексты, имеющие отношение к древнему христианскому богослужению.
– Агиографические источники
К агиографическим источникам относят описания христианских мученичеств. Такие описания делят на три группы: Акты, или Деяния (описания языческих судов), Пассионы, или Мученичества (описания жизни и смерти мученика, сделанные непосредственными свидетелями или современниками) и Жития (биографии) святых (позднейшие легендарные описания). Древнейшее описание мученичества конкретного лица относится ко II веку. Это рассказ о мученичестве святого Поликарпа Смирнского, находящийся в Послании Смирнской церкви к Филомелийской церкви.
Агиографическая литература очень обширна: издание, осуществленное фламандскими иезуитами с 1643 до 1794 год насчитывало 53 тома. А в XIX веке бельгийские иезуиты довели общее количество томов in-folio до 70-ти. Иезуиты хорошо использовали в этом деле свое влияние и свои обширные связи.
В основе большинства агиографических произведений лежат подлинные исторические события и факты, но, вместе с тем, некоторые жития являются не столько историческими, сколько литературными памятниками.
– Творения отцов и учителей Церкви (христианских писателей)
Обширные издания произведений церковных писателей начали осуществляться после Реформации, когда оживился интерес к памятникам древней церковной литературы, которые начали использоваться в полемике. В Римской Церкви этому способствовало движение контрреформации. Одним из первых серьезных изданий стала «Bibliotheka sanctorum patrum». В этом издании, состоявшем из 8 томов и опубликованном в Париже в 1575–1579 годах, были напечатаны латинские отцы и греческие отцы в латинском переводе. Расширением парижского издания была Лионская библиотека святых отцов, изданная в 1677 году и включавшая 27 фолиантов. Впервые греческие отцы были напечатаны в подлиннике в венецианском издании Андреа Галланди «Bibliotheca veterum patrum» 1765–1781 года.
Однако самым знаменитым изданием оригинального текста сочинений древних церковных писателей является издание французского аббата Жана Поля Миня «Patrologiae cursus completus seu Bibliotheca universalis omnium ss. Patrum, doctorum scriptorumque ecclessiasticorum». Ж. П. Минь успел выпустить две серии – латинскую (P. L.), включавшую 221 том (1844–1855), в том числе 4 тома указателей, и греческую (P. G.), включавшую 161 том (1857–1866). Ж. П. Минь намеревался осуществить издание творений на восточных языках, но не успел сделать это. Большая часть греческой серии погибла при пожаре на складе в 1868 году.
Издание это делалось за счет личных средств Ж. П. Миня, которому ради этого даже пришлось заняться коммерцией, поэтому печаталось на плохой бумаге. Тома имели очень удобный компактный размер, отличались практичностью. Вместе с тем научная ценность издания была невелика. Часто Ж. П. Минь просто перепечатывал ранее изданное. He учитывались разночтения. Цитаты из Священного Писания выправлялись по Вульгате или Секстинскому изданию греческой Библии, что было характерно и для предшествующих изданий. Ж. П. Минь не печатал анонимных трудов, в том числе деяний соборов, хотя в его планах было напечатать около 80 томов подобных текстов. Вместе с тем, это издание и сегодня пользуется большой популярностью. Связано это с тем, что по объему собранных вместе произведений древних христианских авторов это издание не превзойдено до сих пор.
В XIX веке изданием творений святых занимался Жан Батист Питра, который использовал для этого древние рукописи.
В 1947 году в Париже было начато издание серии «Христианские источники». Эта серия продолжается до сих пор и отличается высоким научным уровнем. В настоящее время издано около 400 томов. Каждый том включает текст оригинала и французский перевод, вступительную статью и научные комментарии, в том числе текстологического характера.
В Русской Православной Церкви попытки издания сочинений церковных писателей на языке оригинала не предпринимались. Однако, до 1917 года силами четырех Духовных академий (Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской) осуществлялся перевод произведений древних церковных авторов на русский язык.
– Церковная историография
Первые церковно-исторические сочинения появились на греческом языке. Отцом церковной истории принято считать Евсевия Кесарийского (260/270 – около 340), который имел прозвище Памфил. Евсевий отличался образованностью, почитал Оригена, находился в дружеских отношениях с влиятельными епископами арианского направления. Евсевий является автором панегирического сочинения «Жизнь блаженного царя Константина», а также сочинения «Сказание о мучениках палестинских», в котором описал гонение начала IV века. Более всего Евсевий знаменит своим произведением «Церковная история». В 10 книгах «Церковной истории» он описал жизнь Христианской Церкви на протяжении первых трех столетий.
В V веке свою «Церковную историю» написал арианский историк Филосторгий. Его сочинение включало 12 книг, каждая из которых начиналась с одной из букв его имени. Сохранилось оно в выписках патриарха Фотия.
Продолжателями Евсевия принято считать Сократа Схоластика, Эрмия Созомена и Феодорита Кирского, произведения которых также носят название «Церковная история». Сочинение Сократа охватывает период с 305 по 439 год, Созомена – с 324 по 439 год, Феодорита – с 323 по 428 год.
В VI веке «Церковную историю» написал Евагрий Схоластик, осветивший события с 431 по 594 годы. После Евагрия в греческой историографии произошел длительный перерыв, охвативший несколько столетий.
Латинская церковная историография в древний период находилась под сильным влиянием греческой. Сочинение Евсевия было переведено на латинский язык пресвитером Руфином в 410 году, который также продолжил рассказ о жизни Церкви до 395 года. «Истории» продолжателей Евсевия перевел по желанию сенатора Кассиодора в VI веке схоластик Эпифаний.
Собственно же отцом латинской историографии является Лактанций, автор сочинения «О смертях преследователей».
2. Нехристианские письменные памятники
– Сочинения античных авторов, в том числе критиков христианства
К данной группе относятся сочинения упоминавших о христианах античных авторов. Некоторые из этих авторов критиковали Христианство как с позиции «здравого смысла», с философских, культурологических позиций, в которых не просматривается апологии определенной религии, так и с религиозной точки зрения.
К данному направлению можно отнести Лукиана, Цельса, Цецилия, Порфирия, Гиерокла, Фемистия, Юлиана, Ливания, Симмаха, а также античных историков Тацита, Светония, Аммиана Марцеллина, Евтропия, Секста Аврелия Виктора, Евнапия, Зосимы.
– Иудейские источники
Свидетельство о Христе имеется уже в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия (книга 18, глава 3:3). Однако о подлинности данного фрагмента ведутся споры. Поскольку Христианство уже в I веке отделилось от иудейства, чему способствовала непримиримая позиция самих иудеев, иудейские авторы либо не писали о Христианстве, либо подвергали Христианство нападкам и критике.
3. Юридические источники
Основную часть этой группы источников составляют акты императорской власти. Ввиду обилия накопленного юридического материала предпринимались первые попытки кодификации римского права, которые сначала осуществлялись частными лицами. В V веке кодификация становится государственным мероприятием. По приказу восточного императора Феодосия II (408–450) комиссией из 16 юристов был составлен первый официальный сборник императорских конституций, который был опубликован в 438 году в 16-ти книгах. Этот сборник известен как Кодекс Феодосия.
Очередная значительная кодификация римского права произошла при императоре Юстиниане в 529–534 годах. «Corpus juris civilis», составленный при Юстиниане, включал Институции (учебник для начинающих юристов), Дигесты (сборник из трудов древних юристов), Кодекс Юстиниана (императорские конституции Юстиниана и предшествующих императоров) и Новеллы (168 законов, добавленных в последнюю очередь).
К юридическим источникам относят также
– произведения римских императоров – речи и письма;
– постановления чиновников императорской администрации, в основном префектов и наместников провинций, по религиозным (церковным) вопросам.
Периодизация истории Древней Церкви
Историками по-разному определяется начало истории Христианской Церкви. Некоторые историки не включают в историю Церкви апостольский век, события которого отражены в Священном Писании Нового Завета. Так поступали А. П. Лебедев, В. В. Болотов, А. Бриллиантов. Митрополит Филарет Дроздов также относил апостольский период к библейской истории. С другой стороны, М. Э. Поснов считал необходимым изучать в курсе Истории Церкви апостольский век.
История Древней Церкви может быть разделена на два периода: доникейский период и период Вселенских соборов. Доникейский период имеет своей крайней границей 313 год, год издания Миланского эдикта, провозгласившего религиозную свободу и прекратившего почти трехсотлетнюю эпоху преследования христиан.
Период Вселенских соборов традиционно ограничивается 1054 годом, когда произошел разрыв между Восточной и Западной Церковью. Этот год является очень условной границей, поскольку окончательно отношения между Восточными Церквами и Римской Церковью прекратились вследствие разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году. В этом периоде выделяют несколько этапов. Первый этап – от 313 года до Халкидонского собора 451 года. Халкидонский собор положил начало великому восточному церковному разделению, когда от Церкви отделились монофизиты, составлявшие большинство населения Египта, Сиро-Палестины и Армении. После 451 года можно говорить о начале византийского периода жизни Церкви.
Второй этап – от 451 до 843 года. Этот этап завершился событием, которое называют Торжеством Православия, когда произошла окончательная победа над иконоборчеством. Третий этап – от середины IX до середины XI века – характеризовался осложнением отношений Римской и Константинопольской Церквами, завершившимся так называемым «разделением Церквей» 1054 года.
С богословской точки зрения историю периода Вселенских соборов можно также разделить на эпоху триадологических споров, споров о Троице, завершившуюся Вторым Вселенским собором 381 года, и эпоху христологических споров, споров о Христе, которая фактически завершилась Седьмым Вселенским собором 787 года и Торжеством Православия 843 года.
Исторический обзор изучения церковной истории в Русской Православной Церкви до 1869 года6
В русских духовных учебных заведениях изучать церковную историю стали в начале XVIII века. Согласно «Духовному регламенту» архиепископа Феофана Прокоповича, на изучение церковной и гражданской истории отводился год. Знакомство с историей должно было способствовать изучению языков, чтобы невеселое изучение языков растворить «столь веселым познанием мира и мимошедших в мир дел». Позднее Екатерина II в инструкции Священному Синоду отметит, что семинаристы не знают ни церковной, ни гражданской истории.
В 60–70-х годах митрополит Московский Платон открыл в Троицкой семинарии курсы по изучению истории. Однако желающих посещать эти курсы, имевшие необязательный характер, было немного.
В конце XVIII века при императоре Павле краткую церковную историю ввели в курс преподавания. История относилась к числу экстраординарных (необязательных) дисциплин и читалась после обеда. Под историей понимали тогда достопамятные в Церкви случаи. В связи с появлением такой дисциплины встал вопрос об учебниках. Были доступны только протестантские книги на латинском языке. В результате появилось первое церковно-историческое сочинение русского автора, епископа Мефодия Смирнова, которое, впрочем, было написано на латинском языке – «Liber Historicus» (M., 1805). В книге рассматривалась история первых трех веков Христианства. За этот труд автор получил звезду Александра Невского и бриллиантовый крест на клобук. Автор использовал иностранную литературу, часто вступал в полемику с протестантами. Книга отличалась сжатостью, сухостью и сложностью. На русский язык она не переводилась.
B 1814 году был принят Устав семинарий и академий (под редакцией Михаила Сперанского). Согласно уставу, история стала ординарной дисциплиной и преподавалась на 3 и 4 году обучения.
В 1817 году в Петербурге Иннокентий (Смирнов) (ректор Петербургской семинарии, ставший епископом Пензенским) издал двухтомное «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века». Книга была составлена на основе курса лекций и представляла собой компиляцию из сочинений двух протестантских историков – Шпангейма (конца XVII века) и Вейсмана (начала XVIII века). Учебник был написан на русском языке и имел научный аппарат – примечания и ссылки.
В 1869 году был принят очередной устав. Еще до принятия нового устава историческая кафедра была разделена на четыре кафедры – древней церковной истории; библейской истории; русской церковной истории; новой церковной истории запада.
На период между двумя уставами, с 1814 до 1869 года, пришлась научная деятельность целого ряда историков. Архиепископ Черниговский Филарет Гумилевский (+1866) впервые ввел исторический метод в преподавание догматики, пробуждая у своих слушателей живой интерес к истории. Его учеником был протоиерей Александр Васильевич Горский (+1875). Важное место занимает и личность епископа Порфирия (Успенского) (+1885), путешественника, историка, коллекционера. Изучением истории монашества занимался Петр Симонович Казанский (1819–1878), который написал первый систематический труд на русском языке, посвященный истории восточного монашества – «История православного монашества на Востоке» (M., 1854).
В 1878 году в Петербурге вышел первый том «Истории Христианской Церкви», написанный Иваном Васильевичем Чельцовым (+1878). Книга охватывала историю первых трех веков Христианства и была написана под сильным влиянием протестантского историка Августа Неандера.
Исторический обзор изучения церковной истории в Русской Православной Церкви с 1869 по 1917 год
В 1869 году был принят устав духовных академий (редактор – будущий митрополит Московский Макарий), в котором дисциплины делились на три отделения, в том числе церковно-историческое. В целом, 60-е годы ознаменовались большим общественным интересом к духовной проблематике, к церковной истории. Вследствие этого начали появляться диссертации по церковной истории, множество публикаций. Возникли научные споры.
Еще до принятия устава 1869 года, в 1863 году был утвержден университетский устав, в котором впервые на историко-филологическом факультете была введена кафедра церковной истории. Церковная история, согласно этому уставу, должна была преподаваться лицами, вышедшими из духовных учебных заведений.
В 1884 году была введена степень доктора церковной истории. Ранее за церковно-исторические исследования присуждалась степень доктора богословия. Подобного рода степени не было тогда даже на Западе. В конце XIX – начале XX века русская церковно-историческая наука пережила невиданный подъем и начала выходить на общеевропейский уровень.
В конце XIX – начале XX века возникла целая плеяда русских церковных историков, изучавших Древнюю Церковь. Среди них особое место занимал Алексей Петрович Лебедев (1845–1908), автор большого количества монографий и статей. Среди его книг – «Вселенские соборы IV и V веков», «Вселенские соборы VI, VII и VIII веков», «Константинопольские соборы IX века», «История разделения Церквей», «Духовенство Древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века», «Церковная историография в главных ее представителях с IV no XX век», «Очерки внутренней истории Византийско-восточной Церкви в IX, X и XI веках», «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века».
А. П. Лебедев отличался особой плодовитостью. Однако протоиерей Г. Флоровский не очень высоко оценивает его как ученого, считая, что А. П. Лебедев не был глубоким богословом и самостоятельным исследователем. Позднейшие книги его, отмечает Г. Флоровский, были небрежной популяризацией западных исследований, однако писал он легко, живо, с публицистическим задором, так что сумел заинтересовать исторической работой многих людей.
Василий Васильевич Болотов (1853–1900) в настоящее время известен благодаря своим «Лекциям по истории Древней Церкви», которые были изданы после его смерти в обработке А. Бриллиантова. Единственной монографией В. В. Болотова является его магистерская диссертация «Учение Оригена о Святой Троице» (СПб., 1879). Особенно интересовала В. В. Болотова история египетского христианства. В. В. Болотов отличался знанием многих языков. Кроме новых европейских и классических, он знал еврейский, арабский, коптский, абиссинский. Он был серьезным историком и глубоким богословом.
А. В. Болотов был учеником другого историка – Ивана Егоровича Троицкого (+1901), вдумчивого историка с широким богословским кругозором. Самая значительная книга И. Е. Троицкого – «Арсений, патриарх Никейский и Константинопольский, и арсениты» (СПб., 1873).
Видное место среди русских историков занимает Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937), который больше известен своими работами в области библеистики. Особое значение имеет двухтомный труд (магистерская диссертация) H. Н. Глубоковского «Блаженный Феодорит» (M., 1890), который получил высокую оценку со стороны знаменитого Адольфа Гарнака, знавшего русский язык. Н. Н. Глубоковскому принадлежала идея создания богословских факультетов при университетах.
Учеником H. Н. Глубоковского был Михаил Эммануилович Поснов (1873–1931), преподававший до революционных событий в Киевском университете. Наиболее известными его работами являются книги «Гностицизм II века и победа Христианской Церкви над ним» (Киев, 1917) и «История Христианской Церкви» (Брюссель, 1964). Нужно учитывать, что в своей «Истории» М. Э. Поснов разделяет западный взгляд на проблему игнатиано-фотианского спора. H. Н. Глубоковский и М. Э. Поснов окончили свою жизнь в эмиграции.
Источники по истории Древней Церкви
| I. Монументальные памятники | ||
| 1. Данные археологии | ||
| 2. Памятники христианского искусства | ||
| 3. Данные эпиграфики | ||
| 4. Данные нумизматики и сфрагистики | ||
| II. Письменные памятники | ||
| 1. Христианские | 2. Нехристианские | 3. Юридические |
| Священное Писание Нового Завета | Сочинения античных авторов, в том числе критиков христианства | Акты императорской власти |
| Апокрифические книги | ||
| Деяния церковных соборов | Речи и письма императоров | |
| Литургические источники | Иудейские источники | |
| Агиографические источники | Постановления чиновников по церковным вопросам | |
| Творения церковных писателей | ||
| Церковная историография | ||
Начало истории Церкви и распространение христианства в І–ІІІ веке
Римская империя как место возникновения и жизни ранней Церкви
Начало евангельской проповеди хронологически почти совпало с началом Римской империи, огромного государственного образования, охватывавшего практически весь цивилизованный мир. Ранняя Христианская Церковь возникла, жила и распространялась главным образом на территории Римской империи.
Римская империя была создана Октавианом Августом (63 год до P. X. – 14 год no P. X.) в 27 году до P. X. Просуществовала она около пяти столетий (с 27 по 476 год), хотя вполне правомерно говорить и о пятнадцати столетиях Римской империи (до 1453 года), поскольку Византийская империя, Восточная римская империя, явилась ее прямым продолжением, наследницей.
Успех Октавиана Августа определялся не только предшествующей политикой Юлия Цезаря, но и единством культур народов, их общим мировоззрением, греческим языком. Корни Римской империи уходят в империю Александра Македонского (356–323), объединившего земли от Адриатики до Китая. Фанатик эллинской культуры, Александр стремился поделиться ей со всем миром. И хотя империя Александра не пережила своего создателя, эллинизм пережил его на тысячу лет. Спустя 300 лет после смерти Апександра осколки его империи объединил Октавиан Август.
Древние церковные писатели считали провиденциальным тот факт, что пришествие в мир Иисуса Христа и рождение Церкви исторически почти совпали с появлением Римской империи. Действительно, если бы Иудея не была вовлечена в политический и культурный контекст жизни империи, проповедь апостолов едва ли была услышана на таком огромном географическом пространстве так быстро, и могла ограничиться территорией Ближнего Востока – Передней Азии и Египта. Глобализация первых веков благоприятствовала Христианству.
Внешние условия распространения христианства
Адольф Гарнак выделял такие внешние факторы, которые способствовали быстрому распространению христианства в Римской империи7:
1) эллинизация, объединившая Восток и Запад в области языка и воззрений;
2) политическое единство народов империи, факт единой монархии порождал представление о небесной монархии и создавал условия для образования единой Вселенской Церкви;
3) хорошие дороги, регулярное сообщение, исправно работающая почта, способствовавшие обмену вещей и идей;
5) постепенная демократизация римского общества, уравнение римских граждан и провинциалов, улучшение положения рабов;
6) религиозная толерантность, терпимость римлян к другим политеистическим религиям.
7) общинная форма жизни, существование ряда общественных организаций.
Необходимо также отметить, что римлян, обладавших живой религиозностью, не удовлетворял привычный языческий культ, имевший формальный характер. Такие люди стремились приобщиться к таинственным восточным культам.
Так что не случайно священные книги христиан были написаны на греческом языке, а апостол Павел так стремился в центр империи, Рим, откуда его могли услышать во всех концах Вселенной. Вместе с тем, ряд этих положительных факторов мог обращаться и против самого христианства, когда государство решалось на его преследование.
Внутренние условия распространения Христианства
К внутренним факторам, способствовавшим христианской миссии, можно отнести
1) распространение в империи сирийских и персидских религий, которые имели некоторые общие черты с Христианством и подготовили сознание язычников к новой религии, пришедшей с Востока;
2) религиозный (религиозно-философский) синкретизм, уходящий корнями в эпоху Александра Македонского и возраставший благодаря культурному обмену, который стал возможен в многообразной по национальному и культурному составу, но политически единой империи (следует заметить, что синкретизм из союзника Христианства скоро превратился в противника, породив гностицизм, манихейство);
3) интерес язычников империи к религиозной философии, презиравшей плоть, телесность, имевшей возвышенное представление о Боге, искавшей Откровения, спасения от мира, плоти и смерти;
3) возникший в среде интеллектуальной языческой элиты философский монотеизм, а также представление о единстве человеческого рода и о едином нравственном законе;
4) обращенность христианской проповеди к бедным и обездоленным (т. е. к самым широким слоям населения) и сам характер этой проповеди как проповеди любви;
5) широкое распространение иудейства и знакомство с ним многих язычников.
Значение иудейства в деле христианской миссии
Хотя иудеи и выступили против христиан одними из первых, но само Христианство многим обязано именно им. Первоначально христианская проповедь была обращена в первую очередь к иудеям. Таково было указание Иисуса Христа. Поэтому первые проповедники шли именно туда, где проживали группы иудеев, шли в города.
География распространения иудеев и их синагог поражает своей обширностью. Иудеи жили во всех римских провинциях Средиземноморья, в Сирии, в Месопотамии, Мидии. Особенно много их было в Сирии, Египте, Риме и Малой Азии, где они оказывали влияние на общественную жизнь. По мнению историков, в Египте в I веке их было около 13%, а во всей империи – около 7% (4 из 50 миллионов жителей империи)8.
Христианской проповеди во многом помогала предшествующая иудейская проповедь, которая в языческом окружении главный акцент делала не на обрядах, а на вере в Единого Бога и на Его заповедях, на монотеизме и нравственных требованиях. Иудеи рассеяния обладали переводом Библии на греческий язык, Септуагинтой. Иудеи рассеяния были оторваны от храма с его жертвами, они обращали внимание на духовную сторону своей религии. Иудейство вне Иудеи стало своеобразной философской религией. В империи иудеи жили, главным образом, в городах. Поэтому и Христианство первоначально было именно религией городов.
Однако иудеи не занимались активной проповедью и прозелитизмом: иудейство не стремилось выйти за национальные границы, а прозелитизм был в Римской империи и вовсе вне закона. Активная миссия стала отличительной чертой христианской религии, все больше приобретавшей универсальные черты.
Рождение Церкви в Пятидесятницу. Первые гонения со стороны иудеев
После Вознесения Христа количество Его учеников было незначительным. В 1Кор. 15:6 упоминается 500 человек, которым Он явился в Галилее. Согласно Деяниям, в Иерусалиме число уверовавших вместе с апостолами было 120 человек (Деян. 1:13–16). В Иерусалиме на место Иуды был избран Матфий. Через десять дней после Вознесения на апостолов сошел Святой Дух. Этот день принято считать днем рождения Церкви. Робкие и запуганные ученики превратились в бесстрашных проповедников. Проповедь апостола Петра в Пятидесятницу приобщила к Церкви 3 000 человек. Через некоторое время после второй проповеди апостола Петра о Воскресении число верующих возросло до 5 000 (Деян. 4:4).
Первая община пребывала в учении апостолов, общении, преломлении хлеба (вероятно, имеется в виду Евхаристия) и молитвах (Деян. 2:42). Дух любви и единения последователей Христа проявился в общении имуществ. В связи с увеличением общины возникла необходимость в людях, которые бы помогали апостолам и служили при столах. С этой целью было избрано 7 человек, которых стали называть диаконами.
Первые последователи Христа были из числа иудеев. Среди иудеев были так называемые эллинисты, иудеи рассеяния, для которых храм и храмовые жертвы не являлись безусловно необходимыми. В духе эллинистов мыслил Стефан, один из семи диаконов. Он открыто высказал мысль о том, что храм и еврейские обычаи с пришествием Христа теряют свое значение. Иудеи побили Стефана камнями, и он стал первомучеником. При побиении присутствовал Савл, будущий апостол Павел, который сторожил одежды убийц Стефана.
Гонения со стороны иудеев начали возрастать. Ирод убил Иакова и арестовал апостола Петра, которого из темницы освободил Ангел (Деян. 12). В результате апостолы покинули Иерусалим, а центр проповеди переместился в Антиохию Сирийскую.
Иудео-христиане и языко-христиане. Апостольский собор в Иерусалиме
Позиция иудеев-эллинистов, которые принимали Христианство, способствовала началу проповеди среди язычников. Когда на последователей Стефана поднялось гонение, они оставили Иерусалим и начали проповедь среди представителей разных народов. Например, Филипп крестил евнуха царицы Ефиопской (Деян. 8), а апостол Петр – сотника Корнилия в Кесарии (Деян. 10). Однако настоящим центром проповеди среди язычников стала Антиохия Сирийская, где Христианство преодолело границы иудейства. Именно в Антиохии ученики Христа стали называться христианами (Деян. 11:26). Это прозвище им могли дать язычники. Все больше язычников становилось христианами. В результате этого, сформировались две группы христиан: христиане из язычников и христиане из иудеев.
Очень много для превращения Христианства в универсальную мировую религию сделал Савл, превратившийся в апостола Павла. После обращения Савл проповедовал в Дамаске, Тарсе. На апостольское служение его избрали в той же Антиохии. Оттуда он отправлялся и в свои апостольские путешествия, обращаясь с проповедью и к иудеям, и к язычникам.
Между иудео-христианами и языко-христианами в Антиохии произошел конфликт. Причиной конфликта стало различное отношение к храму и моисееву закону. Этот конфликт спровоцировали пришедшие из Иудеи, которые говорили о необходимости обрезания. Для разрешения спорных вопросов об отношении христиан к иудейским обычаям Павел и Варнава отправились в Иерусалим. Это собрание апостолов и пресвитеров, произошедшее около 50 года, называют Апостольским собором. На нем было решено, что языко-христиане должны воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленины, блуда, а также не должны делать другим того, чего себе не хотят (Деян. 15:29). Однако в самой общине Иерусалима, включавшей главным образом иудео-христиан, по-прежнему предпочитали следовать требованиям моисеева закона. Впрочем, даже приверженность закону не спасла апостола Иакова от расправы.
Гибель Иерусалима. Судьба иудеев
В 70 году исполнилось и пророчество Христа о разрушении Иерусалима. Ревнители Закона, зилоты, в 66 году начали восстание против римского владычества. Несколько человек в то время объявили себя мессиями. Иудеев усмирил Тит, сын императора Веспасиана, который захватил и разрушил город Иерусалим. Христианская община Иерусалима фактически перестала существовать, а вместе с гибелью храма и прекращением жертв иудео-христианские настроения в Церкви были изжиты.
После поражения иудеев их Синедрион переехал в прибрежный город Ямнию. Там был определен еврейский канон Священного Писания. Среди членов Синедриона особенно прославился рабби Акиба. В 85 году в синагогальный чин Синедрионом была внесена анафема на назарян и всех еретиков. Отделение христиан от иудеев стало важной задачей для иудеев.
В 132 году началось второе крупномасштабное восстание. Его возглавил Симеон Бар Кохба (Сын Звезды). Рабби Акиба признал в Симеоне мессию, Сына Звезды, о котором говорится в мессианском пророчестве из Книги Чисел. Так иудеи окончательно отвергли Иисуса как Христа, Мессию, Помазанника. В результате ужасных кровопролитных сражений восстание было подавлено в 135 году, а Иерусалим был разрушен вторично. Император Адриан выселил всех иудеев из их родины, а на месте Иерусалима основал новую римскую колонию, город Элия Капитолина.
В противостоянии христианам иудеи отвергли Септуагинту, занялись унификацией еврейского текста Библии. К X веку в результате этой работы появился так называемый Масоретский текст. Но еще раньше, в 140 году был сделан новый греческий перевод, перевод Акилы, который должен был заменить Септуагинту. Пути христианства и иудейства разошлись окончательно.
Христианская миссия и география распространения Христианства в І–ІІІ веке
В I веке Христианство распространялось апостольской проповедью. О проповеди апостолов Петра и Павла рассказывает книга Деяний. Апостол Иоанн, согласно Иринею Лионскому, покинув Иерусалим, проповедовал и жил в Ефесе (Против ересей 3:3–4). О проповеди апостолов говорит Ориген в толкованиях на Книгу Бытия. Слова Оригена сохранил для нас первый церковный историк Евсевий Кесарийский Церковная история 3:1). Согласно этим источникам, Фома проповедовал в Парфии, Андрей – в Скифии, Иоанн – в Асии, Петр – в Понте, Галатии, Вифинии, Каппадокии, Асии и Риме.
Вплоть до XVI века происходило развитие так называемой миссионерской легенды – рассказов о том, как апостолы проповедовали Евангелие по всему миру. В каждой стране возникали свои истории о распространении Христианства от проповеди конкретного апостола. Например, жители Константинополя и Руси вели начало своего Христианства от апостола Андрея.
Вероятно, особый рост численности христиан пришелся на время после императора Марка Аврелия и в период с 260 до 303 год.
Родиной христианства является Палестина, население которой говорило на арамейском языке, наследии великой империи персов. Оттуда, благодаря общности языка, Христианство быстро проникло в Сирию, Финикию, Едессу. Также оно проникло в Киликию и на Кипр. В царстве Осроена со столицей в Едессе Христианство впервые стало государственной религией (около 200 года). Распространялось оно и в Италии, Риме, Северной Африке, Египте, на Балканском полуострове, у германских народов. Ко II веку проповедь дошла уже до Галлии и Испании, а крупнейшими центрами христиан были Ефес, Рим и Антиохия.
Наибольший успех миссия имела в Малой Азии, Фракии, Армении, Кипре, Едессе, где к IV веку христиане могли составлять около половины населения. В Сирии и Египте, Риме, Африке и Южной Испании в IV веке христиане составляли значительную часть населения и оказывали большое влияние на общественную жизнь. Небольшое распространение к IV веку получило Христианство в Палестине, Финикии, Аравии, в некоторых районах Греции и Италии.
Распространение Христианства среди различных слоев общества
Первые христиане в своем большинстве не занимали высоких мест в общественной иерархии. Они были невольниками, вольноотпущенниками, ремесленниками. Об этом говорит и Новый Завет, и древние христианские и языческие авторы. Вместе с тем, эти же источники сообщают, что были и исключения, когда Христианство принимали богатые и знатные люди. Письменные источники находят подтверждение в данных археологических. Источники III века, а также Евсевий Кесарийский, свидетельствуют о том, что с конца II века (от эпохи императора Коммода) Христианство начали принимать представители общественной элиты.
С самого начала Христианство распространялось в первую очередь среди городского населения. В армии сторонников новой религии было традиционно немного, обнаруживаться среди военных они начали в конце II века. Известны мученики-воины. Среди христиан было и немало женщин. В евангельском рассказе женщины встречаются довольно часто. Именно женщины стали первыми вестницами Воскресения. Женщины были сотрудницами апостола Павла. Источники первых веков упоминают женщин-служительниц (диаконис).
Ранняя Церковь и Римская империя. Причины гонения на христиан
Раннехристианская Церковь как Церковь гонимая
Христианство пришло в мир, имея основания вне этого мира. Основателем Церкви, в чем были уверены и сами первые христиане, являлся Иисус Христос – воплотившийся Бог, Сын Божий. Основатель христианства окончил свой земной путь насильственной смертью, определив такой же путь и своим последователям.
Иисус Христос не обещал своим ученикам на земле спокойствия и благополучия. В своей прощальной беседе с учениками Он сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:18–20).
Эти слова Христа исполнились и в том, что Церковь будет гонима, и в том, что она будет возрастать и укрепляться. С самого начала своего существования Церковь испытывала противодействие со стороны народа, государства и интеллигенции. Это противодействие было двояким – силовым и идейным.
На самом раннем этапе Церковь столкнулась с народом и государством, которые силовыми методами пытались искоренить новое религиозное сообщество. Идейная борьба с Христианством, которая будет вестись силами интеллигенции, начнется значительно позднее и не вызовет значительных последствий.
Следствием силового противодействия были гонения на христиан, а следствием гонений – такое явление, как мученичество. По словам церковного учителя III века Тертуллиана, кровь мучеников стала семенем христианства, т. е. способствовала консолидации, укреплению христианства, росту его общественного авторитета и всеобщему признанию его нравственной силы.
Христианское понимание мученичества
Ранняя Христианская Церковь была Церковью мучеников, тех, кто ради своей веры во Христа не пожалел расстаться с собственной жизнью. В новозаветных писаниях и других древних христианских текстах, написанных на греческом языке, мученик обозначается словом μαρτυς. Это греческое слово переводится как «свидетель». Аналогичным образом мученики обозначаются в сирийском, арабском и коптском языках. Западные народы заимствовали латинское слово martyr, оставив его без соответствующего перевода.
Славянские языки передают греческое μαρτυς словом «мученик». Мученик в прямом смысле – это страдалец, человек, которого мучили, который испытал мучения. В том, что для обозначения древних «свидетелей» славяне использовали слово «мученик», отразилось внешнее, эмоциональное восприятие явления мученичества. Вероятно, славян впечатляли добровольные страдания, которые претерпевали за Христа верующие в Hero.
Однако древние римляне не отличались большой впечатлительностью. Мучения могли впечатлить их только в том случае, если они отличались крайней жестокостью. Большее впечатление на них мог произвести сам факт добровольного самопожертвования ради идеи, особенно идеи религиозной. А мучения и кровь жители Римской империи могли видеть постоянно.
В судебной практике Римской империи широко применялись пытки, которые являлись одним из законных средств дознания. Например, показания раба, в том числе и свидетельские, признавались действительными только в том случае, если они были даны под пыткой. Такой невинный свидетель мог после дачи показаний уйти увечным, покалеченным. В период христианской империи от пыток будут освобождены епископы и пресвитеры. Но диаконы такой привилегии не получат.
Любимым зрелищем римлян были кровавые гладиаторские бои. От вида льющейся крови римляне не только не падали в обморок, но воодушевлялись и вдохновлялись. Жажда крови наполняла зрительские ряды многочисленных цирков. В этой связи очень характерен случай, описанный в «Исповеди» блаженного Августина (Исповедь 6:8). Друг Августина Алипий ненавидел гладиаторские бои. Однако товарищи насильно завели его в амфитеатр на кровавый бой. О том, какое перерождение произошло с Алипием на этом зрелище, Августин рассказывает так: «Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостию; он не отвернулся, а глядел не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того, наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом»9.
Мученичество, страстотерпчество и исповедничество
Рядом с понятием мученичества находятся понятия страстотерпчества и исповедничества. Но между ними есть значительное различие. Мученик – это совершающий подвиг герой, активный борец за веру, за свои убеждения, человек, без всякого сожаления отдавший свою жизнь за веру во Христа. Страстотерпец – это кроткая, невинная жертва печальных обстоятельств, смиренно принимающий смерть с надеждой на Бога и жизнь вечную.
Страстотерпцами были первые русские святые – Борис и Глеб, а также последний русский император и члены его семьи. От них не требовали отречения от веры во Христа. Но Церковь оценила их отношение к смерти, которое свидетельствовало о том, что в их системе ценностей религиозная вера в жизнь вечную и Царство Христово занимала более высокое положение, чем ценность земной жизни.
В отличие от страстотерпца, и мученик, и исповедник – это лица, пострадавшие за свою веру за Христа. Но если
мученик в результате испытания его веры погиб, то исповедник сохранил свою жизнь, сохранил ее в силу благоприятно сложившихся обстоятельств, позволивших ему при этом не отречься от Христа. Исповедник обозначается греческим словом ομολογητης, которое можно перевести как «говорящий одно и то же совместно с другими», «говорящий с другими общеизвестное».
Употребление слова μαρτυς в Новом Завете
В Новом Завете слово μαρτυς встречается неоднократно. Так называется в Апокалипсисе Иисус Христос, «свидетель верный» (Откр. 1:5; 3:14), а также умерщвленный за веру Антипа (Откр. 2:14). В книге Деяний перед Вознесением Иисус Христос возлагает на Своих учеников служение свидетельства: «И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). В этой же книге в речи апостола Павла свидетелем называется архидиакон Стефан (Деян. 22:20)10.
В Новом Завете, таким образом, слово μαρτυς употребляется в первую очередь для обозначения проповедника Евангелия, новой вести, нового Божественного Откровения. Однако проповедники нового учения, начиная с Самого Христа, заканчивали свой путь насильственной смертью. Видимо, поэтому, слово μαρτυς стало обозначать преимущественно человека, который за свое свидетельство и за веру в это свидетельство и верность ему насильственно лишился жизни.
Мученичество как подражание Христу и как свидетельство о новом религиозном сознании
В основе мученичества-свидетельства лежит идея подражания Христу. «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего», – обращался Игнатий Антиохийский к римлянам (К Римлянам, глава 6)11. Древние христиане стремились во всей полноте подражать своему Божественному учителю, вплоть до насильственной смерти, они были охвачены своеобразным мистическим эросом мученичества как подражания Христу. Тот же Игнатий Антиохийский писал: «Не делайте для меня ничего более, чтобы я был заклан Богу теперь, когда жертвенник уже готов, и тогда составьте любовию хор и воспойте (хвалебную песнь) Отцу во Христе Иисусе... Оставьте меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым... Тогда я буду по истине учеником Христа, когда даже тела моего мир не будет видеть. Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвою Богу»12 (К Римлянам, главы 2 и 4).
Первые христианские проповедники свидетельствовали о новом религиозном учении, свидетельствовали не только словами, но и своими делами, включая самопожертвование. Добровольная смерть проповедников Евангелия в конкретных культурно-исторических условиях была одновременно и своеобразным свидетельством о новом религиозном сознании.
В настоящее время часто можно слышать о том, что религия – это дело внутреннее, это интимная сфера человека, это дело внутреннего убеждения. Однако такое понимание религии, которое проистекает от христианской традиции, было чуждо древним римлянам.
Для римлян был характерен религиозный формализм. Вера в богов, религиозность была тождественна участию в религиозном культе, совершению необходимых внешних религиозных действий. При этом мало кого интересовали внутренние убеждения. Среди приносивших жертвы было много таких, кто не верил в тех богов, которым эти жертвы предназначались. Особенно неверие было распространено в среде интеллигенции. Можно предположить, что христиане, считавшие языческих богов демонами, зачастую верили в их существование больше, чем образованные язычники.
Христианские мученики свидетельствовали о новом отношении к религии. Они показывали, что религия должна быть основана внутреннем убеждении, а само внутреннее религиозное убеждение обладает для человека такой значимостью, что ради него человек вполне может пожертвовать своей собственной жизнью. Своим подвигом мученики обличали распространенные в языческой среде религиозный формализм и религиозную поверхностность.
Такое серьезное отношение к религии было непонятно многим римским чиновникам, которые вели допросы христиан. Зачастую представители римской администрации просто упрашивали христиан пожалеть себя, воскурить на жертвеннике ладан, поклясться богами и сохранить жизнь. Непримиримость христиан казалась им величайшей глупостью и дерзостью, достойной кары.
Однако формализм официальной римской религии вызывал протест и недовольство и в самой языческой среде. Многие язычники с живым религиозным чувством обращались к восточным культам, привлекавшим своей таинственностью.
Причины гонений на христиан
Профессор А. П. Лебедев выделял три причины гонений на христиан в Римской империи: государственную, религиозную и общественную13. Первая и вторая причина определялись тем, что религия в империи была функцией государственной власти. Император являлся верховным жрецом, носил титул pontifex maximus. В империи существовал культ императоров. Тесная связь религии и государства приводила к тому, что посягательство на римскую религию рассматривалось как посягательство на римскую власть. Третья причина была связана с тем, что языческая религия пронизывала всю общественную жизнь, отражалась во всех памятниках римской культуры. Неприятие язычества христианами могло приводить их отрицанию всей римской общественной жизни и культуры а, следовательно, к неблагоприятному отношению язычников к христианам.
Такое рассмотрение причин гонений не учитывает особенностей отношения к христианам со стороны государственной власти и различных общественных слоев. В. В. Болотов рассматривал причины гонений на христиан в Римской империи через отношение к христианам различных общественных слоев: простого народа, правительства и интеллигенции14.
Отношение к христианам простого народа
Преследования христиан со стороны простого народа были характерны для начального этапа истории Церкви. И они имели вполне объяснимые причины. Первоначальное Христианство отличалось своей замкнутостью. Христиане держались обособленно, не принимали участия в языческом культе, собирались на тайные, закрытые от посторонних глаз собрания, которые могли проходить в и ночное время, когда любые собрания были запрещены законом. Все это порождало подозрительность и недоброжелательность со стороны языческого народа.
Для народа христиане были безбожниками. А безбожники неизбежно вызывают гнев богов. Этот гнев мог проявиться в стихийных бедствиях и природных катаклизмах, от которых могли пострадать все. И когда такие бедствия случались, раздавались народные крики, призывающие к расправе над христианами. Можно предположить, что этот народный гнев сдерживала только государственная власть, не одобрявшая беспорядков.
В сочинениях апологетов, христианских писателей II века, защищавших христиан от несправедливых обвинений, встречается три вида обвинения, которые выдвигались простым народом. Христианский апологет Афинагор Афинянин писал: «Нас обвиняют в трех преступлениях: в безбожии, в ядении человеческого мяса, подобно Тиесту, в гнусных кровосмешениях Эдиповских» (Прошение о христианах, III)15. Народ видел в христианах безбожников, которые занимаются каннибализмом и кровосмешением.
Безбожниками, или атеистами, христиане выглядели по той простой причине, что они отказывались принимать участие в общепринятом языческом культе и не воздавали должного почтения богам. В свою защиту последователи Христа говорили о своей вере в Бога. Но религиозную веру язычники понимали как участие в культе, пускай даже формальное. Так что представители интеллигенции, не имевшие внутренней веры, но исполнявшие внешние требования, в глазах общества, народа атеистами не являлись.
Христиане не принимали участия в общем языческом культе. Но не видел народ и того, чтобы христиане следовали и каким-то своим обрядам, поскольку христианское богослужение было сокрыто от посторонних взоров, и о существовании его можно было только догадываться.
Впрочем, народ знал, что христиане все-таки организуют свои собрания. Но что там происходит? До народа доходили слухи, что христиане на своих закрытых собраниях едят человеческое мясо и кровь. Поэтому собрания христиан народ называл тиестовскими вечерями. Это название связано с хорошо известным сказанием о Тиесте. Это популярный сюжет, который лег в основу не одной античной трагедии, например, трагедии, написанной знаменитым философом I века Сенекой. Согласно этому сказанию, Атрей, который соперничал со своим братом Тиестом, накормил Тиеста пищей, в которую добавил мясо детей Тиеста, и напоил его вином, разбавленным их кровью. Слухи о Евхаристии, причащении Плотью и Кровью с легкостью рождали в памяти народа знакомые образы.
Тесные, теплые взаимоотношения в христианской среде, именования «братья» и «сестры», ночные собрания христиан, некоторые из которых сами христиане называли Агапами, вечерями любви, рождали обвинение в эдиповских смешениях, или кровосмешениях. Это обвинение было связано с другим излюбленным античным литературным сюжетом, который использовали Софокл, Сенека и другие авторы. Легенда о царе Эдипе повествует о том, как родители новорожденного Эдипа, узнав в пророчестве, что их сын станет мужем матери и убийцей отца, решили избавиться от своего ребенка. Но Эдип выжил, и пророчество исполнилось. Пророчество свершилось, предначертание неотвратимо. Легенда как нельзя лучше иллюстрировала учение стоиков о безусловном предопределении.
Данные обвинения в адрес христиан психологически вполне объяснимы. Неизвестное, непонятное всегда вызывает враждебность и подозрительность. Аналогичным образом еще в XX веке простой православный народ России подозревал баптистов в убийстве и поедании младенцев.
Отношение к христианам правительства. Римская империя как империя языческая
Если в гонениях на христиан со стороны народа был произвол, то преследование христиан со стороны римского государства осуществлялись в соответствии с существующими правовыми нормами. Христианство явилось в мир как царство не от мира сего, а потому не имело правовой базы для своего существования. Получить статус законно существующего религиозного общества христианству мешали существующие законодательные традиции, с которыми Христианство вступало в конфликт. Сложность положения христианства определялась тесной связью язычества и государства, непримиримым отношением христианства к язычеству, консерватизмом и формализмом римлян, а также завещанной Христом миссией среди всех народов при существующем в империи запрете прозелитизма.
В Римской империи не было самостоятельного религиозного сообщества язычников, имеющего свою независимую от государства структуру и управление. Язычество не имело организации, подобной церковной. Своеобразную языческую церковь попытается создать только император Юлиан Отступник в IV веке. Религия была государственным делом, функцией государственной власти. Верховным жрецом был император, а жрецы – государственными чиновниками. Поэтому борьба христианства с язычеством становилась одновременно и борьбой христианства с государственной властью, государственным устройством. Такое положение становилось особенно очевидным вследствие существования культа императоров, получившего особое распространение в период империи. Непримиримость христианства по отношению к языческой религии в этих условиях делало христиан врагами императора и всего римского государства, великое прошлое которого было целиком и полностью связано с язычеством.
Римский консерватизм и отношение к культам других народов
Римляне отличались консерватизмом, приверженностью к старым традициям и старым формам. Христианство противоречило традициям Римской империи. Вместе с этим для римлян была характерна религиозная поверхностность. Римляне почитали большое количество богов, среди которых были общегосударственные, городские, семейные. Обширность империи, включавшей в себя многие народы, требовала от римлян уважения к чужеземным культам, культам завоеванных народов. Ничего сложного в этом для язычников не было. Боги других народов переселялись в римский пантеон, отождествлялись с римскими богами. Так греческий Зевс воспринимался как Юпитер, a Афина – как Минерва. Римляне уважали культы других народов. Но это должны были быть национальные культы, обладающие авторитетом древности. Именно это позволяло относительно свободно существовать иудейской религии, даже не смотря на то, что иудейство категорически не принимало языческого культа.
Вполне возможно, что в I веке к христианству власть также относилась вполне терпимо, поскольку не сразу начала отличать христиан от иудеев. Окончательный разрыв с иудейством и расширение числа верующих во Христа за счет обращенных язычников сделало очевидным для власти самостоятельность христианства как религиозного сообщества, его инаковость по отношению к иудейству. Однако Христианство как отдельная религия не имела ничего, что могло бы обеспечить ей снисходительность со стороны государства. Христианство не являлось национальной религией. Оно провозглашало себя как религию универсальную, в которой нет эллина и иудея, нет ни национальных, ни социальных, ни половых различий. Христианство не обладало авторитетом древности, хотя и утверждало свои корни в иудейской религии. Наконец, Христианство занималось запрещенным в империи прозелитизмом.
Прозелитизм как божественная заповедь
Римское государство преследовало пропаганду чужеземных культов в Риме и прозелитизм. Однако пропаганда, проповедь, обращение в свою веру было для Христианства жизненной необходимостью. He связывающая себя ни с какой национальностью, новая универсальная религия могла существовать и расширяться только через обращение представителей других религий. Более того, проповедь, прозелитизм были заповеданы христианам Самим Божественным учителем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19). Прозелитизм являлся для христиан заповедью.
Существование христиан не вписывалось в существующие законы, и они выглядели врагами римского государства. Лучшие правители Рима видели, что распространение Христианства подрывало основы государства, а потому становились сторонниками или инициаторами преследования христиан.
Юридические основания преследования христиан
Преследование по форме
В Римской империи христиане были бы гонимы даже в том случае, если бы против них не издавалось никаких указов и распоряжений. Христианская Церковь противоречила существующему праву и по своей форме (как общество), и по своему содержанию (как выступающая против языческой религии и законов государства).
По форме Христианская Церковь являлась и является религиозным обществом, т. е. обществом людей. В древности, как и в настоящее время, существовали различные формы объединения людей. В Римской империи существовал целый ряд коллегий. Коллегии были либо дозволенные, либо недозволенные. Последние были запрещены законом, поскольку имели зачастую антигосударственные цели. «Под именем новых коллегий собирались многочисленные шайки, готовые на любые преступления», – писал римский историк Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Август, 32:1)16.
Государственная власть стремилась контролировать деятельность коллегий. Обычно на их собраниях присутствовал представитель власти. В целом ко всем коллегиям власть относилась с подозрением и недоброжелательностью, стремясь всячески ограничивать как количество коллегий, так и количество общих собраний их членов. Например, император Траян отказал просьбе своего наместника в вифинской провинции Плиния Младшего об организации в Никомедии коллегии пожарников из 150 человек, которые бы находились под постоянным наблюдением: «Какое бы имя и по каким бы основаниям мы не дали тем, кто будет вовлечен в такой союз, он в скором времени превратится в гетерию. Лучше поэтому приготовить все, что может потушить огонь, и уговорить домовладельцев пользоваться таким оборудованием у себя и в случае надобности обращаться за помощью к сбежавшемуся на пожар народу» (Письма Плиния Младшего. Книга 10. Переписка Плиния с Траяном. Письмо 34)17.
Если власть недолюбливала даже дозволенные коллегии, то на незаконные она могла смотреть просто как на открытый бунт.
Христианство же являлось для власти коллегией недозволенной. Христиане любили собираться для молитвы в ночное время. С точки зрения закона такие собрания были ночными сборищами. Ночные сборища еще законами «Двенадцати таблиц» рассматривались как преступление, как уголовное дело. Закон против ночных сборищ применялся, например, к приверженцам культа Бахуса.
Снисходительностью со стороны императоров пользовались коллегии бедных и погребальные коллегии, которые создавались для взаимопомощи несостоятельных людей. Так император Траян разрешил жителям города Амис организовать кассу взаимопомощи, которая должна была использоваться «не на смуты и недозволенные союзы, а на поддержку бедняков» (Письма Плиния Младшего. Книга 10. Переписка Плиния с Траяном. Письмо 93)18. Впрочем, это разрешение было обусловлено внутренней автономией города, а в других городах император повелевал такие учреждения запрещать, о чем сообщалось в этом же письме.
В коллегии бедных могли вступать даже рабы. Некоторая терпимость к погребальным коллегиям была связана с особым отношением римлян к погребениям как местам священным. Можно предположить, что в определенные периоды христианские общины могли существовать под видом подобного рода коллегий. Подобным образом поступают в настоящее время некоторые религиозные секты, которые регистрируются в качестве общественных организаций.
Вероятно, именно поэтому христианам жилось спокойно при тех императорах, которые снисходительно относились к коллегиям. Именно таким императором был, например, Галлиен.
До наших дней дошел устав подобной коллегии, из которого видно, что члены коллегий имели обыкновение собираться на общие трапезы. В христианских коллегиях эти трапезы могли вполне приобретать богослужебный характер. Приведем текст устава подобной коллегии19.
«В консульство М. Антония Либера и П. Муммия Сизенны в январские календы (1 января 133 г.) учреждена спасительная коллегия Дианы... и Антиноя в третью диктатуру Л. Цезенния, сына Люция Квир. Руфа и в его же патронство. Глава из сенатского постановления римского народа:
«Да позволено будет сходиться, собираться, иметь коллегию. Кто захочет вносить ежемесячные взносы на похороны, пусть собирается в эту коллегию, и пусть не собираются под видом этой коллегии, кроме как раз в месяц, чтобы вносить (отчисления) на расходы по погребению покойников». На благо, счастие и спасение импер. Цезарю Траяну Адриану Августу и всему его дому, нам, нашим и нашей коллегии, хорошо и старательно сорганизуемся, чтобы мы честно совершали похороны умерших. Итак, мы все должны согласиться, чтобы мы путем регулярных взносов могли на долгое время утвердиться. Ты, желающий впервые вступить в эту коллегию, сначала прочти устав и вступи так, чтобы ты потом не жаловался и не оставил своему наследнику тяжбы.
Устав коллегии
Все решили, чтобы всякий, кто захочет вступить в эту коллегию, дал в качестве вступительного взноса 100 сест. и амфору хорошего вина, а также ежемесячно по 5 ассов. Решено также, что, кто в течение шести месяцев подряд не уплатит взносов, тому средства на похороны не будут отпущены, если он даже составил завещание. Также решено: кто из этой корпорации умрет, уплатив все взносы, на него отпускаются из кассы 300 сест., из каковой суммы уйдут на раздачу участникам процессии 50 сест., которые будут розданы у погребального костра, а похоронная процессия совершается пешком.
Решено также, что если кто умрет за 20 миль от муниципии и об этом будет сообщено, то туда должны будут отправиться выбранные от нашей корпорации три человека, которые позаботятся о похоронах и должны будут дать отчет общему собранию добросовестно; и если будет обнаружен у них какой-либо обман, они уплачивают штраф в четверном размере. Им возмещаются расходы по его погребению, сверх того на путевые издержки туда и обратно по 20 сест.
Если кто умер дальше от муниципии чем на 20 миль и нельзя было дать знать об этом, то тот, кто его похоронил, пусть засвидетельствует удостоверением, подписанным 7 римскими гражданами, и после подтверждения факта ему надлежит возместить, согласно закону коллегии, его расходы на похороны, если есть достаточная гарантия, что никто более претендовать не будет, за вычетом сумм, розданных на похоронах. Пусть в нашей коллегии не будет злого умысла; пусть ни патрон, ни патронесса, ни хозяин, ни хозяйка, ни кредитор не имеет никакого права иска к коллегии, за исключением случая, когда кто-нибудь будет назван наследником по завещанию. Если кто умер без завещания, то будет похоронен по усмотрению квинквенала и общего собрания (populus).
Также решено: если умрет состоящий в коллегии раб и тело его несправедливо не будет выдано хозяином или хозяйкой для погребения, а завещания он не оставил, ему будет устроено погребение in effigie (το есть похоронные обряды будут совершены не над трупом умершего, а над его изображением). Также решено: если кто по какой-либо причине покончил самоубийством, тому средства на похороны не будут отпущены. Решено также, что, если раб, состоящий в этой коллегии, получит свободу, он должен дать амфору хорошего вина. Решено также: если кто в порядке очереди по списку будет в свой год магистром по устройству трапезы, а он не соблюдает (правила) и не устроит (трапезы), тот внесет в кассу 30 сест. Следующий (по списку) должен будет дать и должен будет вместо него устроить. Расписание трапез: 8 мартовских ид – Цезенния... отца; 5 декабря кал. – день Антиноя; августовские иды – день Дианы и коллегии; в кал. сент. – день брата Цезенния Сильвана; накануне нон... – день матери Корнелии Прокулы; 19 кал. янв. – день Цезенния Руфа, патрона муниципии. Магистры трапез, назначенные в порядке очереди по списку, должны будут, в каждой очереди по четыре человека, поставить по одной амфоре доброго вина, хлебов в два асса по числу членов коллегии, сардины числом 4, убранство для обеденного ложа, горячую воду и посуду. Также решено, что, кто из членов этой коллегии будет назначен квинквеналом, тот должен быть свободен с того периода, когда он будет квинквеналом, и из всех раздач ему должна быть дана двойная доля. Также решено давать из всех раздач шестерные доли писцу и рассыльному.
Решено также: что тому квинквеналу, который безупречно выполнил свои обязанности, в виде премии выдается шестерная доля всего, чтобы и другие рассчитывали на ту же (премию) за правильные действия.
Решено также: что, если кто захочет жаловаться или доносить, пусть он доносит в конвент, чтобы в торжественные дни мы пировали спокойно и весело.
Решено также: что, если кто по случаю возмущения перейдет с места на другое место, он уплачивает штраф в 4 сест. А если кто будет говорить что-либо порочащее другого или окажется склочником, то на него пусть наложен будет штраф в 12 сест. Если кто-нибудь во время пира скажет что-нибудь порочащее или оскорбительное квинквеналу, то с него штраф 20 сест.
Решено также, чтобы квинквенал в торжественные дни в течение срока своих полномочий совершал молитвы с (воскурением) ладана и (возлиянием) вина и выполнял прочие обязанности, одетый в белое, а в дни Дианы и Антиноя выставил перед трапезой масло (для натирания) для коллегии в общественной бане».
Помимо профессиональных коллегий, погребальных и коллегий бедных, существовали и религиозные коллегии, целью которых было чествование определенного божества. Религиозные коллегии отличались духом единства и теплыми братскими отношениями.
Преследование по содержанию. Обвинение в магии и преступлениях против религии
Итак, даже сам факт существования Христианской Церкви как организованного сообщества являлся вызовом римскому законодательству. С другой стороны, и каждый из христиан в отдельности вступал в противоречие с существующим законом. Многих из христиан могли обвинить в магии, и каждого из них – в преступлении против религии и власти.
Магия, колдовство приравнивались в Римской империи к отравительству. Такого рода обвинение могли звучать в сторону христиан в тех случаях, когда язычники видели стойкость мучеников, либо становились очевидцами проявления чрезвычайных дарований, чудотворений, которые, по свидетельству древних памятников, сопровождали жизнь первых христиан. Этим можно объяснить упоминание об урине, которой поливали мучеников язычники. Урина считалась верным средством против магии. Но стойкость христиан проистекала от силы Божией и нравственной силы христиан. Книги Священного Писания, которые христиане прятали от язычников, в глазах преследователей могли выглядеть магическими книгами. Такие книги сжигали, а магов казнили, распиная на крестах.
Обвинения в преступлении против религии были и вовсе неизбежны. Закон требовал чтить богов. Почитание богов выражалось в принесении жертв. Внутренние убеждения при этом значения не имели. Такого рода преступления наказывались смертью. Известна история о Пифагоре, который чуть было не пал жертвой обвинения в безбожии. Поскольку Пифагор являлся вегетарианцем, он отказывался принести в жертву животное. Из такого сложного положения он вышел благодаря тому, что принес в жертву быка, сделанного из теста. Жертву в определенной мере могла заменить клятва во имя богов, но христиане и этого не могли допустить.
Обвинение в преступлениях против власти
Преступление против религии у христиан переходило в преступление против власти. Высшим наказанием, как и в преступлении против религии, тут была смертная казнь. Однако при данном обвинении не учитывались смягчающие обстоятельства – пол и возраст. Показания рабов на господ, которые обычно не принимались, в данном случае были допустимы. При таком обвинении пытки применялись даже по отношению к знатным лицам.
При существовании культа императоров, особенно распространенного в восточных провинциях, христиане становились не просто преступниками против власти, a могли обвиняться в оскорблении величества. К этому вел как отказ воскурить ладан перед статуей императора, так и оскорблявший императора непослушанием отказ почитать богов, которых повелевал почитать император. Оскорбление величества могло пониматься очень широко. Например, в правление Тиберия по такому обвинению могли осудить того, кто позволял себе дерзость переодеваться перед статуей Августа20.
Обвиняемые в непочитании императора христиане оправдывались тем, что они с большим уважением относятся к императору, молятся за него. Церковный писатель III века Тертуллиан писал, обращаясь к гонителю христиан проконсулу Африки Скапуле: «Обвиняют нас также в том, что мы не имеем достодолжного почтения к императорам; но между нами никогда вы не встречали ни Кассиев, ни Альбианов, ни Нигрианов (т. е. цареубийц). Те самые, которые накануне клялись гением цезаря, приносили жертвы и давали обеды за благополучие императоров и часто осуждали христиан, оказались врагами императора. Христианин никому не враг, а тем менее императору, зная, что Бог его поставил императором и что его надо любить, уважать, что надо оказывать ему почести, молиться о здравии его и о благополучии государства, доколе мир стоит. Стало быть, мы почитаем императора столько, сколько нам дозволено почитать его, и в той мере, в какой он сам этого должен желать. Мы признаем его за человека, который хранит данную ему от Бога в удел власть, который поставлен Богом и который ниже одного только Бога. Император, конечно, одобрит подобных почитателей, потому что мы, ставя его ниже только бога, признаем его выше всех людей и даже выше всех ваших богов, которые состоят в его власти. Мы также приносим жертвы за благоденствие императора, но приносим их единому нашему и его Богу, а жертвы эти – молитвы, предписанные нам Богом» (Ad Scapulam, 21. Однако от христиан требовали не молитв за императора, а молитв к божественному императору.
Отношение к христианам интеллигенции
Интеллигенция Римской империи стала выражать свое отрицательное отношение к христианству только к IV веку. Враждебность образованных язычников была небеспричинной. Римская культура достигла значительных высот в своем развитии. Духовная культура в лучших своих проявлениях приблизилась к некоторым христианским преставлениям. Например, исследователей занимает вопрос о родстве этики стоиков и христианской морали. He случайно возникла апокрифическая переписка апостола Павла с философом Сенекой.
Однако язычники обвиняли христиан в ненависти к человеческому роду. Основания для этого давали сами христиане. Вся культура античного мира была культурой языческой, проникнутой духом языческих мифов и языческой религии в целом. В борьбе с язычеством христиане готовы были порой отвергнуть и всю античную культуру.
Христиане разбивали статуи богов, показывая, что статуи бессильны и не являются богами. Но веры в идолов не имели и образованные язычники, для которых статуи были только прекрасными памятниками искусства.
Испытывая притеснения, христиане ожидали скорейшего прихода Христа и гибели мира, столь враждебного к ним. Это воспринималось как ненависть ко всему человеческому роду. Античный человек высоко ценил участие в общественной, политической жизни. Христиане чуждались общественной жизни, поскольку она была связана с языческим культом, обнаруживали равнодушие к политике. Лучшие императоры для христиан были худшими, поскольку только худшие императоры не обращали на них внимания и не инициировали преследований.
Языческая интеллигенция критиковала Христианство и из идейных соображений. Чуждыми для античного сознания с его извечным стремлением к славе были христианский аскетизм, проповедь смирения, кротости, незлобия, прощения.
История гонений на христиан
Первый период гонений
Ранняя Церковь, как уже было отмечено, развивалась на территории Римской империи. Это обстоятельство имело для христиан и положительные, и отрицательные последствия. Условия империи были благоприятны для проповеди. Но все положительные факторы могли легко обращаться и против самого Христианства, когда государство решалось на его преследование. И основная проблема заключалась в том, что в условиях империи, в правовом поле Римской империи, Церковь не могла найти места для своего существования
Вопрос о количестве гонений на христиан в Римской империи. Периодизация истории гонений
В прошлом предпринимались попытки сосчитать антихристианские гонения в первые три века Христианства. Долгое время количество гонений в Римской империи определяли числом «10». Так считали и древние, и некоторые новые церковные историки. Это число напоминало им о десяти египетских казнях или десяти рогах апокалиптического зверя. Казни и рога воспринимались как своеобразные прообразы гонений. Такой взгляд был характерен, например, для латинского историка V века Сульпиция Севера, автора 2-х книг Хроники. Однако число это является одновременно и слишком большим (если считать централизованные общеимперские гонения), и малым, т.к. в первые три века христиане находились в постоянной опасности, и мученики появлялись даже в благоприятные для христиан времена.
В целом правильнее говорить не о количестве гонений, а о нескольких периодах в трехсотлетней истории гонимой Церкви. Таких периодов насчитывается три. Каждый из них характеризуется особым подходом римской власти, народа и интеллигенции к проблеме существования христиан. Первый период ограничивается I веком, когда Христианство существовало под покровом иудейской религии. Второй период охватывает полтора столетия – весь II и половину III века, когда преследования имели стихийный характер и зависели от доносчиков. Третий период – с 250 по 313 год – был самым небольшим по продолжительности, но самым жестким по интенсивности гонений, поскольку государственная власть занялась целенаправленным поиском христиан. Негативное отношение народа к христианам проявилось только в первом и в части второго периода, a интеллигенции – только в самом конце гонений и уже после прекращения гонений со стороны государства. Так что со всеми тремя общественными силами христианству одновременно столкнуться так и не пришлось.
Особенности первого периода гонений
В первом периоде гонений, т. е. в I веке, как римская власть, так и римское общество в целом, едва ли были способны отличить Христианство от иудейской религии. Можно утверждать, что в это время Христианство воспринималось властью как иудейская секта, а не отдельная, самостоятельная религия. Об этом однозначно говорит книга Деяний.
Из Деян. 18:14–16 ясно, что римский проконсул в Коринфе Галлион видел в иудейских нападках на апостола Павла лишь внутренний иудейский религиозный спор: «Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища».
Подобным образом оценивали обвинения апостола Павла со стороны иудеев и представители римской администрации в самом Иерусалиме – комендант Иерусалима Лисий и прокуратор Антоний Феликс, что видно из Деян. 23:26–29: «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу – радоваться. Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков».
В I веке христиане могли преследоваться со стороны иудеев, а со стороны римской власти – вместе с иудеями, как представители одного из иудейских направлений, какими они считались самой властью.
Положение христиан при императорах Тиберии и Калигуле
Достоверных исторических свидетельств о каком-либо отношении императоров Тиберия (14–37) и Калигулы (37–41) к христианам у нас нет. Существует только легенда о донесении Пилата императору Тиберию о Христе и решении Тиберия причислить Христа к римским богам. Стоит упомянуть, что при императоре Тиберии обвинение в оскорблении величества звучали достаточно часто. Насчитывают до 147 таких судебных процессов. Историк Светоний (70–140) сообщает, что «смертным преступлением стало считаться, если кто-нибудь перед статуей императора бил раба или переодевался, если приносил монету или кольцо с его изображением в отхожее место или публичный дом, если без похвалы отзывался о каком-нибудь его слове или деле» (Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 58)22.
Император Калигула, по свидетельству того же Светония, и вовсе притязал на божеское величие, «он распорядился привезти из Греции изображения богов,...чтобы снять с них головы и заменить своими... Он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды » (Жизнь двенадцати цезарей. Гай Калигула, 22:2–3)23. Как могли жить христиане при таких императорах, догадаться несложно.
Положение христиан при императоре Клавдии
Первое упоминание о взаимоотношениях христиан с римской властью связано с дядей Калигулы, императором Клавдием (41–54). Историк Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» пишет о Клавдие, который заботился об укреплении Греко-римской религии: «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима... Богослужение галльских друидов, нечеловечески ужасное и запрещенное для римских граждан еще при Августе, он уничтожил совершенно. Напротив, элевсинские святыни он даже пытался перенести из Атгики в Рим, а сицилийский храм Венеры Эрикийской, рухнувший от ветхости, по его предложению был восстановлен из средств римской государственной казны» (Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Клавдий, 25:4–5)24.
Этот отрывок до сих спор вызывает споры, связанные с именем Chrestus. Античные источники свидетельствуют о том, что такое имя существовало. Оно было распространено среди римских рабов и вольноотпущенников. Есть предположения, что упоминаемый Светонием Хрест(ус) был иудейским бунтовщиком, или это был человек, претендовавший на звание Мессии-Христа. Вместе с тем, есть достаточные основания для того, чтобы под именем Chrestus понимать имя Christus.
Известно, что в III веке Тертуллиан жаловался на то, что язычники искажают название христиан (К язычникам, I, 3), а некоторые латинские надписи II–III века имеют форму Chrestianos. Ошибка в написании имени Христа может объясняться двояко. Во-первых, латинское Chrestus происходит от греческого Χρηστος. Это имя отличается от имени Христа одной буквой. Χρηστος переводится как «добрый, счастливый», а Χριστος – «намазанный, натертый, помазанник». Для язычников, далеких от иудейских представлений о Помазаннике-Мессии, имя Хрест(ус) было более знакомо и понятно, чем имя Христ(ус). Во-вторых, данная ошибка может объясняться фонетической путаницей. Дело в том, что первый век был переходной эпохой, когда менялась традиция чтения некоторых букв в греческом языке. Это затронуло и произношение греческой буквы «η», которая стала произноситься не как «и», а как «е».
Событие, описанное Светонием, могло произойти, скорее всего, после смерти иудейского царя Ирода Агриппы в 44 году, с которым у Клавдия были хорошие отношения. Существует предположение, что упомянутые Светонием беспорядки были связаны со спором среди первых христиан об исполнении закона, спором, который нашел свое разрешение на Апостольском соборе 50 года.
В связи с изгнанием иудеев из Рима находится упоминание в Деяниях Акилы и Прискиллы, которые после своего изгнания из Италии поселились в Коринфе, где стали учениками апостола Павла. Деяния сообщают, что апостол Павел «пришел в Коринф; и, найдя некоего иудея, именем Акилу, родом понтянина, и Прискиллу, жену его, – потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, – пришел к ним; и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал» (Деян. 18:2–3). Это было во время второго миссионерского путешествия (49–51 г.), еще до путешествия в Рим (около 60 года).
О свидетельстве Светония упоминал в начале V века Орозий: «В том же девятом году Клавдия (50 год) были изгнаны из Рима иудеи, как сообщает Иосиф (Флавий). Но меня больше трогает Светоний, который пишет: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, Клавдий изгнал из Рима», потому, что это было связано с возмущением иудеев против Христа, призывавшего их к смирению. И поскольку христиане были родственны им по религии, то изгнали и их, без различия между ними» (История против язычников, VII :6)25. Это упоминание интересно также тем, что в нем признается тот факт, что в середине I века в Риме христиан от иудеев не отличали.
Если под именем Хрестус в сообщении Светония подразумевается Иисус Христос, то отсюда можно сделать вывод о том, что Христианство получило распространение в Риме еще до прибытия туда апостола Павла.
Гонение на христиан при императоре Нероне
Первым гонением на христиан принято считать гонение при императоре Нероне (54–68). Мы имеем несколько свидетельств о событиях и сопутствующих им обстоятельствах – у римских историков II века Тацита и Светония. В 64 году в ночь с 18 на 19 июля в Риме случился пожар, который бушевал десять дней. Из 14 районов города сохранились лишь 4. В народе распространился слух о причастности к пожару Нерона. Желая отвести от себя подозрение, Нерон обвинил в поджоге христиан.
Корнелий Тацит (около 58–117) в «Анналах» гонение на христиан рассматривает как следствие римского пожара: «Но никакие человеческие усилия, раздачи принцепса, приношения богам не могли истребить позорящей его молвы о преднамеренном поджоге. И вот, чтобы прекратить слухи, Нерон подыскал виновных и подверг тягчайшим мукам людей, ненавидимых за их мерзости, которых чернь называла христианами. Прозвание это идет от Христа, который в правление Тиберия был предан смертной казни прокуратором Понтием Пилатом. Подавленное на некоторое время это зловредное суеверие распространилось опять, и не только в Иудее, где возникло это зло, но и в самом Риме, куда отовсюду стекаются гнусности и бесстыдства и где они процветают. Итак, сначала были приведены к ответу те, которые покаялись, затем по их указанию великое множество других, не столько по обвинению в поджоге, сколько уличенные в ненависти к роду человеческому. И к осуждению их на смерть добавилось бесчестие. Многие, одетые в звериные шкуры, погибли, растерзанные собаками, другие были распяты на кресте, третьи – сожжены с наступлением темноты, используемые в качестве ночных светильников. Нерон предоставил свои сады для лицезрения этих огней и устроил игрища в цирке, где сам, наряженный возницей, толкался в толпе плебеев или разъезжал на колеснице. Так что хотя то и были враги, достойные самой суровой кары, они пробуждали сострадание, поскольку были истреблены не ради общей пользы, но из-за жестокости одного человека» (Анналы, 15:44)26.
Светоний, говоря о преследовании христиан Нероном, не связывает их с римским пожаром. В «Жизни двенадцати цезарей» Светоний сообщает о правлении Нерона: «Многие строгости и ограничения были при нем восстановлены, многие введены впервые: ограничена роскошь; всенародные угощения заменены раздачей закусок, в харчевнях запрещено подавать вареную пищу, кроме овощей и зелени – а раньше там торговали любыми кушаниями; наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия; прекращены забавы колесничих возниц, которым давний обычай позволял бродить повсюду, для потехи обманывая и грабя прохожих; отправлены в ссылку пантомимы со всеми своими сторонниками» (Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 16:2)27.
Подлинность части «Анналов» Тацита, рассказывающей о гонении на христиан, оспаривается некоторыми историками. Дело в том, что эта часть дошла до нас в единственном списке XI века, вышедшем из аббатства Монтекассино. Кроме того, об упоминании Христа Тацитом не отмечали в своих трудах ни Тертуллиан, ни Ориген, ни Евсевий, ни Иероним, ни другие раннехристианские авторы. В настоящее время историки, признавая подлинность этого сообщения в целом, допускают, что отдельные его детали, включая упоминание о Христе и Понтие Пилате, являются позднейшими христианскими вставками.
В гонение Нерона христиане могли пострадать как иудейская секта, пострадать вместе с иудеями. О том, что гонения затрагивало иудеев, говорится в апокрифической переписке апостола Павла с Сенекой. Вполне возможно, что Тацит, живший в более позднюю эпоху, когда христиан уже отличали от иудеев, перенес на события эпохи Нерона черты своего времени.
С гонением императора Нерона церковное предание связывает смерть апостолов Петра и Павла. По мнению В. В. Болотова, смерть апостола Павла правильнее относить к 62 году: Павла судили как римского гражданина, а в 64 году об этом вряд ли бы вспомнили28.
Гонение на христиан при императоре Домициане
Император Тит Флавий Домициан (81–96) был подозрительным человеком, постоянно боявшимся заговоров. Он казнил или изгнал многих сенаторов. Евсевий Кесарийский сообщает, что он призвал в Рим потомков царя Давида, опасаясь их претензий на престол, но когда он увидел их бедность и простоту, он отпустил их (Церковная история, 3:20).
После императора Нерона казна была опустошена. Недостаток средств Домициан восполнял через введение многочисленных фискальных мер. Частью этих мер стало введение иудейского налога. До разрушения Иерусалимского храма в 70 году иудеи вносили на храм соответствующую подать. После 70 года они оказались праздны от религиозного налога. И тогда было решено заставить их платить налог на храм Юпитера Капитолийского. Но это оскорбляло религиозные чувства иудеев, отчего они всячески уклонялись от выплаты. Заподозренных в иудействе и отказывавшихся признать себя иудеями осматривали на наличие обрезания. Чтобы избежать унизительного осмотра, платили налог даже необрезанные.
Говоря об этих событиях, Светоний писал: «С особой суровостью по сравнению с другими взыскивался иудейский налог: им облагались и те, кто открыто вел иудейский образ жизни, и те, кто скрывал свое происхождение, уклоняясь от наложенной на это племя дани. Я помню, как в ранней юности при мне в многолюдном судилище прокуратор осматривал девяностолетнего старика, обрезан ли он» (Жизнь двенадцати цезарей. Домициан, 12:2)29. Когда император Нерва отменил этот налог, благодарный сенат выбил специальную памятную монету «За отмену клеветы иудейского фиска».
Обстоятельства, связанные с введением данного налога, отражались как на иудеях, так и на иудео-христианах. Это было гонение, которое имело скорее не религиозный, a финансовый характер. Больше всего внимание властей было обращено на поиск скрытых иудеев, в числе которых могли рассматриваться христиане. Введение этого налога могло поспособствовать тому, что власть начала отличать христиан от иудеев. Согласно церковному преданию, в правление Домициана был арестован Иоанн Богослов.
Второй период истории гонений на христиан в Римской империи
Особенности второго периода гонений
Второй период гонений охватывает полтора столетия – с начала II века до 250 года. В начале II века Христианство вышло из тени иудейской религии. Власть и общество осознали, что вышедшие из иудейства последователи Христа представляют собой самостоятельное религиозное направление. Этому способствовало несколько факторов.
Во-первых, численность христиан начала значительно увеличиваться, причем не за счет иудеев, а за счет обращенных язычников. Во-вторых, произошел разрыв между иудеями и христианами. Окончательно этот разрыв закрепится в 30-х годах II века, когда, отвергнув Христа, большинство иудеев признает своего мессию, Симеона Бар Кохбу. Свою роль в этом разрыве могло сыграть отношение христиан к разрушению Иерусалима и храма в 70 году Титом. To, что для евреев являлось религиозной и национальной трагедией, для христиан было исполнением пророчества Христа, доказательством истинности Его пророчеств, рождавшим не только скорбь, но и духовную радость. Выделению христиан от иудеев в глазах общества и власти мог поспособствовать иудейский фиск, введенный императором Домицианом.
Выход из тени иудейства только осложнил положение христиан. Теперь любой донос мог привести к смертному приговору. Однако в этот период власть занимала выжидательную позицию. Государство поиском христиан не занималась. Судебные дела начинались только при условии случайного обнаружения христиан, что было возможно, например, при доносе.
Династия Антонинов. Император Траян
После убийства в 96 году Домициана императором был поставлен престарелый сенатор Марк Кокцей Нерва (96–98). Он прекратил террор, отменил иудейский фиск. Нерва усыновил Марка Ульпия Траяна. Так началось правление династии Антонинов, ставшее в истории империи золотой эпохой мира и процветания.
Траян (98–117) был первым императором провинциалом. Происходил он из Испании. Энергичный, доброжелательный, строгий приверженец закона, он заботился о поддержании отеческой религии. Траян отличался гуманностью. Он основал приют для детей, не терпел низкую лесть, отменил преследования за оскорбление величества. Траян расправился с доносчиками эпохи Домициана. Как писал Плиний Младший, «все они были посажены на быстро собранные корабли и отданы на волю бурь» (Панегирик императору Траяну, 34–35)30.
Плиний Младший свидетельствует, что Траян не стремился развивать культ императора. «Ты же входишь в храм только для того, чтобы самому там молиться, и допускаешь в качестве наивысшей почести для себя, чтобы статуя твоя была поставлена перед дверями храма, – хвалит императора Траяна Плиний. – Таким образом получается, что боги сохраняют свое возвышенное положение среди людей, раз ты сам на него не претендуешь. Поэтому мы видим всего лишь две-три твои статуи в притворе храма великого и всемилостивого Юпитера, да и то медные» (Панегирик императору Траяну, 52)31. Об отношении Траяна к христианам свидетельствует переписка Траяна с Плинием Младшим.
Положение христиан при императоре Траяне
Плиний Младший (61/62–111/1ІЗ)32 был племянником автора «Естественной истории» Плиния Старшего, ученого и исследователя, интересовавшегося всем на свете – от устроения вселенной до способов выпечки хлеба, погибшего под пеплом Везувия. Гай Плиний Секунд был известен Нерве и Траяну. При Домициане он чуть не пострадал: на него был написан донос. Около 111 года Плиний прибыл в Вифинию как легат императора. Императорская провинция Вифиния, расположенная на севере Малой Азии, находилась в состоянии упадка, управлялась взяточниками33. Плиний начал наводить в ней порядок, обладая качествами, не позволявшими ему брать взятки – честностью и богатством.
От Плиния дошел сборник писем в десяти книгах и Панегирик императору Траяну. Десятая книга писем содержит его переписку с императором. В Вифинии Плиний столкнулся с христианами. He зная, как обходиться с ними, он спросил об этом императора. Письмо Плиния к Траяну о христианах и ответ императора являются ценнейшим источником по истории отношений Церкви и государства во II веке.
В письме 96 Плиний обращается к императору Траяну:
«(1) Для меня привычно, владыка, обращаться к тебе со всеми сомнениями. Кто лучше может наставить меня в нерешительности или наставить в неведении? Я никогда не присутствовал на следствиях о христианах: поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой мере наказывать. (2) Немало я колебался, есть ли тут какое различие по возрасту, или же ничем не отличать малолеток от людей взрослых: прощать ли раскаявшихся или же человеку, который был христианином, отречение не поможет, и следует наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или преступления, связанные с именем. Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал так. (3) Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они не признались, но их следовало наказать за непреклонную закостенелость и упрямство. (4) Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан, назначил к отправке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, как это уже обычно бывает, преступников стало набираться все больше, и обнаружились случаи разнообразные. (5) Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий множество имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить, когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим, которое я с этой целью велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном и вином, а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих поступков. (6) Другие названные доносчиком сказали, что они христиане, а затем отреклись: некоторые были, но отпали, одни три года назад, другие много тому лет, некоторые лет тому двадцать. Все они почтили и твое изображение, и статуи богов, и похулили Христа. (7) Они утверждали, что вся их вина и заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали делать после моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные сообщества. (8) Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. (9) Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в опасности множества людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов, которых зовут и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но и по деревням и поместьям, но, кажется, ее можно остановить и помочь делу. (10) Достоверно установлено, что храмы, почти покинутые, опять начали посещать; обычные службы, давно прекращенные, восстановлены, и всюду продается мясо жертвенных животных, на которое до сих пор едва-едва находился покупатель. Из этого легко заключить, какую толпу людей можно исправить, если позволить им раскаяться»34.
В письме 97 содержится ответ императора Траяна:
«(1) Ты поступил вполне правильно, мой Секунд, произведя следствие о тех, на кого тебе донесли как на христиан. Установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать их незачем: если на них поступит донос и они будут изобличены, их следует наказать, но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т. е. помолится нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не должно принимать во внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени»35.
Некоторые исследователи склонны отрицать подлинность 9–10 ст. письма. Однако из «Апологии» Тертуллиана следует, что эти стихи были в тексте уже в III веке: «Когда Плиний Младший управлял провинцией, то он, одних христиан осудив, а других, лишив должностей, обратился к тогдашнему императору Траяну за разъяснением, что ему делать на будущее время, так как он был смущен самим множеством их» (Апология, II)36.
Вопросы Плиния и ответ на них Траяна можно представить в следующем виде:
| Вопрос Плиния | Ответ Траяна |
| Наказывать за имя христианина или за преступления, связанные с именем? | Наказывать за имя христианина. |
| Учитывать ли возраст и другие смягчающие обстоятельства? | Установить общее правило невозможно. |
| Прощать ли раскаявшихся? | Раскаявшихся – прощать. |
| Чем удостоверяться в отречении от Христа – жертвой богам, императору или проклятием Христа? | Молитвой богам. |
| Плиний приял анонимный донос и начал дело сам, без обвинителя. | Анонимные доносы не принимать, самому христиан не разыскивать. |
Можно сказать, что письмо императора Траяна ограничивало произвол чиновников по отношению к христианам.
Следует также обратить внимание на то, что Плиний отсылал римских граждан на суд в столицу (как это было и с апостолом Павлом), что в письме Плиния упоминается о ночных собраниях христиан, антифонном пении и диаконисах (служительницах женщинах).
В правление императора Траяна пострадали Игнатий Антиохийский (Богоносец) (между 104 и 106 годами) и Симеон Иерусалимский (в 106–107 или 115–116 годах).
Христиане в сочинениях сатирика Лукиана
В эпоху Антонинов, которая считается временем расцвета культуры, жил сатирик Лукиан (около 120 – около 185). В своих сочинениях, высмеивая и религию, и философию, он несколько раз упоминает о христианах. В памфлете «Александр, или лжепророк» он описывает своего современника – шарлатана, который использовал в своих личных целях невежество народа. По описанию Лукиана, Александр учредил особые мистерии, которые в Афинах начинались возгласом: «Если какой-нибудь безбожник, христианин или эпикуреец придет подсматривать наши тайные богослужения, он будет изгнан». После этого «Александр первым произносил: «Христиан – вон!», а толпа отвечала: «Вон эпикурейцев!». Затем происходило священное представление» (Александр, 38)37. Из этого отрывка видно, что во втором веке народ считал христиан безбожниками.
Особый интерес представляет сочинение Лукиана «О смерти Перегрина», в котором Лукиан также рассказывает о своем современнике, авантюристе, который всю жизнь стремился к стяжанию славы. Лукиан, помимо прочего, рассказывает о том, как Перегрин, принявший имя Протей, стал христианином.
«(11) Тогда-то он и познакомился с удивительным учением христиан, встречаясь в Палестине с их жрецами и книжниками. И что же вышло? В скором времени он всех их обратил в младенцев, сам сделавшись и пророком, и главой общины, и руководителем собраний – словом, один был всем. Что касается книг, то он толковал, объяснял их, а многое и сам сочинил. Они (христиане) почитали его как бога, подчиняясь установленным им законам и избрали своим покровителем: они ведь еще и теперь почитают того человека, который был распят в Палестине за то, что он ввел в жизнь эти новые таинства.
(12) Тогда Протей был схвачен за свою принадлежность к ним и посажен в тюрьму, но даже и это придало ему немало весу в дальнейшей жизни для шарлатанства и погони за славой, которой он жаждал. Лишь только Протей попал в заключение, как христиане, считая случившееся несчастьем, пустили в ход все средства, чтобы его оттуда вырвать. Когда же это оказалось невозможным, они старались с величайшей внимательностью ухаживать за Протеем. Уже с самого утра можно было видеть у тюрьмы каких- то старух, вдов, детей-сирот. Главари же христиан даже ночи проводили с Протеем в тюрьме, подкупив стражу. Потом туда стали приносить обеды из разнообразных блюд и вести священные беседы. Милейший Перегрин – тогда он еще носил это имя – назывался у них новым Сократом.
(13) И как ни странно, пришли посланники даже от малоазиатских городов, по поручению христианских общин, чтобы помочь Перегрину: замолвить за него словечко на суде и утешить его. Христиане проявляют невероятную быстроту действий, когда случится происшествие, касающееся всей общины, и прямо-таки ничего не жалеют. Поэтому к Перегрину от них поступали значительные денежные средства, так что заключение в тюрьме само по себе превратилось для него в хороший источник доходов. Ведь эти несчастные уверили себя, что они станут бессмертными и будут жить вечно; вследствие этого христиане презирают смерть, а многие даже ищут ее сами. Кроме того, первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу, после того как отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому софисту и жить по его законам. Поэтому, приняв без достаточных оснований это учение, они в равной мере презирают всякое имущество и считают его общим. И вот, когда к ним приходит обманщик, мастер своего дела, умеющий использовать обстоятельства, он скоро делается весьма богатым, издеваясь над простаками» (О смерти Перегрина, 11–13)38.
Лукиан высмеивает христиан, но делает это по-доброму, испытывая к ним жалость. Христиане наивны, доверчивы, заботятся друг о друге как о самых близких и родных. Это все может вызвать к ним даже симпатию. Описание обстоятельств ареста очень напоминает происходившее с Игнатием Богоносцем. Его навещали в темнице, к нему приходили представители малоазийских Церквей, а он направлял в эти Церкви свои послания.
Положение христиан при императорах Адриане, Антонине, Марке Аврелии и Коммоде
Император Траян усыновил Публия Элия Адриана. Адриан (117–138) был очень деятельным императором. На месте разрушенного Иерусалима он основал римскую колонию, назвав новый город в честь себя и в честь храма Юпитера Капитолийского, заложенного на месте храма, – Элия Капитолина. Именно это наименование Иерусалима встречается в христианских источниках последующих столетий, в том числе и в канонических определениях Вселенских соборов. Адриан жестоко подавил последнее анти-римское восстание Иудеев, восстание Бар Кохбы. При Адриане мученическую кончину примет римский епископ Телесфор (+135/137). Об этом сохранилось упоминание у Иринея Лионского .
Адриан усыновил Тита Аврелия Ария Антонина, имя которого дало наименование всей династии и целой эпохе. Антонин (138–161) за особое благочестие получил прозвище Пий, т. е. Благочестивый. Его правление стало эпохой мира, благоденствия и процветания. Антонин отличался человечностью, простотой, мягкостью и доброжелательностью. Однако и при нем шли процессы против христиан. В его эпоху был казнен муж апостольский Поликарп Смирнский. Описание его смерти является самым древним (если не учитывать новозаветные данные) рассказом о мученичестве конкретного христианина39.
Преемником Антонина был Марк Аврелий (161–180), которого из-за его особой любви к философии называли «старушонка философесса». Философ-стоик, Марк Аврелий оставил после себя книгу размышлений «Наедине с собой», в которой нелестно отозвался о христианах (XI, 3:1). В его правление около 165 года стал мучеником христианский апологет Иустин Философ.
Родным сыном Марка Аврелия был Коммод (180–183), который стал императором в 19 лет. По страсти к зрелищам он напоминал Нерона, а своим неблагочестием – еще и Калигулу. Однако для положения христиан его царствование было не самым худшим. Известно, что конкубиной, наложницей Комода была христианка по имени Маркия. По ее инициативе из рудников были возвращены римские христиане, в том числе будущий папа Каллист.
Гонения на христиан не прекращались и при самых благочестивых правителях. Однако с такими императорами можно было надеяться хоть на какой-то разумный диалог. Поэтому к Антонинам обращались с христианскими апологиями Кодрат, Аристид, Мелитон, Иустин Философ. И хотя эти обращения значительных последствий не имели, само благочестие Антонинов породило мнение об их добром отношении к христианам. Так родились подложные указы Антонина Пия и Марка Аврелия, запрещающие преследовать христиан, которые передает Иустин Философ (Первая апология, 70, 71)40. Рядом с этими указами имеется и указ императора Адриана (Первая апология, 69), в котором предписывается наказывать христиан только в том случае, если обвинитель докажет, что они делают что-то противозаконное. По мнению В. В. Болотова, из всех этих трех указов, только указ Адриана может представляться подлинным41.
В тексте этого указа говорится следующее: «Адриан – Минуцию Фундану. Получил я письмо, написанное ко мне предшественником твоим, знаменитейшим Серением Гранианом, и не желаю оставлять без исследования дело, о котором мне донесено, чтобы и невинные не были в беспокойстве, и клеветникам не было повода заниматься гнусным ремеслом. Итак, если наши подданные в провинциях твердо могут поддержать свое требование против христиан, так что и пред судом смогут доказать, то не запрещаю им делать это; только не дозволяю им прибегать к громким требованиям и крикам. Гораздо справедливее, чтобы если кто захочет донести, ты сделал дознание о деле. И тогда, если кто донесет и докажет, что вышеупомянутые люди делают что-нибудь против законов, то ты определяй наказание сообразно с их преступлениями. Особенно постарайся, ради Геркулеса, о том, чтобы если кто по клевете потребует к ответу кого-либо из христиан, тебе поступать с таким человеком наистрожайшим образом, соразмерно с его гнусным бесстыдством» (Первая апология, 69)42.
Положение христиан в конце II – первой половине III века
После Антонинов правление перешло к ряду императоров восточного происхождения. Император Септимий Север (193–211) происходил из Сирии. Будучи правителем Африки, он освободил нескольких христиан сенатского звания, сделав это вопреки желанию толпы. Однако на десятый год своего правления он издал указ, запрещающий принимать иудейство и Христианство. Боролся он и с недозволенными коллегиями. При нем в Александрии погиб Леонид, отец учителя Церкви Оригена.
Антонин Каракалла (211–217), сын Септимия, не был достойным императором и христиан не преследовал. В 212 году он даровал римское гражданство всем жителям городов империи. Терпимо относился к христианам и Антонин Гелиогабал (218–222), который был жрецом солнечного божества Эль-Габала в Эмессе. Этот деморализованный император губил людей в шутку и хотел уничтожить римскую религию. В Рим он свозил восточные святыни. Вероятно, в проведении своей политики он рассчитывал на иудеев и христиан. Терпимо относился к христианам и его двоюродный брат Аврелий Александр Север (222–235). Сторонник религиозного синкретизма, он установил в своей молельне рядом со статуей Орфея статуи Авраама и Христа. Его мать с удовольствием слушала Оригена, а он сам был в дружеских отношениях с христианским писателем Юлием Африканом. Большинство императоров первой половины третьего века относились к христианам терпимо или с симпатией. Поэтому жестокое гонение, начавшееся в 250 году, для многих христиан явилось большой неожиданностью.
Третий период истории гонений на христиан и легализация христианства в Римской империи
Особенности третьего периода гонений
Третий период гонений на христиан отличался особой жестокостью. Он начался в 250 году с гонения императора Декия, а завершился Миланским эдиктом 313 года, который не только легализовал христианскую религию, сделав ее религией дозволенной, но и объявил религиозную свободу. С 250 года римская власть впервые взяла на себя инициативу по обнаружению, поиску христиан.
К середине III века Христианство значительно расширило ряды своих сторонников. Доведение судебных процессов до вынесения смертных приговоров в этих условиях привело бы к массовым казням, в которых власть не была заинтересована. Поэтому цель, которая стояла перед имперской администрацией, заключалась не просто в обнаружении и истреблении христиан. Власть стремилась добиться их отречения от веры, от Христа. Для достижения этой цели широко использовались жестокие пытки. Изощренные истязания приводили к тому, что многие из христиан не выдерживали мучений и отрекались. Гонения третьего периода дали большое количество отпадших.
Гонения третьего периода выявили изменения в отношении к христианам простого народа. Если в І–ІІ веке народ нередко становился инициатором расправы над христианами, то в этот период он выступал в их защиту.
Особенности гонения на христиан императора Декия
В историю император Декий вошел как хороший правитель, с большим вниманием вникавший в дела государства. Заботясь о нравственности римлян, Декий хотел восстановить цензуру. На должности цензора он желал видеть Валериана, будущего римского императора. Декий хотел упрочить древние римские традиции, укрепить единство империи через усиление влияния римской религии. Интересно, что в эту же эпоху в Персии правители новой Сасанидской династии пытались построить новое государство, стержнем, скрепой которого должна была стать религия. Препятствием в осуществлении планов Декия становилось Христианство.
В 250 году Декий издал указ, предписывающий преследовать не почитающих римскую религию. При этом инициатива по обнаружению этих людей отдавалась руководству провинций. Текст этого указа до нас не дошел. На практике он коснулся преимущественно церковных руководителей, епископов. От христиан требовали не только отречения от Христа, но и принесения жертвы. Это гонение дало больше исповедников, чем мучеников. Среди исповедников этого гонения были и знаменитый александрийский учитель Ориген. Дало оно и очень много отпадших.
Гонение Декия показало, что простой народ уже изменил свое отношение к христианам. Характерен случай, описанный Дионисием Александрийским в письме к Герману. В начале гонения было приказано найти Дионисия. Искали его по всем окрестностям, в то время как он находился дома и не думал скрываться. В дальнейшем он все-таки был арестован. Когда об аресте Дионисия узнал крестьянин, шедший по дороге на свадьбу, то рассказал об этом пирующим на свадьбе гостям. «Те, словно сговорившись, вскочили, понеслись бегом и, догнав нас, радостно закричали, – рассказывает Дионисий. – Воины, охранявшие нас, тут же убежали» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴI:40,5)43.
Либеллы. Отпадшие
При Декии началась тотальная проверка населения на верность языческой религии. Для выявления не почитающих римских богов назначались выборные лица. В установленный день жители каждого населенного пункта должны были собраться в определенном месте и принести жертву богам. Совершившим требуемое выдавали особые документы – либеллы, libelli. Либеллус, libellus представлял собой свидетельство, написанное человеком, от которого требовалось принести жертву, и заверенное выборными лицами. Существовали и индивидуальные, и коллективные либеллы. Имена законопослушных граждан вносили также в особые списки. До наших дней из Египта дошли подобные документы, которые свидетельствуют о том, что данная проверка затронула все население, включая самих языческих жрецов. Вот несколько таких документов44.
«Выборным по жертвоприношениям села Александру Незос от Аврелия Диогена Сатабута из села Александру Незос 72 лет, дом у подножия холма справа. Я всю свою жизнь приносил жертвы богам и теперь в вашем присутствии принес жертву согласно предписанию и совершил возлияние и вкусил от жертвенного мяса и прошу вас засвидетельствовать. Будьте счастливы. Подписал Аврелий Диоген. (Другой рукой:) Я, Аврелий Сир, видел, как ты приносил жертвы вместе с (сыном). (Третьей рукой)... он... (Первой рукой) В первый год императора цезаря Гая Мессия Квинта Траяна Деция благочестивого, счастливого Августа. Эпиф 2 (26 июня 250 года)».
«433. Выборным по жертвоприношениям от Аврелии... жрицы Петесуха великого, великого, вечно живого, и богов, в квартале Моерис... я всю свою жизнь приносила жертвы богам и теперь согласно распоряжению в вашем присутствии принесла жертву, совершила возлияние и вкусила от жертвенного мяса и прошу засвидетельствовать. (На этом папирус обрывается)»45.
В первой половине III века христианам жилось относительно спокойно. В III веке христианами стали рождаться, а не только становиться в результате собственного религиозного выбора. Религиозная ревность христиан начинала ослабевать. Поэтому, когда над христианами нависла реальная угроза пыток и смерти, многие из них отрекались сами, других призывали отречься друзья и родственники, a некоторые приносили даже своих грудных детей, чтобы приобщить их к языческой жертве. Отпадших было много в Египте и Карфагене. О ситуации в этих регионах мы знаем благодаря сочинениям Киприана Карфагенского и Дионисия Александрийского, которые в этот период укрылись от преследователей.
После прекращения гонений 50-х годов остро встал вопрос о большом количестве неверных христиан. Проблема возвращения в Церковь отпадших решалась через определение степени вины конкретного человека. Отрекшиеся без принуждения были виновнее тех, кто пал, не выдержав пыток. Были и такие, которые за деньги покупали либеллы или через подкуп вносили свои имена в списки принесших жертву.
Гонение на христиан при императорах Галле и Валериане
Гонение, начатое Декием, прекратил император Галл (251–253). Однако около 253 года началась новая волна преследований. Связано это было с эпидемией общеимперского масштаба. Для прекращения чумы император повелел всем приносить жертву Аполлону. Отказ христиан участвовать в жертвоприношении вызвал народное негодование. В Карфагене толпа требовала отдать христиан на растерзание львам.
Вместе с тем, моровая язва неожиданным образом изменила общественное мнение о христианах. В Александрии и Карфагене язычники не проявляли никакой заботы о больных, даже о родственниках, выбрасывали их из домов. Улицы были полны грудами трупов. В противовес этому, христиане заботились об умирающих, оказывая им помощь, погребали брошенные тела и тем самым препятствовали распространению эпидемии. Героизм и самопожертвование христиан оказало на язычников неизгладимое впечатление.
Вот как об этом пишет Дионисий Александрийский: «Весьма многие их наших братьев по преизбытку милосердия и братолюбия, не жалея себя, поддерживали друг друга, безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживали за ними ради Христа, радостно умирали вместе; исполняясь чужого страдания, заражались от ближних и охотно брали на себя их страдания ... Так уходили из жизни лучшие из братьев: священники, диаконы, миряне; их осыпали похвалами, ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой вере, считалась равной мученичеству... Язычники вели себя совсем по-другому: заболевших выгоняли из дома, бросали самых близких, выкидывали на улицу полумертвых, оставляли трупы без погребения – боялись смерти, отклонить которую при всех ухищрениях было нелегко» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІІ:22,7–10)46.
Гонителем христиан являлся и следующий император, Валериан (253–260). Он был достойным правителем, хотя и имел печальный конец. Валериан был пленен персидским царем Шапуром и скончался после жестоких пыток. Преследовать христиан он начал только с 257 года, что было достаточно неожиданно. В 257 году он издал указ, запрещавший христианам собираться на богослужение и посещать места погребения. Нарушителей указа ожидала смерть. В связи с этим указом были сосланы Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский.
Второй указ Валериана вышел в 258 году. Он предписывал казнить не отрекшихся от Христа епископов, пресвитеров и диаконов, знатных лиц лишать имущества, гражданства и, при упорстве в вере, жизни, а знатных женщин лишать имущества и ссылать. В это гонение были лишены жизни Киприан Карфагенский и Сикст Римский.
Положение христиан при императорах Галлиене и Аврелиане
Император Галлиен, сын Валериана, отличался артистическим складом, был хорошим оратором и поэтом. К государственным делам он относился с безразличием. Христианам при нем жилось неплохо. Галлиен был человеком добродушным и мягким. Когда ему сообщили о смерти его отца в плену, он ответил: «Я знал, что отец мой был смертен».
Галлиен отменил антихристианские указы отца. Христиане, например, Дионисий Александрийский, очень хорошо отзывались об этом императоре. По свидетельству Евсевия Кесарийского, Галлиен издал указ, которым возвратил христианам места их собраний и места погребения, (Евсевий Кесарийский Церковная история, VII:13)47. Но если Галлиен и отменил общегосударственное преследование христиан, то он не сделал Христианство дозволенной религией. В своих рескриптах он даже не упоминает имени христиан. Скорее всего, Галлиен рассматривал христианские общины как погребальные коллегии. Тем более, что председатели греческих коллегий также назывались епископами. О том, что Галлиен не легализовал Христианство, свидетельствуют казни христиан, которые случались в его правление.
Относительно спокойно жилось христианам при императоре Аврелиане (270–275). Это был превосходный военный, заботившийся о чистоте нравов в армии. В быту он был умерен и прост. Христианство ко времени его правления настолько укрепилось, что император даже помог выселить низложенного в 269 году Павла Самосатского из епископского дома в Антиохии. В принятии соответствующего решения Аврелиан ориентировался на мнение Римского епископа. В конце своего правления он подготовил указ против христиан. Новому гонению помешала только насильственная смерть Аврелиана.
Император Диоклетиан
Император Диоклетиан (284–305) происходил из низших общественных слоев. Прошел путь от простого солдата до императора. Он сумел укрепить границы империи, оживить ее общественную жизнь и провести важную реформу государственного управления. Он решил разделить империю на несколько частей, оставив под своим руководством ее восточную часть. Может показаться странным, что император предпочел Риму вифинский город Никомедию, в котором когда-то находился Плиний Младший. Однако мудрость этого императора покажет дальнейшее развитие событий. Западная римская империя падет в 476 году, а Восточная – только в 1453 году. Восток обладал гораздо большими ресурсами для своего развития. В том числе и человеческими ресурсами: постоянные войны привели к тому, что центральная часть империи попросту обезлюдела.
В 285 году Диоклетиан назначил себе соправителя. Им стал Максимиан Геркулий. Диоклетиан, правивший на Востоке, и Геркулий, правивший на западе, носили титулы августов. В 292 году каждому из августов были определены соправители-кесари. Западным кесарем стал Констанций Хлор, отец Константина Великого, восточным – молодой и энергичный Галерий. Диоклетиан планировал, что со временем два августа одновременно оставят трон, а власть перейдет к кесарям.
Гонение на христиан при императоре Диоклетиане и его соправителях
Гонение на христиан началось только в 303 году. Историки полагают, что подлинным виновником его нужно считать не престарелого Диоклетиана, а его кесаря и зятя Галерия. Процесс реформирования империи, забота о ее идейном укреплении посредством религии вызвали один из последних всплесков гонений. Так же как и его восточный август, Галерий вышел из низов. После удачного персидского похода 296–297 года он был овеян славой победителя и имел большой авторитет.
До начала этого гонения христиане жили в относительном спокойствии около сорока лет. Они уже позволяли строить себе храмы. Много христиан было в армии, они проникли в систему государственного управления, некоторые из них служили во дворце. Вместе с тем, и на это указывает Евсевий Кесарийский, общий нравственный уровень последователей Христа несколько упал: «Полная свобода изменила течение наших дел: все пошло кое-как, само по себе, мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями и только что, при случае, не хвататься за оружие; предстоятели Церкви – ломать друг о друга словесные копья, миряне восставать на мирян; невыразимые лицемерие и притворство дошли до предела гнусности» (Церковная история, VIII: 1,7).
Началось гонение 23 февраля 303 г. с разрушения никомедийской церкви, которая, кстати, была видна из окон Дворца императора. Свидетелем начала гонения был латинский историк Лактанций, описавший это гонение в сочинении «О смертях преследователей».
За разрушением церкви последовал указ, предписывающий разрушать христианские общественные здания и отбирать священные книги христиан. Христиан предписывалось пытать, лишать должностей. После этого во дворце произошел пожар. Кроме того, в Сирии и Армении появились претенденты на трон. Христиан обвинили в поджоге и сообщничестве с заговорщиками. Так появилось еще несколько указов.
Второй указ 303 года предписывал лишать свободы не только епископов, пресвитеров и диаконов, но даже чтецов и заклинателей. В результате в тюрьмах не осталось места Уголовным преступникам. Третий указ требовал, чтобы духовные лица принесли жертву. После этого их следовало отпускать. В 304 году, когда Диокпетиан был близок к
смерти, Галерий издал четвертый указ, повелевавший любыми средствами добиваться отречения от веры во Христа.
Особенно жестокими гонения были на Востоке, Азии, в Египте, где действовал сам Галерий. Сильные пытки приводили даже к самоубийствам христиан. Многое об этих гонениях мы знаем от их свидетеля, Евсевия Кесарийского, который говорит о невероятном количестве смертей. Однако интенсивность гонения отличалась в разных регионах. В отдельных местах представители языческих властей сами искали возможности помочь христианам. Определенные симпатии к преследуемым проявлял и народ.
Положение христиан после смерти Диоклетиана до 311 года
1 мая 305 года Галерий стал августом на Востоке. Кесарем на Востоке стал противник христиан Максимин Дайя. Одновременно на Западе августом стал Констанций Хлор, который назначил кесарем своего сына Константина. Галерий, не считаясь с мнением Констанция, определил западным кесарем Севера, который был убит в 307 году. В 306 году августом Запада провозгласил себя Максенций, сын Максимиана. В 307 году Галерий августом Запада определил Лициния. Но еще перед этим войска провозгласили августом Константина, которого Галерий признал лишь как кесаря.
В отличие от Востока, на Западе положение христиан было легче. А с середины 305 года на Западе гонение практически прекратилось. На Востоке преследования начали затихать только в 310 году. В 311 году Галерий и вовсе издал указ, который фактически легализовал Христианство. Впрочем, этому указу пытался противостоять его кесарь, Максимин.
Легализация христианства. Миланский эдикт 313 года
Ожесточенные преследования христиан начала IV века показали всю бессмысленность гонений. Численность христиан значительно возросла, увеличился их вес в обществе. Языческая власть, видя бесперспективность прежней своей позиции, отступила. В 311 году император Галерий издал эдикт, которым христианам объявлялась величайшая милость – им дозволялось существовать.
Эдикт пытался оправдать как прежнее гонение, так и его прекращение. Причина гонений, согласно тексту эдикта, виделась в том, что христиане оставили секту своих предков, т. е. уклонились от своих собственных древних учреждений. Из эдикта следует, что преследования были спровоцированы ростом сектантства внутри Христианства. Гонения прекращаются, потому что меры против христиан эффекта не дали. «Пусть снова будут христиане, пусть они составляют свои собрания, только бы не делали ничего противозаконного»48. Власть косвенно признавала древность Христианства. Эдикт легализовал Христианство, но переход в Христианство из язычества по-прежнему был вне закона.
Историки полагают, что в виду опасности прозелитизма в 312 году появился очередной эдикт, первый Миланский эдикт, запрещавший язычникам принимать Христианство.
Знаменитый Миланский эдикт Константана и Лициния (второй Миланский эдикт), который провозгласил полную религиозную свободу, был издан в 313 году. Каждый отныне мог сам определять, во что верить. Христианам возвращались отнятые прежде места богослужебных собраний. В греческом переводе указ сохранился у Евсевия Кесарийского. Латинские отрывки текста дошли через Лактанция (О смертях преследователей, XLVIII)49.
В «Церковной истории» Евсевия Кесарийского имеется такой текст эдикта: «С давних пор, считая, что не следует стеснять свободу богопочитания, но, напротив, надо предоставлять уму и воле каждого заниматься Божественными предметами по собственному выбору, мы издали повеление как всем другим, так и христианам хранить свою веру и свое богопочитание. (3) Но так как в указе, содержавшем это разрешение, были упомянуты неопределенно многие и различные вероисповедания, то, возможно, некоторые вскоре лишились возможности хранить свою веру. (4) Когда же я, Константин август, и я, Лициний август, благополучно прибыли в Медиолан и обсуждали всё, что относится к общей пользе и благополучию, то среди прочего, что сочли мы во многих отношениях полезным для всех, решили прежде всего издать постановление, которое поддерживало бы страх Божий и благоговение, то есть даровать и христианам, и всем свободно, по своему собственному желанию выбирать веру, дабы небесное Божество, как бы Его ни называли, относилось благосклонно и к нам, и к подданным нашим. (5) Итак, руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение: никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая, по его мнению, ему подходит, дабы Божество ниспосылало нам во всех случаях скорую помощь и всякое благо. (6) Угодно нам совершенно отменить посланные прежде твоему благочестию распоряжения относительно христиан, весьма нелепые и несовместимые с нашей кротостью. Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни было помехи. (7) Мы решили обстоятельно изъяснить это твоей попечительности, дабы ты знал, что мы даровали христианам полное право совершать богослужение. (8) Поскольку же им даруется неограниченная свобода, то твоей чести должно быть понятно, что дается свобода и другим, по желанию, соблюдать свою веру, что и соответствует нашему мирному времени: пусть каждый свободно, по своему желанию избирает себе веру. Так определено нами, дабы не казалось, будто мы умаляем достоинство какой-либо веры. (9) Кроме того, касательно христиан мы постановляем следующее: если места, в которых они раньше собирались и о которых в прежде присланной твоей чести грамоте предписано совершенно иначе, куплены у нашей казны или у кого-либо, то пусть их вернут христианам безвозмездно, без возврата заплаченной за них суммы, немедленно и беспрекословно. Равным образом получившие такие места в дар должны немедленно вернуть их христианам. (10) И если купившие эти места или получившие их в дар хотят просить за них от нашей доброты вознаграждения, то пусть обратятся в суд к нашему правителю, и наша милость не оставит их просьбы без внимания. Все это твоей заботливостью должно быть возвращено христианскому обществу без промедления. (11) И так как христианам принадлежали не только те места, где они обычно собирались, но и другие, составлявшие собственность не только частных лиц, а целого общества, то согласно закону, только что нами изложенному, ты распорядишься без всякого промедления вернуть их христианам, т. е. всему их обществу и каждому собранию, соблюдая, конечно, и упомянутое указание о том, чтобы вернувшие те места безвозмездно рассчитывали на вознаграждение от нашей доброты. (12) Во всем этом ты должен оказать вышеупомянутому обществу христиан всяческое содействие, дабы наше распоряжение осуществилось как можно скорее и проявилась наша забота об общем народном спокойствии.
(13) За такие дела, как сказано выше, благоволение Божие, испытанное уже нами во многих случаях, да пребудет с нами во все времена. (14) А чтобы закон этот, свидетельствующий о нашем благожелательстве, был доведен до сведения всех, распорядись написанное нами обнародовать всюду и сообщить всем, дабы закон, данный по нашей доброте, оказался всем известен» (Церковная история, Х:5)50.
Языческая религия перестала быть государственной, a христианская еще не стала таковой. Константин, который станет единым императором, будет продолжать носить титул верховного жреца, но будет оказывать поддержку Христианству, воспитывая в нем и своих собственных детей.
Христианство и языческая мысль. Борьба Церкви с гностицизмом
Христианство соприкасалось с язычеством в жизни, что нашло отражение в гонениях, и в мысли. Соприкосновение в области мысли проявлялось либо в критике Христианства, либо в попытке синтеза.
Языческие критики христианства в первые три века
Языческая интеллигенция в основной своей массе относилась к новой религии без одобрения и сочувствия. Рассказывая о пожаре в Риме при Нероне, Тацит писал, что христиане были уличены «в ненависти к роду человеческому», что они – «враги, достойные самой суровой кары». Он же отмечал, что сочувствие к ним было вызвано только тем, что они гибли «не ради общей пользы, но из-за жестокости одного человека» (Анналы, ХѴ:44.)51.
Плиний Младший в письме к императору Траяну так- же презрительно отзывается о христианах, отмечая, что в результате допроса служительниц он «не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия»52.
Благородный человек, философ-стоик, император Марк Аврелий не одобрял христианской решимости идти на смерть, жажды мученичества: «Душе, готовой ко всему, не трудно будет, если понадобится, расстаться с телом, все равно, ждет ли ее угашение, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не слепым упорством, как у христиан, a рассудительностью, серьезностью и отсутствием рисовки: только тогда она убедительна и для других» (Наедине с собой, ХІ:3)53.
У сатирика Лукиана христиане вызывали только сочувствие и жалость. Таково было отношение лучших представителей языческой интеллигенции к христианам. Недоверие к христианам усиливали слухи, которые ходили в народной среде.
Во второй половине II века интеллигенция смогла ближе познакомиться с Христианством. Это знакомство иногда приводило к обращению в Христианство (например, Иустин Философ), а иногда вызывало критику христианства. Так появилось сочинение «Истинное слово», написанное Цельсом54. Об этом сочинении мы знаем благодаря ответу на него Оригена – «Против Цельса»55. Цельс считал христиан заговорщиками. Христианство не имеет авторитета древности, оно вышло из дурного источника – иудейства, заимствовав от него самое худшее – склонность к бунтам. Цельс критикует учение о воплощении и воскресении. Высокое нравственное учение, по его утверждению, есть не только у христиан, еще раньше оно появилось у греков, благодаря Платону.
В конце III века появились «Пятнадцать слов против христиан» философа Порфирия56. В отличие от Цельса, Порфирий проявляет большую осведомленность о христианстве. Он критикует Христианство, основываясь на основном его источнике – Священном Писании. Он находит противоречия в новозаветных книгах, критикует христиан за отмену ветхозаветных установлений. Порфирий критикует книгу пророка Даниила, которая, по его мнению, была написана во времена Антиоха Епифана для укрепления духа евреев, но пророчества ее после эпохи Эпифана оказываются ложными. Порфирий также разделяет учение Христа, который стоял на национальной почве, от учения апостолов, которые признали Христа Богом.
Около 300 года правитель Вифинии Иерокл написал «Правдолюбивое слово к христианам»57, которое дошло до нас в отрывках. Опровержение этого произведения было написано Евсевием Кесарийским. Иерокл допускал возможность мирного сосуществования христианства с язычеством, поскольку между ними есть много общего. Однако Христианство не могло идти на компромисс с язычеством, считая себя единой истинной универсальной религией. Вероятно, это понял и Иерокл, при котором гонения в Вифинии имели особый размах. Своеобразным компромиссом, предложенным язычеством христианству еще во II веке, но отвергнутым Христианством, стал гностицизм.
Происхождение гностицизма
Соприкосновение язычества с Христианством в области мысли могло приводить к причудливому синтезу. Примером подобного синтеза является гностицизм. Название гностицизма происходит от греческого слова γνωσις, «знание», и говорит о том, что его сторонники претендовали на некое особое знание, на полноту знания.
Гностицизмом принято называть совокупность разнородных религиозно-философских учений, сочетавших в себе элементы греческой философии и мифологии, восточных религиозных верований и христианства.
Язычники, узнававшие о Христианстве, вступавшие в Церковь, не всегда были готовы отказаться от богатого культурного опыта древнего мира. Они стремились понять, объяснить, истолковать Христианство сквозь присущие им религиозно-философские представления. Ho этот компромисс, предлагаемый язычеством, был неприемлем Христианству, которое осознавало себя не отвлеченной интеллектуальной религиозно-философской системой, но религией Откровения, основанной на историческом событии Боговоплощения.
Bo II веке Церковь уже далеко вышла за пределы Палестины, вступила на почву, богатую различными религиозными и культурными традициями. В это время в римском религиозно-политическом сознании происходят изменения. Возникает космополитизм и, как его проявление, религиозный синкретизм. Относительное спокойствие в империи, мир, способствовали значительному культурному обмену. Римский мир много видел, много вкусил и стал неспособен на верность чему-то одному.
В этом же II столетии и возник гностицизм. Именно в это время Церковь вступила в новый этап своей истории. Это было время перехода от апостольского века в век мужей апостольских, когда встала проблема авторитета. Уже не оставалось в живых самовидцев Слова, свидетелей жизни и проповеди Иисуса Христа. В сознании некоторых христиан могли возникать вопросы: «То, что мы имеем, действительно ли происходит от апостолов?», «Все ли из того, что проповедовал Христос, известно Церкви?». Гностики утверждали, что помимо общеизвестного Откровения существует тайное, сокрытое от большинства знание, которым они и обладают. Собственно, слово «гностик» можно передать и другим словом – «знающий».
Раннее Христианство отличалось простотой и демократичностью. Его первые проповедники – апостолы – не принадлежали к социальным или интеллектуальным верхам общества, не отличались образованностью. Успех проповеди апостолов был связан не столько с личностью проповедников, сколько с благодатным воздействием, которым обладала эта проповедь. Новозаветные книги были написаны на простом разговорном, бытовом греческом языке. Но за простотой языка и кажущейся простотой содержания в них кроется глубина мысли. Евангелие и просто, и глубоко, поэтому оно находило отклик и в среде простых людей, и в среде интеллектуальной элиты.
Однако многие образованные язычники не хотели довольствоваться только общепринятым евангельским учением. Им хотелось большего. В стремлении к духовной элитарности они начали развивать особые тайные учения. Так в интеллектуальной среде зародился гностицизм, представителей которого историк Э. Ренан называл аристократией знания58. Эта аристократия знания полагала, что она имеет более возвышенное, полное представление о жизни и учении Иисуса Христа, что она обладает истинным знанием. Однако в поиске сокровенного знания они пренебрегали знанием реальным, историческим Христианством.
Общий характер гностицизма
До нас дошли и упоминания о гностических системах, и изложения этих систем. Разнообразие гностических учений столь велико, что едва ли возможно провести какую-то систематизацию или классификацию. Однако эти системы имеют некоторые общие черты.
Во-первых, главной чертой гностицизма является синкретизм. Синкретизм вообще был отличительной особенностью этой эпохи. Официальная римская религия, имея формальный характер, являясь государственной религией, не удовлетворяла людей, имевших живое религиозное чувство. Взоры многих с надеждой обращались на Восток, хранящий сокровища мудрости. Восточные культы, восточное религиозное мировоззрение приобретали на Западе много сторонников. Перенос восточных традиций на почву греко-римской традиции приводил к их замысловатому смешению. Опыты соединения восточной и западной традиций известны еще с предшествующего времени. Достаточно вспомнить знаменитого иудея Филона Александрийского, который пытался выразить библейское учение языком греческой философии, используя аллегорический метод.
Во-вторых, гностицизм имел религиозно-философский характер. Он вбирал в себя традиции религиозных мистерий. Для достижения знания гностики зачастую использовали мистические методы – созерцание, экстаз, а не мышление, как в философии. Вступление в гностическое сообщество сопровождалось религиозными обрядами посвящения. В их молитвах, которые больше напоминали заклинания, звучали еврейские слова, сирийские фразы. Так и в языческих заговорах в Египте употреблялись еврейские слова «Саваоф», «Адонай». Этим придавалась таинственность. Как и философия, гностицизм пытался объяснить происхождение материального мира из духовного. Вера и философия согласовывались у гностиков посредством использования аллегорического метода толкования священных текстов, посредством поиска в них таинственного смысла.
В-третьих, гностические учения имеют своеобразную форму изложения, на которую повлияли восточные мифы и греческая философия. Гностики выражали свое учение на языке образов и символов, характерном и для Платона, Филона, Плотина. В. В. Болотов так характеризовал форму гностических учений: «Скорее это были опыты поэтического изложения, не философские системы, а религиозные эпопеи»59.
В-четвертых, большинство гностических учений отличает философский дуализм, противопоставление материального и духовного. Гностическая идея всеобщего восстановления предполагает будущее освобождение от уз материи и связана с мифом о падении души. Материальное бытие – это ошибка, случайность, следствие отпадения части Духовного мира в небытие. Материальный мир, жизнь, история – это то, чего не должно быть, это ненормальность. Избавление от пут материи и есть спасение. Такое спасение начинается от научения. Духовные элементы, находящиеся в мире, должны получить знание о своей духовной природе и об истинном мире, мире духовном. В. В. Болотов называл гностицизм философией пессимизма60.
Дуализм оказывал влияние на антропологические взгляды. Гностики делили всех людей на три категории – духовных, душевных и плотских. Первые совершенны по природе. Вторые способы достичь совершенства подвигами. Третьи обречены природой на чувственные влечения и погибель. В реальной жизни борьба с плотью, материей могла приобретать как форму аскетизма, так и форму распущенности, поскольку злоупотребление плотью, излишества оказывают на тело угнетающее воздействие.
Гностики имели свои священные книги, среди которых были не только канонические, но и апокрифические христианские книги, которые, по их мнению, содержали тайное учение апостолов. Гностические книги сообщали об устроении видимого и невидимого мира и сообщали о средствах спасения. Каждая гностическая школа связывала себя с одним из апостолов или учеников апостолов.
Классификация гностических учений. Гностицизм и гносис
Большое количество гностических учений и их синкретический характер не позволяют произвести их классификацию, распределить в группы на основе наиболее общих признаков. Существуют различные попытки классифицировать эти учения. Исходя из отношения к материи можно классифицировать гностицизм на александрийский, воспринимавший материю безразличным не-сущим, и сирийский, относившийся к материи как к злу. При классификации можно учитывать отношение к иудейству, национальный характер, этическую сторону, преобладание конкретного религиозного элемента (языческого, иудейского, христианского).
Некоторые исследователи разделяют понятия гносис и гностицизм, поскольку существовали гностические учения, не имеющие христианской составляющей. Так А. Хосроев смотрит на гносис как на более широкое понятие. С этой точки зрения, на христианской почве гносис трансформировался в гностицизм, а на почве языческого платонизма – в герметизм. Отсюда проводится различение гностика и гностициста. Гностическим ответвлением христианства Хосроев считает монтанизм61.
Источники. Русские исследователи
До 1945 года основными источниками по изучению гностицизма являлись сочинения христианских критиков. К числу их относятся «Пять книг против ересей» Иринея Лионского , «Философумены» Ипполита Римского, сочинения Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена, «Панарион» Епифания Кипрского. Книг самих гностиков почти не было известно.
Гностики критиковались не только христианами, но и языческими философами платониками. По свидетельству Порфирия (Жизнеописание Плотина, 16), Плотин на своих лекциях критиковал гностиков и составил против них книгу62. Эта книга стала частью «Второй Эннеады» (11:9) Плотина63.
В 1945 году на восточном берегу Нила в Верхнем Египте, в Наг-Хаммади была открыта коптская гностическая библиотека. Рукописи этого собрания, датируемые приблизительно 400 годом, включают около 50 трактатов на коптском языке. Это открытие позволило познакомиться с представлениями гностиков по первоисточникам. Среди открытых трактатов есть Евангелие Истины, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Фомы, три версии Тайного учения Иоанна, Откровение Адама, Природа архонтов, Два откровения Иакова, Экзегеза о душе, Книга Фомы, Деяния Петра и двенадцати апостолов, Истинное учение, герметические трактаты.
Из русских исследователей, которые уделяли особое внимание гностицизму, следует указать Ю. Николаева, М. Э. Поснова, посвятившего этой теме специальную монографию, Л. П. Карсавина, В. В. Болотова, А. Ф. Лосева, А. М. Сидорова, M. К. Трофимову, A. Л. Хосроева и E. В. Афонасина.
Учение Василида. Источники
Василид был родом из Сирии. В эпоху правления Адриана (117–138) он проживал в Египте, в Александрии. Со своим учением он выступил к сороковым годам. В тридцатых годах он написал книгу «Экзегетика», от которой дошли только фрагменты. Столкновение с Церковью привело к его отлучению в 144 году.
Существует две редакции его учения – в изложении Иринея Лионского (Против Ересей, І:24)64 и Ипполита Римского (Философумены, ѴІІ:20–27)65. Различия в изложении системы Василида связано с тем, что его учение не было застывшей системой, но постоянно эволюционировало. В. В. Болотов66 и Л. Карсавин67 считали, что версия Ипполита более верная, поскольку Ириней валентианизировал Василида. М. Поснов68 придерживался противоположной точки зрения. Рассмотрим версию Ипполита.
Первоначало, всесемянность, сыновства и архонты
Первоосновой, первоначалом всего является не-сущее, не-сущий Бог (ο ουκ ων θεος). Об этом Божестве Василид говорил в духе апофатического богословия, характерного для александрийской религиозной и философской традиции. Оно неопределимо, непостижимо, неизмеримо, неименуемо. Оно – радикально не-сущее. Но как от этого не-сущего происходит, возникает мир? Василид отрицал эманацию, поскольку Божество принципиально отличается от мира, отрицал творение, поскольку с ним связывалось некое движение, волю, которая обнаружила бы в Божестве нужду. Первоначало восхотело сотворить, но без мысли, без нужды, без чувства, без хотения, бесстрастно. Возникновение мира – это не событие (так как в нем не проявилась воля), не процесс (так как оно не является эманацией), но некое бесстрастное, бессознательное выпадение из не-сущего.
Первоначало дало бытие всесемянности (πανσπερμια) – совокупности семян, первичному смешению элементов. В этой панспермии весь мир был заключен так же, как в яйце павлина заключена птица с ее богатым опереньем. В панспермии, находящейся по ту сторону не-сущего, возникает трехчастное сыновство, включающее все самые лучшие элементы, наиболее близкие не-сущему.
Первое сыновство, едва выделившись от панспермии, движимое естественным стремлением ввысь взлетело, вознеслось к не-сущему. Это произошло мгновенно: минимум времени, истории, максимум Божества. Пребывание в панспермии есть нечто недолжное. Аналогичным образом хотело поступить и второе сыновство. Но оно оказалось неспособным к полету. Поэтому оно из неоднородных себе элементов создало крылатое существо – Святой Дух. С помощью этого существа, возникшего не в богобытии, а в истории, оно возносится к не-сущему. Что касается Духа, то он остается на границе не-сущего и сущего, за границей божественной области. Он становится твердью. Эта твердь пронизана благоуханием, ароматом близости к божественной сфере. Третье сыновство, являясь менее совершенным, не смогло ни само подняться, ни сотворить себе крылатого помощника. Оно пребывает в панспермии и является в ней самым лучшим. И именно с ним связана история спасения.
Тем временем, из низших элементов панспермии выделяется великий архонт. Могучий и прекрасный, он возносится к тверди, останавливаясь у ее границы. Он не знает о Боге и божественной сфере, считая себя, по собственному невежеству, богом для этого мира. Он рождает Сына и с ним творит эфирный мир. Подобным образом возникает и второй архонт со своим Сыном, который также занимается творением. Откровение Бога Авраама, Исаака и Иакова – это его откровение. Заповедь «да не будет у тебя богов иных» – является в этом контексте проявлением его невежества. To, что для христиан является вхождением Бога в историю, приближением Его к человеку, для гностиков есть невежество, ущербность. Третье сыновство оказывается во власти этого невежества.
Спасение
Для спасения третьего сыновства в мир нисходит благая весть. Она распространяется мгновенно, подобно индийской нефти. Эта весть есть надмирное знание о пределах и основаниях всего существующего. Это знание о том, что есть и где есть надмирное Божество. Сын одного из архонтов обращается и получает имя Христос. Благая весть достигает и третьего сыновства. В мире сила Всевышнего осеняет Марию. Ее сын Иисус становится через озарение учителем. Своей крестной смертью Иисус спасает, освобождает духовную сущность из мира. В образе Иисуса третье сыновство возносится к Богу. В итоге наступит восстановление всего, разрешение от истории и времени. Возникнет великое неведение. Второй архонт не будет знать о первом, первый – о сыновствах и не-сущем. В мире не будет знания о высшей сфере, не будет болезненного влечения к высшему.
Согласно Ипполиту, Василид говорил, что слышал слова Матфия, полученные им от Спасителя, когда Тот учил немногих (Фшософумены, ѴІІ:20).
Учение Валентина. Источники. Учение о плироме
Валентин происходил из Александрии. После 140 г. он пребывал в Риме. Там он, по свидетельству Тертуллиана, был одним из претендентов на папский престол. Отвергнутый Церковью, он и сам разорвал с ней связь. Валентин создал свою школу и имел множество учеников. Скончался он около 161 г. Учение Валентина было самым популярным гностическим учением, поэтому о нем упоминают многие источники. Вместе с тем, тексты самого Валентина почти не сохранились.
О Валентине писал Ипполит Римский (Философумены, VII), Ириней Лионский (Против ересей, І–ІІ), Тертуллиан (Против Валентина), Климент Александрийский (Строматы, ІІ–ІІІ; Извлечения из Феодота). Ученики его составили «Евангелие истины» (Против ересей, 111:9), обнаруженное в Наг-Хаммади. Ученик Валентина Гераклеон написал комментарий на Евангелие от Иоанна, который известен благодаря его критике Оригеном. Последнее издание фрагментов и свидетельств о Валентине было осуществлено в 2002 году E. В. Афонасиным69.
Система Валентина представляет собой теогоническую и космогоническую эпопею. Валентин в своем учении излагал историю создания и воссоздания плиромы (полноты, чистого бытия) и кеномы (пустоты, чистого небытия). Божественная сфера, бытие, плирома представляет собой совокупность эонов. Эон – это не количественное измерение времени, а качественное содержание времени. Понимание эона связано представление о реальности, внутренне, качественно завершенной.
Источником плиромы является Первоначало, Первоотец, Глубина. В безмолвном самопостижении Глубина раскрывает себя как супружеская пара, сизигия – Глубина и Мысль (Молчание). Из этой пары развивается полнота духовного бытия, рождаются парные эоны – Ум и Истина, Слово и Жизнь, Человек и Церковь и т.д. – всего три десятка эонов. Последняя пара – София и Вожделенный. Завершает все безбрачный эон Крест (Предел), находящийся на границе плиромы и кеномы. В плироме существует строгая иерархия, в ней нет истории и развития.
Изменения в плироме и кеноме. Спасение Помышления
Основная тема, инспирирующая разыгрывающуюся драму – тема знания. Знанием могут обладать только высшие эоны. Оно непередаваемо. Попытка незаконно овладеть им обратилось в трагедию. Ум хотел поделиться своим знанием с низшими эонами, но был удержан Молчанием. Однако трепет от его желания достиг Софии. Мучимая страстью познания, она порвала с Вожделенным и захотела устремиться вверх. Но она была удержана Пределом, который таким образом спас ее от гибели. От страсти она зачинает и рождает жалкий выкидыш – Помышление (Ахамот), которое выталкивается в пустоту, в небытие, во тьму кромешную.
В пустоте Ахамот блуждает, томится, скорбит от отчаяния. В кеноме Ахамот творит мир. Но изменения происходят и в плироме. Появляются новые эоны – Христос и Святой Дух. Они возникают вследствие ущерба, чтобы хранить эоны в своих пределах. Новые эоны вернули Софию к Вожделенному и уравняли все эоны. Появляется и эон Иисус, чтобы в будущем составить Помышлению пару. Иисус пробуждает в Ахамот жизнь духа. Ахамот устремляется за Иисусом, который дарует ей откровение через Параклита, эона, составляющего пару с Верой. Она освобождается от чувственного и возвращается в плирому. Вслед за Помышлением в плирому возводятся и души пневматиков, которых с собой соединяет Христос. А сотворенный мир ожидает погибель.
Согласно Клименту Александрийскому (Строматы, 7:17), Валентин заимствовал свою систему от Февды, ученика апостола Павла.
Считается, что система Валентина оказала влияние на систему Василида, как она изложена у Иринея. По Иринею, Василид говорил о спасении, принесенном Умом, который пришел на землю в призрачном теле и посмеялся над иудеями, распявшими под его видом Симона Киринейского.
Учение Маркиона
Маркион был представителем сирийского направления гностицизма. Некоторые исследователи, например, А. Гарнак, не относят его к числу гностиков. Маркион написал не дошедшую до нас книгу «Антитезы» («Возражения»). Выходец из Малоазийской церкви, он в 140-х годах был отлучен от церковного общения своим отцом, епископом Синопским. После этого он пытался добиться признания в христианских общинах Эфеса, Смирны, Рима. Отвергнутый, он основал свою церковь с общинами в Галлии, Италии, Африке, Малой Азии. Его общины просуществовали вплоть до X века. Многие рукописи латинской Вульгаты имеют предисловия к некоторым посланиям апостола Павла, которые, по мнению исследователей, восходят к Маркиону.
Основным источником сведений об этом еретике является сочинение Тертуллиана «Против Маркиона». Согласно Тертуллиану, главной задачей Маркиона было разделение Закона и Евангелия, Ветхого и Нового Заветов. Проблема, которую поднимал Маркион, стояла и в ранний период истории Церкви: как Ветхий Завет относится к Новому? Но разрешение этой проблемы было у него нецерковным.
Маркион принципиально разделил Закон и Евангелие. Он имел дуалистические представления о Боге, разделял Бога Ветхого Завета и Истинного Бога Нового Завета. Ветхозаветный Бог – Бог справедливости, неблагой, непрощающий, погруженный в круговорот страстей. Он сотворил психофизический мир. Ветхозаветный Бог не есть злая демоническая сила. Он просто юридически справедлив. От этого ему присущ и гнев. Новозаветный Бог, Отец Иисуса Христа – Бог добра, любви, прощения. Он творец духовного мира, к которому не примешивается ничего материального. Священная история начинается только в Новом Завете.
Маркион спотыкается о тайну суда в милости и милости через суд. Он пренебрегал материей, миром. Поэтому он отрицал телесность Христа и реальность его страданий. Тайна единства духа и материи, Ветхого и Нового Заветов остается запечатанной для Маркиона. Церковь примиряла два Завета через использование метода аллегорического толкования. Этот метод Маркион отрицал. Все, что говорится в Ветхом Завете о Новом и наоборот он считал неблагочестивой вставкой. По его мнению, Евангелие испортили иудаисты вместе с апостолом Петром. Он признавал ветхозаветные пророчества о Мессии и считал, что этот Мессия Ветхозаветного Бога еще должен прийти.
Опасность гностицизма для христианства
Гностицизм подрывал самые основы христианского учения. Он разрушал триадологию, христологию, отрицал реальность Боговоплощения, разделял единство Иисуса и Христа. У гностиков нет понимания Бога как личности, нет учения о Троице. Вследствие дуалистических представлений они отрицали достоинство материи как благого творения благого Бога, искажали сотериологию. Спасение для них не связано с Боговоплощением, оно есть озарение знанием, обнаружение в себе самом своей духовной сущности, оно доступно не всем, но только духовным. Спасение человека – это избавление от материи, а не восстановление целостности психофизического мира. Отрицание телесного вело у них либо к ложному аскетизму, либо к распущенности.
Гностики делали опору на знании. Тема, мотив знания, важности знания в Новом Завете присутствует постоянно. Этот мотив выражен в нем ярко и рельефно (Еф. 1:17; 4:13; Кол. 2:2–3; 2Пет. 1:8; 2:20; 3:18). Сам Христос говорил о том, что вечная жизнь заключается в знании: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Но гностики узурпировали этот мотив, извратив понимание знания, подчеркнув исключительность знания, сместив к нему все акценты. Против горделивого знания выступал еще апостол Павел: «знание надмевает, а любовь назидает» (1Кор. 8:1). Любовь превыше знания. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:8). Подлинно, ценно то знание, которым движет любовь. Иоанн Богослов в Первом послании писал: «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4:7–8).
Но гностикам было чуждо христианское понимание любви. Для них любовь – это одна из страстей, аффект, от которого необходимо избавляться. Любовь – проявление несовершенства, недостаточности, неполноты. Она происходит от нужды. Но христианская любовь – это любовь от избытка, любовь жертвенная, не ищущая своего. Именно через эту любовь человек может познать Бога.
Борьба Церкви с гностицизмом
Гностическая экспансия в Церковь способствовала тому, что Церковь четко определила источники истинного христианского знания, начала формулировать, систематизировать свое учение70.
Источниками христианского знания являются Писание и Предание. Во многом благодаря гностикам, использовавшим различные апокрифические книги, начал складываться новозаветный канон священных книг. Кроме того, Церковь четко выразила свое отношение к Ветхому Завету: и Ветхий, и Новый Завет являются единым Священным Писанием, поскольку происходят от одного источника – от Единого Бога.
Критикуя гностиков, христианские писатели обращали особое внимание на Предание. Предание Церкви не противоречит ее Писанию. Истинным является только Предание Церкви. Критерием истинности Предания является его общеизвестность, а не сокрытость. Подлинное учение известно всем Церквам во всем мире, а потому оно едино у всех. Разноголосица гностических учений сама собой свидетельствует об их неподлинности, ложности. Истинное церковное учение сохраняется в Церкви благодаря апостольскому преемству, которое можно проследить в каждой Церкви от самого ее основания.
В полемике с гностиками Церковь начала оформлять свое учение. Основные положения веры были зафиксированы в крещальных символах веры. Но в борьбе с ересями происходило более глубокое объяснение важнейших вероучительных истин. Церковь опровергала дуалистическое разделение материи и духа, отстаивала истинность Боговоплощения и действительность Евхаристии.
В полемике с гностиками Ириней Лионский даже высказал мнение, что образ Божий заключен в теле человека, поскольку человек создавался по образу воплощенного Сына Божия, который был в предвечном божественном замысле: «Образ Божий есть Сын, по образу Которого и человек произошел. Поэтому Он явился также в последнее время, чтобы показать подобие человеческого образа с Собою» (Доказательство апостольской проповеди, 22)71. Также Ириней Лионский одним из первых высказал мысль об обожении человека через Боговоплощение: «Он (Сын Божий) стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим» (Против ересей, 111:10, 2)72. Учение об обожении в дальнейшем разовьют Афанасий Великий и отцы каппадокийцы.
Монтанизм
Место возникновения монтанизма
Древние христианские авторы называли монтанизм фригийской ересью, имея в виду ее географическое происхождение. Фригией называлась область в Малой Азии, отличавшаяся склонностью к религиозной мистике, религиозным грезам. Там процветал культ богини Кибелы, культ оргаистический, связанный с иррациональным, интенсивным переживанием мифологизированных природных и жизненных процессов. Кибела считалась матерью богов. Согласно мифу, она полюбила простого человека по имени Аттис. Но он предпочел богине простую смертную женщину. Оскорбленная Кибела ввергла своего возлюбленного в безумие, вследствие чего он оскопил себя и умер. Языческие мистерии, связанные с этим мифом, включали оплакивание Аттиса Кибелой и провозглашение его воскресения, а также трапезы с хлебом и вином. В эллинистическое и римское время центр этого культа был в Галатии. В Риме культ Кибелы существовал со времен Пунических войн. В период французской революции фригийский колпак стал символом неограниченной свободы.
Монтан, родоначальник данной ереси, происходил из Мизии, из деревни Ардава, находившейся на границе с Фригией. Считают, что до своего крещения он являлся жрецом богини Кибелы и был оскоплен (это сообщают Дидим и Иероним).
Если гностицизм привлекал интеллектуалов и происходил из культурных центров (Александрии, Антиохии, Рима), то монтанизм выделялся главным образом своей внешней, практической стороной и был связан с отдаленными малоазийскими провинциями. Характерно, что у Иустина Философа фригийский народ ставится рядом с презренной чернью и варварским племенем (Разговор с Трифоном иудеем, 119"73.
Время возникновения монтанизма и его характер
Монтанизм был движением, хронологически смежным с гностицизмом. Оформился он в конце 50-х годов II века. Согласно Епифанию Кипрскому (Ереси, XLVIII: 1), его начало относится к 156–157 году. Евсевий Кесарийский связывает его возникновение с 172 года (Церковная история, ІѴ:27)74. Как и гностицизм, монтанизм возник на грани перехода от Церкви апостольской к Церкви исторической. Появлению монтанизма отчасти способствовали некоторые исторические обстоятельства.
Во-первых, в середине II века в сознании христиан могла вставать проблема авторитета. Пока жили апостолы, был непосредственный духовный авторитет. Теперь возникало желание иметь столь же значимых авторитетов, обладающих тесной связью с Богом. В качестве таких авторитетов монтанисты предлагали пророков.
Во-вторых, в этот период из жизни Церкви постепенно начали уходить чрезвычайные дарования, с которыми она входила в историю – пророчества, чудотворения, языкоговорения и т. п. О том, что такие дарования были в первых христианских общинах, сообщают новозаветные писания (послания апостола Павла) и памятники древней христианской литературы («Учение (Дидахи) двенадцати апостолов»75). Чрезвычайные дарования были даны Церкви Богом как средства, необходимые для усиления проповеди, для роста и распространения христианства. Некоторые христиане считали их очень важным свидетельством, подтверждающим пребывание в Церкви Бога, и не хотели с ними расставаться. Монтанисты также делали особый акцент на чрезвычайных дарованиях.
В-третьих, вхождение Церкви в историю, общение с миром приводило к охлаждению интенсивности религиозного чувства и к ослаблению церковной дисциплины и нравственности. Раннее Христианство отличалось удивительной нравственной чистотой. Это состояние поддерживалось и высокими нравственными требованиями христианского учения, и тем напряженным ожиданием Второго пришествия Христа и кончины мира, которое было важным нервом ранней Церкви. Первоначально приход в Церковь фактически равнялся подвигу. Но со временем христианами стали рождаться, уровень духовной жизни и нравственности снижался. Эта проблема отражается и на страницах «Пастыря» Ерма, памятника середины II века76, основная тема которого – тема покаяния. Возможно ли второе покаяние? В этом сочинении дается условно утвердительный ответ. Покаяние возможно, но оно не бесконечно. Однако в Церкви существовал и иной взгляд: покаяние бывает лишь единократным. Впоследствии, в IV веке появится ересь донатистов, которые будут ставить святость Церкви в зависимость от святости ее членов. Bo II веке активными борцами за чистоту Церкви были монтанисты.
Так что во II веке, когда Церковь все более тесно соприкасалась с миром, чрезвычайные дарования и очень высокие нравственные требования становились у монтанистов средством борьбы с обмирщением Церкви, с растворением Церкви в мире, средством, позволявшим сохранить неотмирность христианства.
По мнению В. В. Болотова, монтанизм занимал среднее положение между ересью и расколом77. Бесспорно, монтанисты делали сильный акцент на практике, на жизни в Церкви, на церковной дисциплине и первоначально обращали на себя внимание именно благодаря практической стороне. Имея в виду практический характер монтанизма, Э. Ренан называл его аристократией благочестия78, противопоставляя его аристократии знания, гностицизму.
Однако внешний, практический характер монтанизма находился в прямой связи с особенностями их вероучения, которое отличалось от традиционного церковного взгляда. Поэтому сначала монтанизм существовал в христианской традиции, потом – параллельно и вопреки ей.
Особенности учения монтанистов. «Новое пророчество»
Особое внимание монтанисты обращали на одухотворенность, харизматизм, особые духовные дарования, пророчества. Именно это они считали критерием истинного христианства и подлинной церковности. В контексте эпохи этот критерий оформился как откровение Параклита, или, по словам Тертуллиана «новое пророчество». Монтан и его последователи полагали, что именно теперь пришло время исполнения пророчеств, которое в самом новозаветном Писании связывается с сошествием Святого Духа на апостолов, с Пятидесятницей (Деян. 2). Речь идет о словах пророка Иоиля: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и Дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь» (Иоиль 2:28–32) и словах Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26).
Дар пророчества был в Церкви и прежде, и после Монтана, но не было стремления поставить эти пророчества, откровения на один уровень со Священным Писанием. Монтанисты же не только дополняли Писание своими откровениями, но ставили свои пророчества выше, чем предшествующее Писание. Откровение Христа, согласно их представлениям, было менее возвышенным, менее значимым, чем новое откровение, которое подавал Утешитель (Параклит). Учитель Церкви Тертуллиан, который стал сторонником монтанизма, делил всю историю человечества на период детства (дозаконный), период отрочества (от дарования Моисеева Закона), период юности (от Христа) и период зрелости (от откровения Утешителя). Свое же откровение Утешитель подавал через Монтана или других пророков.
Откровение монтанистов имело и свою особенную форму, которая, по их мнению, была более совершенной, чем форма предшествующего откровения. Откровения монтанистов сопровождались экстатическими состояниями, временным затмением ума, своеобразным без-умием. Один из критиков монтанистов писал: «Лжепророк находится в мнимом исступлении, с которым связано дерзкое бесстрашие. Он начинает со своевольного бреда, который превращается, как мы сказали, в невольное безумие. Они не смогут указать ни одного ветхозаветного или новозаветного пророка, который исполнялся бы Духа Божия таким образом» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, Ѵ:17)79.
Пророки Монтана, теряя свое собственное сознание, говорили от лица Бога или Утешителя, являлись своеобразными медиумами. От лица Утешителя Монтан говорил: «Человек – как лира, и я налетаю, как бряцало» (Епифаний Кипрский. Ереси, XLVIII:4). Внешне эти слова похожи на высказывания Григория Богослова: «Я орган Божий, орган словесный, который настроил и в который ударяет добрый художник – Дух» (Слово 12)80. Однако, в понимании Григория Богослова, как и в понимании Церкви, человек – это сознательный участник одухотворенности, богообщения, a не пассивный бессознательный посредник, медиум.
Но что же является критерием подлинной церковности, если не эта внешняя одухотворенность? Ответ на данный вопрос можно найти в 1Кор. 12–13. Нет никакого внешнего критерия для определения стояния человека во Христе, кроме любви. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:8). В пророчестве эта любовь выражается через его внятность, назидательность (1Кор. 14:1–19). Любовь – это не просто сентиментальное, эмоциональное чувство. Это всецелая преданность Христу, сопровождаемая пониманием того, что каждый человек есть творение Бога, каждый человек дорог Богу, а каждый христианин является и частью Тела Христа, т. е. Церкви.
Отношение к иерархии. Основы нравственного ригоризма
Своих пророков монтанисты ставили выше всей остальной церковной иерархии. Согласно Тертуллиану, монтанисты делили все грехи на легкие и смертные. Легкие грехи может разрешить епископ. Смертные грехи омывает Таинство Крещения или мученическая кровь. Смертные грехи может простить только Бог. Но как узнать о божественном прощении? Свидетельством прощения смертного греха может быть только откровение. Проводником такого откровения является пророк. Смертные грехи Бог прощает не через епископа, а через пророка. Фактическое отрицание роли церковной иерархии вытекало из подчеркивания особой значимости одухотворенности. Всякая организованность, в том числе в церковной жизни, могла свидетельствовать для них об утрате подлинной одухотворенности, поскольку одухотворенность имеет спонтанный характер. При этом они все же имели определенную иерархическую структуру. Об этом свидетельствует Иероним: «У нас место апостолов занимают епископы, у них епископ на третьем месте, а первое место занимают патриархи г. Пепузы, во Фригии, а второе – так называемые «товарищи» (koinonoi), и, таким образом, епископы скатываются на третье, почти последнее место» (Писъмо 41 к Марцелле)81.
Нравственный ригоризм монтанистов связан не только с верой в скорое Второе пришествие Христа, но, главным образом, с особым восприятием последней эпохи. В эпоху пророчества, откровения, по их мнению, устранена «немощь плоти», Утешитель подает такую силу человеку, что тот оказывается в состоянии не совершать грех. Монтанисты запрещали вторые браки, страстно стремились к мученичеству, ужесточали посты, вводили новые посты. Вот как пишет об этом Иероним: «Мы хоть и не домогаемся второго брака, но разрешаем его ... они до такой степени считают преступным второй брак, что поступивший таким образом у них считается прелюбодеем. Мы, согласно преданию апостолов, соблюдаем один сорокадневный пост ... они устраивают три сорокадневных поста в год, как если бы три Спасителя пострадали» (Письмо 41 к Марцелле)82
Монтанизм и гностицизм
Монтанизм имеет ряд общих черт с гностицизмом. Как и гностики, монтанисты расширяли источники христианского вероучения, не довольствуясь общепризнанным Писанием и Преданием. Во-вторых, представители обоих этих направлений ставили себя выше Церкви, считали себя обладающими более высокой, совершенной истиной. В-третьих, они допускали, что Церковь сохраняет неизменным учение, полученное от апостолов.
Однако, в отличие от гностиков, в самых главных пунктах вероучения монтанисты были согласны с Церковью. Они веровали в Святую Троицу, в подлинность Боговоплощения, имели истинное учение о душе и воскресении плоти. Присущий им хилиазм, т. е. вера в тысячелетнее царство Христа на земле, был свойственен многим христианам первых трех веков.
Поскольку монтанисты были согласны с Церковью в основных догматах, на них долгое время смотрели как на христиан ригористов. Такого взгляда на них придерживался Дионисий Александрийский. За внешними особенностями не сразу рассмотрели искажения вероучения. В IV веке Василий Великий определил монтанизм как ересь.
Свидетельства Евсевия Кесарийского
Евсевий Кесарийский рассказывает о монтанизме в V книге «Церковной истории». Объяснение возникновения ее У Евсевия связано со свойственной ему демонологической трактовкой ересей: «Враг Церкви Божией, ненавистник прекрасного и любитель зла, не упускающий ни одного способа строить козни людям, потрудился над возникновением ересей, странных и враждебных Церкви. Одни из еретиков, словно ядовитые змеи, ползали по Асии и Фригии, провозглашая Монтана утешителем, а его приспешниц, Прискиллу и Максимиллу, – пророчицами» (Церковная история, Ѵ:14)83. Следует отметить, что отзывы христианских писателей о том, что Монтан объявлял себя Утешителем не следует понимать буквально. Такое впечатление создавалось, скорее всего, вследствие того, что в своем пророческом восхищении он мог говорить от лица Утешителя.
Евсевий упоминает литературных критиков Монтана – Аполлинария Иерапольского, Мильтиада, Аполлония. Он же приводит выдержки из их сочинений. Один их этих критиков писал: «Недавно я был в Галатии, в Анкире, и застал местную Церковь почти оглохшей от этих новых, как они говорят, пророчеств, вернее, как будет показано, лжепророчеств. Я по возможности, с помощью Божией, много дней рассуждал в Церкви об этих людях и о предложенных мне вопросах. Церковь ликовала и укреплялась в истине – противники в это время были отброшены; враги опечалились... Новая ересь, вызвавшая раскол в Церкви, возникла вот почему. Есть в Мизии, на границе с Фригией, деревня Ардава. Говорят, что некий Монтан, из местных новообращенных (было это при Грате, проконсуле Асии), в безмерной страсти к первенству дал врагу войти в себя; одушевляемый им, придя внезапно в исступление, он начинал говорить нечто странное, пророчествуя вопреки обычаю Церкви, издавна и преемственно хранимому. Из тех, кому довелось в то время слушать его незаконные выкрики, одни возмущались, считая, что он одержим демоном, находится во власти духа заблуждения и приводит в смятение народ... Диавол... взволновал двух женщин, исполнил их своего лживого духа, и они, подобно Монтану, стали говорить бессмысленно, неуместно и странно. ...Асийские верующие стали часто и во многих местах собираться и рассматривать новое учение: его объявили нечистым и отвергли ересь, отлучив ее последователей от Церкви и запретив им общение с нею» Церковная история, V:16)84.
Свидетельства Епифания Кипрского
Епифаний Кипрский сообщает о монтанизме в своем сочинении «Панарион» (Ереси) в 48 главе «Против еретиков фригийских, называемых монтанистами, или таскодругитами».
«(1) Они получили начало при царствовавшем после Адриана Антонине Благочестивом, около девятнадцатого года его царствования ... Эти так называемые еретики фригийские принимают все Писание Ветхого и Нового завета и сходно учат о воскресении мертвых. Но они похваляются, что имеют пророка, какого-то Монтана, и пророчиц Прискиллу и Максимиллу. Об Отце и Сыне и Святом Духе думают одинаково со святой вселенской Церковью. Отделились же от нее, внимая духам обольстителям и учениям бесовским (1Тим. 4:1) и говоря: «должно нам и харизмы принимать».
(2)... Называемая у них пророчицею Максимилла утверждает: «после меня уже не будет пророчицы, но будет кончина (συντέλεια)» ... Максимилла же сказала, что после нее кончина, а кончина еще не наступила, при всем том, что было столько царей и прошло столько времени.
(4) Монтан открыто говорит: «вот, человек – лира, и я налетаю, как бряцало: человек спит, а я бодрствую; вот, Господь приводит в исступление сердца людей и дает сердце людям». Поэтому кто из рассуждающих последовательно, и принимающих полезное учение осмысленно, и имеющих попечение о своей жизни, не осудит этого самодельного предположения и учения человека, который хвастливо причисляет себя к пророкам, а не может говорить подобно пророкам, потому что и Дух Святой не глаголал в нем? Ибо выражения: «налетаю», «ударяю», «бодрствую», «Господь приводит в исступление сердца», – суть слова исступленного, а не сохраняющего порядок мыслей, напротив того, иное обнаруживающего отличительное свойство по сравнению с тем, каким отличается Дух Святой, глаголавший в пророках.
(11) ... Монтан во всем оказался несогласным с божественными Писаниями, как ясно это всякому разумному читателю ... Христос научил нас, говоря: Духа Утешителя пошлю вам (Ин. 15:26), и, указывая признаки, сказал: Он Меня прославит (Ин. 16:14). И действительно, можно видеть, что святые апостолы, получив Духа Утешителя, прославляли Господа. А этот Монтан славит себя самого ... Монтан выступил, выдавая себя за кого-то, чем и показал, что он не то, и не Им послан, и ничего от Hero не принял.
Потом еще этот жалкий человечишко Монтан говорит: «не ангел и не ходатай, но я Господь Бог Отец пришел». Но эти слова обнаруживают, что он чуждый, потому что не прославляет Христа, которого славит всякое дарование в Церкви, истинно данное в святой Церкви ...
(14) Они еще чтят некоторое запустелое место во Фригии, некогда называвшееся городом Пепузой, который ныне сравнялся с землей, и говорят, что там нисходит вышний Иерусалим. Поэтому, уходя сюда, совершают на этом месте какие-то таинства и, как думают, священнодействуют. Ибо этот род еретиков есть в Каппадокии, Галатии и вышеназванной Фригии, почему и называется ересью фригийцев. А также их очень много в Киликии и в Константинополе» (Ереси, XLVIII)85.
Историческая судьба монтанизма
Монтана сопровождали две женщины – Прискилла и Максимилла, которые до вступления на путь пророчества состояли в браке. Прискилле Христос явился в виде женщины с пророчеством о том, что на город Пепузы спустится Небесный Иерусалим. Максимилла предсказывала будущие войны, бедствия, перевороты и гонения. В этой связи христианские критики писали: «Ужели не очевидна сейчас эта ложь? Больше тринадцати лет прошло от смерти этой женщины и до нынешнего дня, а войн нет ни во всем мире, ни в каком-то одном его углу. И христианам, по милости Божией, дарован длительный мир» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, Ѵ:16, 19)86.
Монтанисты имели большой успех во Фригии, Асии, Понте, Фракии. В связи с этой ересью собирались самые первые известные в истории христианские соборы. Монтанизм был осужден на Иерапольском соборе во II веке87. В семидесятых годах эта ересь проникла в Галлию, где успех имела только внешняя, практическая сторона монтанизма – нравственный ригоризм. Известно, что пресвитер Ириней, будущий Лионский епископ, путешествовал в Рим, чтобы ходатайствовать за монтанистов. Ириней, как и впоследствии Дионисий Александрийский, считал монтанистов только христианами-ригористами. Благодатную почву нашел монтанизм в Африке. Там в 201–202 году в эту ересь обратился карфагенский пресвитер Тертуллиан. В 208–209 годах африканские монтанисты отделились от Церкви. Впоследствии тертуллианисты были возвращены в Церковь Августином Иппонским. В III веке Иконийский собор определил принимать монтанистов в Церковь через перекрещивание. Проникла эта ересь и в Рим, где с ней боролся император Феодосий Великий.
Просуществовала эта ересь до VI и даже до VIII века. В тридцатых годах VI века против монтанистов издавал указ император Юстиниан. В 724 году с ними пытался бороться император Лев Исавр. Ответом на это стали самосожжения.
По мнению Э. Ренана, монтанизм оказал влияние на развитие христианской житийной литературы, для которой характерно превознесение целомудрия и мученичества, a также способствовал усилению в Церкви роли женщин. Но с этим можно согласиться лишь отчасти, поскольку целомудрие, мученичество, да и немалая роль в Церкви женщин имеют основание в самом Новозаветном Откровении.
Манихейство
Время возникновения манихейства
Манихейство, представлявшее собой многочисленное религиозное движение, возникло в III веке. В эту эпоху Церковь, пережившая гностическо-монтанистическую экспансию, укрепилась как институт, начала оформлять свои устойчивые традиции и структуру. Манихейство возникло в той же атмосфере синкретизма и теософизма, характерной и для предшествующего столетия. В III веке в империи усилилось влияние востока. Целый ряд императоров были восточного происхождения. Император Антонин Гелиогабал (218–222), выходец из Сирии, хотел объединить все религии под верховенством сирийского солнечного божества Эль-Габала, а император Александр Север (222–235) в своем пантеоне установил наряду со статуями языческих богов статуи Христа и Авраама. В империи происходил своеобразный диалог различных религий и культур.
Место возникновения
Манихейство вышло из Месопотамии, которая являлась частью могущественного Сасанидского государства. Однако когда родился основатель манихейства, Месопотамия была еще во власти парфян, захвативших ее у Селевкидов в 150 году. Начало III века стало временем обновления ирано-персидской династии. В 227 году в Иране произошла коронация царя Парсы Арташира из рода Сасана. Арташир смог объединить распадающееся Парфянское царство. Он вел успешные войны с Римом, который претендовал на парфянское наследство. Но особенно успешен был его сын Шапур I (243–273), которому удалось пленить императора Валериана и нанести Риму самое сильное поражение за всю его историю. Вместе с императором в плен попали префекты, главы провинций, сенаторы, высшие военные. В середине III века под властью иранского царя оказался весь Ближний Восток.
В сознании первых Сасанидов вера и царство были связаны неразрывно. Однако с момента их воцарения встал вопрос о вере. Какая вера должна укреплять царство? Национальной верой был зороастризм. Когда-то Александр Македонский, захватив Персию, уничтожил много персидских святынь, поколебал прежние религиозно- государственные традиции. Теперь пришло время восстановления утраченного, обновления древней традиции. Любопытно, что примерно в это же время подобный вопрос встал и в самом Риме. В Риме также пришли к осознанию необходимости укрепления государства через обновление древней римской религии. С этим могли быть связаны и гонения императоров Декия и Валериана. Но в Риме духа старой веры уже не было, вместо этого царил скепсис и вольнодумство. В Персии все было по-другому.
В Месопотамии существовало множество религиозных течений – различные формы иранской народной религии, остатки вавилонских культов, иудейство, Христианство, гностицизм, а также целый ряд сект на основе смешения различных религиозных традиций.
Зороастризм
Возникшее в первой половине III века манихейство представляло собой смесь Христианства и зороастризма с элементами вавилоно-ассирийской религии.
Зороастризм возник в Восточном Иране в VII–VI веках до P. X. Основателем его был Зороастр (Заратуштра). Зороастризм отличается дуализмом. Он признавал существование двух божеств – Ахура-Мазды (Ормузда) и Ангхро-Манью (Ахримана). Ахура-Мазда – бог добра, олицетворение света и жизни, правды. Ангхро-Манью – олицетворение зла, мрака смерти. Эти божества находятся в постоянном конфликте, борьбе. Человек в этой системе представлений есть творение доброго божества. Вместе с тем, он подвластен и злому божеству, отчего вынужден бороться с Ангхро-Манью и духами зла. Священной книгой зороастризма является Авеста, которая создавалась в период с IX no VI век и включала в себя древние тексты, от гимна Митре до стихотворных проповедей Зороастра. Окончательный вид Авеста приобрела только в рассматриваемый период. Это учение было принято и распространялось персидским правителями Ахеменидами. К нему обратили свои взоры и первые Сасаниды.
Об уважительном отношении Арташира к этой древней национальной религии персов свидетельствует принятый им титул: «Поклоняющийся (Ахура-) Мазде, бог, царь царей Ирана, происходящей от богов». Уже тогда государственным святилищем стал храм огня. Зороастризм этого периода включал в себя культ Ахура-Мазды, Анахиты (богиня плодородия и войны) и Митры, а позднее – и самого Арташира. Реформатором религии при Сасанидах стал жрец Картир, который считал себя, вероятно, равным Зороастру, достигшим праведности. Картир преследовал иудеев, буддистов, гностиков, христиан и манихеев («веру дэвов»).
Христианство в Персии
Согласно церковному преданию, Христианство проникло в Парфию еще с апостольской проповедью. По сообщению Оригена (Евсевий Кесарийский. Церковная история, 1:3), Парфию получил в удел апостол Фома. Апокрифические книги проповедниками Христианства в Парфии называют Фому, Симона Зилота, Иуду Иаковлева. Парфия соприкасалась с Сирией, где Христианство пустило глубокие корни с самого своего начала. Парфянская династия Аршакидов, свергнутая Арташиром, была не персидского происхождения, поэтому язык и религия персов в Парфии не процветали.
В Парфии был распространен арамейский язык, на котором говорили и во всей Сиро-Палестине. Кроме того, еще со времен Александра Македонского на всем Ближнем Востоке в образованных слоях общества был распространен греческий язык, который использовался в Месопотамии даже государственным аппаратом Аршакидов. Это во многом способствовало христианской проповеди.
Центром, из которого Христианство проникало в Месопотамию и Персию, являлась Эдесса. Однако наряду с традиционным направлением Христианства на Востоке распространялись и его сектантские направления, в первую очередь гностические, представленные сторонниками Маркиона и Вардесана. Первоначально Христианство распространялось через иудейские круги Месопотамии и Персии. К моменту появления манихейства, в Месопотамии уже существовали мандеи, или назореи, испытывавшие сильное влияние иудейства.
Источники VI века говорят о том, что Арташир был склонен принять Христианство, но этому помешало войско. В подлинности этого сообщения есть сомнения, однако в том, что в Парфии Христианство имело немало сторонников, сомнений нет. После того, как Сасаниды сделали свой окончательный религиозный выбор, христиан начали преследовать. Непростое положение христиан усугублялось кажущейся связью христианства с Римской империей. «Они населяют нашу землю, но разделяют чувства императора, нашего врага», – говорил Шапур II. Именно эта связь Христианства с империей впоследствии укрепит разрыв с Церковью несториан и монофизитов.
Источники по изучению манихейства
Источники, свидетельствующие о манихействе88, включают произведения христианских ересиологов, языческих критиков, мусульманских авторов и собственно манихейские тексты. Об этом движении упоминают Евсевий Кесарийский (Церковная история, ѴІІ:31), Сократ Схоластик (Церковная история, 1:22), Епифаний Кипрский (Ереси, LXVI), Августин Иппонский (Против Фауста; Исповедь, V), Ефрем Сирин, Кирилл Иерусалимский, Феодорит Кирский. Языческий философ Александр Ликопольский написал специальный трактат «Против манихеев», который стал первым в истории антиманихейским сочинением. Среди мусульманских авторов стоит упомянуть Бируни и Ибн ан-Надима.
Собственно манихейские тексты были обнаружены только в начале XX века. Большое значение имеют коптские манихейские тексты, обнаруженные в Мединет Мади, оазисе Дахла, а также в Наг-Хаммади. Среди найденных текстов были фрагменты сочинений Мани и его учеников, молитвы, гимны, притчи, литургические, агиографические и исторические тексты.
История манихейства
Наименование манихейства происходит от имени основателя этого движения – Мани (Манес). Мани был сыном Патика, знатного жителя Селевкии-Ктесифона на Тигре. До рождения сына, Патик перешел из язычества в иудео-христианскую секту. Родился Мани в 216 году. В 12 лет он получил откровение. В 240/241 году Мани выступил со своим учением. Он обратил отца и отправился с миссией в Индию и Персиду. Известно, что Мани был принят во дворце при коронации Шапура I. В то время Шапур еще находился в стадии религиозного поиска, поэтому он снисходительно отнесся к учению Мани. Шапур мог полагать, что именно это учение способно стать единой верой, способной объединить сторонников различных традиций, поскольку оно имело синкретический характер. Мани сопровождал Шапура в его военных походах вместе с Картиром. Он обратил в свою веру братьев Шапура. Однако Шапур, сохраняя симпатии к Мани, все же стал на почву национальной религиозной традиции. Мани развернул активную миссионерскую деятельность, в том числе и за пределами Сасанидского государства, в Египте. При царе Ормизде он вернулся на родину, а при его преемнике Бахраме I – казнен в 276/277 году. О его смерти сохранились противоречивые сведения. По одной из версий, Мани пригласили на диспут, где в качестве доказательства истинности его учения, Мани было предложено совершить чудо – проглотить расплавленный свинец. Отказ сделать это повлек за собой казнь.
Сторонники учения Мани занимались активной проповедью. Обращались они не только к христианской среде. Вполне возможно, в конце III века в Александрии учение Мани могло приобрести философскую окраску, поскольку его приняли ученики языческого философа Александра Ликопольского. Терявший своих учеников, Александр написал трактат «Против манихеев», в котором критиковал этот философский извод манихейства. В 297 или 302 году в Александрии император Диоклетиан выпустил эдикт против манихеев в связи с их широким распространением в Африке, в Карфагене.
Проповедь манихеев в Африке затронула Августина, будущего Иппонского епископа, который слушал прибывшего в Карфаген манихейского епископа Фавста. В манихействе Августин пробыл девять лет (Исповедь, Ѵ:3). Манихейство просуществовало до XII столетия. Успеху проповеди манихеев способствовало то, что представители различных культур и религиозных традиций находили в этом учении знакомые элементы.
Учение Мани
Учение Мани89 отличается открытым дуализмом. Согласно этому учению, изначально существуют две равных субстанции, два равных божества – Ормузд и Ариман. Ормузд – бог света и святости. Ариман, или Сатана – бог мрака и зла. Каждый из них имеет свое царство. В царстве Аримана – пять стихий (тьма, грязь, ветер, огонь, дым), происходит постоянная вражда и война.
Царство Аримана решается напасть на царство Ормузда, царство света. Для защиты своего царства Ормузд выводит Матерь Жизни, мировую душу, из которой возникает Первочеловек. Первочеловек вступает в борьбу с Ариманом. Ариман отрывает, отторгает от Первочеловека частицу света. Так к царству зла, материи присоединяется частица света. Происходит своеобразное смешение двух царств, в результате чего возникает видимый мир. Это напоминает миф о падении души, который встречается также у гностиков.
В мире разлита световая энергия – часть Первочеловека. Эта световая энергия есть Сын Божий. Находящаяся в плену материи Сын Божий есть Иисус Страждущий, а освобожденный от нее – Иисус Нестраждущий. Цель спасения заключается в освобождении света из материи. Освободиться от материи Иисусу помогает живущий в эфире Святой Дух.
Человек представляет собой смешение света и зла. Ева была создана только из материи. Через нее, через произведение потомства, свет еще больше пленяется материей, все больше погрязает в ней. Возникает необходимость спасения, разделения духовного и материального, освобождения от пут материи.
Спасение начал Христос – светлая душа, царствующая на Солнце, т. е. Иисус Нестраждущий. Он воспринял мнимое тело и учил о необходимости освобождаться от материи. Однако апостолы, галилеяне не поняли, извратили его учение. Предвидя это, Христос обещал послать Утешителя. Для очищения религии обещанный Утешитель явился в Манесе. Принявшие его проповедь освободятся от материи и перейдут в царство света, а погрязшие в нее будут странствовать из тела в тело, пока все видимое творение не будет уничтожено огнем.
Источниками манихейства являются буддизм, зороастризм, Христианство, гностицизм (особенно учение Маркиона), иудейство. Мани использовал христианские и иудейские апокрифы.
Учение Мани и учение Церкви. Манихейство и гностицизм
Манес отрицал Ветхий Завет, почитал Евангелия, послания апостола Павла и апокрифические книги. Он признавал существование Бога Отца, Сына и Святого Духа, но
Сына и Духа считал эманациями Отца. Откровение Христа он не считал уникальным, высшим из всех откровений и единственным в своем роде. Напротив, свое учение он ставил даже выше учения Христа, считая свое учение завершением всех пророчеств, печатью пророчеств. В коптском манихейском трактате «Главы» говорится:
«Сначала Будда пришел в Индию, дал праведникам полученное от Бога знание истины, учредил истинную церковь, потом вознесся. Когда церковь пришла в упадок, явился Заратуштра в Персии, укрепил и восстановил ее, потом тоже вознесся на небо...Потом Иисус пришел в землю Запада, проповедовал там и основал истинную церковь. Ученики записали его слова. Он был распят и вознесся. Затем пришел Мани» 90.
Хотя Мани и провозглашал единство своего учения, само это учение имело различную судьбу в разных странах. В том же трактате сообщается, что Мани пришел тогда, когда Церковь облеклась в плоть. Мани явился Параклит: «Он открыл мне тайну сокровенную, сокрытую от мира и поколений, тайну бездны и высоты» 91. Мани заявлял, что ни один из прежних посланников Бога не совершал такого, как он. Они проповедовали в одной стране, а он основал Церковь от Востока до Запада. И эта церковь пребудет до конца мира92.
В нравственном учении сторонников Мани отличал крайний ригоризм, аскетизм. Они отличались строгостью постов, призывали воздерживаться от брака. Манихеи использовали таинственные обряды, изучали гороскоп, занимались врачеваниями, чем привлекли в свое время Августина, будущего епископа Иппонского.
Манихейское учение имеет ряд общих черт с гностическими учениями. К этим чертам можно отнести дуализм, докетизм, претензию на истинное откровение, основанный на презрении материи аскетизм, миф о падении души, использование апокрифов. Именно поэтому манихейство исторически ассимилировало гностиков.
Свидетельства о манихействе христианских авторов
Евсевий Кесарийский говорит о Манесе достаточно кратко: «Безумец Манес, давший свое имя демонской ереси, собирался торжествовать победу над разумом. Демон, сам сатана, восставший на Бога, выдвинул этого человека на погибель многих. Варвар по языку и нраву, он имел в природе своей нечто демоническое и безумное. Действия его соответствовали этим качествам; он пытался представить себя Христом; ослепленный гордостью, объявлял себя то утешителем и Самим Духом Святым, то Христом; нашел двенадцать учеников, последователей его нового учения. Лживое и богохульное учение свое он составил из множества богохульных, давно исчезнувших ересей, привез его из Персии и разлил этот смертельный яд по нашей земле. От него нечестивое имя манихеев и доныне удержалось за многими» Церковная история, ѴІІ:31)93.
Сократ Схоластик, по его собственным словам, дополняет краткое сообщение первого историка. Среди прочего, он пишет: «Манихей, как безбожник, убеждал чтить многих богов, учил поклоняться солнцу, вводил судьбу, уничтожал в нас свободу и, следуя мнениям Эмпедокла, Пифагора и египтян, явно преподавал превращение тел одних в другие. He допускал он также, что Христос был во плоти, но называл его призраком, отвергал закон и пророков, a себя называл утешителем, что все чуждо православной церкви, даже в своих посланиях дерзал именовать себя Апостолом. Но за такие обманы манихей подвергся достойному наказанию по следующей причине. Сын персидского царя впал в болезнь, и отец, как говорится, готов был ворочать камни, лишь бы спасти сына. Услышав о манихее и думая, что его чудеса истинны, он пригласил его к себе, как Апостола, и надеялся, что этот апостол спасет его сына. Манихей пришел к царю с видом притворства и царское дитя взял на руки. Но царь, заметив, что оно на его руках умерло, заключил Апостола в узы и готов был казнить его. Однако же манихей убежал в Месопотамию и спасся. Несмотря на это, персидский царь, узнав о месте его пребывания, приказал схватить его и, содрав с него кожу, набить ее соломою и выставить у городских ворот. Это мы говорим не вымыслы, но приводим то, что прочитали в сочинении Архелая, епископа Касхары, одного из городов Месопотамии. Архелай говорит, что он сам лично состязался с манихеем и вышеизложенное внес в описание его жизни» (Церковная история, І:22)94.
В настоящее время историки отвергают мнение о том, что манихейство складывалось под влиянием греческих источников, учения Эмпедокла и Пифагора. Например, А. Хосроев отрицает это влияние, отмечая, что церковные ересеологи «передают лишь общее место церковной полемики о том, что все церковные еретики почерпнули свои заблуждения из греческой философии»95.
Епифаний Кипрский сообщает о манихействе в своем сочинении «Панарион» (Ереси) в главе «Против манихеев»:
«(1) Они появились во времена императора Аврелиана около четвертого года его царствования. Ересь эта, возбудившая весьма много толков и известная во многих странах земли, как я сказал, начала распространяться от некоего Манеса. Этот Манес, сперва называвшийся Кубриком, вышел из земли Персидской, сам себе дав имя Манеса.
(2) ... уча не на основании Божественного Писания и вещания Святого Духа, но на основании жалких умствований человеческой природы, он измыслил такие речи. По какой причине во всем окружающем нас творении существует неравенство, именно: черное и белое, красное и зеленое, влажное и сухое, небо и земля, ночь и день, душа и тело, доброе и злое, справедливое и несправедливое. Это потому, конечно, что все состоит из двух каких-то начал. A диавол, усиленно воюющий против человеческой природы, породил в уме его то дикое мудрование, дабы признавать не-сущее и отрицать сущее ... Он представляет сочетание двух личных начал равновесных и равносильных во всяком отношении ...
(4) Когда распространилась молва, что сын царя персидского впал в некоторую болезнь и лежит в царствующем граде Персии ... тогда ослепленный своим нечестием, и подумав, что по книгам, найденным им после господина его Тербинта (он же и Будда), наследника Скютианова, он может приготовить некоторые лекарства для царского сына, уходит из своего места и спешит, и дерзновенно объявляет о себе, обещаясь принести пользу. Но не сбылась призрачная надежда чародея; он обманулся в ожидании, поднесши болящему сыну царскому какое-то лекарственное снадобье. Мальчик наконец умирает на руках его, чтобы обличились все соединенные с ложью пустые его обещания. Когда это так случилось, то по повелению царскому бросают его в темницу...
(8) Манес вводит два начала безначальные, всегда существующие и никогда не перестающие существовать, противоположные одно другому, и одному дает имя – свет и добро, другому – тьма и зло, так что они суть Бог и диавол. Иногда он называет обоих богами, – Богом благим и богом злым. От этих двух начал будто бы все имеет бытие и происхождение. И одно начало производит все доброе, a другое подобным образом – злое. В мире два эти начала имеют личную деятельность: одно начало произвело тело, а от другого произошла душа. Эта душа находится в людях, и во всяком животном, и в птице, и в пресмыкающихся, и в звере; этого мало: даже в растениях жизненную влагу он называет движением души, какая, говорит он, находится и в людях.
(9) Мифотворствуя и уча, он говорит еще и другое, именно, что ядущий мясо съедает душу и заслуживает того, чтоб самому сделаться чем-нибудь таким же. Так что если кто ел свинину, тот после сделается свиньею, или волом, или птицею, или каким-нибудь из ядомых творений. Посему манихеи не употребляют в пищу животных. И если бы, говорит, кто насадил или смоковницу, или маслину, или виноград, или сикомору, или персидское дерево, и если сам уничтожил бы их, то душа его после связывается отпрысками насажденных им дерев и не может от них освободиться. И если, говорит, кто женится на женщине, то, по исшествии из сей жизни, он переселяется в другое тело и становится сам женщиною, чтоб и ему выйти замуж. И если, говорит, кто убил человека, того душа, по смерти тела, переходит в тело прокаженного, или в мышь, или в змея, или будет чем-нибудь таким же, чем был убитый ...
Царь персидский, узнав о бегстве Манеса, послал и, схватив его в вышеупомянутом укреплении, бесславно привез его оттуда в Персию, и, приказав содрать с него кожу заостренной палочкой тростниковой, таким образом воздал ему наказание. Эта содранная с него тростником кожа, набитая соломой, находится еще и теперь в Персии» (Ереси, LXVI)96.
В учении Манеса Епифаний усматривал влияние учения Пифагора. Епифаний также приводит письмо Манеса к христианину Маркеллу.
Августин Иппонский, который пробыл в манихействе девять лет, сообщает свои личные впечатления от этого направления, которое он называл страшной сетью дьявольской, в пятой книге «Исповеди»97.
Митраизм и христианство
Bo II и III веке в Римской империи митраизм имел настолько сильное религиозное влияние, что известный историк Э. Ренан писал: «Если бы какая-нибудь смертельная болезнь остановила рост христианства, мир стал бы митраистским»98.
Почитание Митры в Персидском государстве
Митре поклонялись предки персов и индусов. Гимны в его честь имеются в Авесте и Ведах. Митра – божество света, почитаемое наряду с небом (Варуной / Ахурой), хранитель истины и согласия. Бог небесного света, Митра появляется перед восходом, а днем пересекает небесный свод на колеснице. Он вечно бодрствует, все видит, все слышит, неподвластен обману. Как божество истины и верности он призывался во время клятвы. В авестийском языке «митра» обозначает договор, в санскрите – друга (т. е. второго участника договора). Во время правления династии Ахеменидов (около 700–331) Митру почитали как покровителя войска.
В системе зороастризма Митра относится к числу низших божеств, язатов. Он является защитником воинов, защитником души праведного от демонов, вершителем последнего суда, помогающим душе подняться на небеса. В жертву ему приносили скот и пернатых, совершали возлияние сока хаомы. Перед жертвой совершали омовения и бичевания. В календаре Митре был посвящен седьмой месяц и 16 день каждого месяца. В Вавилоне Митру отождествляли с Шамашем, богом солнца и справедливости. Культ Митры осуществлялся магами, вавилонскими жрецами персидской религии. Маги получили распространение в Армении, Каппадокии, Понте, Галатии, Фригии. В Каппадокии митраистские общины существовали до V века no Р. Х.
В реальной жизни Митра имел очень большое уважение. Его почитали и простой народ, и цари. Артаксерксы призывали его имя наряду с Ахура-Маздой и Анахитой. Считалось, что он низводит на царей мистический свет, освящающий власть царей – хварно. На почитание Митры не повлияла даже эпоха Александра Македонского. Среди имен монархов Парфии (около 248 года до P. X. – около 227 года no P. X.) встречаются три имени Митридата.
Распространение митраизма в Римской империи
Митраистские святилища находят во всех концах Римской империи – от Северной Африки до Англии и от Испании до Дуная и Финикии. Но большей частью – на окраинах империи. Эллинистические города не восприняли культ Митры, хотя приняли почитание Кибелы, Сераписа, Ваала и других восточных божеств. В римскую империю митраизм начал проникать ко II веку, во II веке особенно активно – при Антонинах и Северах.
Главным источником распространения его была армия, где имелось много выходцев из Азии. В невоинственные провинции митраизм мог проникать через вернувшихся после службы воинов, через расселение семитских народов, в том числе благодаря финикийцам, торговавшим во всем Средиземноморье. Распространялся он и благодаря работорговле. Например, благодаря тому, что многих крестьян в Малой Азии, где было развито почитание Митры, обращали в рабов. Рабами становились военнопленные после столкновений с Парфией. О масштабах работорговли свидетельствует, например, то факт, что император Тит после своего успешного похода в Иудею обратил в рабство 97 тысяч евреев99.
В Италии культ Митры был связан с культом Великой Матери из Фригии. Митру отождествляли с Аттисом. Популярность в империи восточных культов, в том числе и Митраизма, высмеивал сатирик Лукиан: «Но Аттис, о Зевс, но Корибант и Сабазий, – откуда они приведены к нам вместе с этим мидийцем Митрой, в персидской одежде и с тиарой, даже не говорящим по-гречески, не понимающим, когда пьют за его здоровье?» (Собрание богов, 9)100.
Митраизм и императорская власть
Будучи популярен в армии, митраизм привлекал и римских императоров101. Император Нерон принял посвящение в маздеистский ритуал от магов. В тайных обрядах Митры участвовал император Коммод. Император Аврелиан учредил официальный культ Непобедимого Солнца, Sol Invictus, с которым отождествляли Митру. В 307 году императоры Диоклетиан, Галерий и Лициний посвятили в Карнунте храм Митре как покровителю своей власти. Юлиан Отступник учредил культ Митры в константинопольском дворце. Что же так привлекало императоров в этом культе?
Учреждение культа Митры в Риме было связано с оформлением императорской власти, ее переосмыслением. Принципат с императором, обладающим властью, делегированной ему народом, заменялся монархией, имеющей священные черты. Теперь император воспринимался как наместник божества, даже «господь и бог», dominus et deus. Это новое представление с энтузиазмом воспринималось в Азии, на Востоке, где охотно строили храмы Августу и учреждали его культ. В Риме, где еще жили демократические традиции, культ императоров принимали очень неохотно. Но противодействие Рима несколько смягчалось проникавшими в него восточными культами, в том числе и митраизмом.
В Иране считалось, что царь озарен сияющим ореолом, сверхъестественным огнем, который имеет божественное происхождение – хварно. Но хварно сопутствует только достойным правителям. Греки отождествили хварно с судьбой, τυχη, а римляне – c фортуной, fortuna. Подателем хварно считался Митра. В Риме спутником и охранителем императора считалось Непобедимое Солнце. Со времен Нерона императоры стали использовать корону, окруженную лучами, которые изображали божественное сияние. Культ Митры, таким образом, способствовал укреплению культа императоров, что самим императорам очень импонировало.
Учение митраизма
В зороастризме Митра воспринимался как одно из божеств, являющееся посредником между божественной сферой и людьми. На Западе он считался солнечным божеством. Изображался между двумя факелоносцами, Cautes и Cautopates, символизировавшими восход и закат, жизнь и умирание.
Согласно мифу, Митра вышел из скалы на берегу реки в присутствии пастухов, которые первыми принесли ему Дар. Его изображали родившимся во фригийском колпаке с ножом и факелом. Митра сразился с солнцем, победил его, надел ему корону. Митра воспринимался и как творец мира. Он победил первое живое существо – быка, из тела которого возникли травы, растения и животные. Впоследствии он был увезен солнцем на небо, откуда покровительствует тем, кто почитает его. Митра вершит суд и принимает души в свою обитель. В конце мира возникнет новый бык, который будет убит Митрой. А все люди будут воскрешены.
Богослужение в митраизме
До нас почти не дошло богослужебных текстов митраистов. Важное свидетельство имеется у Иеронима Стридонского (Epist. ad Laetam, 107). Участники мистерий митраистов принимали наименования Ворона, Скрытого, Воина, Льва, Перса, Гонца Солнца и Отца. Соответствующим образом они и одевались. В полной мере в мистериях могли принимать участие Львы и последующие. Участники мистерий называли друг друга братьями. Женщины в мистерии не допускались. Во время посвящения давалась клятва сохранять тайну учения и обрядов. Практиковались водные очистительные омовения. При переходе в состояние Львов и Персов поливали руки и язык медом – пищей блаженных. Существовало особое жречество, руководившее богослужением.
В мистериях освящались хлеб и вода с соком хаомы. Иногда хаома могла заменяться виноградным соком или вином. На это обращали внимание христианские писатели II и III века, говоря о том, что этим обрядам митраистов научили демоны.
Днем рождения Митры, Непобедимого Солнца считалось 25 декабря, поскольку с этим числом связано увеличение светового дня. Места собраний митраистов называли гротом, склепом, пещерой, или храмом и святилищем. Подземелья со сводом символизировали мироздание. В этих святилищах центральный коридор, шириной около 2,5 м, был предназначен для служителей. У боковых стен находились возвышения с наклонной поверхностью, шириной около 1,5 м, предназначавшиеся для участников. В глубине святилища стояло изображение тавроктонного (поражающего быка) Митры, перед которым находился жертвенник с огнем. Такое помещение могло вместить не более 100 человек. При увеличении общины строили новый храм. В митраистских общинах были теплые братские отношения, стирались все социальные границы.
Митраизм как соперник Христианства
Митраизм отличался религиозной и национальной терпимостью. Его божества с легкостью усваивали греческие и латинские имена. Митраизм легко приспосабливался к местным условиям. Он допускал почитание в своих священных подземельях и других богов. Казалось, что в IV веке он мог объединить в едином синтезе множество божеств и создать новую религию – солярный пантеизм, своеобразный вариант языческого монотеизма. В это же время митраизм столкнулся с Христианством.
Эти две религии имели ряд общих черт. Обе они пришли с Востока, причем почти в одинаковое время. Их распространению способствовали одинаковые внешние факторы – политическое единство средиземноморского мира и нравственная анархия, недовольство официальным культом и увлеченность восточными мистериями. Обе религии распространялись с одинаковой быстротой, имея очень хорошие успехи к концу II века. Об этом свидетельствует огромное количество материальных памятников митраизма. Первоначально адептами митраизма и Христианства были прозелиты из низших слоев общества. Обе религии имели тайный характер, проповедовали братство, которое проявлялось в реальной жизни общин. Обе религии имели сходный ритуал с омовениями, вкушением священной пищи. Сходными были аскетическая жизнь, учение о бессмертии души, о суде, будущем воздаянии и воскресении из мертвых. Митра как посредник между божественной и человеческой сферами, творец и судья был близок к александрийскому христианскому Логосу.
Отличие имелось в порядке распространения учения. Распространение Христианства шло через целенаправленное просвещение народов, миссию, активную проповедь, которая воспринималась как исполнение заповеди Христа. Первыми христианами были иудеи, жившие в городах по всему Средиземноморью. В распространении же митраиза большую роль играли социальные и политические обстоятельства – ввоз рабов из Малой Азии, перемещение войск.
Сторонники митраизма были главным образом среди военных и в государственной администрации, т. е. там, где христиан первоначально почти не было.
Митраизм первоначально распространялся в городах и селах окраинных провинций. Вследствие этого Христианство и митраизм почти не соприкасались. Исключение составляли главным образом Рим и Африка, где было острое соперничество. Острота этого соперничества, борьбы обуславливалась некоторой общностью митраизма и Христианства.
Митраизм и Христианство в сочинениях авторов ІІ–ІІІ века
В связи с Христианством упоминал митраизм критик христианства Цельс. В своем «Правдивом слове» он отмечал, что если христиане будут принимать свое учение без руководства разумом, без предварительного исследования, то они будут подобны тем невеждам, которые верят служителям Митры и Вакха. Эти невежды, отмечал Цельс, «не желают ни высказывать, ни выслушивать никакого основания для того, во что они веруют, и руководствуются только положением: не исследуй, а верь – вера твоя спасет тебя» (Против Целъса, І:9)102.
Цельс также полагал, что распространенное среди некоторых христиан учение о семи небесах заимствовано из учения персов и мистерии Митры (Против Целъса, VI:22– 23)103.
На сходства между христианскими и митраистскими обычаями обращали внимание христианские апологеты, которые оценивали обряды митраистов как сатанинские подделки под священные христианские обряды.
Иустин Философ, говоря о христианской Евхаристии, замечает: «То же самое злые демоны из подражания научили делать и в таинствах Митры; ибо, как вы знаете или можете узнать, – при посвящении вступающего в таинства, предлагается там хлеб и чаша с водою» (Первая апология, 66)104.
Демонологическое объяснение сходства обрядов использует и Тертуллиан в сочинении «О прескрипции против еретиков»: «Кем же внушается знание того, что пригодно для ересей? Разумеется, дьяволом, дело которого – извращать истину, который даже самим священным таинствам подражает в идольских мистериях. И он сам крестит некоторых, – тех именно, кто верит в него и верен ему: он обещает взамен снятие грехов в этой купели. И если я еще помню, Митра чертит там [т. е. в царстве дьявола] знаки на лбах своих воинов, празднует он и приношение хлеба, представляет образ воскресения и под мечом уносит венок. Что же еще? Ведь и первосвященнику своему он установил единобрачие; у него есть девственницы, есть и аскеты» (De praesriptione haereticorum, 40)105.
Ha связь христианского Крещения с митраистским омовением указывает Тертуллиан в другом своем сочинении: «И язычники, будучи лишены всякого разумения духовных сил, приписывают такие же действия своим идолам. Но они обманываются «пустыми» водами. Ибо и в некоторые мистерии они посвящаются чрез омовение, например, в мистерии Исиды или Митры» (О крещении, 5)106.
Иустин Философ также обращал внимание на общую для митраистов и христиан символику камня: «Когда совершители мистерий Митры говорят, что он родился от камня, и место, где они посвящают верующих в него, называют пещерою, то не вижу ли, что они это заимствовали из слов Даниила: «камень без рук оторвался от большой горы» (Дан. 2:34), и также из пророка Исаии, которому постарались они подражать во всех словах? Ибо они устроили, чтобы и у посвященных в таинствах были беседы о соблюдении правды» (Диалог с Трифоном иудеем, 70)107.
Иустин Философ находил также связь между преданием о рождении Иисуса Христа в пещере и митраистской традицией совершать богослужение в пещере: «Когда же младенцу пришло время родиться в Вифлееме, то Иосиф, по недостатку в том селении места, где остановиться, пришел в одну пещеру недалеко от селения. И когда они были там Мария родила Христа и положила Его в яслях, где и нашли Его волхвы, пришедшие из Аравии. Вам я уже напоминал – сказал я, – что еще Исаия предвозвестил о значении этой пещеры, и опять приведу это место для тех, которые сегодня пришли с вами (Ис. 33:13–19). И я прочел слова из Исаии, приведенные уже выше, присовокупив, что жрецы таинств Митры вследствие этих слов были возбуждены диаволом говорить, что они посвящают в таинства в месте, называемом у них пещерою» (Диалог с Трифоном иудеем, 78)108.
Впрочем, можно предполагать, обвинения в заимствованиях звучали в адрес христиан и со стороны митраистов. Во всяком случае, жрецы Великой Матери упрекали христиан в том, что они заимствовали из их культа идеи об искуплении кровью пасхального агнца109. Видимо, в данном случае не следует говорить о взаимных влияниях, поскольку обе религии имели различные источники.
При всех внешних сходствах, митраизм, говоривший о мифическом спасителе и спасении, не устоял перед Церковью, возвещавшей о спасении, принесенном живым, реальным Спасителем.
Историческая судьба митраизма
Распространяясь по всей Римской империи, митраизм, в отличие от христианства, не встречал сопротивления со стороны государственной власти. Ему симпатизировали императоры и военные. Он не отрицал политеизм и не требовал по отношению к себе абсолютной верности. Однако Христианство, несмотря на непримиримость к нему государства, покорило империю, а митраизм умер после того, как государственная власть отвернулась от него. Упадку митраизма отчасти способствовало и то, что империя теряла окраинные провинции, где было много его сторонников. Например, в 275 году была потеряна Дакия.
В IV веке возродить эту религию попытался император Юлиан Отступник. Эта попытка, не смотря на то, что у митраизма еще было много сторонников, не удалась. Некоторое время влияние митраизма еще сохранялось. Например, в 361 году Григорий Александрийский был растерзан чернью за το, что хотел построить храм на развалинах митраистского святилища (Сократ Схоластик. Церковная история, 111:2). Однако уже в 70-х годах этого века чернь сама разоряла митраистские храмы. Разрушали их и императорские чиновники. В V веке остатки митраистов существовали лишь на окраинах империи.
Наследие умирающего митраизма восприняло манихейство, которое расцвело в IV веке, пытаясь примирить Зороастра и Христа. Именно митраизм подготовил почву для успешного распространения манихейства. В отличие от митраизма, манихейство оказалось более жизнеспособным.
Церковные писатели и богословие доникейского периода. Учение о Логосе
Мужи апостольские и апологеты
Мужами апостольскими принято называть церковных писателей, которые жили в апостольский век и были учениками или последователями апостолов. В английской литературе их называют апостольскими отцами (Apostolic Fathers). Впервые круг этих писателей определил в 1672 году патролог Котелье. В его издание вошли «Послание» Варнавы, «Послания» Климента Римского, «Пастырь» Ермы, «Послания» Игнатия Антиохийского и Поликарпа Смирнского. Позднее к числу письменных памятников мужей апостольских добавили «Послание к Диогнету», фрагменты Папия Иерапольского и «Учение двенадцати апостолов». Все эти сочинения появились, по мнению исследователей, в период с 95 по 150 год.
Мужей апостольских сменило поколение христианских апологетов. Апологетами называют церковных писателей, которые выступали с сочинениями в защиту христианства перед лицом государственной власти. Первые апологеты появились уже во II веке, в эпоху правления императоров династии Антонинов. К числу ранних апологетов относят Иустина Философа, Афинагора Афинянина, Феофила Антиохийского, Татиана, Аристида.
Особенности доникейского богословия
В первые христианские века под словом «богословие», θεολογια понимали преимущественно учение о Боге, т. е. о Святой Троице (учение о Боге в Самом Себе). Все остальные стороны современного богословия, связанные с отношением Бога к миру (учение о Боге как творце, промыслителе, спасителе, освятителе), называли словом «домостроительство», οικονομια.
В ранний период в центре внимания богословов стояла личность Иисуса Христа, проблемы, связанные с пониманием Иисуса Христа, Его спасительного дела. Вся богословская мысль до VIII века, вращаясь вокруг Христа, по сути, пыталась истолковать слово «Богочеловек», θεανθρωπος.
Учение об Иисусе Христе как о Боге относилось к собственно богословской области, а учение о Нем как о Боге воплотившемся – к области домостроительства. Учение о Троице в первые века фактически рассматривалось сквозь призму учения об Иисусе Христе. Первоначально основное внимание уделялось Его Божеству. При этом возникала опасность умаления Его человечества. Так возник докетизм, учение о призрачности человеческого тела Иисуса Христа, отрицающее истинность Боговоплощения. Докетами были гностики. Чуть позднее некоторые еретики сместили акцент на человечество Иисуса Христа, отрицая Его Божественность.
Особенности проповеди о Христе для иудеев и для язычников
Христианская проповедь в самом начале была ориентирована главным образом на иудейские круги. Проповедь, обращенная к иудеям, была проповедью об Иисусе как Христе и Господе. Для вхождения иудея в Церковь было достаточно, чтобы он признал Иисуса Христом, т. е. Помазанником Божиим, Мессией, либо исповедал Иисуса Господом. Иудеи ожидали Спасителя-Мессию, Христа. А слово «Господь», κυριος, в Септуагинте заменяло священную Тетраграмму – JHWH.
Во времена апостольские Церковь жила воспоминанием о реальной земной жизни Иисуса Христа. Земного, осязаемого Иисуса помнили многие. Первые христиане, большая часть из которых были иудейского происхождения, довольствовались своей верой в Христа как Бога и благодатными переживаниями, которые проистекали от этой веры. Однако отличавшаяся универсализмом христианская проповедь быстро перешагнула национальные границы. Церковь более тесно соприкоснулась с культурным языческим миром, античным миром, понадобились и особые слова, способные наиболее точно передать глубокий смысл христианского Откровения другим народам. Язычникам мало что говорило исповедание Иисуса Христом или Господом. Для того, чтобы объяснить им то, Кем является Иисус Христос, требовались иные термины.
Подходящий термин был найден евангелистом Иоанном Богословом, в устах которого прозвучали известные слова: «В начале Было Слово... (Εν αρχη ην ο λογος)» (Ин. 1:1) (См. также: Откр. 19:11–13). Проповедь об Иисусе Христе как ставшим человеком Логосе была для язычников близка и понятна. Понятие Логоса стало своеобразной наживкой, с помощью которой ученики Христа (рыбаки в прямом и переносном смысле) улавливали язычников. Так понятие Логоса стало частью христианского Откровения.
Это еще раз показывает, что Божественное Откровение давалось человечеству на том языке, который это человечество могло понять и принять. Временные понятия и образы входили в Откровение, отражающее вневременные истины. А универсальность христианского учения, обращенного ко всем народам и социальным слоям, требовало и разнообразных средств его выражения.
Впрочем, учение о Логосе не было чуждо и Ветхому Завету. Уже самые ранние христианские богословы усматривали намек на Творческий Логос в рассказе Быт. 1 о творении мира Богом посредством слова и в соответствующем этом рассказу выражении 32 псалма: «Словом Господа сотворены небеса...» (Пс. 32:6).
Что же вспоминали язычники, когда слышали о Логосе? Понятие Логоса в античном мире связывалось с отображением божественного в мире, с выражением Абсолюта в действии в мире. О Логосе учили некоторые авторитетные античные философы. Но что понимали они под Логосом? Дело в том, что греческое слово λογος имеет много значений. Оно обозначает не просто слово (человеческое слово), но и мысль, разум, смысл, понимание, учение.
Учение о Логосе в античности. Гераклит Эфесский
Учение о Логосе впервые было высказано философом Гераклитом Эфесским, жившим между VI и V веком до Р. X. Гераклит написал сочинение «О природе», состоявшее из ярких, образных изречений, кратких до непонятности и похожих на изречения оракула. Вследствие таинственного изложения мыслей Гераклита называли Темным. В своих познаниях Гераклит шел особым путем, вопрошая самого себя.
Гераклит говорил о текучести, изменчивости всех вещей, о постоянных конфликтах и вражде, существующих в мире. Вместе с тем, в мире имеется некий управляющий, организующий принцип. Всем в мире руководит разум, Логос. Для Гераклита были характерны еще натурфилософские тенденции. Поэтому Логос у него предстает как стихия, натуральная реальность. Он есть пар, огонь, ветер, Дыхание. Он все одушевляет, творит реальность. Обычно выделяют два достижения Гераклита110. Первое – это учение о Логосе, который является «универсальным принципом, который есть причина порядка, соотношения, равновесия, гармонии и разумности в постоянном течении бытия» и в то же время он живой»111. Второе – это признание того, что этот изменчивый, полный противоборства мир един и управляется живым законом.
Хотя во время Гераклита начали появляться рационалистические тенденции, он был далек от рационализма. Логос, эту своеобразную скрепу мира, обнаружить рационально, путем мышления, невозможно. Ученая эрудиция, способность систематизировать понятия, логически мыслить знания Логоса не дадут. Для познания Логоса необходимо некое внутреннее духовное усилие, зоркость, мистическое проникновение, озарение. Знание о Логосе – это знание гадательное. Присутствие в мире Логоса не самоочевидно, к осознанию этого прийти непросто. «Эту-вот Речь (Логоса) сущую вечно люди не понимают и прежде, чем выслушать [ее], и выслушав однажды. Ибо, хотя все [люди] сталкиваются напрямую с этой-вот Речью (Логосом), они подобны незнающим [ее], даром что узнают на опыте [точно] такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя [их] согласно природе [=истинной реальности] и высказывая [их] так, как они есть. Что ж касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому как этого не помнят спящие»112. Еще Аристотель испытывал сложность с прочтением этой цитаты. Он писал в своей «Риторике»: «Текст Гераклита трудно интерпунтировать, так как неясно, к чему относится [то или иное слово]: к последующему или к предшествующему, как, например, в начале его сочинения, где он говорит: «Эту-вот Речь сущую вечно люди не понимают». Здесь неясно, к чему следует отнести слово «вечно""113.
На употребление Гераклитом понятия Логоса обращали внимание такие древние христианские авторы, как Евсевий Кесарийский (Приготовление к Евангелию, XI:19), Феодорит Кирский (Лечение эллинских недугов), Климент Александрийский (Строматы; Педагог, III:1), Иустин Философ (Первая апология, 46), Ипполит Римский (Философумены, ІХ:9).
Стоики
В конце IV – III веке учение о Логосе развивали стоики. У стоиков, по словам С. Трубецкого, термин «Логос» впервые получил смысл универсального вселенского разума, стал принципом, зиждущим вселенную, принципом истинного знания и истинного человеческого поведения114· Логос стоиков – божество, творящий огонь, огненное дыхание, которое проникает всю реальность. Он разлит во всем мире, все одушевляет и преображает. Логос пропитывает мир, как мед пропитывает соты. Он тесно связан с материей. Если бы он был отличен от мира, он потерял бы свою действенность. Логос как семя мира, заключает в себе частные логосы – семена всех вещей115. Логос внутренне присущ человеку. И человек может постигать логосность, разумность мира, которая открывается, познается посредством логического мышления. Для стоиков мудрец, познающий Логос – это мыслитель-диалектик.
Представление о тесной связи Логоса с миром и человеком стоики связали с этикой. Логос стоиков – и онтологическое начало, и этический принцип. Человек должен в своей жизни соответствовать Логосу. Некоторые стоики подчеркивали, что человек должен уделять больше внимания не телу, а тому, что связывает человека с божеством – логосу, разуму.
Логос – это разумный закон. Все в мире совершается в соответствии с Логосом, законом. Все, что происходит в мире, совершается неотвратимо, необходимо, необратимо. Все происходящее неизбежно, все зависит от Логоса. Необратимы даже самые незначительные события жизни, потому что и они предначертаны. Добродетель для стоиков – это не выбор, а смирение, принятие неотвратимого. Поэтому стоики героическим поступком считали самоубийство.
Логос – это закон, судьба, которая стоит даже выше богов. В гимне Зевсу стоика Клеанфа (III век до P. X.) говорится:
«Ты, из бессмертных славнейший, всесильный и
многоименный,
Зевс, произведший природу и правящий всем по закону!
Зевсу привет мой! Тебя всем смертным хвалить подобает,
Мы – порожденье твое, и все твой образ мы носим,
Смертные все, что живем на земле и ее попираем ...
Ты согласуешь в единстве дурное совместно с хорошим,
Так что рождается разум, всеобщий и вечноживущий,
Разум, чья сила страшна одним лишь дурным среди смертных...
Нет награжденья прекрасней для смертных и нет для
бессмертных,
Кроме как общий закон восхвалять и чтить справедливость»116.
Говоря о том, что все в мире совершается согласно Логосу, стоики спотыкались о проблему зла и свободы. Если все предопределено, то почему существует зло, и есть ли свобода человеческих действий и ответственность за поступки? He решал стоицизм и проблему вечной жизни, которую вовсе отвергали ряд его сторонников. «Этический интерес стоицизма, – писал С. Трубецкой, – лежит не в индивидуальном существовании, а в вечном и общем, не в душе, колеблющейся между разумом и плотью, а в чистом, беспримесном универсальном Логосе, который как вечный огонь поглощает все индивидуальное»117.
Хотя в учении стоиков Логос, отождествляемый с миром, не является личностью, христиане не могли не обратить внимание на Логос стоиков как на созидательную, управляющую миром силу, божество, которому причастен как мир, так и человеческий дух, которое открывается в сознании человека, и которому человек должен следовать. Иустин Философ отмечал, что последователи стоических учений «были прекрасны в своей нравственной системе ... по причине семени Слова, насажденного во всем роде человеческом» (Вторая апология, 8)118.
Тертуллиан также обращал внимание на учение о Логосе у язычников: «Известно, что и у ваших философов Логос, т. е. Слово и Разум, считается устроителем Вселенной. Ибо Зенон признает его тем, кто все упорядочил. Он же называет его и роком, и богом, и душой Юпитера, и необходимой причиной всех вещей. Клеанф все это приписывает духу, который, по его мнению, проникает собою Вселенную» (Апология, 21)119.
Климент Александрийский, составляя свой трактат «Педагог», в котором представил христианского Логоса как истинного педагога человечества и человека, активно использовал диатрибы стоика Музония Руфа120.
Однако философский монизм у стоиков мирно уживался с религиозным политеизмом: мир пропитан божеством, все стихии мира божественны. Народные мифы и верования стоики примиряли с философией посредством аллегорического метода. Ближе к христианскому учению о Логосе стоит учение Филона Александрийского, сопрягавшее посредством того же аллегоризма библейскую и античную философскую традиции.
Филон Александрийский
Александрийский иудей Филон (20 год до P. X. – 40 год по P. X.) попытался изъяснить библейское учение языком античной философии. По мнению исследователей, Филон находился под влиянием александрийского платонизма, стоицизма и неопифагорейства121.
Бога Филон осмысливал в духе апофатического богословия, характерного для александрийской традиции. О Боге он говорил как о бескачественной реальности. Он неименуем, невыразим, непостижим, непознаваем, неопределим. Мы не знаем, что Он есть, но знаем, что Он есть. Мы не знаем, каков Он, но знаем, что Он существует. Эту мысль Филона будут повторять многие святые отцы, особенно те, кто будет бороться с арианами-евномианами. По мнению М. Муретова, Филон отрицал в Боге и признаки личного бытия: «Бог противостоит миру не как живой и личный творец и промыслитель, но как мертвый и бессодержательный философский абстракт, служащий безусловным и всеобщим первоначалом условных и частных явлений мировой жизни122. Однако следует заметить, что, говоря о Боге как Сущем, Филон заменяет безличное греческое понятие «сущее» (το ον) личным библейским «Сущий» (о ων).
Принципиальное философское различение Бога и мира в сочетании с представлением о Боге как Творце и Промыслителе привели Филона к необходимости признания существования посредника между миром и Богом. Этим посредником является Логос, через которого Бог творит мир и заботится о нем. Логос Филона – это активное, действующее, близкое к миру начало.
Филон называл Логоса старшим и первородным Сыном Бога, Образом и сиянием Вечного Света, Вторым Богом, творцом, орудием миротворения, управителем, пастырем мира, средней (между Богом и миром) природой. Никто из смертных не может клясться самим Богом, но только «Его именем, Логосом истолкователем, который для людей несовершенных есть Бог, а для мудрецов и совершенных первый», – писал Филон123. Говоря о взаимоотношениях Бога, Логоса, и мира, Филон прибегал к аналогиям из антропологии. Бог-Логос-мир соотносятся в его представлении как ум-душа-тело человека.
Логос как посредническая реальность имеет у Филона несколько аспектов124. М. Муретов выделил две группы употреблений термина Логос125. Во-первых, в самом Боге
Логос – это Божественный разум, составивший идеальный план реального мира, это источник Божественной Премудрости, Премудрость, это идеальный мир, вместилище идей, идеальных образцов реальных предметов. Во-вторых, в отношении к миру Логос – это Божественная сила, единство Божественных идей и сил, как проявлений идей, это – первообраз мира, его первоформа. Он производит все мировое многообразие, выполняя индивидуализирующую функцию. Он охраняет миропорядок, является мировой силой, неизменным, вечным законом природы, мировым семенем. В определенном смысле он сам является миром (космосом). Филон не далеко уходит от стоического восприятия Логоса как безличного разума или силы, имманентной миру (а потому и действенной). Логос Филона то сливается с Божеством, то совпадает с миром.
По-разному решают вопрос о том, является ли Логос личным посредником. Например, М. Муретов сомневался в личном характере Логоса, считая, что личные названия Логоса у Филона имеют метафорический характер126. Однако олицетворения Логоса так часты у Филона, что это само по себе может считаться шагом вперед к христианскому восприятию Логоса.
По мнению В. В. Болотова, учение о Логосе у Филона имеет не богословский, а космологический характер. Логос существует для мира. Богу Логос как будто и не нужен. «Логос Филона есть скорее смелый шаг от мира к Богу, чем осторожное логическое движение от Бога к миру», – отмечал историк127.
Христианскому учению о Логосе в учении Филона соответствовала мысль о Логосе как творце, устроителе мира, промыслителе о мире, а также попытка персонификации Логоса. Вместе с тем, учение Филона имело и неблагоприятные последствия. Оно приводило к субординатизму и космологизму в христианском представлении о Логосе. Логос мог восприниматься как подчиненное Богу, низшее чем Бог существо, бытие которого обусловлено творением мира. Эти последствия проявились уже во II веке в учении христианских апологетов.
Учение о Логосе и Ветхий Завет
Учение о Логосе стало органичной частью христианского откровения, поскольку имело точки соприкосновения с текстом Ветхого Завета. Речь идет об употреблении термина «слово» и понимании персонифицированной Премудрости. В первой части Библии имеется учение о творении мира словом. Именно посредством слова получали откровение от Бога многие пророки, чьи письменные тексты часто содержат формулы: «И было слово Господне», «И сказал Бог».
Бог Ветхого Завета – говорящий Бог, отчего само Священное Писание евреи называли Священным Словом, a христиане стали называть Словом Божиим. Однако следует заметить, что название «Священное Слово» появилось у еврейских писателей (Аристовула, Филона) в эллинистический период в связи с развитием аллегорического толкования. Этот термин использовали античные авторы в отношении к мистериальным греческим и варварским текстам128. Поэтому древние христианские авторы будут стремиться избегать его.
Ветхий Завет постоянно подчеркивает силу, действенность («Слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11); «Слово Мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу» (Иер. 23:29); «Пошлет слово Свое, и все растает» (Пс. 147:7)), постоянство, вечность («Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8); «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс. 118:89)) слова Бога, которое направляет, руководит человеком («Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105)).
Слово является в каком-то смысле посредником между Богом и миром. Именно поэтому в таргумах, авторы которых стремились подчеркнуть идею непостижимости, запредельности Бога, вместо имени Божия употребляется среди других заменителей и термин «слово-мемера (Божие)»129. В таргумах мы встречаемся с персонификацией Мемеры. Персонификация Мемеры встречается и в Книге Еноха (ІІ–І век до P. X.). «Подойди Енох к Моему святому Слову», – говорит в ней Господь своими устами (Книга Еноха, 14)130. Талмудическая Мемера творит мир, промышляет о нем, занимается спасением избранного народа, предстает как личное существо.
Особый интерес при рассмотрении учений о Логосе представляет ветхозаветная Премудрость, которую христианская экзегетическая традиция прочно связала с Божественным Словом, отождествив Софию Ветхого Завета со Второй Ипостасью Святой Троицы.
В книге Притчей Соломоновых, которую можно датировать ѴІ–Ѵ веком до P. X., Премудрость (хохма, софия) употребляется в нескольких смыслах. Это и человеческое качество или действие, и качество или действие Бога, и некое надчеловеческое, но близкое к человеку явление, и, что для нас важнее всего, особое самостоятельное явление Рядом с Богом. В книге Притчей Премудрость персонифицируется, в ее уста вкладываются две речи: Пртч. 1:22–33 и Пртч. 8:4–3б. В первой речи она вполне может просто олицетворять заповеди, добродетели. Но вторая речь рисует очень необычный ее портрет. Она предстает не просто как обладающая правдой и силой, но и как источник власти, как нечто такое, что было с Богом прежде всякого творения, являлось участником создания мира, выступая в роли художника всего. Обретение ее, послушание ей дает жизнь. Если учительство Премудрости можно понять как дидактическую персонификацию, ее собственные слова о её космической, демиургической роли выходят за пределы такой персонификации, – отмечал С. Аверинцев. – ...Премудрость в Книге Притчей – фигура, выходящая за пределы простой метафоры, речь идет может быть, не о лице, но о сущности131.
О Премудрости, которая сокрыта от очей всего живущего, которая была при творении мира и была явлена при этом творении, говорит и книга Иова (Иов. 28:20–28).
Но наиболее выразительно говорится о Премудрости в книге Премудрости Соломона, которую датируют I веком до P. X. Премудрость в этой книге – дух разумный, святой, единородный, всевидящий, который через все проходит и проникает. Она – излияние славы Вседержителя, все обновляет (Прем. 7:22–30). Она дает бессмертие, наслаждение, богатство, разум, добрую славу (Прем. 8:17–18). Она знает дела Божии, была с Богом при творении (Прем. 9:9). В Прем. 9:1–2, где подчеркивается, что Бог сотворил все словом Своим и Премудростью устроил человека, Премудрость практически отождествляется с Логосом, поскольку 1 и 2 стих составляют конструкцию с параллелизмом. Именно она проявляла себя в истории прародителей, праотцев и народа Божия (Прем. 10–19).
По словам С. Трубецкого, Премудрость в этой книге «является космическим началом, принципом универсального разума и нравственного закона, – подобно стоическому логосу; в то же время, подобно логосу последующего богословия, она является началом откровения»132. Такая Премудрость уже почти тождественна Логосу христиан. Любопытно, но, читая эту книгу, можно подумать, что ее автор подобно Иоанну Богослову хотел привлечь на свою сторону образованных язычников, знакомых со стоической философией. Учению о Премудрости как активной творческой силе вполне соответствовало само греческое слово «София». София в изначальном смысле и словоупотреблении – это не просто осведомленность в науках, но практический навык, умение, ловкость (хитрость), творческая деятельность133.
Таким образом, утверждению веры в христианского Логоса способствовала не только античная философская традиция, но и удобренное этой традицией представление о Премудрости-Слове.
Логос Нового Завета и христианского богословия
После философских учений о Логосе, ветхозаветного Откровения о Слове и Премудрости, основанного на философии и Библии учения Филона и пришло самое подходящее время для проповеди о Божественном Логосе, не просто пришедшем в мир, но ставшим человеком. Слова из пролога Евангелия Иоанна Богослова в целом должны были быть понятны и знакомы – как язычникам, так и евреям.
Слово-Логос было «в начале», как «в начале» был Бог книги Бытия, Премудрость книги притчей или Логос философов. Слово было близко Богу, оно обладает Божественностью. Посредством Слова созидалось все существующее. Оно является источником жизни и света, который не способна поглотить никакая тьма. Слово было отвергнуто многими. А те, которые приняли Слово, получили власть стать чадами Божиими. В Премудрости Соломона (Прем. 2:12–18) сынами Бога называются праведники, а у Филона – те кто руководствуются Логосом.
Новым и непривычным могло показаться сообщение о том, что Слово стало плотью, жило среди людей, являя себя необыкновенным образом. Для живущих на земле Слово-во-плоти, Единородный Сын (этот термин употреблял и Филон), открыло невидимого Бога.
В целом, в евангельской проповеди Логос становился не просто отвлеченным философским принципом, или безличным проявлением в мире некоего божественного начала – но активно проявляющим себя в мире живым личным Богом.
В Новом Завете мы не встретим детальной разработки учения о Логосе, которой требует философствующий ум. Новозаветное откровение сообщает столько, сколько вполне достаточно для живого религиозного сознания, требующего живого личного Бога, к которому можно обратиться с искренней мольбой без опасения того, что не будешь услышан.
Учение о Логосе у христианских апологетов II века
Иустин Философ
Первыми христианскими богословами, попытавшимися развить учение о Логосе, были апологеты – церковные писатели II века, защищавшие Христианство перед лицом язычества134. Среди прочего, апологеты стремились показать Христианство как истинное философское учение. Поэтому для них были важны те точки соприкосновения, которые были между Христианством и античной философией. В учении о Боге, апологеты отстаивали монотеистическое представление. Об этом едином Боге они говорили языком апофатики. Он неизменяем, невидим, непостижим, необъемлем, неописуем, неизъясним, неименуем. В этом едином Боге-Отце существует Логос, который неотделим от Отца и есть Его ум или идея.
О Логосе учил Иустин Философ. В «Диалоге с Трифоном Иудеем» он писал: «Как начало, прежде всех тварей, Бог родил из Себя Самого некоторую разумную силу, которая от Духа Святого именуется также славою Господа, то Сыном, то премудростию, то ангелом, то Богом, то Господом и Словом» (Диалог с Трифоном Иудеем, 61)135. Логос родился не так, чтобы разделилось естество Отца, но так, как от одного огня зажигаются другие огни. Говоря о Логосе, Иустин хотел оградить целостность природы Бога Отца, единство Бога. Для Иустина характерны субординатизм (представление о том, что Логос подчинен Богу и ниже Бога по достоинству) и космологизм (представление о том, что Логос рождается в связи с творением мира). Собственно Богом для Иустина является Бог Отец, а рождение Логоса Иустин связывает с творением мира, т. е. интерпретирует рождение Логоса космологически. Логос обнаруживается в творении мира. Логос родился, чтобы сначала возглавить творение, а после – спасение. Триадология у Иустина стоит под тенью космологии. Космология довлеет над триадологией.
Учением о Логосе Иустин хотел примирить Христианство с языческой философией. Он особым образом переосмысливает учение стоиков о семенном Логосе. Говорит, что стоики были прекрасны в своей нравственной системе по причине семени Слова, насажденного во всем человеческом роде (Вторая апология, 8). Слову, которому поклоняются христиане, причастен весь род человеческий. Согласно со Словом жили Сократ и Гераклит среди эллинов, Авраам, Илия и другие среди варваров (Первая апология, 46). Все лучшее в мире имеет один источник – Логос. Этот Логос в полноте явлен только в Иисусе Христе.
Феофил Антиохийский
Впервые термин «Троица», τριας был употреблен Феофилом Антиохийским (Послание к Автолику, 11:15): «Те три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы, Бога и Его Слова и Его Премудрости»136. Феофил является автором оригинального учения о двойственном Логосе – внутреннем и высказанном (Послание к Автолику, ІІ:10 и 22). Первоначально Логос существовал в Боге, в собственных недрах Отца, в сердце Отца. Об этом внутреннем Слове (λογος ενδιαθετος) сказано: «В начале было Слово и Слово было у Бога» (Ин. 1:1). Восхотев сотворить мир, Бог рождает Слово, произносит Его, Слово становится проявленным (λογος προφορικος). О Нем сказано: «Все через Hero начало быть» (Ин. 1:4). Эти два термина использовали в своей антропологии стоики. После творения Бог не лишается Логоса, но всегда беседует с Ним. Таким образом, у Феофила рождение Логоса также связывается с творением. С учением Феофила о двойственном Логосе полемизировал Ириней Лионский.
Встречается у Феофила и субординатизм, представление о неравенстве Отца и Сына. Сын не обладает Божественными свойствами в полной мере. «Бог и Отец всего необъятен и не находится в каком-либо месте, ибо нет места успокоения Его. Логос же Его, через Которого Он все сотворил, будучи Его силой и премудростию, Он ходил в раю и беседовал с Адамом» (Послание к Автолику, 2:22)137. Здесь же Феофил выражает мысль о том, что ветхозаветные откровения – это откровения Логоса. Эта мысль встречается у многих древних авторов, например, у Евсевия Кесарийского (Церковная история, 1:2).
Находясь под обаянием философских учений, почти все апологеты в учении о Логосе сохраняли субординатизм (представление о неравенстве Бога и Логоса) и космологизм (представление о том, что существование Логоса обусловлено творением мира). Эти недостатки преодолеваются уже в богословии Иринея Лионского . Если же говорить об апологетах, то менее всего космологизма имеется у Афинагора Афинянина, который писал: «Сын Божий... есть первое рождение Отца, не так, чтобы оно получило бытие во времени, – ибо Бог, как вечный ум и вечно словесное существо искони имел в Себе Самом Слово, но Он произошел от Hero для того, чтобы быть идеей и действенной силой для всех материальных вещей» (Прошение о христианах, X)138. Учение о вечном рождении Сына Божия от Бога впервые выразит Ориген. Но окончательно субординатизм и космологизм в богословии будут отвергнуты в эпоху великих каппадокийцев – Василия Великого, Григория Назианзина и Григория Нисского. Христианское же Откровение о Логосе покорит античный мир.
Монархианские движения конца II–III века. Ориген и Тертуллиан
Алоги
Христианские апологеты первыми попытались сформулировать учение о Логосе. В конце II века это учение не могло не вызвать в христианской среде некоторое смущение и недоумение. В учении о Божественном Логосе, отличном от Отца, начали усматривать нарушение единобожия. В Малой Азии противодействие этому учению оформилось в движение алогов.
Алоги, αλογοι – это противники учения о Логосе, отрицающие Логоса, не-разумники, бес-словесники. Исторически алоги возникли в связи с критикой монтанизма. Монтанисты опирались на учение об Утешителе, обещанном Христом согласно Евангелию от Иоанна. Алоги, противостоя монтанистам, начали отрицать четвертое Евангелие, включая и имеющиеся в этом Евангелии обетование Утешителя и учение о предвечном Божественном Логосе. Алоги отвергли это учение как неизвестное апостолам. Они утверждали, что Логос не имел предвечного существования, а Христос стал Сыном возлюбленным только при крещении на Иордане.
Об алогах Епифаний Кипрский писал в своей книге «Ереси» в главе «Против ереси, не принимающей Евангелия от Иоанна и его Апокалипсиса, тридцать первой и пятьдесят первой ереси»: «Этой ересью называется та, которая отвергает книги Иоанновы. Посему, так как они не принимают Слова, проповеданного Иоанном, то и будут названы алогами. Итак, они, как совсем чуждые истинной проповеди, отрекаются от чистоты проповеди и не принимают ни Евангелия Иоанна, ни его Апокалипсиса» (Ереси, LI)139.
Богословский характер оппозиция учению о Логосе, о Христе как предвечном Сыне Божием приобрела в монархианских движениях. Монархиане были сторонниками строгого монотеизма. Наименование «монархиане» ввел в употребление их критик Тертуллиан, для которого четвертое Евангелие имело особую значимость, поскольку Тертуллиан перешел в монтанизм. Позднее монархиан стали называть антитринитариями.
Отрицание учения о Логосе у монархиан могло иметь двоякую форму. Во-первых, строгий монотеизм, учение о Едином Боге можно было утвердить через отрицание Божества Логоса и Иисуса Христа. Во-вторых, единобожие можно было восстановить через провозглашение тождества Отца и Сына (Логоса). В соответствии с этим монархиане делились на два направления – динамисты и модалисты. Динамистическое направление было связано с устойчивым восточным представлением о присутствии Бога в истории. Представители модалистического направления прибегали к философии стоиков.
Монархиане динамисты (адопциане)
Феодот Кожевник
Динамисты учили, что Иисус Христос по природе является простым человеком. От других людей Он отличался только тем, что Он обладал особой божественной силой. В истории было много людей, через которых действовал Бог, которым Бог сообщал свою благодать. Христос – один из них. Логос же в этом учении являлся безличной силой Бога, которая сошла на Иисуса Христа.
Основными источниками по истории динамистов являются сочинения Ипполита Римского (Философумены\ Против Ноэта; Против Артемона), Тертуллиана (Против Праксея), Оригена (Толкование на Евангелие от Иоанна), Афанасия Великого (Против ариан), Епифания Кипрского Ереси), Евсевия Кесарийского (Церковная история).
В конце II века в Рим из Малой Азии прибыл Феодот Кожевник. Согласно Ипполиту и Епифанию, он был обломком от алогов. «Сапожника Феодота, главу и отца этого богоотступнического движения, первого заявившего, что Христос – просто человек, Виктор (римский папа) отлучил
от Церкви», – сообщает Евсевий Кесарийский (Церковная история, Ѵ:28)140. Евсевий приводит несколько отрывков из древней книги, направленной против монархиан, из которых видно, что эти еретики исправляли Писание, выискивали в нем силлогизмы, занимались геометрией, восхищались Аристотелем, Галена чтили как божество.
Епифаний Кипрский говорил о Федоте как человеке ученом: «Этот Феодот происходил из Византии, ныне называемой Константинополем. Ремеслом он кожевник, но по науке муж многоученый» (Ереси, LIV)141. Учение свое феодотиане считали апостольским. Ипполит Римский и Епифаний Кипрский объясняли происхождение этого учения из обстоятельств жизни Феодота, который в период гонений отрекся от Христа:
«Он вместе со множеством каких-то людей во время наставшего гонения, а в какое гонение, не умею сказать, был взят в числе многих начальников города и вместе с другими подвергнут истязанию за Христа. Все другие рабы Божии, одержав победу, получили небесные награды как мученики за Христа. А он, отрекшись от Христа и отступив от истинной цели, сделался отступником, и от великого срама, потому что был поносим многими, бежал из своего отечества ... Для защиты себя он измыслил этот новый догмат, а именно сказал: «я не от Бога отрекся, но отрекся от человека». Потом на вопрос: от какого человека? – отвечал словами: «я отрекся от человека Христа». Так по этой-то причине утвердил он свой догмат, а также и происшедшие от него феодотиане, которые утверждают, что Христос простой человек и родился от семени мужеского ... «Христос сказал, – говорит он, – ныне же ищете Меня убить, человека, сказавшего вам истину (Ин. 8:40). Видишь, – говорит, – Он – человек» (Ереси, LIV)142.
По Феодоту, Христос родился сверхъестественным образом, но Он являлся не Богочеловеком, а человеком, который отличался от других своими добродетелями и тем, что в Нем обитал Святой Дух.
Последователи Феодота. Павел Самосатский
Последователями Феодота были Феодот Меняла (Банкир, или Младший), Асклепиодот и Артемон. Феодот Меняла считал, что Христос стоит даже ниже Мелхиседека, поскольку Христос – «иерей по чину Мелхиседекову». Феодот Меняла и Асклепиодот в Риме организовали общину, которую возглавил епископ Наталий, впоследствии раскаявшийся (Евсевий Кесарийский. Церковная история, Ѵ:28). Артемон выступил со своим учением в 20–30-х годах III века. Евсевий называл его отцом ереси Павла Самосатского, еретика второй половины III века.
В ранний период динамистическое монархианство было более популярно на Западе, чем на Востоке. На Востоке оно получило распространение к середине III века. Около 244 года Ориген ездил в Аравию, где обратил к истинному учению о Христе епископа Бостры Аравийской Берилла. Берилл говорил, что Спаситель «до своего прихода к людям не имел ни собственной сущности, ни собственной Божественности, что в Нем только пребывала Отчая (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІ:33)143.
Самым известным динамистом на Востоке был Павел Самосатский. Около 260 года он стал Антиохийским епископом. «Мысли его о Христе ползали по земле и не могли над ней подняться. Вопреки учению Церкви Он считал Его простым человеком» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, 7:27)144. Учение Павла рассматривал Антиохийский собор 264 года, но не смог изобличить Павла как еретика. Не удавалось это и последующим соборам. Павел был отлучен только на соборе 268/9 года. Удалось это благодаря ритору Мелихону, который имел священный сан. На этом соборе прибегли к помощи тахиграфов, скорописцев.
Послание собора об отлучении Павла, разосланное по соседним церквам, описывает личность Павла. Это послание свидетельствует о возникновении нового образа епископа, как человека внешней власти:
«Веру он считает средством для наживы. Он высокомерен и горделив, получает мирские звания и предпочитает называться не епископом, а дуценарием, красуется на площадях ... его окружает множество телохранителей – одни впереди, другие сзади, так что эта пышность и презрение к окружающим делают веру ненавистной. Церковные собрания он превратил в диковенные представления ... Престол и кафедру он приготовил себе высокие, не подобающие ученику Христову. У него, как у мирских начальников, есть отдельная комната... Он хлопает рукой по бедру, топает ногами на кафедре... Он запретил употреблять песнопения в честь Господа нашего Иисуса Христа... подготовил женский хор, который в великий праздник Пасхи посередине церкви пел гимны в его честь» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІІ:30, 7–10)145.
По учению Павла Самосатского, Бог является единым, единой Ипостасью. Логос – это премудрость Бога, неипостасный Сын Божий. Ипостасью, личностью Логос становится только по воплощении Иисуса Христа. Однако, после воплощения в Самом Боге никаких изменений не произошло. На Самого же Христа Логос сошел как прежде на пророков, только в большей мере. Логос не соединился со Христом физически, иначе бы жизнь Христа не имела нравственной ценности. Христос – это человек, который за свои нравственные подвиги достиг того, что в Нем стал обитать Логос.
Епифаний Кипрский писал об учении Павла: «Павел говорит, что Бог Отец и Сын и Святой Дух есть единый Бог, а всегда сущее в Боге Слово Его и Дух Его есть как в сердце человека его собственное слово. Сын Божий не имеет бытия ипостасного, но в Самом Боге, именно как учили и Сабеллий, Нават, Ноэт и другие. Однако же этот не одинаково с ними учил, а иначе, чем они. Слово будто бы пришло и вселилось в Иисусе, истинном человеке. И таким образом, говорит, он, Бог есть один, и Отец не Отец, и Сын не Сын, и Святый Дух не Святый Дух, но один Бог Отец, a Сын Его в Нем, как слово в человеке. В защиту своей ереси он выставляет на вид свидетельства Писания, именно слова Моисея: «Господь Бог твой, Господь един есть» (Втор. 6:4)» (Ереси, XLV)146.
Говоря о Логосе, Павел употреблял термин «единосущный», ομοουσιος. Этот термин он использовал для того, чтобы подчеркнуть безличный характер Логоса, Его неипостасность. Логос единосущен Отцу в границах одной Ипостаси. В 325 году на Первом Вселенском соборе этот термин станет знаменем Православия и войдет в Символ веры. Но понимание этого термина будет совсем иным, чем у Павла. В никейском богословии начала IV века личный Логос единосущен личному Богу.
Монархиане модалисты
Монархиане модалисты считали, что Бог один, но Он является под разными образами, видами, модусами (modus – образ, вид). Логос – это одно из проявлений единого Бога. В христологии модалисты минимализировали человечество Иисуса Христа. Они не допускали Боговоплощения. Бог явился под видом Христа. Модалистическое направление монархианства вышло из Малой Азии и обнаружило себя в Риме, как и динамистическое направление.
Если динамистическое направление было движением с философским характером, распространенным в среде интеллектуальных верхов общества, то модалистическое отличалось религиозным характером и проникало в ряды простых, необразованных верующих людей. Сторонников монархианства Тертуллиан называл людьми простыми и невежественными (Против Праксея, III). Для простых людей религиозного склада были важны не логика и отвлеченные философские построения, а вера во Христа как Бога и основанная на этой вере возможность спасения. Таким образом, если динамисты исходили из единства Божественной сущности то модалисты – из Божества Христа. «Христос был Бог и пострадал за нас, будучи Сам Отцом, чтобы мочь спасти нас», – утверждали модалисты (Философумены, IX: 11)147.
Ипполит Римский, искавший основы всех ересей в греческой философии, выводил монархианское учение из учения Гераклита. Основной принцип Гераклита – текучесть и постоянная изменчивость вещей. Ипполит приводит слова Гераклита, которые, по его утверждению, повторял Ноэт: «Все делимое и неделимое, происшедшее и непроисшедшее, смертное и бессмертное, логос, век, отец и сын – Бог праведный» (Философумены, ІХ:9)148.
Опору модалисты моли находить и в учении стоиков, согласно которому существует четыре категории признаков вещи: субстрат, качество, определенные изменения и относительные изменения149. Признаки первых двух категорий образуют конкретную вещь, признаки двух последних – не касаются сущности предмета, определяют его со стороны внешних и случайных отношений. Наименование «отец» и «сын» у стоиков не связаны с сущностью предмета, лишены реального значения, непостоянны.
Праксей
О Праксее мы знаем только благодаря сочинению Тертуллиана «Против Праксея». Ипполит это имя не упоминает. Вследствие этого, некоторые исследователи сомневались в реальном существовании модалиста с таким именем. Имя Праксей могло быть просто отражением занятий этого человека – «делец». В конце II веке Праксей прибыл из
Азии в Рим. Благодаря влиянию Праксея папа Римский Виктор (189–198) осудил монтанизм. Когда Праксей оказался в Карфагене, он столкнулся с Тертуллианом, который возненавидел Праксея как врага монтанизма. Так появилась книга «Против Праксея». По утверждению Тертуллиана, Праксей в Риме изгнал Утешителя и распял Отца.
Праксей был сторонником строгого единобожия. В Новом Завете он опирался на слова Христа из Евангелия от Иоанна: «видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14:9), «Я и Отец одно» (Ин. 10:30), «Отец во Мне и Я в Нем (Ин. 10:38)», «Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе» (Ин. 17:21). Слово из Быт. 1:26 «сотворим» он объяснял тем, что Бог есть некая множественность.
Тертуллиан называл модалистов патрипассианами, т. е. признающими то, что во Христе пострадал Отец. Однако такое наименование в целом является не совсем корректным (хотя учение о пострадавшем Отце могло быть у отдельных представителей, например, у Ноэта). Если единый Бог принял образ Сына, то Он уже не является Отцом. Страдал не Отец, а Бог вообще в образе Сына.
Ноэт и Савеллий
Монархианин Ноэт был смирнским ересеучителем. Его ученики Епигон и Клеомен основали свою отдельную школу в Риме. Ноэт развивал учение Гераклита. Ипполит приводит такие слова Ноэта: «Один и тот же Бог есть Творец и Отец всего, благоволивший изначала открыться праведным, оставаясь невидимым, когда Он не созерцается, видимым, когда созерцается, непостижимым, когда не хочет быть постигаемым, постижимым, когда постигается, и подобным образом Он непреодолим и преодолим, нерожденный и рожденный, бессмертный и смертный» (Философумены, Х:10)150.
Епифаний Кипрский сообщает, что Ноэт был родом из Эфеса, и дает такое свидетельство: «Увлекаемый чуждым
духом, он захотел сам от себя говорить и учить, чего не говорили пророки и апостолы, и чего изначала не содержала Церковь и не имела в мысли. Сам по себе превознесшись безумным превозношением, дерзнул он говорить, будто пострадал Отец ... Он ... стал открыто прекословить, говоря: «что худого делаю я тем, что одного Бога славлю, одного Бога знаю и кроме Его не знаю иного Бога, родившегося, пострадавшего, умершего?» Поэтому, ввиду того что он остался при этом, его вместе с обученными им своему догмату, извергли из Церкви» (Ереси, LVII)151.
Последователем Ноэта был Савеллий – самый известный монархианин модалист. Савеллий родился в Пентаполе, в Ливии. За свое учение Савеллий был отлучен папой Каллистом. Около 360 года его учение было широко распространено на Востоке. Об учении Савеллия сообщает Епифаний Кипрский:
«Один и тот же есть и Отец, и Сын, и Дух Святой, так что это – три именования одной ипостаси, или как тело, душа и дух в человеке. И Отец, так сказать, – тело, а душой можно назвать Сына, и как в человеке – дух, так и в Божестве Святой Дух. Или как в солнце, хотя оно в сущности одно, находятся три действия, то есть: освещать и согревать и еще самый округлый вид. И согревающее, или теплота и жар, есть Дух, просвещающее – Сын, а самый вид всего существа есть Отец. В свое время Сын был послан как луч, и Он сделал в мире все, относящееся к евангельскому домостроительству и спасению людей, а потом вознесся опять на небо, подобно лучу, испущенному солнцем и снова возвратившемуся в солнце. Дух же Святой посылается однажды для целого мира, а потом в отдельности на каждого из удостаиваемых сего. Такового он, духовной силой и сближением, так сказать, оживотворяет и воспламеняет, согревает и делает теплым. Так учат савеллиане» (Ереси, LXII)152.
Савеллий выдвинул термин Сыно-отец, υιοπατωρ. Сам в Себе Бог есть Бог молчащий монада. В отношении к миру Он – Логос. Логос открывает себя в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа, но имеет одну сущность, или ипостась. Савеллий использовал термин «Лицо», προσωπον, первое значение которого имеет оттенок непостоянства – личина, маска. Именно поэтому это слово вошло в церковную троичную терминологию не сразу153. В настоящее время термин «лицо» является синонимом «ипостаси».
Сила модализма заключалась не в теории, а в основанной на Писании религиозной убежденности в том, что Христос есть Бог, принявший плоть и спасший человека. В воззрениях модалистов были две истинные мысли – о полном равенстве Сына и Отца по Божеству и о совершенном Божестве Иисуса Христа. Однако при этом не было личностного, ипостасного различения между Богом Отцом и Богом Сыном. Церковь более терпимо отнеслась к недостаткам учения апологетов, некоторые из которых причислены к лику святых, чем к монархианам.
Тертуллиан и его триадология
He смотря на то, что Тертуллиан около 207 года перешел к монтанистам, он считается одним из самых авторитетных древних латинских писателей. Тертуллиан (около 155 – около 220) был превосходным знатоком римских законов. Как христианского писателя его уважали Киприан Карфагенский, Иероним Стридонский, Викентий Лиринский. Христианство он принял в 193 году в Карфагене. После этого он стал христианским писателем-полемистом, апологетом. Тертуллиан считается создателем церковной латыни. Тертуллиан отличался нравственным ригоризмом, негативным отношением к античной культуре.
Тертуллиан ввел в употребление латинские троичные термины substantia и persona. Греческая троичная терминология (ουσια, υποστασις) возникнет только спустя почти два столетия, во второй половине IV века. Впрочем, триадология Тертуллиана не совсем православна. Хотя он и признавал в Боге одну субстанцию и три лица, субстанцией в его понимании в полноте обладает только Бог Отец. Для Тертуллиана был характерен субординатизм. Сын и Святой Дух находятся в зависимости от Отца. Сын есть часть субстанции Отца. Кроме того, субстанция Тертуллиана отличается от природы, не есть природа (natura). Субстанция – более конкретное понятие, природа – более общее. Например, камень и железо – это субстанция, а твердость – это их природа. He смотря на это, тертуллиановское una substantia tres personae впоследствии стало православным латинским выражением веры в Троицу.
Для Тертуллиана был характерен и космологизм. В полном смысле, по его мнению, Слово родилось только в связи с началом творения. Было время, когда не было Сына. Троичность появляется в полной мере только вследствие творения. Но Сын и Дух – не творения, не отдельные самостоятельные существа, но имеют с Отцом неразрывную связь, как источник, поток и река.
Ориген
Знаменитый александриец, учитель многих святых, Ориген родился около 185 года в христианской семье. Его отец Леонид принял мученическую кончину в гонение Септимия Севера в 202 году. Сам Ориген был исповедником в гонение Декия 251 года, но умер своей смертью в 253 году. Ориген впервые попытался представить систематическое изложение богословского учения в сочинении «О началах». Этот труд дошел до нас в латинском переводе пресвитера Руфина Аквилейского. На греческом языке сохранились лишь фрагменты.
Для Оригена характерно возвышенное представление о Боге в духе апофатического богословия. Бог бестелесен, непостижим, сверхразумен, Его природа проста и неделима. Впервые в христианском богословии Ориген высказал учение о вечном рождении Сына Божия: не было времени, когда Сына не было.
«Бог Отец никогда, ни на один момент не мог, конечно, существовать, не рождая этой Премудрости... Должно веровать, что Премудрость рождена вне всякого начала, о каком можно только говорить или мыслить» (О началах, 1:2, 2)154. «Это рождение – вечное и непрерывающееся наподобие того, как сияние рождается от света» (О началах, 1:2,4)155.
Это учение у Оригена связано с представлением о неизменности Бога. Если Бог что-то делает, Он делает это вечно, иначе бы проявилось Его несовершенство. Следствием этого же представления является и учение о вечном творении. Бог творит вечно и вечно рождает Сына. Так что в полной мере Ориген от космологизма уйти так и не смог. Как и другим богословам того времени, для Оригена характерен и субординатизм. Собственно Богом является только Бог Отец, Самобог. Сын и Святой Дух подчинены Отцу.
Церковь не приняла учения Оригена о вечном творении мира Богом, о сменяющей друга череде миров, о всеобщем спасении (восстановлении всего, апокатастасисе), о предсуществовании духов, которые стали душами и облеклись в тела только вследствие своего отпадения от Бога. Эти особые мнения Оригена выражены главным образом в его сочинении «О началах». Ориген также говорил о том, что во Христе Бог Слово соединился с безгрешным духом Иисусом, принявшим человечество только ради спасения. Свое негативное отношение к этим сторонам учения Оригена Церковь высказала в эпоху правления императора Юстиниана в VI веке.
К заслугам Оригена следует отнести исповедание вечного рождения Сына Божия, исповедание того, что Сын Божий не только воплотился, но и вочеловечился, то есть принял человеческое тело и душу, введение в употребление выражения «три ипостаси», а также термина «Богочеловек», Θεανθρωπος.
Хилиазм
История Христианской Церкви первых столетий – история гонений, преследований и история мучеников. Существование вне закона, на обочине политической, общественной, культурной жизни, пропитанной язычеством, могло вызывать некоторое отвращение к внешнему миру, которое только усиливалось представлением о греховной поврежденности мира. Эта правда, правда о враждебном и испорченном мире вступала в некоторый конфликт с другой правдой – основанной на Священном Писании верой в Благого Бога-Творца, сотворившего прекрасный гармоничный мир ради человека, для блаженства всего творения. Эту вторую правду Церковь утверждала неимоверным напряжением своих сил в борьбе с докетизмом, гностицизмом, противопоставлявшем дух и материю, отрицавшем достоинство материального мира. Примирение этих двух правд в условиях первых столетий находило выражение в представлении о тысячелетнем царстве Христа на земле, хилиазме.
Источники представления о тысячелетнем царстве Христа на земле
Название этого учения происходит от греческих слов χιλιας, αδος, η – тысяча и χιλιετης – тысячелетний. Главным основанием для исповедания тысячелетнего земного царства Христа стало истолкование Откр. 20:1–7, где рассказывается о том, что в конце мира Христос воскресит пострадавших за его имя и будет царствовать с ними 1000 лет:
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли» (Откр. 20:1–7).
Подтверждение этого учения его сторонники находили и в ветхозаветных пророчествах, особенно говоривших о жизни в обетованной земле. Эти пророчества имеют некий не исполнившийся остаток, относящийся к эсхатологическим временам, к будущему Царству Божию. Для Ветхого Завета, особенно для ранних его пластов, не характерно учение о будущей жизни, загробном существовании. Все ветхозаветные обетования описывали блага будущей жизни в земных образах: не будет вражды, конфликтов, притеснения и унижения, болезней, голода, будет изобилие земных даров, господство на земле, победа над врагами. Буквальное восприятие этих пророчеств сформировало характерное для иудеев ожидание земного Мессии-царя, политического лидера, который избавит их от господства врагов и покорит под их ноги все народы.
Источниками хилиазма были и иудео-христианские настроения, позднеиудейский апокалиптизм. За несколько столетий до Рождества Христова получила развитие иудейская апокалиптическая литература. Этот жанр использован в «Книге Юбилеев», «Завете двенадцати патриархов», «Сивиллиных книгах», «Успении Моисея», «Третьей Книге Ездры», «Апокалипсисе Варуха», «Апокалипсисе Моисея», а также в «Апокалипсисе Софонии». В книгах этого жанра говорится об изменении мира, его обновлении, о божественном вмешательстве, используется мессианская эсхатология.
Хилиастические представления особенно культивировались христианским сознанием в период гонений. Стесненные обстоятельства стимулировали иудейские ожидания земного царства земного Мессии.
Исповедание тысячелетнего земного царства Христа находило отклик и в античных представлениях, связанных с ожиданием возвращения золотого века. Особенно ярко эти чаяния отразились «Буколиках», сочинении, написанном в 43–37 годах до P. X. римским поэтом Публием Вергилием Мароном (70–19)156. Описание золотого века у Вергилия, находящееся в 4 Эклоге, которая называется по имени римского консула Поллиона, удивительным образом напоминает ряд эсхатологических ветхозаветных пророчеств и может восприниматься как языческое пророчество о рождении Христа:
«Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой на земле расселится.
Дева Луцина! Уже Аполлон, твой над миром владыка.
При консулате твоем тот век благодатный настанет,
О Поллион! – и пойдут чередою великие годы.
Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут,
To обессилят и мир от всечастного страха избавят.
Жить ему жизнью богов; он увидит богов и героев
Сонмы, они же его увидят к себе приобщенным.
Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей.
Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе,
Лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар
Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым.
Сами домой понесут молоком отягченное вымя
Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут.
Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами.
Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом
Сгинет, но будет расти повсеместно гимом ассирийский»
(Буколики. Эклога 4)157.
Хилиазм Папия Иерапольского и Тертуллиана
Хилиастические представления разделяли многие древние христианские писатели, например, муж апостольский Папий Иерапольский. Об этом рассказывает первый церковный историк. Согласно Евсевию Кесарийскому, Папий передает «некоторые странные притчи Спасителя, кое-что скорее баснословное. Так, например, он говорит, что после воскресения мертвых будет тысячелетнее и плотское Царство Христово на этой самой земле». «Я думаю, – писал Евсевий, – что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразовательного и таинственного смысла, ибо был ума малого. Это явствует из его книг, хотя большинство церковных писателей, живших после него, очень уважало его, как писателя старого, и мнения его разделяли, например, Ириней и другие» (Церковная история, III:39, 11–13)158.
Хилиастичным было и монтанистическое движение, сторонники которого ожидали схождения Небесного Иерусалима на селение Пепузы. Вера в тысячелетнее царство Христа на земле перед концом мира была и у Тертуллиана. подобные мысли встречаются в его сочинениях «Против Маркиона», «О воскресении плоти». Иероним Стридонский упоминал его произведение «О нашей надежде», посвященное хилиазму.
Хилиастическое движение в Арсинойской Церкви в середине III века
Как движение, хилиазм обнаружил себя в Александрийской Церкви в период гонения императоров Декия и Валериана в 50-х годах III века. Об этом также рассказывает Евсевий Кесарийский. В своей «Церковной истории» (ѴІІ:24) он сообщает, что Дионисий Александрийский составил две книги «Об обетованиях», направленные против епископа Арсинойского Непота, «который учил, что обетования святым следует толковать скорее на иудейский лад, и утверждал, что на земле наступит для людей некое тысячелетие телесных наслаждений»159. Самим Непотом было написано сочинение «Против аллегористов». Дионисий путешествовал в Арсиною, где в течение трех дней дискутировал с преемником Непота, епископом Коракионом, убедив его отказаться от хилиастического учения. В связи с этим спором встал вопрос об авторитете Апокалипсиса. Хилиастические воззрения имели большую устойчивость и этим спором не завершились. Хилиазм Непота имел в основе христианские представления. Но это учение у ряда сторонников хилиазма было связано с различными источниками.
Хилиазм Иустина Философа
Христианский апологет Иустин Философ также отличался хилиастическим умонастроением. В «Разговоре с Трифоном Иудеем» (80–81) есть такой диалог: «Скажи же, истинно ли вы признаете, что это место Иерусалима будет возобновлено, и надеетесь ли, что народ ваш соберется и будет блаженствовать со Христом, вместе с патриархами, пророками и уверовавшими из нашего рода, равно как и с теми, которые сделались нашими прозелитами прежде пришествия вашего Христа? Или ты прибег к такому признанию для того, чтобы оказаться победителем в этом споре. – Я не так несчастен, Трифон, – отвечал я, – что иное говорить, нежели, что думаю. Я тебе и прежде объяснял, что я и многие другие призывают это, как и вы совершенно уверены, что это будет. Впрочем, как я тебе говорил, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением, которые не признают этого... я и другие здравомыслящие во всем христиане, знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится, как объявляют то Иезекииль. Исаия и другие пророки» (Диалог с Трифоном иудеем, 80)160.
Хилиастические воззрения Иустина базируются на Ветхом Завете: «Исаия так говорит об этом тысячелетии: «будет новое небо и новая земля, и прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце, но они найдут на ней радость и веселье о том, что Я творю; ибо Бог Я делаю Иерусалим весельем и народ Мой радостью и буду веселиться об Иерусалиме и радоваться о народе Моем. И более не услышится на ней голоса плача, ни голоса вопля, и не будет более там какого-нибудь младенца и старика, который бы не исполнил своего времени; ибо юноша будет ста лет, а грешник умирающий – ста лет и будет проклят. И они построят дома и сами будут жить, и насадят виноград и сами будут есть плоды его и пить вино. He будут строить так, чтобы другие жили, и не будут садить, чтобы другие ели; ибо как дни древа жизни, будут дни народа Моего, Дела трудов их умножатся. Избранные Мои не будут трудиться напрасно, ни рождать детей на проклятие: ибо они будут семя праведное и благословенное Господом, и внуки их будут с ними. И будет то, что Я, прежде нежели они воззовут, услышу их; когда они еще будут говорить, Я им скажу: что это? Тогда волки и ягнята будут пастись вместе, и лев как бык будет есть солому, а змей – землю, как хлеб. He будут они делать зла, ни истребления на горе святой, говорит Господь» (Ис. 65:17–25). Из того, что сказано в этих словах «как дни древа жизни будут дни народа Моего, дела трудов их», – продолжал я, – мы разумеем, что здесь таинственно указывается тысячелетие. Ибо когда было сказано Адаму: «в какой день он вкусит от древа, в тот умрет» (Быт. 2:17), то мы знаем, что он не пережил тысячи лет. Знаем также, что к тому же ведет изречение: «день Господа как тысяча лет» (Пс. 89:4; 2Пет. 3:8). Кроме того у нас некто, именем Иоанн, один из апостолов Христа, в Откровении бывшем ему предсказал, что верующие в вашего Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет, а после того будет всеобщее, словом сказать, вечное воскресение всех вместе и потом суд; как и Господь наш сказал: «не будут жениться, ни выходить замуж, но будут равны ангелам, как дети воскресения Божия» (Лк. 20:35,36)» (Разговор с Трифоном иудеем, 81)161.
Хилиастическое учение Иустина Философа явилось своеобразным ответом на вопрошание иудеев. Иустин хотел показать иудеям, что их лучшие представления имеются и у христиан, причем у христиан они отличаются большей развернутостью, полнотой и определенностью.
Хилиазм Лактанция
У латинского писателя Фирмиана Луция Цецилия Лактанция (около 250 – около 325) хилиастические представления связаны с христианско-языческим диалогом. Лактанций в своей книге «Божественные установления» (ѴІІ:28) возводит хилиазм не к Иоанну Богослову, как Heпот, не к ветхозаветным текстам, как Иустин, а к языческим предсказаниям, к пророчествам Сивиллы.
Сивиллы – это женщины пророчицы, о которых у древних авторов сохранились противоречивые сведения. Первой Сивиллой была дочь Дадана, сына Зевса, родоначальника троянцев. Впервые о Сивиллах упоминает Гераклит. Изречения этих пророчиц были собраны в так называемых Сивиллиных книгах. В этих книгах в иносказательной форме на греческом языке гекзаметром были записаны грядущие судьбы римского народа. Хранились они в храме Юпитера Капитолийского. Использовались для принятия самых важных решений. В 83/84 году до P. X. при пожаре Сивиллины книги погибли. Но при императорах Августе и Тиберии они были восстановлены, пересмотрены и дополнены.
Считается, что сохранившиеся до наших дней книги162 были откорректированы иудеями и христианами. В книгах сообщается, что после суда 1000 лет на земле будет царствовать Сын Божий со своими избранниками, будет связан Диавол. Праведники будут господствовать над народами, отнимется от мира тьма, придет тот золотой век, о котором писали. Однако здесь не идет речь об истории в христианском понимании, как линейном, необратимом процессе, a об истории в античном понимании, как циклическом процессе, где все возвращается, где должен вернуться тот золотой век, который уже был прежде.
Если хилиазм Иустина Философа был своеобразным ответом на вопрошание иудеев, то хилиазм Лактанция явился своеобразным ответом на вопрошание язычников.
Хилиазм Иринея Лионского
Совершенно в ином контексте употребляется это учение у Иринея Лионского . О тысячелетнем земном царстве Христа Ириней говорит в V книге своего сочинения «Против ересей». Опору этого представления Ириней находит главным образом в Ветхом Завете, хотя наравне с ветхозаветными свидетельствами он использует и новозаветные, среди которых особое место занимает Апокалипсис. Хилиазм Иринея живет в контексте борьбы с гностиками, которые отрицали достоинство материального мира, пренебрегали плотью, отрицали будущее воскресение мертвых. Именно в этой связи Ириней подчеркивал, что все ветхозаветные пророчества должны исполниться, Царство Божие будет явлено реально, плотски, воскресение из мертвых будет истинным, а не иносказательным.
Главы 32–36, в которых содержится хилиастическое учение, отсутствуют в некоторых рукописях. Возможно, что в средние века их опускали переписчики вследствие отраженных в них идей.
Ириней обращал внимание на ветхозаветные обетования, исполнившиеся только частично или вообще не исполнившиеся – обетование Аврааму и благословение Исаака:
«Пребывает твердым и обетование Божие, данное Аврааму. Ибо Он сказал: «подними глаза твои и посмотри от этого места, на котором ты находишься, к северу и югу и востоку и западу, ибо всю землю, которую видишь, дам тебе и твоему семени на веки». И еще говорит: «встань и пройди землю в длину ее и ширину, ибо дам тебе ее» (Быт. 13:14, 15, 17); однако же (Авраам) не получил в ней наследия даже ни одного шага, но всегда был в ней странником и пришельцем. ... если Бог обещал ему наследие земли, a он не получил его в течение всего своего обитания, то надлежит ему с семенем своим, т. е. боящимися Бога и верующими в Hero, получить его в воскресение праведных» (Против ересей, Ѵ:32, 2)163.
«То же значение содержит в себе и благословение Исаака, которым он благословил младшего сына, говоря: «вот запах моего сына, как бы запах полного поля, которое Господь благословил» поле же есть мир, – и потому прибавил: «даст тебе Бог от росы небесной и от тука земного множества пшеницы и вина. И послужат тебе народы и поклонятся тебе князи, и ты будешь господином брата твоего, и поклонятся тебе сыновья отца твоего. Кто проклянет тебя, будет проклят, а кто благословит тебя, будет благословен» (Быт. 27:27–29). Если кто не будет понимать это в отношении к предопределенному царству, то впадет в великое противоречие... Ибо не только в этой жизни народы не служили сему Иакову, но и после благословения он, отправившись (из своего дома), служил своему дяде сирийцу Лавану двадцать лет, и не только не сделался господином брата своего, но и поклонился Исаву... Итак вышеприведенное благословение бесспорно относится к временам Царства, когда будут царствовать праведные, восстав из мертвых, когда и тварь обновленная и освобожденная будет плодоносить множество всяческой пищи от росы небесной и от тука земного» (Против ересей, Ѵ:34, З)164.
Ссылается Ириней и на ряд пророков: Ис. 11:6–9165, Ис. 65:18–25, Иез. 37:12–14166, Иез. 28:25,26167, Дан. 7:27168. В отношении ветхозаветных свидетельств Ириней замечает: «Ничто не может быть принято за аллегорию, но все верно, истинно и существенно ... Ибо как истинно есть Бог, воскрешающий человека, так же истинно человек воскресает из мертвых, а не иносказательно ... И как истинно он воскресает, так же истинно будет приготовляться к нетлению и будет возрастать и укрепляться во времена царства, чтобы быть способным к принятию славы Отчей. Потом, когда все обновится, он истинно будет обитать в городе Божием» (Против ересей, Ѵ:35 , 2)169.
Хилиазм у древних ересеучителей
Хилиастические представления присутствовали в учениях ряда древних еретиков. По свидетельству Иеронима, в хилиастическом духе истолковывали пророка Исайю евиониты. Эти еретики учили, что при конце мира, когда Христос воцарится в Иерусалиме, он соберет в этот город всех иудеев. Они приедут в этот город на колесницах. Навстречу иудеям выйдут побежденные народы, принося своим победителям дары.
Хилиазм исповедовал древний еретик Керинф. Дионисий Александрийский сообщает, что Керинф учил о том, что «Царство Христа будет земным, и там будет всё, к чему стремился и о чем мечтал он сам, человек очень чувственный, очень плотский: чрево и животные побуждения будут полностью удовлетворены едой, питьем, брачными союзами, а также тем, чем он рассчитывал это облагообразить, – празднествами и жертвоприношениями» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІІ:25)170.
Служебный характер хилиазма. Проблема отношения к Апокалипсису
Хилиазм представлял собой нечто среднее между движением и настроением. Он не имел самостоятельной доктрины, а являлся функциональным элементом в учении отдельных богословов. Поэтому каждый случай использования хилиазма следует рассматривать отдельно. Иустин Философ использовал этот элемент для подчеркивания преемства христианства от иудейства и Ветхого Завета. У Лактанция через хилиазм находят свое выражение чаяния язычников. У Иринея Лионского хилиазм является орудием борьбы с гностиками, отрицавшими все телесное и историческое. Всех сторонников хилиазма объединяет только общий экзегетический подход к текстам Священного Писания.
В связи с хилиазмом возникла проблема отношения к Апокалипсису и проблема толкования Откр. 20:3–4. Дионисий Александрийский по этому поводу писал: «Были и до нас люди, совершенно отвергавшие эту книгу; пересматривая главу за главой, указывая на ее непонятность и бессвязность, они объявили ее подложной. Они говорят, что она не принадлежит Иоанну... Я не осмелился бы отвергнуть эту книгу: многие братья ею увлекаются; я считаю, что она превосходит мое разумение, и предполагаю, что каждый ее предмет заключает в себе таинственный и дивный смысл. Я его не понимаю, но думаю, что в этих словах заложен смысл более глубокий. Я не меряю его по собственному разумению и не сужу о нем, но, полагаясь больше на веру, думаю, что тут есть мысли, по своей высоте мне не доступные; я не отвергаю того, что не могу охватить своим умом, а удивляюсь тем больше, что этого не видел» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІІ:25)171.
Апокалипсис почитается Церковью, но за богослужением не читается. Эта книга говорит о реальности, которая откроется только на границе истории. Поэтому и экзегеза этой книги ограничена.
Хилиазм и концепция «Великой недели»
Хилиазм ряда древних церковных писателей, являлся составной частью модели так называемой Великой недели. Согласно этой модели, история человечества должна отражать, воспроизводить историю творения. Поскольку у Бога один день как тысяча лет (Пс. 89:5), а мир был сотворен за шесть дней, то и время существования мира должно ограничиться шестью тысячами лет. После шестого тысячелетия, так же и как после шестого дня творения, должно быть тысячелетие покоя, т. е. Царство Христово.
Подобное воззрение встречается в Послании апостола Варнавы: «Итак, дети, в шесть дней, то есть в шесть тысяч лет покончится все ... Когда Сын Его придет и уничтожит время беззаконного, совершит суд над нечестивыми, изменит солнце, луну и звезды, тогда Он прекрасно успокоится в седьмой день» (Послание Варнавы, 15)172.
Ириней Лионский также говорил: «Ибо во сколько дней создан этот мир, столько тысяч лет он просуществует ... ибо день Господний, как тысяча лет, а раз в шесть дней совершилось творение, то, очевидно, оно и окончится в шеститысячный год» (Против ересей, Ѵ:28, З)173. Одновременно Ириней считал, что Христос принял смерть в тот день, в который согрешил Адам (Против ересей, Ѵ:23, 2)174.
Концепция Великой недели получила дальнейшее развитие у писателя III века Юлия Африкана. Он предположил, что созданию человека должно противостоять его воссоздание, происшедшее благодаря крестной смерти. Адам был сотворен в шестой день. Распятие произошло также в середине шестого дня. От сотворения Адама до Христа прошло 5500 лет. Это летоисчисление от Адама и легло в основу византийского счета лет от Адама (с небольшой корректировкой в 8 лет – 5508 лет). После шестого тысячелетия должно наступить тысячелетие субботствования, т. е. земное Царство Христа с праведниками175.
Такой же взгляд был характерен и для латинского писателя Лактанция: «Поскольку труды Божьи были окончательно совершены в течение шести дней, то... в течение шести тысяч лет земля должна пребывать в этом состоянии. Ибо великий день Божий ограничивается кругом в тысячу лет, как указывает пророк (Пс. 89:5)... Поскольку, завершив творение, в седьмой день Бог отдыхал,... необходимо, чтобы в конце шестого тысячелетия все зло было устранено с земли, и на протяжении тысячи лет царствовала справедливость» (Божественные установления, VII:14)176.
Трансформация хилиастических представлений в IV веке
После прекращения гонений на христиан и легализации христианства хилиастические представления подверглись некоторым изменениям. Возникло настроение, которое можно назвать политическим хилиазмом177. Невиданное прежде благоприятное, покровительственное отношение высшей власти империи к христианам наводили на мысль о том, что приблизилось время исполнения древних пророчеств о процветании. Такое настроение отражено на страницах сочинения Евсевия Кесарийского «Жизнь блаженного царя Константина». Евсевий не устоял перед хилиастическим соблазном помыслить возникавший союз христианской Церкви и государства как осуществление пророчеств о наступлении обещанного царства. Евсевий идеализирует императора и состояние дел Церкви в его правлении. Поэтому он намеренно замалчивает проблемы, возникавшие в церковной жизни в начале IV века.
В этом же веке своеобразным ответом Церкви на соблазн такого политического хилиазма стало развитие монашества. Из земного царства, в котором во всеуслышание звучали слова христианской проповеди, слова декларации христианских ценностей, началось бегство людей, стремившихся не на словах, а на деле осуществить евангельский идеал. Житие основателя монашества, Антония Великого, напишет епископ Александрийский Афанасий, которого преследовали придворные епископы. Христианские отшельники своей жизнью будут демонстрировать то, что спасение человека совершается через борьбу с грехом, которая совершается внутри человека, и никак напрямую не связана с политическими процессами и государством.
Хилиастические воззрения как некий соблазн возникали и в последующее время жизни христианства. В своей земной истории Церковь постоянно сталкивается с проблемой сопряжения своей не-от-мирности с необходимостью преображающего мир присутствия в мире. Путь преодоления хилиастического соблазна – в примере Самого Иисуса Христа, провозгласившего истину о духовном Царстве, Царстве не от мира сего, созидание которого для каждого отдельного человека является не внешним актом, a сложным, длительным внутренним процессом преображения, преображения, путь к которому пролегает через Крест.
Церковный строй в доникейский период
Конфессиональный подход в изучении истории становления церковного строя
Вопрос о церковном строе ранней христианской Церкви достаточно сложен. Его решению препятствует недостаток сведений, сохраненных источниками, а также отсутствие устоявшейся терминологии. Попытки решения этого вопроса зачастую имеют конфессиональный характер. Протестантские историки склонны подчеркивать демократический и харизматический характер раннего христианства, которое не имело, по их мнению, четкой организации и структуры. Например, Э. Ренан усматривал в жизни ранней Церкви процесс эволюции от демократизма к аристократизму, сопровождавшийся усилением церковной дисциплины, созданием четкой организации и иерархической структуры. По его мнению, духовенство, иерархия постепенно заменяли собой Церковь, что позволило противостоять всем внутренним распрям, выстоять в борьбе с гностиками и другими еретиками178.
Важно понимать, что все протестантское учение имеет полемическое измерение. Протестанты боролись с недостатками церковной жизни, которые существовали в Римско-католической Церкви в средние века. Римская Церковь несколько преувеличивала роль иерархических служений, лишив мирян активного участия в жизни Церкви179.
Православная Церковь, как и Римско-католическая, учит о божественном установлении иерархических служений, об особом благодатном характере священного служения, дар которого преподается в Таинстве Священства. Важнейшим отличием католического взгляда на церковное устройство является признание особой роли в Церкви римского первосвященника.
Три степени священства в Новом Завете. Древние епископы
В тексте Нового Завета встречаются наименования всех трех степеней иерархического служения. Термин «епископ» встречается в нем четыре раза (исключая 1Пет. 2:25, где епископом называется Христос).
Деян. 20:17, 18, 28: «Из Милета же послав в Ефес, он призвал пресвитеров Церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: ...Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею». В этом отрывке апостол Павел, обращаясь к пресвитерам, называет их блюстителями, т. е. епископами.
Тит. 1:5–9: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». В данном месте, как и в приведенном отрывке из книги Деяний, слово «пресвитер» является синонимом слова «епископ».
1Тим. 3:1–8: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? He должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». В данном месте послания к Тимофею упоминаются только епископ и диакон, а наименование пресвитер и вовсе отсутствует. Подобная же ситуация отражена и в начале послания к Филиппийцам. Интересно, что в этом же Первом послании к Тимофею упоминаются начальствующие пресвитеры (1Тим. 5:17).
Флп. 1:1–2: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
Таким образом, в Новом Завете мы встречаемся с проблемой смешения епископского и пресвитерского сана. Возникает вопрос: сколько степеней священства было в век апостольский? Встает и проблема отождествления древних епископов и пресвитеров с позднейшими служениями, носящими такое же наименование.
Пресвитеры в новозаветном писании
Наименование «пресвитер» употребляется в новозаветных книгах неоднократно. Согласно Деян. 14:23, апостол Павел и Варнава посетили ряд городов, рукополагая в них пресвитеров. В 1Пет. 5:1–5 говорится: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям».
Ha Иерусалимском соборе 50 года, согласно Деян. 15:6, собрались апостолы и пресвитеры. В связи с этим также возникает вопрос: почему на этом соборе присутствовали пресвитеры, но не было епископов?
В 1Тим. 4:14 апостол Павел обращается к Тимофею: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Некоторые толкователи, опираясь на упоминание о возложении рук пресвитерства, были склонны говорить о том, что древние пресвитеры рукополагали.
Анализ употребления терминов «епископ» и «пресвитер» ставит перед исследователем экзегетическую проблему. Эту проблему толкователи пытались разрешить уже в III и IV веках.
Экзегеты III и IV века о новозаветном употреблении наименования «епископ» и «диакон»
Большинство экзегетов III и IV века выдвигали гипотезы, которыми пытались согласовать данные Нового Завета с практикой, каноническими устоями современной им Церкви.
Ириней Лионский, рассказывая о событиях, описанных в Деян. 20, замечал: «Епископы и пресвитеры, пришедшие из Ефеса и других ближайших городов, собрались в Милете» (Против ересей, III:14, 2)180. Из этих слов косвенно следует, что, хотя Павел пригласил в Милет пресвитеров, вместе с пресвитерами прибыли и епископы, к которым апостол и обратился со своим словом.
Епифаний Кипрский объяснял отсутствие в некоторых местах упоминания пресвитеров, наряду с употреблением наименования епископов и диаконов, тем, что в некоторых Церквах не было полноты иерархии (Ереси, LXXV:5). В некоторых Церквах отсутствовали пресвитеры, потому что в них не было необходимости, либо не находилось достойных кандидатов. При таком толковании возникает сложность с упоминаемыми в Флп. 1:1 несколькими епископами.
Феодорит Кирский в толковании на Послание к Филиппийцам (Флп. 1:1) и Первое послание к Тимофею (1Тим. 3:1) выдвинул предположение, что новозаветные диаконы соответствуют современным диаконам, новозаветные епископы- пресвитеры соответствуют современным пресвитерам, a апостолы соответствуют современным епископам.
Иоанн Златоуст, толкуя Послание к Филиппийцам (Флп. 1:17), предложил гибкую теорию, согласно которой в древности не было четкой терминологии. Епископом, т. е. смотрителем, могли называть современных епископа, пресвитера и диакона, а пресвитером – современного епископа и пресвитера.
Совершенно иной подход при объяснении данной ситуации использовал Иероним Стридонский. В 69 и 146 письмах, а также в толковании на Послание к Титу 3:10 он высказал предположение, что в ранней Церкви епископы и пресвитеры были тождественны, а разница между ними установилась в процессе исторической жизни.
Степени священства в произведениях мужей апостольских
Сочинения Климента Римского позволяют предполагать, что в его время в Церкви было три степени священства. Но употребление им рассматриваемых терминов соответствует новозаветной традиции. Климент Римский, призывая совершать все в установленном порядке, вспоминает Устройство ветхозаветной Церкви: «Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело, и на левитов возложены свои должности; мирской человек связан Постановлениями для народа» (Первое послание к Коринфянам, 40)181.
Как и некоторые новозаветные тексты, Климент Римский не всегда упоминает пресвитеров, а также смешивает наименования служений. Он пишет: «(Апостолы) первенцев из верующих по духовном испытании поставляли во епископы и диаконы для будущих верующих. И это не новое установление; ибо много веков прежде писано было о епископах и диаконах. Так говорит Писание: «поставлю епископов их в правде и диаконов в вере» (ср.: Ис. 60:17)» (Первое послание к Коринфянам, 42)182. В целом, Климент
подчеркивал значимость священного служения и его высокое достоинство.
Четкое разделение на епископа и подчиненных ему пресвитеров встречается уже у Игнатия Антиохийского. В Послании к Траллийцам он недвусмысленно говорит:
«Когда вы повинуетесь епископу, как Иисусу Христу, тогда, мне кажется, вы живете, и не по человеческому обычаю, a по образу Иисуса Христа, Который умер за вас, чтобы вы, уверовав в смерть Его, избежали смерти. Посему необходимо, как вы и поступаете, ничего не делать без епископа. Повинуйтесь также и пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа надежды нашей, в Котором дай Бог жить нам. И диаконам, служителям таинств Иисуса Христа, все должны всячески угождать, ибо они не служители яств и питий, но слуги Церкви Божией, поэтому то и им должно беречься от нареканий, как от огня. Все почитайте дьяконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви» (Послание к Траллийцам, 2–3)183.
Некоторые исследователи склонны сомневаться в подлинности посланий Игнатия, поскольку в современных Игнатию письменных памятниках, а также и в позднейших памятниках такого четкого разделения служений не наблюдается.
Иерархические степени в III веке
Неустойчивость терминологии была характерна и для III века. Например, Ириней Лионский смешивает термины «епископ» и «пресвитер». По словам Иринея, предание «происходит от апостолов и сохраняется в церквах чрез преемства пресвитеров» (Против ересей, III:2, 2)184. Чуть ниже Ириней иллюстрирует апостольское преемство: «Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили служение епископства Лину» (3:3:1). Однако уже в середине III в. мы встречаем свидетельства, не только четко разделяющие три степени священства, но и сообщающие о целой системе низших церковных должностей.
Евсевий Кесарийский (Церковная история 6:43) приводит послание Корнелия Римского (251 года), в котором Корнелий пишет о Новате: «Этот страж Евангелия разве не понимает, что в Церкви кафолической должен быть один епископ? В ней имеется – он не мог этого не знать – 46 священников, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 аколуфа (послушника), 52 человека заклинателей и чтецов и привратников, больше полутора тысяч вдов и калек, которых питает благодать Христова. Даже такое множество, столь необходимое в Церкви, – число, по Божиему Промыслу, обильное и все умножающееся, вместе с неисчислимым количеством мирян, не отвратило его от этого неразумного, безнадежного поступка и не вернуло в Церковь». Упоминаемые в послании аколуфы получили распространение только на Западе.
В III веке произошла централизация церковной власти. Это было потребностью времени: Церкви нужно было противостоять еретикам. Символом единства Церкви, единства апостольской традиции, носителем апостольской традиции стал епископ. В III веке при избрании епископа стали принимать участие не только клир и народ, но и соседние епископы.
Различие клира и мирян
Твердое различение клира и мирян существовало в Церкви с самого ее начала. Протестанты в противовес этому различению выдвигают идею всеобщего священства. Эта идея имеет основание в Первом послании апостола Петра и Апокалипсисе:
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом ... вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1Пет. 2:5, 9, 10);
«Соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:6. См. также Откр. 5:10);
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6).
В данных отрывках христиане, которые являются духовным Израилем, во исполнение Божественного обетования, данного «ветхому» Израилю (Исх. 19:5–6), называются царственным священством. Это выражение следует понимать в том смысле, что все христиане после Боговоплощения стали «своими» Богу, стали сотелесниками Иисусу Христу, все получили возможность реального обожения через таинство Евхаристии. С пришествием Христа необходимость в ветхозаветных жертвах, как жертвах прообразовательных, и, соответственно необходимость ветхозаветного священства отпали.
Однако христиане, святой народ, царственное священство (см. Анафору Василия Великого), тем не менее, выделяют из своей среды людей для особого служения, священства. Дар этого особого служения сообщается через возложение рук епископов в Таинстве Священства во время Божественной литургии, при молитве всей Церкви. Этот дар может получить любой достойный этого дара христианин. В лице своих священнослужителей Церковь сохраняет апостольское преемство.
Священство имеет основание в воле Основателя христианства. Иисус Христос из большого числа своих последователей выделил только небольшую группу (апостолов), которой даровал особые полномочия (Мф. 28:19; Ин. 20:21–23). Венцом получения апостолами особых духовных дарований является событие Пятидесятницы – сошествие Святого Духа на апостолов, после которого апостолы начали совершать Таинство Евхаристии. Особый благодатный дар священства апостолы передавали своим ученикам через хиротонию, возложение рук (Деян. 14:23; 1Тим. 4:14; Деян. 6:6). О необходимых качествах священников и диаконов говорится в 1Тим. 3. А в 1Тим. 5:22 апостол Павел предостерегает своего ученика: «Рук ни на кого не возлагай поспешно».
Таким образом, священство – это особое благодатное служение в Церкви, имеющее основание в Божественной воле Иисуса Христа. Конечно, каждый христианин получает дар благодати в Крещении, так что в Церкви вообще нет безблагодатных членов: у каждого есть свое дарование. Иерархическое служение – одно из дарований. Из числа всех христиан выделяются отдельные лица для несения иерархического служения. Эти лица имеют особую благодать для совершения своего служения. Об этом однозначно говорит как само новозаветное писание, так и сочинения всех древнейших церковных писателей. Различение на клир и народ не есть противопоставление.
Неиерархические харизматические служения. Женские служения
О множественности дарований и служений в Церкви свидетельствует апостол Павел. В Первом послании к Коринфянам он пишет: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных... Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор. 12:1–10).
«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший» (1Кор. 12:28–30).
Подобным образом говорит он и в Послании к Ефесянам: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11–12).
«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим. 12:6–8).
О харизматических дарованиях в ранней Церкви говорят и другие источники, например, памятник начала II в. «Учение двенадцати апостолов».
В Новом Завете упоминаются женские служения в Церкви. Апостол Павел говорит о служительницах, диаконисах: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской» (Рим. 16:1); «Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа» (1Тим. 5:9). В письме Плиния Младшего к императору Траяну о христианах Плиний также упоминает диаконис: «счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами»185.
Организация вселенской Церкви
Основной территориально-административной единицей Древней Церкви была парикия, παροικια. Парикия ограничивалась пределами одного города и возглавлялась епископом. В понятии парикии совмещается современное понимание поместной Церкви с границами современного прихода. О внутренней структуре парикии почти ничего не известно. В памятниках упоминается только храм епископа, окруженного пресвитерами. Едва ли существовали сельские парикии. Иустин Философ упоминает, что жившие за городом христиане приходили на службу в город (Первая апология, 67). Возможно допущение, что в одном городе могло быть более одного епископа-пресвитера. Установившийся порядок иметь в городе только одного епископа является только традицией.
Возникновение разветвленной территориально-административной структуры было обусловлено увеличением численности христиан. В одном городе возникала необходимость создания новых общин, которые приобретали по отношению к первой, главной общине зависимое положение, становились филиалами главной общины. Образцом для устроения разветвленной территориально-административной структуры Церкви становилось гражданское территориально-административное устройство.
В этом направлении в первые века шел постепенный процесс создания церковно-административных округов, включавших несколько епископских центров. Такие округа к IV веку стали называть митрополиями. Впервые митрополии упоминаются в правилах Первого Вселенского собора (Правила 4, 6, 7). Епископские центры группировались вокруг самых значительных городов, которые, как правило, были центрами апостольской проповеди. Однако едва ли митрополии имеют апостольское происхождение. Территориально древние митрополии более соответствуют современным епархиям, а границы древних епископских центров могут приблизительно соответствовать границам современных благочиний.
Церковное единство древних епископских центров выражалось в обмене посланиями и в проведении церковных соборов. Первые церковные соборы, о которых упоминают древние источники, состоялись в 160-х годах по поводу учения Монтана и около 196 года в связи со спорами о дне праздновании Пасхи. Свидетельства о них имеются в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского.
Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви
В жизни Древней Церкви происходили разделения. Эти разделения вызывались как разногласиями в области вероучения, так и разногласиями в канонической области и сфере церковной дисциплины. В соответствии с этим, разделяют понятие ереси и понятие раскола. Ересь – это разделение, основанное на отступлении от общецерковного учения веры. Раскол – это разделение, основанное на разногласиях церковно-дисциплинарного характера.
Проблемы, которые вызывали расколы, как правило, были связаны с нравственными требованиями к клиру и мирянам, с нарушением установившегося административного устройства Церкви, а также с расхождением в литургических традициях.
Раскол Каллиста и Ипполита
Раскол Каллиста и Ипполита возник в связи с ослаблением нравственных требований к членам Церкви. Возник этот раскол в Римской Церкви. В конце II – начале III века римские епископы стали мягко относиться к вопросам церковной дисциплины. К числу таких епископов относился Каллист (217–222). Сторонники строгих дисциплинарных требований, недовольные папой Каллистом, выдвинули на его место альтернативного епископа, который стал первым в истории Римской Церкви антипапой. Этим епископом был Ипполит. Именно благодаря сочинению Ипполита («Философумены», обнаруженному в 1842 и опубликованному впервые в 1851 году, мы и знаем об этом расколе.
Ипполит Римский изображает своего противника крайне неприглядным. Согласно Ипполиту, Каллист был по происхождению рабом. Он вел дела своего господина Карпофора, но обанкротился, пытался бежать и был схвачен. После этого он задумал окончить жизнь мученичеством, для чего устроил погром в синагоге. Результатом этого стала ссылка на сардинские рудники, откуда он был освобожден вместе с другими христианами благодаря ходатайству наложницы императора Коммода Маркии. После смерти папы Виктора Каллист вошел в доверие к папе Зеферину, который поручил ему устройство кладбища. Каллист приобрел такое влияние, что после смерти Зеферина занял папский престол.
В своем сочинении «Философумены» Ипполит обвиняет Каллиста в том, что он принимал в церковное общение всех отлученных и возвращающихся из еретических обществ; что он утверждал, что епископ не подлежит низложению, если бы даже впал в смертный грех; что он поставил в иерархические степени лиц второбрачных и троебрачных и не низложил даже и тех, которые женились, являясь клириками; что он покровительствует прелюбодеянию и убийству; что при нем в Церкви ввели второе крещение.
Обвинение в поставлении второбрачных могло быть связано с тем, что Каллист не принимал в расчет браки, заключенные и расторгнутые до принятия Крещения. Обвинение в покровительстве прелюбодеянию и убийству могло быть связано со случаями заключения христиански брачных союзов между аристократками и христианами из низшего сословия, в том числе с рабами и вольноотпущенниками. Римское право не допускало брак между знатной дамой и рабом или вольноотпущенником. В подобных случаях позволялся конкубинат. Если же аристократка вступала в брак с простолюдином, она теряла свои родовые права и титул. Вследствие этого, знатные христианки могли скрывать от общества подобные сожительства, которые признавались только Церковью. Желание скрыть такой христианский брак могло в некоторых случаях приводить к прерыванию беременности, т. е. к детоубийству. О том, что в древности существовали такие неравные браки, свидетельствуют надгробные надписи. Обвинение во введении второго крещения может быть связано с тем, что Каллист принял карфагенскую практику принятия в Церковь еретиков через крещение.
Разногласия в дисциплинарной сфере осложнялись и использованием различной терминологии в учении о Троице. Каллист называл субординатиста Ипполита двубожником, а Ипполит считал Каллиста последователем учения Ноэта или Савеллия.
Ипполит не имел большого количества сторонников, a его раскол, скорее всего, прекратился с момента ссылки в Сардинию в 235 году или смерти Ипполита.
Спор о принятии отпадших. Расколы Новата и Новатиана
Расколы Новата и Новатиана также были связаны с вопросами строгости церковной дисциплины, с проблемой принятия в Церковь отпадших от Христа в период гонений. Раскол Новата имел начало в Карфагене. В 248 году епископом Карфагена стал Киприан, который принял крещение за несколько лет до этого, в 246 году. А гонение Декия началось уже в 250 году. Пять пресвитеров, недовольные таким быстрым возвышением неофита, занявшего место, на которое претендовали они, составили оппозицию. Среди них был пресвитер Новат. Новата поддерживал его диакон Фелициссим. Об этом упоминает Киприан в «Письме к Корнелию о Фортунате и Филициссиме» (Письмо 47).
Киприан находился под влиянием сочинений Тертуллиана и был сторонником строгой дисциплины. В период гонения Декия Киприан скрылся от преследователей. Помимо этого, он был очень осторожен в принятии в Церковь отпадших в период гонения, хотя в принципе допускал эту возможность. Фелициссим сначала обвинил Киприана в бегстве во время гонения, а потом стал сторонником принятия в Церковь всех падших. Так образовалось сообщество раскольников. Опору раскольники нашли в лице исповедников, которые вследствие своих заслуг перед Церковью сначала просили, а потом уже просто требовали от епископов вернуть в общение тех или иных лиц.
О строгом отношении Киприана к отпадшим свидетельствует «Письмо к клиру о некоторых пресвитерах, безрассудно даровавшим мир падшим прежде окончания гонения и без согласия епископов» (Письмо 9), «Письмо к мученикам и исповедникам, просившим даровать мир падшим» (Письмо 10), «Письмо к народу» (Письмо 11), «Письмо к клиру о падших и оглашенных, чтобы разрешать их при смерти» (Письмо 12), «Письмо к клиру о тех, которые спешат получить мир» (Письмо 13)186.
На Карфагенском соборе 251 года Новат и Филициссим были осуждены, а вопрос о принятии отпадших ставился в зависимость от характера отречения. В 252 году раскольники образовали отдельное сообщество, к которому присоединились пять епископов, рукоположивших пресвитера Фортуната. Отвергнутые христианским большинством в Карфагене, раскольники обратились за поддержкой в Рим. Однако поддержки они не нашли.
В Римской Церкви в это же время и на этой же почве возник раскол, который возглавил Новатиан, сторонник строгой церковной дисциплины. В 251 году римским епископом стал Корнилий, сторонник мягкого отношения к падшим. Партия ригористов противопоставила ему Новатиана. Корнилия поддержал Киприан Карфагенский, хотя взгляды Киприана и Корнилия относительно принятия падших не совпадали. Киприан написал «Письмо к Корнилию о непризнании Новатиана епископом» (Письмо 35) и «Письмо к Корнилию о признании его епископом и о Фелициссиме» (Письмо 36)187. Поддержал Корнилия и Дионисий Александрийский (Евсевий Кесарийский. Церковная история, ѴІ:45–46).
Характерно, что когда в Риме оказался Новат, он вошел в общение с Новатианом и тем самым принципиально поменял свою точку зрения на принятие отпадших. Этот пример очень ярко показывает, что подлинной причиной этого раскола, как и большинства прочих, являются не идейные расхождения, не принципиальное отношение к вопросам церковной дисциплины, а личные амбиции, человеческое соперничество, борьба за высшие церковные должности.
Раскол Новатиана в Риме оказался более живучим, чем раскол Новата и Фелициссима в Карфагене. Раскол поддержали некоторые авторитетные епископы. Новатиане противопоставляли себя Церкви как общество «чистых». Во Фригии новатиане соединились с монтанистами (Сократ Схоластик. Церковная история, Ѵ:21–22), признав незаконным второй брак. В вере новатиане не погрешали, поэтому императоры оказывались к ним снисходительными. Просуществовали они до VII века.
Спор о крещении еретиков
Спор о крещении еретиков, т. е. тех лиц, которые приняли Крещение в еретических сообществах, но потом пожелали соединиться с кафолической Церковью, особенную остроту приобрел в III веке. Bo II веке под еретиками понимали главным образом гностиков. Их учение так сильно отличалось от церковного, что принятие гностиков в Церковь через Крещение не вызывало сомнения. Через покаяние могли принимать только тех гностиков, которые первоначально были крещены в Церкви.
Через Крещение принимали в церковное общение в начале III века монтанистов (Карфагенский собор около 220 года).
В середине III века возникали разногласия, касающиеся принятия новатиан, поскольку данные раскольники перекрещивали приходящих к ним христиан. В Риме новатиан принимали через возложение рук и Евхаристию. Эта практика вызывала неодобрение в Карфагене в лице Киприана Карфагенского. Еще до Киприана, в начале века, при епископе Агриппине, в Карфагене было соборно решено крестить еретиков, приходящих в Церковь, о чем свидетельствует Киприан в «Письме к Юбаяну о крещении еретиков» (Письмо 60)188. Этому вопросу Киприан посвятил целый ряд своих писем: «Письмо к Януарию и прочим епископам Нумедийским о крещении еретиков» (Письмо 57), «Письмо к Квинту о крещении еретиков» (Письмо 58) и другие189.
Необходимость крещения еретиков рассматривалась на нескольких соборах, которые прошли в Карфагене. Карфагенский собор 255 года дал отрицательный ответ на вопрос нумидийских епископов о действительности крещения у еретиков и раскольников. Эта же точка зрения была подтверждена и на Карфагенском соборе 256 года, с решениями которых Киприан осведомил римского епископа Стефана (Письмо 59).
В Риме к решениям Карфагенских соборов отнеслись неодобрительно. В Карфаген от имени папы Стефана было отправлено послание, в котором говорилось: «Если кто от какой бы то ни было ереси обратится к вам, то да не вводится при этом ничего нового, кроме того, что предано, то есть да совершается над таковым одно возложение рук в знак покаяния» (Письмо к Помпею против письма Стефана о крещении еретиков (61)). Рим настаивал на своей позиции и угрожал отлучением. Против категоричности позиции папы выступил тогда Дионисий Александрийский, который сам был сторонником римской практики.
Выступая против перекрещивания еретиков, папа Стефан отстаивал идею неповторимости, единственности крещения. Киприан также утверждал, что крещение едино, единственно, но что оно присуще только истинной Церкви, а еретическое крещение нельзя считать крещением: «Мы думаем и принимаем за верное, что никто не может быть крещен на стороне, вне Церкви, потому что в одной Церкви установлено святое Крещение» (Письмо к Януарию (57))190; «Вне Церкви Крещение невозможно ... Приходящих оттуда мы у себя не перекрещиваем, но крестим. Ибо они ничего не получают там, где нет ничего» (Письмо к Квинту (58))191.
Нерешенным этот вопрос оставался и при ряде преемников папы Стефана. Только Арльский собор 314 года восьмым правилом постановил, что еретиков, обращающихся в церковь, должно допрашивать, как они веруют во Святую Троицу, и если они веруют православно, то следует принимать их без перекрещивания. Впоследствии этот взгляд будет подтвержден Вселенскими соборами (8 правило Первого Вселенского собора; 7 правило Второго Вселенского собора; 95 правило Трулльского собора).
Раскол донатистов
В латинской Африке во время гонения Максимиана начала IV века Карфагенским епископом был Менсурий. Гонение отличалось тем, что язычники стремились уничтожать христианские книги. Менсурий выдавал гонителям еретические книги. Это вызвало негодование у ригористов. Менсурий проявил осмотрительность и в признании некоторых лиц мучениками. Казненных не за имя Христа, а за преступления, с религией не связанные, он не считал мучениками. Это также вызвало недовольство. Менсурию помогал архидиакон Цецилиан. Раскольники обвиняли Цецилиана в том, что он запрещал оказывать помощь арестованным христианам. Когда после смерти Менсурия епископом стал Цецилиан, часть клира отказалась признать его. Использовав нумидийских епископов, раскольники рукоположили своего епископа – Майорина. Таким было начало раскола.
После прекращения гонений донатисты стремились добиться признания у государственной власти. Когда Константин Великий оказывал помощь христианским храмам, он обошел вниманием этих раскольников. Возмущенные донатисты обратились к императору за признанием. Император передал этот вопрос на решение собора. Латеранский собор 313 года в Риме признал только Цецилиана. Донатисты не удовлетворились этим решением. Арльский собор 314 года также вынес решение не в их пользу. Донатисты потребовали суда императора. В 316 году император вынес свое решение против донатистов. Началось их преследование, которое ни к чему не привело. В 321 году император отменил постановления, ущемляющие донатистов.
Раскол донатистов ограничивался Африкой. Но там он имел большое влияние. В 330 году насчитывалось до 270 раскольничьих епископов. В правление Юлиана Отступника донатисты преследовали христиан с особой жестокостью. В конце IѴ века они разделились на несколько направлений. Раскол просуществовал до начала VII века.
В области дисциплины донатисты отличались крайней строгостью. Например, приходящих к ним христиан донатисты перекрещивали, разделяя убеждения Киприана Карфагенского. Но их дисциплинарная строгость основывалась не только на высоком нравственном евангельском идеале. Они обладали несколькими убеждениями, которые можно расценивать как еретические. Донатисты истинной Церковью считали Церковь святую, святость которой определялась святостью, чистотой ее членов. Действительность таинств они ставили в зависимость от достоинства их совершителя. Так что донатисты переходили границу раскола, имея элементы ереси.
Мелитианский раскол
О мелитианском расколе сохранились противоречивые сведения. Согласно Епифанию Кипрскому (Ереси, 68), мелитиане противостояли Петру Александрийскому в вопросе о принятии отпадших, отстаивая жесткий порядок. Из так называемых Веронских документов (послание Филея, епископа тмуиского, от имени его и других трех епископов исповедников, заметки современника и послание Петра александрийского к александрийскому народу) следует иной взгляд. В период гонения начала IV века Мелитии
Ликопольский совершал хиротонии в чужих епархиях, в том числе в Александрии.
Скорее всего, верна версия Веронских документов. Особое их отношение к вопросу принятия отпадших могло проявиться лишь впоследствии. Им могли оправдывать свое возникновение сами мелитиане. Вполне возможно, что Мелитий хотел занять в Верхнем Египте такое же положение, которое занимал во всем Египте александрийский епископ. Мелитиане впоследствии действовали сообща с арианами.
Спор о времени празднования Пасхи
В первые века в Церкви не было единого признанного всеми дня, в который бы совершалось празднование Пасхи. Существовало две основные традиции празднования Пасхи. В Малой Азии Пасху отмечали 14 нисана, т. е. вместе с евреями, а в Египте и Риме – обязательно в воскресный День. Разница определялась отличием подходов к пониманию праздника. В праздновании Пасхи римские христиане делали акцент на Воскресении Христа, а малоазийские – на Его страданиях, связывая тесно этот праздник с еврейской Пасхой.
В 155 году эта проблема обсуждалась Поликарпом Смирнским и Аникитой Римским (Евсевий Кесарийский. Церковная история, IѴ:20). В 167 году спор о Пасхе возник и в Лаодикии (во Фригии). По поводу праздника Пасхи писали Мелитон Сардийский, Аполлинарий Иерапольский, Климент Александрийский и Ипполит Римский. Три последних епископа считали, что Христос пред страданием 13 нисана совершил последнюю вечерю, но не вкушал законной пасхи, а Сам был распят 14 нисана. Сторонники Малоазийской практики утверждали, что Христос пострадал лишь 15 нисана, а 14-го вкушал законную пасху, потому и христиане должны совершать Пасху как Христос.
Особенно остро проблема эта встала в 190-х годах, о чем рассказывает Евсевий Кесарийский (Церковная история, Ѵ:23–25).
«В это время стали пересматривать весьма важный вопрос: все асийские Церкви, основываясь будто бы на очень древнем предании, считали, что праздник спасительной Пасхи следует назначать не четырнадцатый день лунного месяца, в который иудеям велено было закалать агнца; на какой бы день недели ни пришлось четырнадцатое, пост следует прекращать. Такого обычая у Церквей во всей остальной вселенной не было; по апостольскому преданию они хранили и доныне сохраняемый обычай: пост следует прекращать только в день Воскресения Спасителя нашего. Епископы по этому поводу созывали Соборы и совещания» (Церковная история, Ѵ:23)192.
Глава асийских епископов Поликрат, отстаивая малоазийскую традицию, ссылался на авторитет апостолов Иоанна Богослова и Филиппа, которые «праздновали Пасху в четырнадцатый день (лунного месяца) по Евангелию, ничего не преступая и следуя правилу веры» (Церковная история, Ѵ:24)193.
Евсевий рассказывает о жесткой реакции на это папы римского Виктора: «Тогда Виктор, предстоятель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие асийские и сопредельные с ними церкви; он клеймил тамошних братьев письменно, огульно объявляя их отлученными. He всем, однако, епископам пришлось это по душе; Виктора уговаривали подумать о мире, единении с ближними, о любви. Известны послания с резкими нападками на Виктора. Среди противников Виктора был Ириней, писавший от лица всех галльских братьев, главой которых он был. Он сразу заявил, что таинственное Воскресение Господне должно праздновать только в день Господень, и стал подобающим образом уговаривать Виктора не отлучать целые Церкви Божии за то, что они соблюдают издревле переданный им обычай. Дает он иного и других советов, заключая их такими словами: «Спор идет не только о дне, но и о том, какой пост соблюдать. Одни думают, что следует поститься один день, другие – что два, а некоторые еще больше; иные отсчитывают для поста сорок дневных и ночных часов. Вся эта пестрота в соблюдении поста возникла не при нас, a гораздо раньше, у прадедов наших, а они, не беспокоясь, конечно, о точности, передали потомкам такой обычай, укрепившийся в их простой непритязательной жизни. Тем не менее все жили в мире, и мы живем в мире друг с другом, и разногласие в посте не разрушает согласия в вере"" (Церковная история, Ѵ:24)194.
Вопрос о праздновании Пасхи рассматривался на Первом Вселенском соборе, после которого утвердилась традиция празднования Пасхи отдельно от иудеев в воскресный день. Само постановление Никейского собора не сохранилось. О нем упоминается в 1 правиле Антиохийского собора 341 года, которое запрещает праздновать Пасху вместе с иудеями195. Кроме того, существует 7 апостольское правило, запрещающее праздновать Пасху прежде весеннего равноденствия с иудеями196. Впоследствии сохранялись различия в определении пасхального воскресенья в Риме и Александрии. В VI веке, когда римский аббат Дионисий Малый, который ввел используемое ныне летоисчисление от Рождества Христова, утвердилась александрийская практика. Общехристианское календарное единство было достигнуто к концу I тысячелетия.
Приложение 1. Вопросы по истории Церкви в доникейский период
ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
1. Когда впервые появилось сочинение с названием «Церковная история»? Кто был его автором?
2. С каким греческим глаголом связано происхождение слова «история»? Каково значение этого глагола?
3. Где в Евангелиях встречается слово «Церковь», «экклесия»?
4. Что такое Церковь в догматическом понимании? Чем Церковь в догматическом понимании отличается от Церкви, которая является объектом исторического изучения?
5. Чем определяется святость Церкви?
6. Что является предметом изучения истории Церкви? Что относится к внешней и внутренней жизни Церкви?
7. С какими богословскими дисциплинами связана история Церкви?
8. Какие факторы определяют богословский характер истории Церкви?
9. Каковы особенности православного богословского подхода к изучению истории Церкви?
10. Этапы работы историка.
11. Для чего нужны вспомогательные исторические дисциплины?
12. Что это за дисциплины?
13. Возможна ли абсолютная объективность при реконструкции исторических событий? Почему?
14. Какие крайности может иметь конфессиональный субъективизм церковного историка?
ИСТОЧНИКИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
1. На какие классы делятся монументальные источники?
2. Какие христианские памятники относят к разряду археологических?
3. Какие памятники относят к христианским письменным источникам?
4. В каком памятнике сохранилось самое первое описание мученичества известного исторического лица?
5. Какие обстоятельства способствовали процессу активного издания текстов древних церковных писателей?
6. Почему «Патрология» Ж. П. Миня пользуется популярностью и в настоящее время? В чем заключаются недостатки этого издания?
7. Кого считают «отцом» церковной истории»? Какие исторические сочинения принадлежат этому автору?
8. Какие греческие историки V века были его продолжателями?
9. Кто является основателем латинской церковной историографии?
10. Кто перевел «Церковную историю» Евсевия Кесарийского на латинский язык и дополнил ее рассказом о последующих событиях?
11. Какие письменные источники относят к числу нехристианских памятников?
12. Какие памятники наряду с христианскими и нехристианскими относят к числу письменных источников?
13. Какие особенности и хронологические границы имеет доникейский период истории Церкви?
14.Какие этапы имеет период Вселенских соборов?
НАЧАЛО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В І-ІII ВЕКЕ
1. Какие факторы способствовали распространению христианства на территории Римской империи?
2. В каком году возникла римская империя? Когда она прекратила свое существование?
3. Какую роль в деле христианской миссии сыграли иудеи?
4. На какие две большие группы условно делились первые христиане?
5. Что послужило поводом для проведения Апостольского собора? В каком году он состоялся? Какие решения были приняты на Апостольском соборе?
6. В каком городе последователи Иисуса Христа впервые стали именоваться христианами? Какого апостола называют апостолом язычников?
7. В каком городе, являвшемся центром раннехристианской миссии, появилась одна из первых общин, состоящая из бывших язычников?
8. В связи с какими событиями, когда и кем был разрушен Иерусалим в I веке?
9.Куда переселился Синедрион после первого разрушения Иерусалима? Когда сформировался канон еврейской Библии?
10. Кто стоял во главе иудейского восстания начала II века? Чем и когда это восстание закончилось?
11. Какое государство первым приняло Христианство как официальную религию?
12. В каких регионах Христианство получило широкое распространение к IV веку?
13.Что такое «миссионерская легенда»?
14. Каковы особенности распространения христианства среди разных общественных слоев?
РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН
Блок 1
1. Как определил земную участь Своих последователей Иисус Христос в прощальной беседе с учениками?
2. Каким греческим словом называют христианских мучеников?
3. В чем разница между восприятием мученичества античным обществом начала I тысячелетия и славянами начала II тысячелетия?
4. Чем мученичество отличается от страстотерпчества?
5. Кого принято называть исповедниками?
6. Каким словом обозначается исповедник в греческом языке? Каково прямое значение этого слова?
7. Как слово μαρτυς употребляется в Новом Завете?
8. Почему первые христиане стремились закончить свою жизнь мученически?
9. В чем проявлялась религиозность, вера в богов римского общества?
10. В чем заключалось новое отношение к религии, о котором свидетельствовал мученический подвиг христиан?
11. Какие причины гонений на христиан выделял А. П. Лебедев?
12. Как рассматривал вопрос о причинах гонений на христиан В. В. Болотов?
13. Почему простой римский народ сначала относился к христианам негативно?
14. В чем, по свидетельству апологетов, обвинял простой народ христиан?
Блок 2
1. Почему борьба христианства с язычеством становилась одновременно и борьбой христианства с государственной властью?
2. К каким чужеземным культам римляне относились с терпимостью?
3. Почему христиане не могли добиться такого же отношения к себе, как и не приемлющее язычество иудейство?
4. Почему исполнение завета Христа о проповеди Евангелия приводило Христианство в конфликт с римским государством?
5. Как императоры относились к коллегиям? Какого рода коллегии существовали в империи?
6. К каким коллегиям императоры проявляли терпимость? В чем заключалась деятельность этих коллегий?
7. Что в жизни коллегий соответствовало строю жизни первых христиан?
8. Что давало основания для обвинения христиан в магических действиях?
9. В чем могло состоять обвинение в преступлении против религии? Какое наказание это преступление предусматривало?
10. Почему обвинение христиан в преступлении против религии вело и к обвинению в преступлении против власти?
11. Почему христиан обвиняли в оскорблении величества? Как христиане пытались опровергать эти обвинения?
12. В какой период римская интеллигенция стала активно выражать свое отрицательное отношение к христианству?
13. Почему римская интеллигенция считала христиан врагами человеческого рода?
14. Почему многие христиане негативно относились к античной культуре?
ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГОНЕНИЙ
1. Какие благоприятные и неблагоприятные последствия имел для христианства сам факт возникновения и распространения его в Римской империи?
2. Почему древние историки определяли количество гонений на христиан в Римской империи числом «10»?
3. Можно ли точно определить количество древних антихристианских гонений? Почему?
4. Какова периодизация истории гонений на христиан в первые три века?
5. Каковы хронологические границы и особенности первого периода гонений?
6. Как смотрели на христиан римские власти в первом веке? Что сообщает об этом книга Деяний святых апостолов?
7. Какое свидетельство Светония, рассказывающее о правлении императора Клавдия, может быть связано с древними христианами?
8. Какое событие новозаветной истории можно связать с этим свидетельством?
9. Кем можно отождествить упоминаемого Светонием Хрест(ус)а?
10. Какие предположения о проникновении христианства в Рим можно сделать на основании свидетельства Светония об императоре Клавдии?
11. Какие историки упоминают о преследовании христиан императором Нероном? Кто из них ставит гонения в зависимость от пожара Рима?
12. В каком году произошел пожар Рима при Нероне? Смерть каких апостолов связывают с гонением при Нероне?
13. Имели ли преследования христиан при Нероне антихристианский характер?
14. С какими обстоятельствами было связано преследование христиан при императоре Домициане?
ВТОРОЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В Римской импЕРИИ
1. Каковы хронологические границы и особенности второго периода гонений на христиан?
2. Что способствовало тому, что христиан начали отличать от иудеев?
3. Какая императорская династия правила в Риме во II веке? Чем характеризовалось время ее правления?
4. Кем являлся Плиний Младший? Какие обстоятельства вызвали его переписку с императором Траяном о христианах?
5. Что спрашивал у императора Плиний относительно христиан и что император ответил ему?
6. Какие мученики приняли смерть в правление Траяна?
7. Что упоминает о христианах сатирик Лукиан Самосатский в памфлете «Александр, или Лжепророк»?
8. Как характеризует христиан Лукиан в «Истории Перегрина»?
9. Описание последних дней какого мученика напоминает рассказ Лукиана об аресте Перегрина?
10. Какой император основал римскую колонию Элия Капитолина? От чего происходит наименование Элии Капитолины?
11. В правление какого императора окончил свою жизнь Поликарп Смирнский? Какое место в истории христианской агиографии занимает описание страданий Поликарпа?
12. При каком императоре пострадал Иустин Философ?
13. Кто такая Маркия? Каким образом она смогла поддержать христиан в конце II века?
14. Как относились к христианам императоры первой половины III века?
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА В Римской импЕРИИ
1. Каковы хронологические границы третьего периода гонений на христиан?
2. Каковы особенности третьего периода гонений на христиан?
3. Почему император Декий начал гонение на христиан?
4. Что он требовал от христиан своим указом? Каким образом указ приводился в исполнение?
5. Что такое либеллы?
6. Почему в гонение Декия было много отпадших? Какие существовали категории отпадших?
7. Какие события середины III века в Александрии и Карфагене изменили отношение народа к христианам?
8. Какие указы против христиан издал император Валериан в 257 и 258 годах?
9. Как относился к христианам император Галлиен?
10. Когда началось гонение на христиан Диоклетиана? Кто мог быть его подлинным инициатором?
11. Кто управлял империей после смерти Диоклетиана?
12. Что говорилось в эдикте императора Галерия 311 года?
13. Какую связь с этим эдиктом имел Миланский эдикт 312 года?
14. Что провозглашал Миланский эдикт 313 года? Какие авторы сохранили его текст?
ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСКАЯ МЫСЛЬ. БОРЬБА ЦЕРКВИ С ГНОСТИЦИЗМОМ
Блок 1
1. К чему приводило соприкосновение язычества и христианства в области мысли?
2. Как относились к христианам Тацит, Плиний Младший и Марк Аврелий?
3. Чем критика христианства Цельсом отличается от критики христианства философом Порфирием?
4. В каком веке начали возникать гностические учения? Какие реалии жизни Римской империи способствовали развитию гностических учений?
5. Что называют гностицизмом? От чего происходит его название?
6. Какие общие черты имели гностические учения?
7. Почему римская религия не удовлетворяла религиозным запросам многих людей?
8. Чем отличалась форма изложения гностических учений?
9. Как гностики относились к материальному миру и как они понимали спасение?
10. В чем главная особенность гностической антропологии?
11. На основе каких признаков пытаются классифицировать гностические учения?
12. Какое различие проводят некоторые исследователи между понятиями «гносис» и «гностицизм»?
13. Какие церковные писатели сохранили сведения о древних гностиках?
14. В каком году XX века и в каком месте Египта была обнаружена коптская библиотека гностических текстов?
Блок 2
1. Сколько существует версий учения Василида? Какие источники отражают эти версии?
2. Как представлял Божество Василид?
3. Как с его точки зрения произошел мир?
4. Что такое всесемянность и сыновства? Как Василид понимал Святого Духа?
5. Кто под видом Бога открылся людям в Ветхом Завете с точки зрения Василида?
6. Как Василид понимал спасение?
7. Какие источники сохранили сведения о системе Валентина?
8. Что Валентин называл плиромой, кеномой и эонами?
9. Как возник мир по учению Валентина?
10. Что является основным источником наших знаний об учении Маркиона?
11. В чем заключается главная особенность богословия Маркиона?
12. Как он относился к Ветхому Завету? Почему?
13. В чем заключалась опасность гностицизма для христианства?
14. Как борьба с гностической экспансией повлияла на саму Церковь?
МОНТАНИЗМ
1. Как называл монтанизм Евсевий Кесарийский? Почему?
2. В каких регионах монтанизм получил наибольшее распространение?
3. Когда появился монтанизм? Какие обстоятельства исторической жизни Церкви способствовали возникновению монтанизма?
4. Какими внешними особенностями характеризовались последователи Монтана?
5. Какие стороны учения Монтана противоречили учению Церкви?
6. Чем характеризовалась внешняя форма пророчеств монтанистов?
7. Какие черты особенности объединяют монтанистов с гностиками?
8. В чем учение монтанистов сходилось с учением Церкви?
9. Какие церковные авторы являлись критиками монтанистов?
10. Как звали спутниц Монтана? Какие сведения сохранили о них источники?
11. Когда монтанизм получил соборное осуждение?
12. Какой знаменитый учитель Церкви стал монтанистом в начале III века?
13. До какого века сохранялись сторонники этого учения?
14. Почему пресвитер Ириней, будущий епископ Лионский, защищал монтанистов?
МАНИХЕЙСТВО
1.В каком веке и в какой религиозной атмосфере возникло манихейство?
2. В каком государстве зародилось манихейство? Какая династия правила в этом государстве в то время?
3. Элементы каких религиозных учений повлияли на манихейское учение?
4. Где и в каком веке возник зороастризм?
5. Каковы основные стороны учения зороастризма?
6. Как называется священная книга зороастризма? Когда она приобрела свой окончательный вид? Кто был реформатором зороастризма в III веке?
7. Что способствовало распространению христианства в Персии?
8. Группы источников по истории манихейства.
9. Почему Шапур I первоначально симпатизировал учению Мани?
10. Какой западный учитель Церкви пробыл в манихействе 9 лет?
11. Как по учению Мани возник материальный мир?
12. Кем с точки зрения Мани, является Христос? Почему Христос обещал послать Утешителя?
13. Как Мани относился к Ветхому Завету и Откровению Христа?
14. Что сближало манихеев с гностиками?
МИТРАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
1. В какой период в жизни Римской империи имел значительное влияние митраизм?
2. Какие народы изначально поклонялись Митре?
3. Каковы были функции этого божества? Какое место занимал Митра в системе зороастризма?
4. В каких регионах получил распространение митраизм?
5. Как митраизм распространялся на территории империи?
6. Как относились к митраизму римские императоры? Чем обусловливалось такое отношение?
7. Что говорили мифы о рождении Митры и о его отношении к миру?
8. Где проходили собрания митраистов? Что происходило во время их богослужения?
9. Какие особенности были характерны и для митраизма, и для христианства?
10. Что в представлении о Митре могло соответствовать христианскому учению о Христе?
11. Какие христианские авторы обращали внимание на поклонников Митры?
12. Как эти писатели объясняли схожие черты некоторых христианских и митраистских обрядов? Какие обряды при этом они имели в виду?
13. Что способствовало упадку митраизма в империи?
14. Какое религиозное направление ассимилировало митраизм?
ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ И БОГОСЛОВИЕ ДОНИКЕЙСКОГО ПЕРИОДА. УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ
1. Кого называют мужами апостольскими? Имена мужей апостольских.
2. В какой период были написаны сочинения апостольских отцов?
3. Кого называют христианскими апологетами? Имена ранних апологетов.
4. Что в первые христианские века понимали под термином «богословие» и «домостроительство»?
5. Что в христианской проповеди об Иисусе иудеям было самым важным?
6. Почему христиане использовали в учении о Сыне Божием античный термин «Логос»?
7. Что учил о Логосе Гераклит Эфесский?
8. Какие христианские авторы обращали внимание на учение о Логосе Гераклита?
9. Что учили о Логосе стоики?
10. Какова основная особенность учения о Боге Филона Александрийского? Почему Филон пришел к необходимости признания существования Логоса?
11. Как понимал Логос Филон?
12. Какие негативные последствия имело для некоторых христианских богословов использование античного учения о Логосе?
13. Как называют христианских писателей II века, которые развивали учение о Логосе? Кто из них впервые употребил термин «Троица»?
14. Какие недостатки учения о Логосе были характерны для Иустина Философа?
МОНАРХИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КОНЦА II– III ВЕКА. ОРИГЕН И ТЕРТУЛЛИАН
1. Кто такие алоги? В связи с критикой какого учения они обнаружились?
2. Кто такие монархиане? Кто ввел в употребление такое их наименование?
3. Какими двумя путями монархиане утверждали единобожие?
4. Кого называют монархианами динамистами? Каковы особенности их представления о Логосе и Христе?
5. Кто является основателем этого направления? Что говорят о нем древние критики?
6. Какой собор и в каком году осудил учение Павла Самосатского?
7. Особенности учения Павла Самосатского. Как Павел понимал термин «омоусиос»?
8. Кого называют монархианами модалистами? Каковы особенности их учения?
9. Как называл модалистов Тертуллиан? Почему это наименование является некорректным?
10. Кто такой Праксей? Благодаря какому автору мы знаем о нем?
11. Какой модалист наиболее известен? Чей он был ученик? Как этот еретик использовал термин «лицо»?
12. В чем основная заслуга Тертуллиана перед латинской триадологией? Каковы основные недостатки триадологии Тертуллиана?
13. Кто впервые высказал учение о вечном рождении Сына Божия? Следствием каких постулатов богословской системы данного автора явилось это учение?
14. Какие стороны учения Оригена были осуждены Церковью?
ХИЛИАЗМ
1.Что такое хилиазм?
2. От какого греческого слова происходит наименование этого учения?
3. Отрывок из какой библейской книги является основным источником хилиазма? Что говорится в этом отрывке текста?
4. Какие библейские тексты и религиозные представления можно считать источником хилиазма?
5. Кто из мужей апостольских разделял хилиастические воззрения? Как этого писателя характеризовал Евсевий Кесарийский?
6. В какой египетской Церкви в середине III века возникло хилиастическое движение? Какой александрийский епископ убедил сторонников хилиазма отказаться от этого учения в данной Церкви?
7. В каком контексте использовал это учение Иустин Философ? На какие библейские тексты он опирался главным образом?
8. На какие источники хилиазма обращал внимание Лактанций? Почему именно на эти источники?
9. В каком контексте отстаивал хилиастическое учение Ириней Лионский?
10.Какие древние еретики имели хилиастические взгляды?
11. Как Дионисий Александрийский в связи с критикой хилиазма отзывался об авторитете книги Алокалипсис?
12. Как трансформировался хилиазм в начале IѴ века? Кто явился выразителем политического хилиазма?
13. Почему основанием хилиастических взглядов многих христианских писателей явились ветхозаветные пророческие тексты?
14. Какое место нашел хилиазм в концепции «Великой недели»?
ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ В ДОНИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД
1. Какие степени священства существуют в Православной Церкви? Имеются ли наименования этих степеней в Священном Писании Нового Завета?
2. Сколько раз в Новом Завете используется термин «епископ»?
3. Какие проблемы встают в связи с использованием этого термина в новозаветных книгах?
4. Кто присутствовал на Апостольском соборе 50 г.?
5. Как пытались согласовать новозаветные данные с каноническими устоями современной им Церкви Епифаний Кипрский, Феодорит Кирский и Иоанн Златоуст?
6. Как решал проблему употребления наименований иерархических степеней в Новом Завете Иероним?
7. Как употреблял наименования священных степеней Климент Римский?
8. В сочинениях какого церковного писателя впервые встречается четкое разделение трех степеней священства? В каком веке жил этот церковный автор?
9. Что сообщает о женском церковном служении Новый Завет?
10. Какие виды церковных служений упоминаются в послании Корнелия Римского, сохраненном Евсевием Кесарийским?
11. Какие неиерархические харизматические служения существовали в Древней Церкви?
12. Какие послания апостола Павла сохранили упоминание о неиерархических харизматических движениях?
13. Что являлось основной территориально-административной единицей Церкви первых столетий? Чем характеризовалась такая единица?
14. По какому поводу собирались самые первые церковные соборы? В каком источнике сохранилось о них упоминание?
СПОРЫ О ДИСЦИПЛИНЕ И РАСКОЛЫ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
1. В чем заключается отличие ереси от раскола?
2. Какие проблемы вызывали споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви?
3. Какой источник рассказывает о расколе Каллиста и Ипполита?
4. Что явилось причиной раскола Каллиста и Ипполита?
5. Как можно объяснить обвинение в покровительстве прелюбодеянии и убийстве, которое адресовалось папе Каллисту?
6. Что явилось причиной расколов Новата и Новатиана?
7. Какую позицию первоначально занимал Новат? С каким епископом он полемизировал?
8. При каких обстоятельствах Новат изменил свою позицию, оставаясь в расколе?
9. Между какими Церквами в IIІ веке возник спор о крещении еретиков? Чем отличался взгляд иерархов этих Церквей на данный вопрос?
10. Когда и в какой Церкви возник раскол донатистов?
11. Что явилось причиной данного раскола?
12. В каких вопросах донатисты противоречили учению Церкви?
13. Что послужило причиной мелитианского раскола в Александрийской Церкви?
14. Между какими Церквами во II веке возник спор о времени празднования Пасхи? Чем можно объяснить существование двух традиций празднования Пасхи в Древней Церкви?
Приложение 2. Источники и исследования по истории Церкви в доникейский период
ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 1. Введение в церковную историю / В. В. Болотов. СПб., 1907 (M., 1994).
3. Глубоковский, H. Н. Хронология Ветхого и Нового Завета / H. Н. Глубоковский. M., 1996.
4. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
5. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
6. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
7. Тальберг, Н. История Христианской Церкви / Н. Тальберг. M., 1991.
8. Специальные исторические дисциплины. Учебное пособие / Сост. M. М. Кром. СПб., 2003.
9. Сухова, Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века / Н. Ю. Сухова. M.: 2007.
10. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. Т. І–ІѴ. СПб.: Азбука, 1996.
11. Филарет (Дроздов), митрополит. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви / Митрополит Филарет (Дроздов). М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006.
ИСТОЧНИКИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
Общая литература
1. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 1. Введение в церковную историю / В. В. Болотов. СПб., 1907 (M., 1994).
2. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
3. Медушевская, Ο. М. Источниковедение: теория, история, метод / О. М. Медушевская. M., 1996.
4. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
5. Трофимова, M. Κ. К методике изучения источников по истории раннего христианства: На примере лит. о «Евангелии от Фомы» // Вестник древней истории. 1970. №1. С. 142.
Раздел «Монументальные памятники»
6. Антонин, архимандрит. О древних христианских надписях в Афинах / Архимандрит Антонин. СПб., 1874.
7. Архангельский, И. Древнехристианское общество в памятниках римских катакомб / И. Архангельский // Православное обозрение. 1887. №10. С. 241–281. №11. С. 463–504.
8. Беляев, JI. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / Л. А. Беляев. СПб.: Алетейя, 2000.
9. Василиадис, Н. Библия и археология / Н. Василиадис. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.
10.Деревицкий, А. Очерки из истории христианского искусства до Константина Великого / А. Деревицкий // Вера и разум. 1890. №4. С. 299–314. №7. С. 421–436. №8. С. 488–512.
11. Древнехристианские монументы как свидетельства об учении и жизни Церкви // Православное обозрение. 1883. №10. С. 296–332.
12. Древние христианские надписи // Христианское чтение. 1881. №11–12. С. 710–744.
13. Красносельцев, Η. Ф. Очерки из истории христианского храма / Η. Ф. Красносельцев. Казань, 1881. Выпуск 1. Архитектура и внутреннее расположение христианских храмов до Юстиниана.
14. Красносельцев, Η. Ф. О значении археологических открытий для обработки древней церковной истории / Н. Ф. Красносельцев. Одесса, 1889.
15. Нарбеков, В. Орфей в древнехристианском изобразительном искусстве / В. Нарбеков // Православный собеседник. 1900. Т. 3. №11. С. 519–569.
16.Озерецкий, Н. Мифологические сюжеты на христианских археологических памятниках / Н. Озерецкий // Православное обозрение. 1872. Т. 1. №6. С. 897–921.
17.Покровский, H. В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии / H. В. Покровский. СПб., 1910.
18. Покровский, H. В. Происхождение древнехристианской базилики. Церковно-археологическое исследование / H. В. Покровский. СПб., 1880.
19. Покровский, H. В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства / H. В. Покровский. Пг., 1916.
20. Райт, Дж. Э. Библейская археология / Дж. Э. Райт. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003.
21. Римские катакомбы – после новейших исследований в них Росси // Христианское чтение. 1882. № 9–10. С. 585–615.
22. Снегирев, Р. Библейская археология / Р. Снегирев. M., 2007.
23. Уваров, A. С. Христианская символика / A. С. Уваров. M., 1908. Ч. 1. Символика древнехристианского периода. (M., 2001).
24. Фрикен, А. фон. Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства / А. фон Фрикен. M., 1872–1885. Ч. 1. Римские катакомбы. 1872. Ч. 1. Надписи и символические изображения. 1887. Ч. 3. Изображение Спасителя, Богоматери и апостолов у первых христиан. 1880. Ч. 4. Живопись и пластика у первых христиан Запада и Востока. 1885.
25. Цветаев, И. Римские катакомбы: Из истории изучения их / И. Цветаев. M., 1896.
26. Чубинашвили, Г. H. К вопросу о начальных формах христианского храма / Г. Н. Чубинашвили // Византийский временник. 1972. Т. 33. С. 158–165.
Раздел «Письменные памятники»
27. Деревенский, Б. Г. Иисус Христос в документах истории / Б. Г. Деревенский. СПб.: Алетейя, 2007.
28. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер. M., 1998.
29. Мецгер, Брюс М. Ранние переводы Нового Завета: Их источники, передача, ограничения. M., 2002.
30. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M., 1990.
Священное Писание Нового Завета
31. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
32. Мецгер, Б. М. Канон Нового Завета / Б. М. Мецгер. М., 1998.
Апокрифы
33. Апокрифические апокалипсисы. Переводы, вступительная статья и комментарии М. Витковской и В. Витковского. СПб.: Алетейя, 2001.
34. Апокрифы древних христиан: Исследования, тексты, комментарии. M., 1989.
35. Мещерская, E. Н. Апокрифические Деяния Апостолов / E. Н. Мещерская. M., 1997.
36. Свенцицкая, И. С. Тайные писания первых христиан / И. С. Свенцицкая. M.: Политиздат, 1980.
37. Свенцицкая, И. С. Апокрифические Евангелия / И. С. Свенцицкая. M.: Присцельс, 1996.
38. Скогорев, А. П. Алокрифические Деяния Апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. Исследования. Переводы. Комментарии / А. П. Скогорев. СПб.: Алетейя, 2000.
Деяния древних церковных соборов
39. Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996.
40. Книга Правил святых апостолов, святых соборов, Вселенских и Поместных, и святых отцов. M.: Синодальная типография, 1893.
41. Никодим, епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви с толкованиями / епископ Далматино-Истрийский Никодим. M., 1996.
Агиографические источники
42. Acta martyrum // Христианское чтение. 1822. Ч. 8. С. 224–252, 340–356. 1824. Ч. 16. С. 264–278. 1827. Ч. 25. С. 3–57, 223–231, 300–308. Ч. 26. С. 66–86, 188–202, 342–349. Ч. 27. С. 86–95, 186–197, 312–337. Ч. 28. С. 110–114, 127–191, 289–313. 1829. Ч. 35. С. 243–338. 1830. Ч. 38. С. 11–50, 252–254. Ч. 40. С. 38–42. 1831. Ч. 41. С. 249–255. 1832. Ч. 46. С. 248–259. 1841. Ч. 2. С. 465–471.
43. Колосовская, Ю. К. Агиографические сочинения как исторический источник / Ю. К. Колосовская // Вестник древней истории. 1992. №4. С. 222–228.
44. Преображенский, A. Об актах древних мучеников / А. Преображенский // Духовная беседа. 1858. Т. 4. №47. С. 302–312.
45. Преображенский, А. Историческая судьба мученических актов / А. Преображенский // Духовная беседа. 1858. Т. 4. №50. С. 444–463.
46. Преображенский, А. Свидетельства мученических актов / А. Преображенский // Духовная беседа. 1858. Т. 4. №52. С. 522–557.
47. Преображенский, А. Содержание актов древних мучеников вообще / А. Преображенский // Духовная беседа. 1858. Т. 4. №51. С. 469–489.
48. Сборник сирийской и палестинской агиологии: Выпуск 1–2 // Православный палестинский сборник. 1907. Выпуск 57. 1913. Выпуск 60.
49. Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов Востока / Архиепископ Сергий (Спасский). Владимир, 1901. Т. 1–2.
Творения святых отцов и учителей Церкви
50. Асмус, В. «Патрология» Миня / В. Асмус // Журнал Московской Патриархии. 1991. №7. С. 71–72.
Церковная историография (источники)
51. Евагрий Схоластик. Церковная история / Евагрий Схоластик. M., 1997.
52. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
53. Евсевий Кесарийский. О названиях местностей, встречающихся в Священном Писании / Евсевий Кесарийский // Православный палестинский сборник. 1894. Вып. 37. С. 1–130.
54. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Евсевий Памфил. M., 1998.
55. История египетских монахов. M., 2001.
56. Лактанций. О смертях преследователей / Лактанций. СПб.,1998.
57. Сокращение церковной истории Филосторгия, сделанное патриархом Фотием. СПб., 1854.
58. Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. M., 1996.
59. Сульпиций Север. Священная и церковная история / Сульпиций Север. M., 1915.
60. Творения Лактанция, писателя в начале четвертого века, прозванного христианским Цицероном. Перевод. Е. Корнеева. СПб., 1848. Ч. 1–2.
61. Феодорит Кирский. История боголюбцев / Феодорит Кирский. M., 1996.
62. Феодорит, епископ Кирский. Церковная история / епископ Кирский Феодорит. M., 1993.
63. Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. СПб., 1851.
Церковная историография (исследования)
64. Брагинская, H. В. «Эон» в «Похвальном слове Константину» Евсевия Кесарийского / H. В. Брагинская // Античность и Византия. M., 1975. С. 286–306.
65. Глубоковский, H. Н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его жизнь и литературная деятельность / Н. Н. Глубоковский. M., 1890. Т.1–2.
66. Досталова, Р. Византийская историография (характер и формы) / Р. Досталова // Византийский временник. Т. 43. С. 22–34.
67. Кривушин, И. В. Ранневизантийская церковная историография / И. В. Кривушин. СПб: Алетейя.,1998.
68. Пигулевская, H. В. О сирийской рукописи (462 г.) «Церковной истории» Евсевия Кесарийского в Российской публичной библиотеке / H. В. Пигулевская // Восточный сборник. Л., 1926. Т. 1. С. 115–122.
69. Попова, Т. В. Художественные особенности сочинения Евсевия Кесарийского «Vita Constantini» / Т. В. Попова // Византийский временник. 1973. Т. 34. С. 122–129.
70. Розанов, Η. П. Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской / Η. П. Розанов. M., 1880.
71. Садов, А. И. Древнехристианский церковный писатель Лактанций / А. И. Садов. СПб., 1895.
72.Сидоров, А. И. Послание Евсевия Кесарийского к Констанции: К вопросу об идейных истоках иконоборчества / А. И. Сидоров // Византийский временник. 1990. Т. 51. С. 58–73.
73. Тюленев, В. М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох / В. М. Тюленев. СПб., 2000.
74. Тюленев, В. М. Рождение латинской христианской историографии. С приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского / В. М. Тюленев. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005.
75. Удальцова, 3. В. Филосторгий – представитель еретической церковной историографии / 3. В. Удальцова // Византийский Временник. Т. 44. 1983. С. 3–21.
76. Удальцова, 3. В. К вопросу о мировоззрении византийского историка VI века Евагрия / 3. В. Удальцова // Византийский Временник. Т. 30. 1969. С. 63–72.
77. Удальцова, 3. В. Церковные историки ранней Византии / 3. В. Удальцова // Византийский Временник. Т. 43. 1982. С. 3–21.
Раздел «Исторический обзор изучения церковной истории в Русской Православной Церкви»
78. Болотов В. В. Учение Оригена о Святой Троице // Болотов, В. В. Собрание церковно-исторических трудов / В. В. Болотов. Т. I. M., 1999.
79. Глубоковский, H. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии / H. Н. Глубоковский. M., 1992.
80. Голубцов, С. Московская духовная академия в начале XX века. Профессора и сотрудники. Основные биографические сведения. По материалам архивов, публикаций и официальных изданий / С. Голубцов. M.: Мартис, 1999.
81. История раннего христианства: Библиографический указатель 1800–1995 / составитель О. И. Малюгин. Мн.: Национальная библиотека Беларуси, 2000.
82. Казанский, П. С. История православного монашества на Востоке / П. С. Казанский. M., 1854. (M., 2000. Т. 12).
83. Лебедев, А. П. Эпоха гонений на христиан / А. П. Лебедев. M., 1994.
84. Лебедев, А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви / А. П. Лебедев. СПб.,1997.
85. Лебедев, А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV no XX вв. / А. П. Лебедев. СПб., 2000.
86. Лебедев, А. П. Вселенские соборы IѴ и V веков. Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской / А. П. Лебедев. СПб., 2004.
87. Лебедев, А. П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков: С приложениями к «Истории Вселенских соборов» / А. П. Лебедев. СПб., 2004.
88. Морозов, M. A. А. П. Лебедев: его жизнь и научная деятельность / M. А. Морозов // Лебедев А. П. Духовенство древней вселенской Церкви А. П. Лебедев. СПб., 1997. С. 5–21.
89. Поснов, М. Э. Гностицизм второго века и победа Христианской Церкви над ним / М. Э. Поснов. Киев, 1917.
90. Сидоров, А. И. В. В. Болотов – человек и ученый / А. И. Сидоров // Болотов, В. В. Собрание церковно-исторических трудов / В. В. Болотов. Т. 1. M.,1999.
91. Спасский, A. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов / A. А. Спасский. Сергиев Посад, 1914.
92. Сухова, Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века / Н. Ю. Сухова. M.: 2007.
93. Флоровский, Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. Вильнюс, 1991.
НАЧАЛО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В І–ІІІ ВЕКЕ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2.Воблый, Κ. Г. Приготовление древнего мира к принятию христианства / Κ. Г. Воблый // Вера и разум. 1900. №5. С. 287–314. №6. С. 356–370. №7. С. 402–420. №10/ С. 607–626. №11. С. 677–686. №12. С. 50–70.
3. Гаврилюк, П. Л. История катехизации в Древней Церкви / П. Л. Гаврилюк. М.: 2011.
4. Гарнак, А. Миссионерская проповедь и распространение Христианства в первые три века / А. Гарнак. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007.
5. Глориантов, Н. И. Вергилиевы Буколики и предсказания Вергилия о возвращении золотого века / Н. И. Глориантов // Христианское чтение. 1877. № 9–10. С. 261–326.
6.Горский, A. В. История евангельская и Церкви апостольской: Академические лекции / A. В. Горский. M., 1883.
7. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
8. Дрейн, Дж. Путеводитель по Новому Завету / Дж. Дрейн. M.: Триада, 2007.
9. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
1.Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
2.Мещерская, Е. И. Легенда об Авгаре – раннесирийский литературный памятник: Исторические корни в эволюции апокрифической легенды / Е. И. Мещерская. M.: Наука, 1984.
3. Д’Оккьеппо Κ. Ф. Вифлеемская звезда перед взором астронома. Легенда или факт? / К. Феррари д’Окьеппо. M.: 2006.
4. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
5. Приготовление к Евангелию: иудейский мир во дни Иисуса Христа // Христианское чтение. 1885. №7–8. С. 49. №9–10. С. 241–292.
Раздел «Иудео-христиане и языко-христиане. Апостольский собор в Иерусалиме»
6. Комаров, А. Апостольский собор в Иерусалиме / А. Комаров // Православное обозрение. 1872. Т. 1–2. №6. С. 791–817. №7. С. 10–34. №8. С. 110–135. №9. С. 249–282.
Раздел «Христианская миссия и география распространения христианства в І–ІІІ веке»
7. Антоний (Мельников), архиепископ. О христианстве в Помпеях и Геркулануме / Архиепископ Антоний (Мельников) // Богословские труды. 1973. Сборник 10. С. 59–66.
8. Герц, Κ. К. Следы христианства в Помпее / Κ. Κ. Герц // Православное обозрение. 1875. Т. 2. №10. С. 249–255.
9. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер. M., 1998.
10.Спасский, А. Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии / А. Спасский // Вера и разум. 1905. №15. С. 159–178.
11. Спасский, А. Методы миссионерской проповеди христианства в первые три века / А. Спасский // Вера и разум. 1906. №11. С. 553–592.
12.Спасский, А. Миссионеры, действовавшие в первые три века христианства / А. Спасский // Вера и разум. 1905. №6. С. 279–298. №9. С. 462–478.
13. Спасский, А. Религиозные основы миссионерской проповеди христианства в первые три века/ А. Спасский // Вера и разум. 1905. №13. С. 39–68.
14.Спасский, А. Общинный строй древних христиан и значение его для миссии / А. Спасский // Вера и разум. 1905. №13. С. 18–37.
Раздел «Распространение христианства среди различных слоев общества»
15. Различные пути обращения из язычества в христианство в первые века // Православный собеседник. 1859. Т. З. С. 270–301, 386–443.
16. Спасский, А. Распространение христианства в придворных кружках в первые века (no А. Гарнаку) / А. Спасский // Вера и разум. 1906. №17. С. 259–268.
17. Спасский, А. Распространение христианства среди военного сословия в первые три века / А. Спасский // Вера и разум. 1906. №20. С. 443–468.
РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Августин Аврелий. Исповедь. Перевод с латинского М. Е. Сергеенко / Аврелий Августин. СПб.: Азбука, 1999.
3. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константана Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
4. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
5. Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
6. Лебедев, А. П. Эпоха гонений на христиан / А. П. Лебедев. M., 1994.
7. Мелихов, В. А. Культ римских императоров и его значение в борьбе язычества с Христианством / В. А. Мелихов // Вера и разум. 1912. №7. С. 113–132. №8. С. 254–259.
8. Никольский, А. Отношение христианского общества к римскому правительству и народу в первые три века нашей эры / А. Никольский // Труды Киевской духовной академии. 1864. №8. С. 423–480.
9. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
10. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990.
11. Плиний Младший. Письма. Книги І–Х / Плиний Младший. M.: Наука, 1983.
12. Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988.
13. Садов, А. И. Религиозный скептицизм в Риме перед Рождеством Христовым / А. И. Садов // Христианское чтение. 1889. №3–4. С. 427–450.
14. Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского М. Л. Гаспарова / Гай Светоний Транквилл. M.: Правда, 1988.
15.Флоринский, Д. Об отношениях римского правительства к Церкви Христовой в первые три века по Рождестве Христовом / Д. Флоринский // Духовная беседа. 1860. Т. 11. №39. С. 81–98. №40. С. 105–114. №6. С. 181–303.
16. Христианская Церковь и римский закон в течение двух первых веков // Труды Киевской духовной академии. 1892. №5. С. 3–92.
17. Штаерман, E. М. Римская религия и Христианство / Е. М. Штаерман // Религии мира: История и современность. Ежегодник. 1988. M., 1990. С. 129–150.
18. Акимов, В. В. Литургический аспект раннего христианского мученичества / В. В. Акимов // Материалы VII Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений. Мн., 2002. Ч. 1,кн. І. С. 192–200.
19. Акимов, В. В. Молитва из «Мученичества святого Поликарпа Смирнского» как историко-литургический памятник / В. В. Акимов // Минские епархиальные ведомости. №4 (75). 2005. С. 48–50.
20. Акимов, В. В. Христианское монашество и мученичество в интерпретации церковных историков ІѴ–Ѵ в. / В. В. Акимов // Минские епархиальные ведомости. №1 (72). 2005. С. 53–56.
21. Мученичество святого Иустина Философа // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999.
22. Мученичество святого Аполлоса // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999.
23. Мученичество святого Игнатия Богоносца // Христианское чтение. 1822. Ч. 8. С. 340–356.
ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГОНЕНИЙ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Бобринский А. Из эпохи зарождения христианства / А. Бобринский. M., 1995.
3. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
4. Деревенский, Б. Г. Иисус Христос в документах истории / Б. Г. Деревенский. СПб.: Алетейя, 2007.
5. Дворкин, А. Очерки no истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
6. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
7. Орозий, Павел. История против язычников. Книги VI–VII. Перевод с латинского, комментарии, указатели и библиография В. М. Тюленева. / Павел Орозий. СПб.: Алетейя, 2003.
8. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
9. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990.
10. Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова / Гай Светоний Транквилл. M.: Правда, 1988.
11. Сульпиций Север. Священная и церковная история / Сульпицпй Север. M., 1915.
12. Ренан, Э. Евангелия и второе поколение христианства / Э. Ренан. M.: Терра, 1991.
Разделы «Гонение на христиан при императоре Нероне» и «Гонение на христиан при императоре Домициане»
13. Болотов, В. В. Гонение на христиан при Нероне / В. В. Болотов // Христианское чтение. 1903. Т. 215. Ч. 1. С. 56–75.
14. Обе. Гонение Нерона. Гонение Домициана / Обе // Православное обозрение. 1880. №6–7. С. 394–464.
15. Павлович, А. Нероново гонение на христиан и политика императоров Флавиева дома по отношению к ним / А. Павлович // Христианское чтение. 1894. Ч. 1. С. 209–239.
ВТОРОЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В Римской импЕРИИ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Бобринский А. Из эпохи зарождения христианства / А. Бобринский. M., 1995.
3. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константана Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
4. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
5. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
6. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
7. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990.
Раздел «Положение христиан при императоре Траяне»
8. Гай Плиний Цецилий Секунд. Панегирик императору Траяну // Письма Плиния Младшего. С. 212–272.
9. Плиний Младший. Письма. Книги I–Х / Плиний Младший. M.: Наука, 1983.
10. Обе. Гонение Траяна / Обе // Православное обозрение. 1880. №8. С. 672–712.
11. Соколов, В. С. О Плинии Младшем / В. С. Соколов// Письма Плиния Младшего. С. 274–282.
12. Тертуллиан. Апология / Тертуллиан // Отцы и учители Церкви III века. Антология. Составитель иеромонах Иларион (Алфеев). M., 1996. С. 319.
13. Лукиан. О смерти Перегрина / Лукиан // Золотой осел. Л.: Лениздат, 1992. С. 282–283.
14. Лукиан. Александр, или Лжепророк / Лукиан // Золотой осел. Л.: Лениздат,1992. С. 308.
15. Л-в, А. П. Лукиан и Христианство / А. П. Л-в // Православное обозрение. 1880. Т. 1 №1. С. 143–157.
16. Ротько, A. М. Историография критики Лукианом дохристианской религии и христианства / A. М. Ротько // Вопросы истории древнего мира и средних веков. Мн., 1974. С. 80–97
17. Ротько A. М. Зарубежная историография о критике Лукианом христианской религии и раннего христианства / A. М. Ротько // Вопросы истории древнего мира и средних веков. Мн., 1977. С. 82–89.
Раздел «Положение христиан при императорах Адриане, Антонине, Марке Аврелии и Коммоде»
18. Ignace de Anthioche, Policarpe de Smyme. Lettres, Martyre de Policarpe. Paris, 1969. (SC 10).
19. Иоасаф, иеромонах. Юридическое положение христиан в Римской империи в правление императора Коммода: По мученическим актам того времени / Иеромонах Иоасаф // Вера и разум. 1913. №11. С. 659–678.
20. Лебедев, А. П. Новейшая литература о мученической кончине св. Поликарпа Смирнского / А. П. Лебедев // Эпоха гонений на христиан. M., 1994.
21. Лебедев, А. П. Марция: Эпизод из христианства времен царствования Коммода, II века / А. П. Лебедев // Прибавления к Творениям святых отцов. 1887. Ч. 40. Кн. 3. С. 108–147.
22. Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского // Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1994. С. 379–392.
23. Мученичество святого Иустина Философа // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999.
24. О-в, С. Гонение на христиан в царствование Коммода / С. О-в // Православное обозрение. 1890. №11–12. С. 696–705.
25.О-в, C. К истории гонений на христиан в царствование императора Адриана и от воцарения Галла до воцарения Диоклетиана / С. О-в // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1888. Ч. 1. С. 269–301. Ч. 2. С. 74–106.
26. Обе. Из истории гонений христианской Церкви в I и II веках: Гонение в царствование Адриана / Обе // Православное обозрение. 1880. №10. С. 320–353.
27. Обе. Гонение в царствование Антонина Благочестивого / Обе // Православное обозрение. 1880. №11. С. 457–487.
28. Обе. Гонение Марка Аврелия / Обе // Православное обозрение. 1880. №12. С. 655–696.
29. Ренан, Э. Христианская Церковь. Царствование Адриана и Антонина Благочестивого / Э. Ренан. M.: Терра, 1991.
30. Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира / Э. Ренан. M.: Терра, 1991.
31. Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. M., 1892. С. 100–102.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА В Римской импЕРИИ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
3. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
4. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
5. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
6. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990.
7. Лактанций. О смертях преследователей / Лактанций. СПб., 1998.
8. Творения святого Дионисия Великого, епископа Александрийского. Перевод, примечания и введение священника А. Дружинина под редакцией профессора Л. Писарева. Казань, 1900.
9. Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. M.: Паломник, 1999.
10.О-в, C. К истории гонений на христиан в царствование императора Адриана и от воцарения Галла до воцарения Диоклетиана / С. О-в // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1888. Ч. 1. С. 269–301. Ч. 2. С. 74–106.
11. С-цкий, H. К вопросу о падших в римской и северо-африканской церквах в III веке / Н. С-цкий // Вера и разум. 1893. №9. С. 559–591. №11. С. 691–710.
12. Штаерман, E. М. Гонения на христиан в III веке / E. М. Штаерман // Вестник древней истории. 1940. №2. С. 96–105.
Раздел «Особенности гонения на христиан императора Декия»
13. Сергеенко, M. Е. Гонение Деция / M. Е. Сергеенко // Вестник древней истории. 1980. № 1. С. 171–176.
14. Федосик, В. А. Гонение Деция в Северной Африке / В. А. Федосик // Вестник БГУ. 1988. Серия 3. История. Философия. Научный коммунизм. Экономика. Право. №1. С. 17–19.
15. Ярушевич, В. Гонение на христиан императора Декия (249–251) / В. Ярушевич // Вера и разум. 1914. №1. С, 63–74. №2. С. 164–177.
Раздел «Гонения на христиан при императоре Диоклетиане и его соправителях»
16. Федосик, В. А. «Великое гонение» Диоклетиана на христиан / В. А. Федосик // Научный атеизм и атеистическое воспитание: Сборник статей. Мн.: Беларусь, 1989.
Раздел «Легализация христианства. Миланский эдикт 313 года»
17. Бриллиантов, А. И. Император Константан Великий и Миланский эдикт 313 года / А. И. Бриллиантов. Пг., 1916.
18. Пархоменко, В. Исторический момент издания Миланского эдикта и его значение / В. Пархоменко // Вера и разум. 1913. №18. С. 732–737.
19.Успенский, Ф. Миланский эдикт Константина Великого / Ф. Успенский // Православный собеседник. 1913. Т. 2. №9. С. 305–346.
ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСКАЯ МЫСЛЬ. БОРЬБА ЦЕРКВИ С ГНОСТИЦИЗМОМ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константана Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
3. Дворкин, А. Очерки no истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
4. Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
5. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер. M., 1998.
6. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
7. Ренан, Э. Христианская Церковь. Царствование Адриана и Антонина Благочестивого / Э. Ренан. M.: Терра, 1991.
8. Светлов, P. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика / P. В. Светлов. СПб., 1996.
Раздел «Языческие критики христианства в первые три века»
9. Лебедев, Н. Сочинение Оригена «Против Цельса»: Опыт исследования по истории литературной борьбы христианства с язычеством / Н. Лебедев. M., 1878.
10. Марк Аврелий. Наедине с собой / Марк Аврелий // Мыслители Рима. Наедине с собой. М. – Харьков, 1998.
11. Плиний Младший. Письма. Книги І–Х / Плиний Младший. M.: Наука, 1983.
12. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политаздат, 1990.
13. Розов, М. Цельс и его свидетельства о Евангелиях / М. Розов // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1874. Ч. 1. С. 55–95, 205–233. Ч. 2. С. 311–342.
14. Спасский, А. Эллинизм и Христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и Христианством в раннейший период христианской истории (150–244) / А. Спасский. Сергиев Посад, 1913.
15. Филевский, И. Цельс и Ориген / И. Филевский // Вера и разум. 1910. №1. С. 1–25. №2. С. 145–180. №3. С. 318–341.
Раздел «Источники. Русские исследователи» (источники)
16. Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. Составление, комментарий, перевод К. Богуцкого. Киев: Ирис – M.: Алетейя, 2001.
17. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
18. Климент Александрийский. Строматы. Перевод, предисловие и комментарии E. В. Афонасина. В 3 т. / Климент Александрийский. СПб., Издательство Олега Абышко, 2003. Т. 1. Кн. 1–3. Т. 2. Кн. 4–5. Т. 3. Кн. 6–7.
19. Плотин. Против гностиков / Плотин // Плотин. Эннеады. Т. 2. Киев, 1996. С. 38–65
20. Сагарда, Н. Новооткрытое произведение св. Иринея Лионского «Доказательство апостольской проповеди» / Н. Сагарда. СПб., 1907.
21. Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1900.
22. Сочинения святого Ипполита. Перевод П. Преображенского Т. 1. О философских умозрениях или обличение всех ересей. // Приложение к «Православному обозрению», 1871.
Раздел «Источники. Русские исследователи» (русские исследователи)
23. Афонасин, E. В. «В начале было...». Античный гностицизм в свидетельствах христианских апологетов / Е. В. Афонасин. СПб., 2002.
24. Грицай, С. И. Два гностических документа космогонического содержания из коптской библиотеки в Наг-Хаммади («Ипостась Архонтов» и «Трактат без названия») / С. И. Грицай // Древний и средневековый Восток: история, филология. M., 1984.
25. Карсавин, JI. П. Святые отцы и учители Церкви / Л. П. Карсавин. M.: Издательство Московского университета, 1994.
26. Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга 1 / А. Ф. Лосев. M.: Искусство, 1992. С. 242–305.
27. Николаев, Ю. В поисках за Божеством: Очерки из истории гностицизма / Ю. Николаев. СПб., 1913.
28. Пайкова, A. В. Отражение некоторых гностических представлений в памятниках сирийской повествовательной литературы / A. В. Пайкова // Палестинский сборник. 1981. Выпуск 27 (90). С. 80–85.
29. Писарев, Л. И. Древнехристианские гностические секты / Л. И. Писарев // Православный собеседник. 1914. Т. 1. №3. С. 493–538. №5. С. 848–919.
30. Поснов, М. Э. Гностицизм второго века и победа Христианской Церкви над ним / М. Э. Поснов. Киев, 1917.
31. Сидоров, А. И. Гностическая философия истории (каиниты, сефиане и архонтики у Епифания) / А. И. Сидоров // Палестинский сборник. 1987. Выпуск 29 (92). С. 41–56.
32. Сидоров, А. И. Плотин и гностики / А. И. Сидоров // Вестник древней истории. 1979. №1. С. 54–70.
33. Сидоров, А. И. Проблема гностицизма и синкретизм позднеантичной культуры в историографии / А. И. Сидоров // Актуальные проблемы классической филологии. 1982. Выпуск 1. С. 91–148.
34. Сидоров, А. И. Современная зарубежная литература по гностицизму / А. И. Сидоров // Современные зарубежные исследования по античной философии. M., 1978. С. 168–189.
35.Троицкий, В. Гностицизм и Церковь в отношении к Новому Завету / В. Троицкий // Богословский вестник. 1911. Т. 2. №7–8. С. 493–526.
36. Трофимова, M. К. Историко-философские вопросы гностицизма (Наг-Хаммади, II. Соч. 2, 3, 6, 7) / M. К. Трофимова. M.: Наука, 1979.
37. Трофимова, M. К. Гностицизм: Пути и возможности его изучения / M. К. Трофимова // M. К. Трофимова / Палестинский сборник. 1978. Выпуск 26 (89). С. 107–123.
38. Трофимова, M. К. Гносис и эстетическая деятельность / M. К. Трофимова // Палестинский сборник. 1986. Выпуск 28 (91). С. 121–127.
39. Хосроев, A. JI. Из истории раннего христианства. На материале коптской библиотеки из Наг-Хаммади / А. Л. Хосроев. M., 1997.
40. Хосроев, A. JI. Александрийское Христианство по данным текстов из Наг-Хаммади (II, 6; VI, 3; VII, 4; IX, 3) / A. JI. Хосроев. M.: Наука, 1991.
Раздел «Учение Василида. Источники»
41. Сидоров, А. И. Гностицизм и философия (учение Василида по Ипполиту) / А. И. Сидоров // Религии мира. История и современность: Ежегодник 1982. M., 1982. C. 159–183.
Раздел «Учение Валентина. Источники. Учение о плироме»
42. Школа Валентина. Фрагменты и свидетельства. Перевод, предисловие и комментарии E. В. Афонасина. СПб.: Алетейя, 2002.
Раздел «Борьба Церкви с гностицизмом»
43. Гусев, Д. В. Догматическая система св. Иринея Лионского в связи с гностическими учениями II века / Д. В. Гусев // Православный собеседник. 1874. Ч. 3. С. 3–55.
44. Киановский, В. Эсхатология св. Иринея Лионского в связи с современными ему эсхатологическими воззрениями (хилиазм и гностицизм) / В. Киановский // Вера и разум. 1912. №15. С. 289–308. №16. С. 431–453.
45. Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / И. Мейендорф. Мн.: Лучи Софии, 2001. С. 24–38.
46. Никольский, А. И. Святой Ириней Лионский в борьбе с гностицизмом / А. И. Никольский // Христианское чтение. 1880. Ч. 1. С. 254–310. 1881. Ч. 1. С. 53–102.
МОНТАНИЗМ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
3. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
4. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
5. Ерма. Пастырь / Ерма // Писания мужей апостольских. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1895. С. 127–247.
6. Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
7. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер. M., 1998.
8. Покровский, А. И. Большой Иерапольский собор против монтанизма (в 70-х годах II века) / А. И. Покровский // Христианское чтение. 1913. Ч. 2. №9. С. 1060–1084.
9. Покровский, А. И. Раннейшие «малые» противомонтанистические соборы (2-й половины II века) / А. И. Покровский // Христианское чтение. 1913. Ч. 2. №7–8. С. 928–943.
10. Покровский, А. И. Сущность монтанизма и необходимость напряженной церковно-соборной борьбы с ним / А. И. Покровский // Христианское чтение. 1913. Ч. 2. №10. С. 1201–1215. №11. С. 1341–1351.
11. Покровский, А. И. Хронология раннего монтанизма и соборов против него / А. И. Покровский // Христианское чтение. 1913. Ч. 2. №12. С. 1435–1446.
12. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
13. Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990.
14. Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира / Э. Ренан. M.: Терра, 1991.
15. Творения святого Епифания Кипрского. M.: Типография В. Готье, 1864. Ч. 2.
16. Учение двенадцати апостолов / перевод священника В. Асмуса // Писания мужей апостольских. Рига, 1992. С. 10–38.
МАНИХЕЙСТВО
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
3. Виденгрен, Гео. Мани и манихейство / Гео Виденгрен. СПб.: Евразия, 2001.
4. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
5. Кефалайя («Главы»). Коптский манихейский трактат. Перевод Е. Б. Смагиной. M., 1998. (Памятники письменности Востока. СХѴ).
6. Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
7. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
8. Хосроев, A. JI. Из истории раннего христианства / А. Л. Хосроев. M., 1997.
Раздел «Свидетельства о манихействе христианских авторов»
9. Августин Аврелий. Исповедь / Аврелий Августин. СПб.: Азбука, 1999. С. 90–100.
10. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
11. Сидоров, А. И. Манихейство в изображении Августина / А. И. Сидоров // Вестник древней истории. 1983. №2. С. 145–161.
12. Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. M.: Росспэн, 1996. С. 46–47.
13. Творения святого Епифания Кипрского. M.: Типография В. Готье, 1872. Ч. 3.
МИТРАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Кюмон, Ф. Мистерии Митры / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2000.
3. Кюмон, Ф. Восточные религии в римском язычестве / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2002.
4. Лукиан. Сочинения. Перевод С. Э. Радлова. СПб.: Алетейя. Т. 1.
5. Мень, A., протоиерей. На пороге Нового Завета. От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя. Части Ѵ–ѴІ. M.: Фонд имени Александра Меня, 2003. С. 473–480.
6. Митра – владыка рассвета. Мн.: Астра, 2000. В книгу вошли работы различных авторов, посвященные митраизму.
7. Сократ Схоластик. Церковная история. M.: Росспэн, 1996. С. 137–138.
Раздел «Митраизм и Христианство в сочинениях авторов І–ІІІ века»
8. Ориген. Против Цельса. Перевод Л. Писарева / Ориген. M., 1996. С. 32–33.
9. Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. M., 1892.
10. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Избранные сочинения. Составление и общая редакция A. А. Столярова / Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. M.: Прогресс, 1994.
11. Цельс. Правдивое слово / Цельс // Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А. Б. Ранович. M.: Политиздат, 1990. С. 308–309.
ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ И БОГОСЛОВИЕ ДОНИКЕЙСКОГО ПЕРИОДА. УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Адо, П. Что такое античная философия? / П. Адо. M.: Издательство гуманитарной литературы, 1999. С. 250–254.
3. Армстронг, A. X. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / Артур X. Армстронг. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003.
4. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
5. Болотов, В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 1. Учение Оригена о Святой Троице / В. В. Болотов. M., 1999.
6. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
7. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
8. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер. M., 1998.
9. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
10. Светлов, P. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика / P. В. Светлов. СПб., 1996.
11. Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос / А. Спасский. Сергиев Посад, 1914.
12. Трубецкой, С. Учение о Логосе в его истории / С. Трубецкой. M., 2000.
Раздел «Мужи апостольские и апологеты»
13. Крестников, И. христианский апологет II века афинский философ Аристид и его новооткрытые сочинения: Опыт историко-критического исследования / И. Крестников. Казань, 1904.
14. Ловягин, Е. И. Об отношении писателей классических к библейским по воззрению христианских апологетов. Историко-критическое исследование / Е. И. Ловягин. СПб., 1872.
15. Н. Л. Очерк существующих в церковно-исторической литературе суждений о богословских воззрениях св. Иустина Мученика / Н. Л. // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1881. Кн. 10–11. С. 495–528. Кн. 12. С. 562–597.
16. Писарев, JI. И. Очерки из истории христианского вероучения патристического периода / Л. И. Писарев. Казань, 1915. Т. 1. Век мужей апостольских.
17. Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1991.
18. Писания мужей апостольских. Перевод протоиерея П. Преображенского. M., 1895.
19. Плотников, В. История христианского просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованности. Период 1. От начала христианства до Константина Великого / В. Плотников. Казань, 1885.
20. Сергиевский, А. Отношение апологетов Восточной Церкви II века к языческой философии / А. Сергиевский // Вера и разум. 1886. Т. 1. Ч. 1. №12. С. 585–614. Т. 2. Ч. 2. №13. С. 1–23. №14. С. 83–97. №15. С. 111–127.
21. Скворцов, К. Когда было написано второе послание Климента к Коринфянам? / К. Скворцов // Труды Киевской духовной академии. 1874. №1. С. 2–23.
22. Скворцов, Κ. О первом послании Климента Римского к Коринфянам / К. Скворцов // Труды Киевской духовной академии. 1874. Т. 2. №4. С. 48–67.
23. Скворцов, К. И. Философия отцов и учителей Церкви в первые три века: Период апологетов / К. И. Скворцов. Киев, 1868.
24. Смирнов, A. А. Святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский и семь его посланий / A. А. Смирнов // Православное обозрение. 1881. Т. 1. №2. С. 289–307. №З. С. 489–513.
25. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
26. Тареев, М. И. Вероучение святого Иустина Мученика в его отношении к языческой философии / М. И. Тареев // Вера и разум. 1893. №15. С. 112–140; №16. 141–167; №17. С. 218–236.
27. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об отцах Церкви / Архиепископ Филарет (Гумилевский). Троице-Сергиева Лавра, 1996. Т. 1. (СПб., 1882).
Разделы «Учение о Логосе в античности. Гераклит Эфесский» и «Стоики»
28. Адо, П. Что такое античная философия? / П. Адо. М.,1999. С. 32–36.
29.Армстронг, A. X. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / A. X. Армстронг. СПб., 2003.
30.Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. M., 1989.
31. Эллинские поэты VIII–III вв. до н.э. M.: Ладомир, 1999.
Разделы «Филон Александрийский» и «Учение о Логосе и Ветхий Завет»
32. Аверинцев, С. Премудрость в Ветхом Завете / С. Аверинцев // «Альфа и Омега». №1. 1994. С.25–38.
33. Матусова, Е. Д. Филон Александрийский – комментатор Ветхого Завета / Е. Д. Матусова // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. M., 2000.
34. Муретов, М. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии / М. Муретов. M., 1881.
35. Шенк, К. Филон Александрийский. Введение в жизнь и творчество / К. Шенк. M., 2007.
Разделы «Учение о Логосе христианских апологетов. Иустин Философ» и «Феофил Антиохийский»
36. Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988.
37. Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1900.
38. Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999.
39. Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1892.
МОНАРХИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КОНЦА II– III ВЕКА. ОРИГЕН И ТЕРТУЛЛИАН
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
3. Болотов, В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 1. Учение Оригена о Святой Троице. M., 1999.
4. Гусев, Д. В. Ересь антитринитариев третьего века. Казань, 1872.
5. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
6. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
7. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
8. Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос. Сергиев Посад, 1914.
9. Сочинения святого Ипполита. Перевод П. Преображенского Т. 1. О философских умозрениях или обличение всех ересей. // Приложение к «Православному обозрению», 1871.
10. Творения святого Епифания Кипрского. M., 1864. Ч. 2.
11. Творения святого Епифания Кипрского. M., 1872. Ч. 3.
12. Федосик, В. А. Аврелиан и ересь Павла Самосатского // Вестник БГУ. Серия 3. История. Философия. Научный коммунизм. Экономика. Право. 1989. №1. С. 20–22.
Разделы «Тертуллиан и его триадология» и «Ориген»
13. Мазурин, Κ. М. Тертуллиан и его творения. M., 1892.ллл
14. Ориген. О началах. СПб.: Амфора, 2000.
15. Ориген. Против Цельса. Перевод JI. Писарева. M., 1996. С. 32–33.
16. Светлов, P. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика / P. В. Светлов. СПб., 1996.
17. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Избранные сочинения. Сост. и общ. ред. A. А. Столярова. M.: Прогресс, 1994.
18. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об отцах Церкви / Архиепископ Филарет (Гумилевский). Троице-Сергиева Лавра, 1996. Т. 1. (СПб., 1882).
ХИЛИАЗМ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Акимов, В. В. Хилиастические представления в христианской Церкви 1–3 в. / В. В. Акимов // Просвещение, свидетельство, проповедь. Миссия Церкви: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 1020-летию Крещения Руси. 15–16 декабря 2008 г., Минск. Мн., 2009. С. 20–24.
3. Вергилий Публий Марон. Буколики. Георгики. Энеида / Публий Вергилий Марон. M.: Художественная литература. 1979.
4. Глориантов, Н. И. Вергилиевы Буколики и предсказания Вергилия о возвращении золотого века / Н. И. Глориантов // Христианское чтение. 1877. №9–10. С. 261–326.
5. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
6. Кирьянов, Б. Полное изложение истины о Тысячелетнем царстве Господа на земле / Б. Кирьянов. СПб.: Алетейя, 2001. Книга представляет собой апологию хилиазма.
7. Книги Сивилл. Перевод М. Витковской и В. Витковского. M., 1996.
8. Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1991.
9. Писания мужей апостольских. Перевод протоиерея П. Преображенского. M., 1895.
10. Скворцов, Κ. О книгах Сивилл / К. Скворцов // Труды Киевской духовной академии. 1861. Т. 4. Июль. С. 348–384.
Разделы «Хилиазм Иустина Философа» и «Хилиазм Иринея Лионского »
11. Киановский, В. Эсхатология св. Иринея Лионского в связи с современными ему эсхатологическими воззрениями (хилиазм и гностицизм) / В. Киановский // Вера и разум. 1912. №15. С. 289–308. №16. C. 431–453.
12. Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1900.
13. Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999.
14. Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1892.
Разделы «Хилиазм Лактанция», «Хилиазм и концепция Великой недели» и «Трансформация хилиастических представлений в IV веке»
15. Акимов, В. В. Трансформация раннехристианских эсхатологических воззрений в церковно-исторических сочинениях Евсевия Кесарийского / В. В. Акимов // Труды Минской Духовной Академии. № 3. Жировичи, 2005. С. 66–70.
16. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Евсевий Памфил. M., 1998.
17. Лактанций. Божественные установления. VII. 14 // Тюленев, В. М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. С приложением перевода трактата «Божественные установления» / В. М. Тюленев. СПб: Алетейя, 2000. С. 313–314. См. так же с. 44–51.
18. Лебедев, А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV no XX вв. / А. П. Лебедев. СПб., 2000.
19. Творения Лактанция, писателя в начале четвертого века, прозванного христианским Цицероном. Перевод. Е. Корнеева. СПб., 1848. Ч. 1–2.
ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ В ДОНИКЕЙСКИЙ ПЕРИОД
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Аксаков, Η. П. Предание Церкви и предания школы / Η. П. Аксаков. M.: 2000.
3. Аксаков, Η. П. «Духа не угашайте!» 1Фес. 5:19 / Η. П. Аксаков. M.: 2000.
4. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
5. Б-в, Е. Церковная иерархия в первые два века христианства: век апостольский / Е. Б-в // Христианин. 1910. №8. С. 556–574. 1911. №4. С. 738–776.
6. Владимирский, Ф. Об избрании и поставлении епископов в первые три века / Ф. Владимирский // Вера и разум. 1912. №17. С. 573–591. №18. С. 735–756. №19. С. 23–43. №22. С. 480–493.
7. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви / А. Дворкин. Нижний Новгород, 2003.
8. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
9. Зом, Р. Церковный строй в первые века христианства / Р. Зом. M., 1906.
10. Ковалев, Т. О клире и его должностях в первые три века христианской Церкви / Т. О. Ковалев // Духовная беседа. 1871. Т. 1. №11. С. 183–190. №12. С. 202–208. №14. С. 234–240. №15. С. 25–256.
11. Любимов, Г. Историческое обозрение способов содержания христианского духовенства от времен апостольских до ХѴІІ–ХѴІІІ века / Г. Любимов. СПб., 1852.
12. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
13. Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1991. (СПб., 1895).
14. Ренан, Э. Христианская Церковь / Э. Ренан. M.: Терра, 1991. С. 52–62.
15. Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира / Э. Ренан. M.: Терра, 1991. С. 222–234.
16. Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского
Раздел «Иерархические степени в III веке»
17. Д-ский, Д. Подлинность посланий св. Игнатия Богоносца / Д. Д-ский // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1873. Ч. 1. С. 758–775.
18. Мышицин, В. И. Церковное устройство по посланиям Игнатия Антиохийского / В. И. Мышицин // Богословский вестник. 1908. Т. 2. №7–8. С. 473–508.
Раздел «Неиерархические харизматические служения. Женские служения»
19. Афанасьев, Н. Церковь Духа Святого / Н. Афанасьев. Париж: Имка-Пресс, 1971.
20. Бер-Сижель, Э; Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Рукоположение женщин в Православной Церкви / Э. Бер-Сижель, епископ Диоклийский Каллист (Уэр). M.: Библейско-богословский институт, 2000.
21. Ильинский, В. Служение женщины в христианской Церкви. Ч. 1. Первоначальная община / В. Ильинский // Странник. 1907. № 9. С. 161–177.
22. Плиний Младший. Письма. Книги І–Х / Плиний Младший. M.: Наука, 1983. С. 206.
Раздел «Организация вселенской Церкви»
23. Гидулянов, Π. В. Митрополиты в первые три века христианства / Π. В. Гидулянов. M., 1905.
24. Мищенко, Ф. И. Церковное устройство христианских общин («парикий») II и III веков / Ф. И. Мищенко // Труды Киевской духовной академии. 1908. Т. 3. №12. С. 525–574.
25. Мышицин, В. Устройство христианской Церкви в первые два века / В. Мышицин. Сергиев Посад, 1909.
26. Папков, A. А. Церковно-общественное устройство и управление в первые три века / A. А. Папков // Христианское чтение. 1907. Т. 224. Ч. 2. №11. С. 612–637. 1908. Т. 225. Ч. 2. №4. С. 582–603.
27. Покровский, А. И. Соборы древней Церкви эпохи первых трех веков. Историко-каноническое исследование / А. И. Покровский. Сергиев Посад, 1914.
28. Поморцев, А. Историческое обозрение соборов, бывших в первые три века христианства / А. Поморцев. Орел, 1861.
29. Федосик, В. А. Христианская церковная организация в Римской империи III – начала IV столетия: основные тенденции развития / В. А. Федосик // Вестник БГУ. Серия 3. История. Философия. Экономика. Право. 1991. №2. С. 23–27.
30. Яхонтов, Д. Строй древнехристианских общин по «Дидахе» и «Канонам Ипполита» / Д. Яхонтов // Вера и разум. 1916. №1.С. 81–112. №2. С. 152–162.
СПОРЫ О ДИСЦИПЛИНЕ И РАСКОЛЫ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
Общая литература
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994).
3. Евсевий Памфил. Церковная история / Евсевий Памфил. M., 1993.
4. Иванцов-Платонов, A. М. Ереси и расколы первых трех веков христианства. M., 1877. Ч. 1. Обозрение источников для истории древнейших сект.
5. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Брюссель: Жизнь с Богом, 1964.
6. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаша), епископа Далматино-Истрийского. M., 1996. Т. 1–2.
7. Слесарев, A. В. Старостильный раскол в истории Православной Церкви (1924–2008) / A. В. Слесарев. M., 2009.
8. Сочинения святого Ипполита. Перевод П. Преображенского Т. 1. О философских умозрениях или обличение всех ересей. // Приложение к «Православному обозрению», 1871.
Разделы «Спор о принятии отпадших. Расколы Новата и Новатиана» и «Спор о крещении еретиков»
9. Федосик, В. А. Киприан и античное Христианство / В. А. Федосик. Мн.: Университетское, 1991.
10. С-цкий, H. К вопросу о падших в римской и северо-африканской церквах в III веке // Вера и разум. 1893. №9. С. 559–591. №11. С. 691–710.
11. Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. M.: Паломник, 1999.
Раздел «Раскол донатистов»
12. Знаменский, С. Донатистское движение и его характеристика по новооткрытым эпиграфическим документам / С. Знаменский // Богословский вестник. 1910. Т. 1. №1. C. 113–141. №2. С. 305–333.
13. Кутепов, Н. Раскол донатистов / Н. Кутепов // Православный собеседник. 1883. №5. С. 68–117. №6. С. 119–135. 1884. №2. С. 165–182. №3–4. С. 197–230. №5. С. 89–125. №6. С. 139–180. №8. С. 391–453. №9. С. 3–33.
14. Никитин, Д. Карфагенский собор 411 года, по делу о расколе донатистов / Д. Никитин //Духовная беседа. 1861. Т. 14. №36. С. 16–25. №39. С. 81–92.
15. Троицкий, В. А. Вопрос о Церкви в полемике блаженного Августина против донатистов / В. А. Троицкий // Богословский вестник. 1912. Т. 3. №10. С. 297–327.
16. Троицкий, В. А. Вопрос о Церкви в догматической полемике с донатизмом: Оптат Милевийский / В. А. Троицкий // Богословский вестник. 1912. Т. 3. №9. С. 247–271
Примечания
1
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 1. Введение в церковную историю / В. В. Болотов. СПб., 1907 (M., 1994). С. 7.
2
О происхождении русского слова «Церковь» см.: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. Т. IV. СПб.: Азбука, 1996. С. 300.
3
Филарет (Дроздов), митрополит. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви / Митрополит Филарет (Дроздов). M.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006.
4
Сухова, Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории
высшего духовного образования в России XIX – начала XX века /
Н. Ю. Сухова. М.: 2007. С. 351.
5
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией
А. Бриллиантова. Т. 1. Введение в церковную историю. С. 31.
6
Этот и следующий разделы составлены на основе изданий: Лебедев, А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV no XX вв. / А. П. Лебедев. СПб., 2000; Флоровский, Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. Вильнюс, 1991.
7
Гарнак, А. Миссионерская проповедь и распространение Христианства в первые три века / А. Гарнак. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007. С. 42–46. К внешним условиям А. Гарнак относит также возникшее в единой империи философское представление о единстве человеческого рода, единстве прав и обязанностей; проникновение в империю восточных верований, сирийских и персидских; возросшее уважение к религиозной философии, искавшей Откровения.
8
См.: Гарнак, А. Миссионерская проповедь и распространение Христианства в первые три века. С. 31–36.
9
Августин Аврелий. Исповедь. Перевод с латинского M. Е. Сергеенко / Аврелий Августин. СПб.: Азбука, 1999. С. 127.
10
См. также Деян. 26:16, 22, Откр. 1:2.
11
Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1994. С. 331.
12
Писания мужей апостольских. Рига, 1994. С. 329–330.
13
Лебедев, А. П. Эпоха гонений на христиан / А. П. Лебедев. M., 1994.
14
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. СПб., 1910 (M., 1994). С. 10–44.
15
Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. С. 413.
16
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова / Гай Светоний Транквилл. M.: Правда, 1988. С. 68
17
Плиний Младший. Письма. Книги І–Х / Плиний Младший. M.: Наука, 1983. С. 187. См. письма 33–34.
18
Плиний Младший. Письма. Книги І–Х. С. 204.
19
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. M.: Политиздат, 1990. С. 104–107.
20
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского М. Л. Гаспарова. С. 131.
21
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 173.
22
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова. С. 131.
23
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова. С. 150.
24
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова. С. 185.
25
Орозий, Павел. История против язычников. Книги ѴІ–ѴІІ. Перевод с латинского, комментарии, указатели и библиография В.М. Тюленева. / Павел Орозий. СПб.: Алетейя, 2003.
26
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 172–173.
27
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского M. Л. Гаспарова. С. 202
28
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 55.
29
Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод с латинского М. Л. Гаспарова. С. 282.
30
Гай Плиний Цецилий Секунд. Панегирик императору Траяну // Плиний Младший. Письма. С. 231–232.
31
Гай Плиний Цецилий Секунд. Панегирик императору Траяну // Плиний Мпадший. Письма. С. 242.
32
См.: Соколов, В. С. О Плинии Младшем // Плиний Младший. Письма. С. 274–282.
33
Благополучные провинции Римской империи находились в управлении Сената, а проблемные – в ведении императора.
34
Плиний Младший. Письма. Книги I–Х. С. 205–206.
35
Плиний Младший. Письма. Книги I–Х. С. 206.
36
Тертуллиан. Апология // Отцы и учители Церкви III века. Антология. Составитель иеромонах Иларион (Алфеев). Т. 1. М., 1996. С. 319.
37
Лукиан. Александр, или Лжепророк // Золотой осел. Л.: Лениздат, 1992. С. 308.
38
Лукиан. О смерти Перегрина // Золотой осел. Л.: Лениздат, 1992. С. 282–283.
39
См.: Акимов, В. В. Молитва из «Мученичества святого Поликарпа Смирнского» как историко-литургический памятник / В. В. Акимов // Минские епархиальные ведомости. № 4 (75). 2005. С. 48–50.
40
Текст указа Марка Аврелия передает также Евсевий Кесарийский (Церковная история, IV: 13).
41
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 84.
42
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. M., 1892. С. 100–101.
43
Евсевий Памфил. Церковная история. M., 1993. С. 231.
44
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 171.
45
Данный папирус мог являться листом из официальной книги, в которую в номерном порядке вносились свидетельства о принесении жертв.
46
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 262–264.
47
Евсевий приводит текст рескрипта Галлиена. См.: Евсевий Памфил. Церковная история. С. 256–257.
48
Текст эдикта см.: Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 161.
49
Лактанций. О смертях преследователей. СПб.: Алетейя, 1998. С. 244–248.
50
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 358–361.
51
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 172–173.
52
Плиний Младший. Письма. Книги І–Х. С. 205.
53
Марк Аврелий. Наедине с собой / Марк Аврелий // Мыслители Рима. Наедине с собой. М. – Харьков, 1998. С. 791.
54
Реконструкцию текста сочинения Цельса см.: Цельс. Правдивое Слово / Цельс // Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 270–331.
55
56
Сохранившиеся фрагменты сочинения Порфирия см.: Порфирий. Против христиан / Порфирий // Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 354–391.
57
Фрагменты этого сочинения см.: Гиерокл. Правдолюбивое слово / Гиерокл // Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 393–394.
58
Ренан, Э. Христианская Церковь. Царствование Адриана и Антонина Благочестивого / Э. Ренан. M.: Терра, 1991. С. 81
59
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 178.
60
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 180–183.
61
Хосроев, A. Л. Из истории раннего христианства в Египте. На материалах коптской библиотеки в Наг-Хаммади / A. Л. Хосроев. M., 1997. Приложение 3. Еще раз о понятиях «гносис» и «гностицизм». С. 255–266.
62
Порфирий. О жизни Плотина и его трудах / Порфирий // Плотин. Эннеады. Т. 1. Киев, 1995. С. 373.
63
Плотин. Против гностиков / Плотин // Плотин. Эннеады. Т. 2. Киев, 1996. С. 38–65.
64
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1900. С. 89–91.
65
Греческая рукопись сочинения Ипполита «Мысли философов, или обличение всех ересей» (Φιλοσοφουμενα η κατα πασων αιρεσεων), известного Евсевию Кесарийскому (Церковная история, ѴІ:22), Иерониму и патриарху Фотию, была открыта в 1842 г. на Афоне. См.: Прибавления к творениям святых отцов. M., 1858.
66
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 198.
67
Карсавин, JI. П. Святые отцы и учители Церкви / Л. П. Карсавин. М.: Издательство Московского университета, 1994. С. 26–30
68
Поснов, М. Э. Гностицизм второго века и победа Христианской Церкви над ним / М. Э. Поснов. Киев, 1917. С. 345.
69
Школа Валентина. Фрагменты и свидетельства. Перевод, предисловие и комментарии Е. В. Афонасина. СПб.: Алетейя, 2002.
70
Подробнее о борьбе Церкви с гностической экспансией см.: Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / И. Мейендорф. Мн.: Лучи Софии, 2001. С. 24–38.
71
Сагарда, Н. Новооткрытое произведение св. Иринея Лионского «Доказательство апостольской проповеди» / Н. Сагарда. СПб., 1907.
72
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 240.
73
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 323. 108
74
У Евсевия возникновение монтанизма связывается с проконсульством Грата, которое, согласно «Хронике» Евсевия, приходилось на 171–172 г. (См.: Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира. M.: Терра, 1991. С. 118. Прим. 1).
75
Учение двенадцати апостолов / перевод священника В. Асмуса // Писания мужей апостольских. Рига, 1992. С. 10–38.
76
Ерма. Пастырь / Ерма // Писания мужей апостольских. Перевод протоиерея П. Преображенского. СПб., 1895. С. 127–247.
77
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви / под редакцией А. Бриллиантова. Т. 2. История Церкви в период до Константина Великого. С. 348.
78
См. изложение истории монтанизма в книге: Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира. C. 117–138.
79
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 184–185.
80
Григорий Богослов. Творения / Григорий Богослов. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 199.
81
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 224.
82
Ранович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 224.
83
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 180.
84
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 181–182.
85
Творения святого Епифания Кипрского. M.: Типография В. Готье, 1864. Ч. 2. С. 302, 304, 320–321, 325–326.
86
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 183.
87
Покровский, А. И. Большой Иерапольский собор против монтанизма (в 70-х годах II века) / А. И. Покровский // Христианское чтение. 1913. Ч. 2. № 9. С. 1060–1084.
88
Подробный обзор источников см.: Кефалайя («Главы»). Коптский манихейский трактат. Перевод Е. Б. Смагиной. M., 1998. (Памятники письменности Востока. СХѴ). С.9–15.
89
Подробное изложение учения Мани см.: Виденгрен, Г. Мани и Манихейство / Гео Виндегрен. СПб.: Евразия, 2001. С. 71–112.
90
Кефалайя («Главы»). Коптский манихейский трактат. С. 29.
91
Кефалайя («Главы»). Коптский манихейский трактат. С. 64.
92
См.: Кефалайя («Главы»). Коптский манихейский трактат. С. 65.
93
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 277.
94
Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. M.: Росспэн, 1996. С. 46–47.
95
Хосроев, А. Из истории раннего христианства. M., 1997. C.161.
96
Творения святого Епифания Кипрского. M.: Типография В. Готье, 1872. Ч. 3. С. 241, 244, 247–248, 254, 259.
97
Августин Аврелий. Исповедь. С. 90–100.
98
Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира. С. 313.
99
Подробнее о распространении митраизма см.: Кюмон, Ф. Мистерии Митры / Ф. Кюмон. СПб.: Евразия, 2000. С. 47–114.
100
Лукиан. Сочинения / Лукиан. СПб.: Алетейя. Т. 1.
101
Подробнее об отношении к митраизму императоров см.: Кюмон, Ф. Мистерии Митры. C. 115–138.
102
Ориген. Против Цельса. С. 32–33.
103
Цельс. Правдивое слово // Раиович, А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 308–309.
104
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 98.
105
Тертуллиан. Избранные сочинения. M., 1994.
106
Тертуллиан. Избранные сочинения. M., 1994.
107
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 249–250.
108
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 261.
109
См.: Кюмон Ф. Мистерии Митры. С. 253 (прим. 1).
110
Армстронг, A. X. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / A. X. Армстронг. СПб., 2003. С. 17.
111
Армстронг, A. X. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 17.
112
Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. M., 1989. С. 189.
113
Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. С. 179.
114
Трубецкой, С. Учение о Логосе в его истории. / С. Трубецкой. М., 2000. С. 49.
115
Трубецкой, С. Учение о Логосе в его истории. С. 35.
116
Эллинские поэты VIII–III вв. до н.э. M.: Ладомир, 1999.
117
Трубецкой, С. Учение о Логосе в его истории. С. 69.
118
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 113.
119
Тертуллиан. Апология // Отцы и учители Церкви III века. Антология. Т. 1. С. 344–345.
120
Трубецкой, С. Учение о Логосе в его истории. С. 64.
121
Шенк, К. Филон Александрийский. Введение в жизнь и творчество / К. Шенк. М„ 2007. С. 89–97.
Матусова, Е. Д. Филон Александрийский – комментатор Нового Завета / Е. Д. Матусова // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. M., 2000. С. 7–50.
122
Муретов, М. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии / М. Муретов. M., 1881. С. 223.
123
Муретов, М. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. С. 264.
124
Шенк, К. Филон Александрийский. Введение в жизнь и творчество. С. 101–109.
125
Муретов, М. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. С. 172, 173, 177.
126
Муретов, М. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. С. 238.
127
Болотов, В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 1. Учение Оригена о Святой Троице. M., 1999.
128
Матусова, Е.Д. Филон Александрийский – комментатор Ветхого Завета. С. 19.
129
Подробнее см.: Муретов, М. Учение о Лoroce у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. С. 35–47.
130
Книга Еноха. Апокрифы. СПб.: Азбука, 2000. С. 23.
131
Аверинцев, С. Премудрость в Ветхом Завете // Альфа и Омега. № 1. 1994. С. 25–38.
132
Трубецкой, С. Учение о Jloroce в его истории. – M., 2000. С. 102.
133
Адо, П. Что такое античная философия? / П. Адо. M., 1999. С. 32–36.
134
Об учении апологетов см.: Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос / А. Спасский. Сергиев Посад, 1914. С. 2–13.
135
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. С. 17.
136
Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. С. 481.
137
Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. С. 419–420.
138
Ранние отцы Церкви. Антология. Мужи апостольские и апологеты. С. 486.
139
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 2. С. 340.
140
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 196.
141
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 2. С. 426–427.
142
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 2. С. 427–428.
143
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 227.
144
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 271–272.
145
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 274–275.
146
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 3. С. 225–226.
147
Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. С. 40.
148
Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. С. 45.
149
Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. С. 45.
150
Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. С. 45.
151
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 3. С. 1–2.
152
Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 3. С. 60–61.
153
Термин «Лицо» стал употребляться в православном богословии благодаря Григорию Нисскому.
154
Ориген. О началах. СПб.: Амфора, 2000. С. 34–34
155
Ориген. О началах. С. 36
156
Изображение Вергилия, как своеобразного языческого пророка, предвозвестившего рождение Христа, имеется в приделе Благове- щенского собора Московского Кремля.
157
Вергилий Публий Марон. Буколики. Георгики. Энеида / Публий Вергилий Марон. M.: Художественная литература. 1979.
158
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 118–119.
159
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 265.
160
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 264–265.
161
Сочинения святого Иустина, философа и мученика. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 266–268.
162
См.: Книги Сивилл. Перевод М. Витковской и В. Витковского. M., 1996.
163
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 515–516.
164
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 517–518.
165
«И будет пастись волк вместе с агнцем и барс будет покоиться вместе с козлом, и теленок, и вол, и лев будут пастись вместе, и малый отрок будет водить их. И вол и медведь будут пастись вместе, и дети их будут вместе, и лев, как вол, будет есть плевы; и малый отрок возложит руку на пещеру аспидов и на ложе детей аспидовых, и они не сделают зла и не могут погубить кого-либо на Святой горе Моей».
166
«Вот Я отверзу гробы ваши и выведу вас из гробов ваших, когда изведу из гробов народ Мой, и дам вам дух и вы будете жить; и поставлю вас на земле вашей и познаете, что Я Господь».
167
«Так говорит Господь: соберу Израильтян от всех народов, где они ни рассеяны, и освящусь в них в виду сынов народов; и будут жить на своей земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, и будут жить на ней в надежде, и построят дома, и насадят винограды; и будут жить на ней в надежде, когда Я подвергну суду всех, поносивших иъ, которые живут кругом их; и познают, что Я Господь Бог их и Бог отцов их».
168
«И царство, и власть, и величество тех, которые под небом, даны святым Вышнего Бога, и Царство Его вечное и все власти будут служить Ему и повиноваться».
169
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 525–526.
170
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 267.
171
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 267–268.
172
Писания мужей апостольских. СПб., 1895. С. 47–48.
173
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 507.
174
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 495.
175
Лебедев, А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV no XX в. С. 46.
176
Лактанций. Божественные установления. VII. 14 // Тюленев, В. М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. С приложением перевода трактата «Божественные установления» / В. М. Тюленев. СПб: Алетейя, 2000. С. 313–314. См. также с. 44–51.
177
Подробно см.: Акимов, В. В. Трансформация раннехристианских эсхатологических воззрений в исторических сочинениях Евсевия Кесарийского / В. В. Акимов // Труды Минской Духовной Академии. 2005. №3. С. 66–70.
178
Ренан, Э. Христианская Церковь. С. 52–62. Ренан, Э. Марк Аврелий и конец античного мира. С. 222–234.
179
Отражением этого явилось резкое противопоставление клира и мирян, проявившееся, например, в запрещение читать мирянам Священное Писание, в причащении мирян только Телом Христовым, в возможность совершения литургии священнослужителем в отсутствии мирян.
180
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 270.
181
Писания мужей апостольских. СПб., 1895. С. 99.
182
Писания мужей апостольских. СПб., 1895. С. 100.
183
Писания мужей апостольских. СПб., 1895. С. 286.
184
Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. Перевод протоиерея П. Преображенского. С. 221.
185
Плиний Младший. Письма. С. 206.
186
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. M.: Паломник, 1999. С. 432–445.
187
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. С. 499–504.
188
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. С. 617.
189
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. С. 607–638.
190
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. С. 607.
191
Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского. С. 610.
192
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 191.
193
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 192.
194
Евсевий Памфил. Церковная история. С. 193–194.
195
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаша). епископа Далматино-Истрийского. M., 1996. Т. 2. С. 50.
196
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаша), епископа Далматино-Истрийского. Т. 1. С. 65.