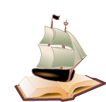| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
И будет день (fb2)
 - И будет день [Повести и рассказы писателей Шри-Ланка] (пер. Александр Александрович Белькович) 1459K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ранджит Дхармакирти - Ашока Виктор Суравира - Гунасена Витана - К. Джаятилака - Саранапала Лэлвала
- И будет день [Повести и рассказы писателей Шри-Ланка] (пер. Александр Александрович Белькович) 1459K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ранджит Дхармакирти - Ашока Виктор Суравира - Гунасена Витана - К. Джаятилака - Саранапала Лэлвала
И будет день
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Знакомство со страной, с ее народом… В этом чрезвычайно емком и многогранном процессе особое место принадлежит художественной литературе, чутко улавливающей пульс жизни и реагирующей на все новое. Многочисленные факты, почерпнутые из реальной действительности, сводятся воедино в живую ткань художественных полотен, преломляясь в судьбах людей и целых поколений.
Это в полной мере относится и к произведениям прогрессивных сингальских писателей, включенным в настоящий сборник. Однако, когда мы говорим о современной сингальской литературе, необходимо помнить, что она сравнительно молода — ее зарождение относится к концу XIX — началу XX века. Более четырехсот лет на Цейлоне господствовали колонизаторы — сначала португальцы, потом голландцы, а затем англичане, — которые превратили страну в экономический придаток метрополий. Господство колонизаторов сопровождалось застоем в духовной жизни. Пришла в упадок и сингальская литература, давшая в Средние века блестящие образцы поэзии. Процесс возрождения национального искусства был сложным и противоречивым. Первые произведения современной художественной литературы на сингальском языке отличались формальной изысканностью и несли на себе тяжелый груз условностей и канонов. Неоднозначным — а зачастую неоправданным — было и отношение к западноевропейскому культурному наследию. Одни авторы просто заимствовали сюжеты своих произведений из западноевропейской литературы, другие пытались замкнуться в национальных рамках, отбрасывая богатейшие традиции европейской культуры.
Становление реалистического метода в современной сингальской литературе тесно связано с именем Мартина Викрамасингхе — непревзойденного романиста, выдающегося мастера короткого рассказа, серьезного и вдумчивого критика. Впервые в истории сингальской словесности на страницы его произведений шагнули простые люди, которых он изображал с искренним сочувствием и теплотой; впервые его герои заговорили простым и доступным языком. Мартин Викрамасингхе с неослабным вниманием относился к достижениям мировой культуры и особенно высоко ценил русскую классическую литературу. Традиции, заложенные Мартином Викрамасингхе, бережно сохраняют и развивают современные прогрессивные писатели Республики Шри-Ланка.
Наиболее значительными произведениями, которые включены в этот сборник, безусловно, являются повесть Ашока Виктора Суравиры «Сыновья, не покидайте деревни» и повесть Ранджита Дхармакирти «И будет день…». А. В. Суравира занимает видное место в современной сингальской литературе как по числу опубликованных им произведений, так и по злободневности и социальной направленности его творчества. Объектом изображения в повести «Сыновья, не покидайте деревни» является цейлонская деревня. На примере центральных персонажей — Бандусены и Саната — автор показывает развитие крестьянского самосознания. Бандусена честен и добр; всю свою жизнь и он, и его жена Саттихами посвятили тому, чтобы поставить на ноги своих детей. Конечно, тяготы, с которыми сталкивается Бандусена, рождают у него протест, но протест пока не осознанный. В отличие от своего отца Санат, побывавший на практике в Советском Союзе, полон решимости бороться за лучшую долю для простых людей, хотя и без четкого представления о будущем социальном устройстве. В образе Саната нашла отражение огромная тяга молодого поколения к социальной справедливости и одновременно — отсутствие у него сложившегося классового мировоззрения. Образ Саната несет на себе и другую нагрузку. А. В. Суравира, страстный пропагандист необходимости просвещения и образования, стремится подчеркнуть, что для того, чтобы осознать действительное положение вещей, нужно обладать знаниями и широким кругозором. Само название повести — «Сыновья, не покидайте деревни» — глубоко символично. Это призыв оставаться в гуще текущих событий, в среде простых людей, проникнуться их нуждами и чаяниями и вместе с ними бороться за лучшее будущее. Конечно, можно было бы упрекнуть автора за то, что его главный герой Санат не находит пути к коммунистам Шри-Ланка, партия которых вот уже сорок лет активно выступает на политической арене страны. Но заключительные слова Саната полны решимости и оптимизма, и если он не изменит принятого решения, то сама логика жизни приведет его в ряды коммунистов.
Главный герой повести Ранджита Дхармакирти «И будет день…» Джаясекара — мелкий служащий. Положение мелких служащих было темой многих произведений сингальской литературы. Однако ни в одном из них бесправное и беспросветное положение маленького человека не находило такого глубокого и всеобъемлющего отображения, как в повести Ранджита Дхармакирти. На основе частных случаев в жизни своего героя автор поднимается до широких обобщений, позволяющих составить представление об обществе в целом: произвол домовладельцев; судорожные попытки маленького человека улучшить свое положение в жизни, подняться хоть на одну ступеньку выше, — попытки, перед которыми стоят непреодолимые социальные преграды; злоупотребления, коррупция и взяточничество, царящие в государственных учреждениях; робкие усилия создать профсоюзы, которые защищали бы права своих членов, — усилия, которые быстро глушатся давлением администрации и недостаточным единством рядов мелких служащих. Ранджит Дхармакирти с глубокой симпатией относится к своему главному герою, но вместе с тем он не закрывает глаза и на ограниченность выходцев из той общественной прослойки, к которой он принадлежит. Джаясекара совершенно подавлен обрушившимися на него несчастьями. Правда, у него появляется мысль посвятить себя профсоюзной деятельности, но эта мысль так и остается мимолетной. Как Джаясекара, так и другой персонаж повести — мелкий служащий Сиридиэс, вставший на путь мелкого вредительства, — не задумываются о социальных причинах происходящего. И не случайно, что о возможности лучшей жизни, о том дне, когда рабочие и крестьяне капиталистических стран, объединившись, свергнут капиталистический строй, чуждый интересам широких масс, говорит не Джаясекара, а другой герой повести — Джинадаса. По сравнению с Санатом из повести А. В. Суравиры «Сыновья, не покидайте деревни» Джаясекара стоит на более низкой ступеньке социального самосознания, но он является вполне реальным элементом нынешней социальной структуры Республики Шри-Ланка и именно поэтому привлек внимание писателя.
В описании отдельных сторон жизни Республики Шри-Ланка авторы предлагаемых советскому читателю рассказов стоят на позициях реализма и придерживаются демократических убеждений. Герои Джаятилаки, Лэлвалы и др. — простые труженики с их заботами, горестями и редкими радостями. Особое место в сборнике занимает рассказ К. Джаятилаки «Призрак», в котором главное действующее лицо — рабочий класс. Тема труда фабричных рабочих очень редко затрагивалась сингальскими писателями. Основные социальные слои, которые до сих пор привлекали их внимание, — крестьяне, плантационные рабочие, мелкие служащие. Эта тема еще ждет своего творческого преломления в сингальской художественной литературе. Оригинальны по форме и короткие рассказы Саранапалы Лэлвалы. Они словно фотографии, на которых запечатлены отдельные эпизоды современной писателю действительности. Но в этих жанровых зарисовках воплощено общезначимое, характерное для сложной и многообразной жизни страны.
В целом произведения прогрессивных писателей Республики Шри-Ланка, представленные в этом сборнике, отражают новый этап в развитии сингальской литературы — переход от простого изображения действительности к поискам путей, ведущих к социальному переустройству. Знакомство с ними, несомненно, поможет советскому читателю глубже и полнее понять жизнь народа этой далекой страны.
А. Белькович
Ранджит Дхармакирти
И БУДЕТ ДЕНЬ
Повесть
රංජන් ධර්මකීර්ති
එය තවත් දවසකි
කොළඹ
1979
1
Однажды вечером я стоял у окна своего кабинета. Мерно и монотонно шумел дождь, начавшийся вскоре после полудня. Было грустно, тоскливо, одиноко. Я чувствовал себя подавленным и вялым. Не хотелось ни читать, ни писать. Было чуть больше шести часов, а на улице — так темно и пустынно, словно уже наступила полночь. Когда дождь немного стих, по улице заскользили тени редких прохожих, над которыми колыхались раскрытые зонтики. Я обратил внимание на одного прохожего, который шел не спеша, внимательно вглядываясь в номера домов. Поравнявшись с нашим домом, он остановился, распахнул калитку и зашагал по дорожке, ведущей к входной двери. Когда я, выйдя в прихожую, открыл дверь, он уже поднялся по ступенькам и стоял на крыльце.
— Вы господин… не так ли? — спросил гость, складывая зонтик.
— Да. Проходите, пожалуйста.
Он стряхнул с зонтика капли дождя и, тщательно вытерев ноги, вошел в дом. Мой гость был молодым человеком лет двадцати трех — двадцати пяти, коренастый, с приятным лицом светло-шоколадного цвета. Ему, наверно, долго пришлось идти под дождем — по рубашке расплылись мокрые пятна, и она прилипла к телу. Хотя я его совершенно не знал и предполагал, что он непременно обратится ко мне с просьбой, его приход в тот дождливый вечер, когда так остро чувствовалось одиночество, обрадовал меня. Я проводил его в свой кабинет. Он осторожно присел на краешек стула и улыбнулся располагающей улыбкой, обнажив два ряда ослепительно белых зубов.
— Мне очень нужно поговорить с вами. Но может быть, я пришел некстати и помешал вам?
— Нет-нет, нисколько, — ответил я. — Не волнуйтесь и расскажите, что привело вас ко мне.
— Но дело настолько необычное, что я долго не решался беспокоить вас. — Мой гость смутился и замолчал.
— Каким бы необычным ваше дело ни было, вы пришли ко мне, и я должен вас выслушать.
— То, что произошло в моей жизни, может послужить основой для хорошего рассказа. Мне очень нравятся ваши произведения, я и решил обратиться к вам.
Обычная история! Сейчас он начнет расхваливать мои книги, а потом попросит оказать услугу. Я почувствовал разочарование.
— О том, что с вами приключилось, лучше вас никто не напишет.
— Я несколько раз пробовал, но ничего не вышло. Если вы не можете выслушать меня сегодня, назначьте любой другой день.
Слушать его историю не имело никакого смысла, но просил он так робко и смущенно, что я согласился. Я боялся к тому же, что от него будет не так-то легко избавиться, — лучше уж пожертвовать этим тоскливым вечером, все равно никакого настроения чем-нибудь заняться у меня не было.
— Ну что ж, рассказывайте… — Я достал из шкафа бутылку арака и два стакана. — Выпьете?
— Не беспокойтесь, пожалуйста. Я пью очень редко.
— Сегодня как раз подходящий день.
Я наполнил стаканы, уселся напротив него и поднял стакан, приглашая выпить арака.
Мы посидели еще немного, болтая о том о сем и потягивая арак, а затем он начал свой рассказ. Речь его была выразительной и порою лиричной. Говорил он долго, лишь изредка останавливаясь, чтобы пригубить свой стакан, и, когда я проводил его до калитки, было уже далеко за девять.
Его рассказ оказался довольно обыденной, сентиментальной и малоинтересной историей. В любом книжном магазине можно найти десятки, а то и сотни книг, в которых нудно и многословно описываются подобные любовные истории, и на следующий день я и думать забыл о моем госте. Правда, он приходил еще пару раз — по счастью, когда меня не было дома, — и непременно оставлял записки, интересуясь, не послужила ли его история сюжетной основой какой-либо повести. В конце концов я написал ему письмо, где упомянул, что я приступил к работе над новым романом, который был задуман уже давно, и намекнул, что ему не мешало бы оставить меня в покое.
Прошло три или четыре года. Я как-то решил навестить своего друга. Был чудесный вечер, и я подумал, что лучше пройтись пешком. Когда я миновал университет Видйодая и вышел на улицу, ведущую в сторону Раттанапитии, меня остановил раздавшийся сзади голос:
— Здравствуйте, господни… Что привело вас в эти края?
Я оглянулся и сразу же узнал молодого человека, который приходил в мой дом тем дождливым вечером. Но как он изменился! Когда-то пышущее здоровьем и жизнерадостностью лицо осунулось, щеки ввалились, глаза запали. Удручающее впечатление производила и одежда — сильно заношенные черные брюки, давно не стиранная белая рубашка.
— Иду друга проведать. Он живет неподалеку.
Оказалось, что нам по дороге, и мы пошли вместе. Было видно, что моего знакомого одолевают невеселые мысли, и большую часть пути мы прошли молча. Разительная перемена, происшедшая в его облике, сильно заинтересовала меня, и, когда мы подошли к переулку, где он жил, я попросил разрешения зайти к нему попозже. Моего друга не оказалось дома, и на обратном пути — гораздо раньше, чем предполагал, — я свернул в уже знакомый мне переулок и без труда отыскал жилище моего давнего гостя. Он познакомил меня со своей женой — миловидной женщиной, более очаровательной, чем можно было себе представить из его слов. В моей памяти живо всплыли подробности их знакомства. Мы уселись во дворе, и без всяких предисловий он поведал о том, как сложилась его жизнь после встречи со мной. Я внимательно слушал его, лишь изредка прерывая рассказ вопросами. По моему убеждению, его история общезначима — в ней отразилась не только судьба отдельного человека, но и судьбы многих, многих других, живущих в нашем обществе. Это соображение и заставило меня взяться за перо.
2
Джаясекара проснулся, когда жена на кухне стала щепать лучину, чтобы растопить печку. Мерное постукивание топорика проникло в его сознание сквозь пелену сна, и он открыл глаза. В окно он увидел освещенное утренними лучами солнца лазоревое небо, по которому неторопливо скользили белые облака. Проснулся Джаясекара в приподнятом настроении, словно с сегодняшнего дня должна была начаться новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Обычно Джаясекара любил еще немного понежиться в постели, но сейчас его переполняло чувство радостного ожидания. Он вскочил с кровати, постоял немного рядом с четырехлетним сыном, сладко посапывавшим во сне, и спустился во двор. Роса, щедрой россыпью лежавшая на траве, десятками холодных иголок вонзилась в босые ноги. Воздух был наполнен веселым гомоном птиц. Джаясекара прошелся несколько раз взад и вперед по участку и, замурлыкав какую-то мелодию, направился к кухне. У кухни он остановился и долго смотрел на жену, хлопотавшую около печки. Скоро у них должен был родиться второй ребенок, и жена Джаясекары теперь двигалась осторожно и неторопливо.
— Помочь тебе? — спросил, входя в кухню, Джаясекара.
— Как ты меня напугал! — Амарасили улыбнулась той слегка застенчивой улыбкой, которая так нравилась Джаясекаре. — Вот уж не ожидала, что ты так рано встанешь. — Она немного наклонилась вперед и краешком фартука, который был повязан прямо поверх халата, вытерла капельки пота, выступившие на лбу.
— Не лежалось мне что-то сегодня. — Джаясекара положил доску на ступку и уселся на нее. — У меня такое ощущение, будто обязательно случится что-то очень хорошее. Правда, Даниэль Мудаляли вчера порядком попортил нам крови, но все обернулось хорошо. Плохо только, что он устроил этот спектакль в присутствии Тилаки. А с другой стороны, если бы не Тилака, нам бы совсем туго пришлось.
Амарасили молча подкладывала в печку дрова.
— Обошлось-то обошлось, да перед соседями очень стыдно, — сказала она наконец, выпрямляясь. — И не забывай, что нам нужно выплатить долг, и довольно большой.
Но Джаясекару это нисколько не беспокоило. Помощь Тилакавардханы таким неожиданным и чудесным образом избавила их от грозящих серьезных неприятностей, что ему просто не хотелось думать об обязательствах, которые она на них налагала, и он с надеждой и оптимизмом думал о будущем.
Джаясекара работал стенографистом в управлении службы регистрации актов гражданского состояния. Четыре года назад они вместе с женой переехали в Раттанапитию. Они сняли небольшой домик из песчаника под черепичной крышей, в котором было всего две комнаты. Домик стоял на участке размером в четверть акра в тени кокосовых пальм. Он был старый и требовал ремонта, но домовладелец, Даниэль Мудаляли, и не помышлял о ремонте, хотя брал с них восемьдесят рупий. Высокий и тощий, словно палка, Даниэль Мудаляли считался довольно состоятельным человеком — он был владельцем пяти грузовиков, стоявших в гараже, над которым красовалась выведенная большими буквами вывеска: ТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА ДАНИЭЛЯ АППУХАМИ; нескольких лавок и земельных участков, — но с деньгами расставаться не любил.
Джаясекара не раз напоминал Даниэлю Мудаляли о ремонте, когда вносил арендную плату. Однако Даниэль Мудаляли, который коротал время в кресле в своей транспортной конторе, покуривая сигару и уткнувшись носом в газету «Динамина» или «Будусарана», поглаживал усы и, глядя на Джаясекару поверх очков, отделывался одной и той же фразой: «Господин Джаясекара, многие люди предлагают мне двести рупий за право проживать в вашем доме. Двести рупии! Я беру с нас только восемьдесят. А вы все твердите о каком-то ремонте. Да вы просто шутник, господин Джаясекара. Ха… ха… ха…»
Каждый раз, слыша этот снисходительно-издевательский смех, Джаясекара едва удерживался от желания дернуть старого скрягу и проходимца за усы. «Пусть бы старый черт увеличил арендную плату на тридцать-сорок рупий, но только привел бы в порядок дом да провел электричество», — думал про себя Джаясекара. До поры до времени отношения между Даниэлем Мудаляли и Джаясекарой оставались вполне терпимыми. Напряженность в их отношениях возникла около года тому назад, после смерти матери Джаясекары. Мать Джаясекары жила вместе с его младшей сестрой и ее мужем в Говинне в районе Хорана. Она никогда не жаловалась на здоровье, была всегда бодрой и жизнерадостной, и смерть ее явилась полной неожиданностью. Поскольку сестра и ее муж жили в очень стесненных обстоятельствах, расходы по похоронам взял на себя Джаясекара. Пришлось залезть в долги. Но это было не страшно — Джаясекара стал брать работу у адвоката Ратнаяки и обеспечил себе неплохой дополнительный заработок. Однако после того, как были ослаблены валютные ограничения, Ратнаяка отправился в длительную поездку по Европе, и Джаясекара лишился очень важного источника дохода. А тут еще тяжело заболел сын, и Джаясекара долго не вносил арендной платы. Даниэль Мудаляли был недоволен, но не требовал немедленно погасить долг, и Джаясекара решил, что он с пониманием относится к их тяжелому положению.
Но какую пакость устроил им Даниэль Мудаляли! Накануне вечером Джаясекару пришел проведать Тилакавардхана, и они мирно беседовали на веранде. Тилакавардхана и Джаясекара были родом из одной деревни и когда-то вместе учились в школе. Но затем их пути разошлись. Тилакавардхана недавно получил степень доктора в одном из университетов в США и теперь преподавал экономику в университете Видйодая. Вроде они были так же дружны, как и в школьные дни, но разница в социальном положении незримой чертой пролегла между ними. Джаясекара гордился чем, что такой важный человек, каким стал теперь Тилакавардхана, запросто заходит к нему, и с радостью брался перепечатывать его работы, а Тилакавардхана считал вполне естественным ничего не платить своему другу за его труды.
Беседуя с Тилакавардханой, Джаясекара заметил, что по переулку в сторону их дома размашисто шагает Даниэль Мудаляли, а за ним семенят полицейский и кто-то еще — по-видимому, чиновник — с папкой под мышкой. Почувствовав, что эта троица направляется к ним неспроста, Джаясекара поспешил к калитке, чтобы встретить гостей подальше от дома и Тилакавардхана не оказался свидетелем неприятного разговора. Но Даниэль Мудаляли, не обращая внимания на Джаясекару, распахнул калитку и со словами: «Проходите, господа!» — пролетел мимо Джаясекары и поднялся на веранду.
Увидев на веранде Тилакавардхану, Даниэль Мудаляли решил, что тот может оказаться удобным свидетелем, и сразу же обратился к нему:
— Уже четыре года у меня живут. Несколько раз просил освободить дом — и ухом не ведут. Мало того, за последний год ни цента не заплатили. Что мне оставалось делать?
Тилакавардхана, не понимая, что к чему, с удивлением смотрел на Даниэля Мудаляли, а тот, распаляясь все больше к больше, тем более что в переулке напротив дома, где жил Джаясекара, уже стали собираться люди, закричал так громко, чтобы и им было слышно:
— Если со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. Ну а если со мной по-плохому, то пощады от меня не жди!
Но чиновника, пришедшего вместе с Мудаляли, его поведение явно смущало.
— Я только выполняю свой долг. Не сердитесь на меня, пожалуйста, — сказал он. — У меня вот какое дело. Ваш домовладелец подал жалобу в бюро по найму жилых помещений, что вы регулярно не вносите арендную плату. Вам трижды присылали повестку с просьбой явиться в бюро, но все три раза вы не явились. Тогда дело было рассмотрено в ваше отсутствие — и был выдан ордер на выселение вас из дома. Пожалуйста, возьмите ордер и распишитесь. — Чиновник извлек из папки бумагу с приколотым к ней ордером и вместе с ручкой протянул ее Джаясекаре.
— Но я ничего не знаю об этой жалобе и ни одной повестки не получал. — Джаясекара тщетно пытался унять охватившую его дрожь.
Тогда чиновник раскрыл папку и, глядя в свои бумаги, забубнил:
— Жалоба была подана 20 апреля 1978 года. Она должна была рассматриваться 3 мая, 1 июня и 6 июня. Каждый раз вам заранее высылалась повестка. Однако вы ни разу не явились и не сообщили письменно, что не можете явиться.
— Но я еще раз говорю вам, что никаких повесток не получал. Кроме того, хотя я и не внес арендную плату вовремя, домовладелец ни разу не потребовал, чтобы я немедленно уплатил все, что ему причитается. И наконец, недавно я вручил ему письмо, в котором обещал внести в ближайшее время арендную плату сполна. Поскольку Даниэль Мудаляли ничего мне не сказал, я решил, что он согласен с этим и у него нет ко мне никаких претензий.
— Какое еще письмо? Я не знаю ни о каком письме! — завопил Даниэль Мудаляли.
— Не надо кричать, — остановил его чиновник и, обращаясь к Джаясекаре, продолжал: — Господин Джаясекара, все это нужно было объяснить комиссии, которая рассматривала ваш вопрос. Дело было решено в законном порядке, и единственное, что я могу для вас сделать, — это отложить выселение на сутки. Если вы в течение этого времени погасите свой долг, то еще три месяца можете жить в этом доме. Если же вам не удастся этого сделать, то… — И чиновник выразительно пожал плечами.
Постепенно Джаясекара стал догадываться о подоплеке происходящего. Незадолго до того, как Даниэль Мудаляли подал на него жалобу, Джаясекара отнес в департамент по вопросам жилья заявление с просьбой предоставить ему квартиру в одном из новых многоквартирных домов. Там он случайно столкнулся с одним из приятелей Даниэля Мудаляли и на вопрос о том, что он, Джаясекара, здесь делает, ответил словами, которые можно было истолковать по-разному: «Пытаюсь получить надежную крышу над головой». По-видимому, приятель Даниэля Мудаляли решил, что Джаясекара хочет прибегнуть к новому декрету о жилье и заполучить в свою собственность дом, который он арендовал. Даниэль Мудаляли к тому же подозревал, что именно Джаясекара сообщил в налоговый департамент о ряде его сделок, с которых он не уплатил налога, из-за чего у него были серьезные неприятности. И Даниэль Мудаляли решил разделаться с Джаясекарой. Каким-то образом он перехватил повестки, которые высылали Джаясекаре, и тем самым поставил его сейчас в безвыходное положение. Джаясекара в растерянности оглядывался по сторонам. Около забора уже толпились обитатели соседних домов, с жадным любопытством следившие за происходящим на веранде. Стыд, страх а отчаяние охватили Джаясекару. Невозможно было и доказать, что Даниэль Мудаляли незаконно брал с него большую арендную плату: в квитанциях, которые Даниэль Мудаляли давал ему, проставлялись не восемьдесят рупий, а сумма, назначенная оценщиком из бюро по найму жилых помещений. Джаясекара вспомнил, как однажды, проходя по улице Кавудана, он оказался свидетелем выселения одной семьи. И вот теперь такая же беда нежданно-негаданно пришла к его порогу.
— Ну что же, пойдемте, господа, — заявил Даниэль Мудаляли. — Я ведь не зверь — и не возражаю против того, чтобы отложить выселение до завтра. — А затем, возвысив голос, чтобы его слышали собравшиеся в переулке зрители, загремел: — Сначала умоляют, чтобы их пустили в дом, а потом норовят его заграбастать.
— Итак, господин Джаясекара, если завтра до двенадцати дня вы не внесете арендную плату, то вечером нам придется вас выселить, — заключил чиновник и спустился с веранды.
Когда Даниэль Мудаляли в сопровождении полицейского и чиновника исчез за поворотом, к Джаясекаре подбежал Вилбат, живущий в соседнем доме, и возбужденно зашептал:
— Ну и подлец же Даниэль Мудаляли! Если бы не полицейский, я бы залепил ему пару оплеух!
Джаясекара безнадежно махнул рукой и вернулся на веранду. Как обухом по голове! К горлу подкатывала тошнота. И надо же, чтобы эта сцена разыгралась в присутствии Тилакавардханы. Амарасили стояла, прислонившись к дверному косяку, и прижимала к себе сына. Губы ее дрожали. На лице мальчика застыло испуганное и растерянное выражение. Первым нарушил молчание Тилакавардхана:
— Дело-то серьезное. Но почему ты мне не сказал, что у тебя денежные затруднения?
— Думал, смогу вывернуться. Чтобы расплатиться с долгами, я попросил заем в фонде помощи государственным служащим — и на днях должен получить довольно большую сумму. Да вот арендную плату надо внести раньше, чем я смогу получить деньги.
Тилакавардхана открыл свой кожаный портфель и достал чековую книжку.
— Я тебе сейчас выпишу чек на нужную сумму. А когда получишь деньги в фонде, расплатишься со мной. Сколько тебе нужно?
— Девятьсот шестьдесят рупий. — Джаясекара почесал у себя в затылке и не без злорадства подумал: «Все ты предусмотрел, Даниэль Мудаляли, только не учел, что у меня есть состоятельные друзья, которые не дадут меня в обиду!»
Тилакавардхана протянул чек.
— Я даже не знаю, как благодарить тебя, — прочувствованно сказал Джаясекара. — Через две-три недели я обязательно все верну.
— Можешь вернуть и через два-три месяца. Мне не к спеху.
Тилакавардхана отдал Джаясекаре рукопись своей новой статьи на перепечатку и собрался уходить. Джаясекара проводил его до калитки, и Тилакавардхана предложил подвезти его на своем автомобиле к дому Даниэля Мудаляли, чтобы Джаясекара, не откладывая дела в долгий ящик, немедленно вручил чек. У ворот дома Даниэля Мудаляли Джаясекара сердечно поблагодарил Тилакавардхану и долго смотрел вслед его автомобилю, пока он не исчез в потоке машин. Когда Даниэль Мудаляли увидел, что у его дома остановилась новая, поблескивавшая лаком «тойота корона», он решил, что к нему приехал какой-то важный посетитель, и поспешил к воротам. Но, увидев входящего во двор Джаясекару, вернулся на веранду и, уперев руки в бока, сурово смотрел на посетителя. А Джаясекара твердым шагом поднялся по ступенькам, подошел к стоявшей на веранде кушетке, положил на нее чек и придавил его медной пепельницей.
— Вот ваши деньги. После того, что вы устроили, я сам не хочу снимать у вас дом, и ровно через три месяца мы съедем. Можете считать, что я официально предупредил вас об этом.
Даниэль Мудаляли взял чек и стал его подозрительно разглядывать.
— Не беспокойтесь. Чек надежный. Его дал мне мой друг Ратна Тилакавардхана, доктор университета Видйодая, — с гордостью сказал Джаясекара. Пусть Даниэль Мудаляли знает, какой у него влиятельный друг!
Даниэль Мудаляли пробурчал что-то себе под нос, затем принес квитанционную книжку и выписал квитанцию. Джаясекара сунул розовый листок в карман и начал спускаться с веранды, а Даниэль Мудаляли снова стал вертеть в руках чек, разглядывая его со всех сторон.
— Да, таких людей можно выкурить, только подпалив дом, — с ненавистью бросил вслед Джаясекаре Даниэль Мудаляли.
Джаясекара думал о случившемся, и ему казалось, будто его, привыкшего к спокойной и размеренной жизни, схватил какой-то великан, основательно тряхнул и снова осторожно поставил на землю. Когда Джаясекара подошел к своему дому, уже опустились сумерки, и дневной шум уступил место вечерней тишине. Все вокруг было спокойно. И горечь пережитого сменилась в душе у Джаясекары умиротворением. Ему вспомнилось, как однажды он ехал в Вэянгоду. По обеим сторонам железной дороги простирались поля насколько хватал глаз. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в багровые тона. Джаясекара стоял у окна и любовался открывавшимся видом. Тишину и спокойствие нарушало лишь мерное постукивание колес. Внезапно мимо промчался встречный поезд. Джаясекара испуганно отпрянул от окна. Несколько минут за окном мелькали, грохоча, вагоны. Но поезд проехал, и снова, как и прежде, все стало мирным и спокойным. «Так и сегодня, — думал Джаясекара, — промчалась гроза, и все успокоилось… А может, это и к лучшему, — продолжал размышлять он. — Ведь мы не дом снимаем, а настоящую развалюху. Каждый раз, как приходят Тилакавардхана или родственники жены, со стыда сгораешь! За три месяца приличное жилье найдется. Надо будет почаще наведываться в департамент по вопросам жилья, а то еще положат мое заявление под сукно». И по какой-то совсем необъяснимой причине в душе у Джаясекары крепла уверенность, что в будущем все сложится удачно и они заживут лучше, чем прежде. Эта уверенность не покинула его и утром.
— Чему тут радоваться? — удивлялась Амарасили. — С одним долгом расплатились, а заимели другой. А Тилакавардхана за все, что ты для него напечатал на машинке, должен был бы заплатить куда больше, чем девятьсот шестьдесят рупий.
Джаясекара скорчил гримасу: как Амарасили может так говорить! Тилакавардхана его друг и занимается научной работой.
— О каких деньгах здесь может идти речь! Это же не адвокат Ратнаяка, который без зазрения совести дерет деньги с каждого, кто вынужден обратиться к нему за помощью! — воскликнул Джаясекара.
Но Амарасили лишь упрямо замотала головой — аргументы мужа на нее не подействовали. Она молча принялась готовить обед, который Джаясекара должен был взять с собой на службу: сварила рис, переложила его в глубокую тарелку, прикрыла сверху другой тарелкой и перевязала платком.
3
В тот день Джаясекара пришел на работу намного раньше обычного. Когда он уселся за свой стол и взглянул на часы, то увидел, что еще нет и восьми. А служащие обычно приходили на работу к половине девятого. Джаясекара пододвинул к себе перекидной календарь и перевернул листок. На новом листке стояло: «1978. Ноябрь. 17». Еще восемь дней до зарплаты. А там через несколько дней, наверно, предоставят заем в фонде — тогда можно будет расплатиться с Тилакавардханой, и еще останутся деньги для аванса за новую квартиру.
Машинописное и стенографическое бюро, в котором работал Джаясекара, находилось в южном крыле на самом верхнем этаже управления службы регистрации актов гражданского состояния. Его стол стоял у окна, выходившего на улицу. Джаясекара подошел к окну и распахнул его. Прямо под ним тянулась улица Йорк. А если немного высунуться из окна, то можно увидеть и часть улицы Чэтам. Час пик еще не наступил, машины проезжали редко, а на тротуарах было мало прохожих. В первое время, когда Джаясекара поступил на службу, он приходил в бюро задолго до начала трудового дня. А после того как женился и стал главою семьи, то одно, то другое нередко задерживало его дома, и он едва успевал занять свое место до звонка, возвещавшего о начале рабочего дня. Напротив управления, на другой стороне улицы, расположились магазины «Лаксала», «Миллерс» и «Каргильс». Их двери и окна еще были закрыты. «Словно огромные дремлющие киты», — подумал Джаясекара. Пройдет совсем немного времени, и они, пробудившись ото сна, начнут заглатывать свои обычные жертвы — бесконечную вереницу продавцов, служащих, рабочих. А потом, высосав из них жизненные соки, вечером снова изрыгнут на улицу. Около магазина «Каргильс» находилась закусочная «Некта». Она уже была открыта, и люди поминутно входили и выходили из нее. Едва взгляд Джаясекары упал на закусочную «Некта», как память увела его в прошлое.
Как-то семь лет тому назад, в понедельник, он приехал на работу прямо из деревни, где вместе с родителями провел субботу и воскресенье. Сидя за своим столом, он привычными движениями заправлял в машинку чистые листы бумаги и перепечатывал письма и справки, которые стопочкой лежали слева. Его пальцы проворно бегали по клавишам. Каждый раз, вытаскивая из машинки покрытый ровными рядами букв лист бумаги, он некоторое время смотрел на него, любуясь, словно художник своим произведением. Если случались опечатки, то он старался как можно аккуратнее исправить их, а иногда и перепечатывал весь лист заново. Работал он быстро и аккуратно, и начальник управления, как правило, поручал ему перепечатывать самые важные бумаги. Некоторые служащие завидовали Джаясекаре и пытались опорочить его, но хорошее отношение начальства оберегало его от всяких козней.
Джаясекара положил очередной напечатанный лист в папку и, подняв глаза, увидел, что рядом с Дхармасеной, который сидел за столом у самого входа, стоят две девушки и о чем-то с ним говорят. Дхармасена посмотрел в сторону Джаясекары и помахал ему рукой, подзывая к своему столу. Джаясекара подошел, одна из девушек, которая была одета в ситцевую юбку, усеянную мелкими цветами, и украшенную кружевами белую блузку, обратилась к нему:
— Вы господин Джаясекара?
— Да… Да… Это я… — ответил Джаясекара, чувствуя непонятное смущение.
— Ваш друг просил передать вам это письмо.
Обе руки у девушки были заняты: в одной она держала пачку книг, а в другой — яркий зонтик. Она положила книги на край стола, извлекла из-под обложки одной из них листок бумаги и протянула его Джаясекаре. Это была записка от Викрамы Джаясинха, друга Джаясекары, который учился на последнем курсе в университете Видйодая. Викрама просил Джаясекару помочь девушке, которая принесет записку. Джаясекара усадил посетительниц и спросил, чем он может быть полезен.
— Мне нужна копия свидетельства о рождении.
— Ну, это пустяки. Сегодня или в крайнем случае завтра вы ее получите.
— Мне, вообще-то, еще неделю ждать можно. Но я подумала: а вдруг не успею? Вот и пришла пораньше…
Пока Джаясекара разговаривал с девушкой, ее подруга, мрачная толстушка, сидела с безразличным видом рядом, положив пачку книг на колени.
— Теперь пойдем на первый этаж, — сказал Джаясекара, поднимаясь со стула.
Там Джаясекара раздобыл бланк для заявления и помог девушке заполнить его. Заявление он отнес одному чиновнику, которому не раз оказывал услуги — чиновник пописывал короткие рассказы в газеты, а Джаясекара их перепечатывал, — и тот сразу же занялся этим делом.
— Сегодня вечером копия будет готова, — сказал Джаясекара.
— Так скоро! — воскликнула девушка. — Если вам не трудно, господин Джаясекара, оставьте копию у себя, а я приду за ней завтра утром.
— Хорошо. В какое время вы придете?
— В девять.
— Прекрасно.
Они немного помолчали.
— А вы ведь дочь господина Гунапалы Викрамаараччи из Наттандии, не так ли? — нарушил молчание Джаясекара.
— А вы откуда знаете? — Девушка удивленно подняла брови.
— Не удержался и прочел ваше заявление, — раскрыл причину своей осведомленности Джаясекара, и они оба весело рассмеялись.
— И имя у вас красивое, — продолжал Джаясекара. — Амарасили Праджапати Викрамаараччи. Надеюсь, вы не сердитесь на меня за мое любопытство?
— Нисколько. Однако вы все хорошо запомнили, — кокетливо заметила Амарасили.
Джаясекара действительно запомнил все — не только имя девушки, но и год и место рождения, имя ее матери и отца.
— До завтра, господин Джаясекара, — продолжала Амарасили. — Большое вам спасибо за помощь.
— Не стоит благодарности. До завтра. — И Джаясекара посмотрел прямо в глаза Амарасили.
Около двери Амарасили оглянулась, и их глаза встретились вновь. Джаясекара помахал девушкам вслед и побежал к себе наверх, перепрыгивая через две ступеньки сразу.
— Что это за краля? — осведомился Дхармасена у Джаясекары, едва тот переступил порог комнаты.
— Дочь моего дяди, — небрежно бросил Джаясекара.
— И, конечно, принесла записку от тети. Да так разволновалась, что никак своего двоюродного брата узнать не могла, — ехидно заметил Дхармасена. — А лакомый кусочек… — На лице у Дхармасены заиграла сальная улыбка. — И что-то совсем не по-родственному ты перед ней юлил.
Дхармасена был большим любителем скабрезностей, и, опасаясь, что он сейчас оседлает своего любимого конька, Джаясекара заспешил к своему месту.
— И что вы нашли в ней хорошего? — скорчила гримасу и пожала плечами Карунавати, когда Джаясекара поравнялся с ее столом. — Ни кожи, ни рожи.
Джаясекара сел за стол, заправил в машинку чистый лист бумаги, но не сразу смог снова приняться за работу — перед его мысленным взором стояло лицо Амарасили. Девушка приглянулась ему, и Джаясекару охватило сильное желание познакомиться с ней поближе, поухаживать за ней. Но возможно ли это? В университете царили не очень строгие нравы, и почти у каждой студентки был свой дружок. А такая красивая девушка, как Амарасили, наверняка не могла пожаловаться на отсутствие внимания со стороны молодых людей. Но даже если никто пока и не завоевал ее благосклонности, какой интерес мог представить для нее, студентки университета, простой стенографист. Правда, Джаясекаре показалось, что, когда при прощании они встретились взглядами, в ее глазах сверкнула искорка живого интереса, но вполне могло статься, это было просто игрой его воображения. И весь тот день на работе и дома мысли Джаясекары нет-нет да и возвращались к Амарасили.
Ночью Джаясекаре приснился тревожный и неприятный сон. Он сидел на своем рабочем месте и, как обычно, стучал на машинке. Внезапно в комнату вошла Амарасили и стала угощать его чем-то вкусным. Но при одном взгляде на еду Джаясекару охватила тошнота, все вокруг задрожало и расплылось, и он очутился в саду, посреди которого стоял старинный двухэтажный дом. Трава была покрыта крупными каплями росы, а кусты вокруг усыпаны необыкновенно красивыми цветами. Джаясекара знал, что из-за кустов вот-вот появится Амарасили. Но она все не шла и не шла, и Джаясекару стало охватывать беспокойство. «Вероятно, она в доме», — решил Джаясекара. Однако когда он подбежал к дому, то увидел, что все окна и двери наглухо заколочены и проникнуть в дом невозможно. Его охватил ужас. Если он сейчас же не попадет в дом, то произойдет что-то ужасное. Джаясекара стал бегать вокруг дома, в отчаянии колотя кулаками по стенам, и… проснулся. Было еще темно, и, поворочавшись немного с боку на бок, он снова заснул.
Несмотря на ночные кошмары, проснулся он в бодром настроении. Сознание того, что сегодня он опять увидит Амарасили, наполняло его радостным ожиданием, он умылся и побрился тщательнее, чем обычно. Затем облачился в самый лучший костюм и, прежде чем выйти из дома, долго вертелся перед зеркалом.
В управлении он первым делом отправился в отдел, ведавший регистрацией рождений, и забрал копию свидетельства для Амарасили. Усевшись на свое рабочее место, рассеянно глядя на разложенные на столе бумаги, он принимался было печатать на машинке, но тут же останавливался, чтобы посмотреть на часы, которые висели в их комнате на стене. А когда время подошло к девяти, Джаясекара, услышав шаги на лестнице, ведущей на их этаж, каждый раз вздрагивал и застывал в напряженном ожидании.
9.45. Не в силах усидеть на месте, Джаясекара подошел к одному из сослуживцев — посоветоваться по какому-то пустяковому вопросу, а затем подошел к окну и стал смотреть на улицу. Она была наполнена шумом. Внизу непрерывным потоком двигались легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы. Уличные торговцы уже разложили на тротуарах свой товар и громкими криками зазывали покупателей. Внезапно кто-то тронул Джаясекару за руку и произнес: «Сар!» Джаясекара обернулся — перед ним стоял Сиридиэс, помощник стенографиста, а около стола Дхармасены он сразу же увидел Амарасили с подругой.
— Джая! — завопил Дхармасена так, словно Джаясекара находился бог весть как далеко. — Пришла дочка твоего дядюшки!
Несколько молодых служащих прыснули со смеху. Джаясекара, чувствуя, как кровь приливает к его щекам, схватил со стола копию свидетельства и вышел с девушками в коридор.
— А я жду вас с самого утра, — искренне признался Джаясекара. — Боялся, что вы уже не придете.
— Да мы по ошибке сели не в тот автобус и поехали в сторону Мараданы. Мы, правда, вышли на первой же остановке, но нужного автобуса, как нарочно, долго не было, и мы пешком вернулись к глазной поликлинике.
В тот день на Амарасили было простенькое платье из голубого ситца с мелкими цветами, и она показалась Джаясекаре еще очаровательней, чем накануне. У подруги же Амарасили, обрядившейся в желтую кофту и ярко-красную мини-юбку — это при ее-то полноте, — был до смешного нелепый вид.
Джаясекара передал Амарасили копию свидетельства о рождении.
— Огромное вам спасибо, господин Джаясекара. — Амарасили признательно улыбнулась. — Если бы не вы, я бы не меньше месяца прождала.
— В таком случае это событие стоит отметить. Давайте выпьем по чашечке чаю, — набравшись смелости, предложил Джаясекара. — Я как раз собирался устроить себе небольшой перерыв.
Амарасили быстро взглянула на свою подругу. Та скорчила недовольную гримасу. Но Амарасили приняла приглашение Джаясекары:
— Мы с удовольствием выпьем с вами чаю.
Они направились в закусочную «Некта». «Только бы никто из начальства не хватился меня, — с опасением подумал Джаясекара. — А то мне это чаепитие может дорого обойтись». В закусочной «Некта» было тихо и прохладно. Джаясекара усадил девушек за столик, который стоял прямо под вентилятором, и поспешил к прилавку. Он взял три больших куска шоколадного торта и три чашки чаю.
— Вы же нас на чай пригласили. О торте и речи не было, — упрекнула Амарасили Джаясекару, когда тот с подносом подошел к столику. — В таком случае по счету должны заплатить мы.
— Этого я не могу допустить, — возразил Джаясекара. — Во-первых, если вы заплатите, это можно будет рассматривать как взятку должностному лицу за оказанную им помощь. А во-вторых, я уже за все заплатил.
Он протянул тарелку с кусками торта сначала Амарасили, а затем ее подруге. Краешком глаза он заметил, что Амарасили украдкой внимательно смотрит на него.
— Мы с вами друг друга знаем, — обратился к Амарасили Джаясекара, взяв с тарелки последний кусок торта, — а со своей подругой вы меня не познакомили.
— Мою подругу зовут Читра Марасинхе. Мы с ней двоюродные сестры. Она дочь младшего брата моего отца. Читра не особенно разговорчивая.
Читра никак не прореагировала на то, что ее представляют молодому человеку, и с каменным выражением лица в два приема расправилась с куском торта. «Ей бы следовало называться не Читра Марасинхе, а Читра Угрюмосинхе», — подумал Джаясекара.
— А у меня есть удивительная способность, — между тем игриво продолжала Амарасили. — Мне достаточно посмотреть в лицо человеку, чтобы все о нем узнать. Хотите в этом убедиться, господин Джаясекара?
— Ну что ж, посмотрим, посмотрим, — согласился Джаясекара.
— Ваш отец умер, когда вы еще учились в колледже…
— Да, это так.
— В школе вы учились очень хорошо. А как закончили, сразу же пошли работать, чтобы оба ваши брата и сестра смогли получить образование…
— Неужели на моем лице так уж все и написано? Не Викрама ли вам рассказал?
— Да, я встретилась вчера с Викрамой. — улыбнулась Амарасили. — И сказала ему, что вы были очень любезны и помогли мне, а Викрама рассказал о вас.
— А вы дружны с Викрамой? — спросил Джаясекара не без тайного намерения выяснить, есть ли у Амарасили избранник. И хотя слово «дружны» само по себе нейтрально, он произнес его так, что Амарасили сразу же догадалась, в чем дело.
— Мы просто учимся в одной группе. Вместе ходим на занятия.
«Может быть, у нее есть кто-нибудь другой?» — подумал Джаясекара, но прямо спросить об этом не решился.
— Амарасили, нам пора, — пробасила вдруг Читра, чем несказанно удивила Джаясекару, который решил, что так ее и не услышит.
— Да, нам пора. — Амарасили поднялась со стула. — Большое спасибо за чай и за торт.
— Если вам нужно будет напечатать что-нибудь на машинке, приходите ко мне, — предложил Джаясекара.
— Непременно приду, — ответила Амарасили, и они втроем вышли из закусочной. Как раз в это время к остановке подкатил автобус, идущий в Махарагаму, и Амарасили и Читра побежали к нему. Джаясекара смотрел вслед, надеясь, что Амарасили помашет на прощание рукой, но едва девушки поднялись в автобус, как он сорвался с места и исчез за поворотом.
На следующий день после чаепития в «Некта» Джаясекара поспешил к Викраме и прямо-таки замучил его расспросами. То, что он узнал, и обрадовало, и огорчило его. Хотя за Амарасили ухаживали многие, постоянного друга у нее не было. Всем претендентам она говорила, что обещала своим родителям соединить свою судьбу с тем, кого они выберут для нее сами, и свое обещание сдержит. Затем последовало несколько встреч — у Викрамы и, словно случайно, в университете. А один раз Амарасили пришла к Джаясекаре на работу и попросила его перепечатать заявление. Вскоре они стали назначать свидания, и чувство взаимной симпатии, искоркой пробежавшее между ними при знакомстве, переросло в нежную и преданную любовь. Дело шло к тому, что Амарасили все больше забывала об обещании, данном ею родителям. Однажды она призналась Викраме: «Вот не думала, что со мною может такое приключиться. Меня влечет к Джаясекаре какая-то неведомая сила, и сопротивляться ей я не могу. Ни за что не расстанусь с Джаясекарой». Любовь вошла в их жизнь так же быстро и неожиданно, как иногда распускается цветок лотоса: еще вчера поверхность водоема выглядела уныло и однообразно, а сегодня ее украшает божественно прекрасный цветок. Джаясекара и Амарасили не могли и дня прожить друг без друга. Особенно им нравилось встречаться в закусочной «Некта». Нередко Джаясекара, закончив работу, спешил к университетской библиотеке, откуда выпархивала Амарасили, и они долго гуляли по улицам, ничего вокруг не видя и не слыша.
И как часто прекрасный цветок лотоса срывает чья-то грубая и бесцеремонная рука, так и в любовь Джаясекары и Амарасили грубо и бесцеремонно вмешались другие люди. Амарасили скрывала от родителей, что встречается с Джаясекарой, и умоляла Читру молчать по крайней мере до поры до времени. Но Читра из ревности и зависти — Джаясекара не допускал другой мысли — обо всем рассказала родителям Амарасили. Словно палку сунули в осиное гнездо! На Амарасили посыпались угрозы и упреки, оскорбления и увещевания. Грозили и Джаясекаре. «Если тебе дорога жизнь, то оставь мою сестру в покое, — брызгая слюной, кричал в лицо Джаясекаре брат Амарасили, Лесли. — Скорее в море ее утоплю, чем соглашусь, чтобы она стала женой жалкого и поганого писаришки!» Столько злобы, ненависти и презрения было в словах Лесли, что Джаясекара запомнил их навсегда. Мало того. Против Джаясекары состряпали ложное обвинение, и несколько дней он провел в полицейском участке, прежде чем друзья выручили его.
Однако все угрозы и запугивания привели к тому, что любовь их стала еще крепче и они острее почувствовали, что не могут друг без друга жить. Несмотря на препоны, Джаясекара и Амарасили продолжали встречаться. Но после экзаменов родители Амарасили забрали ее домой, и это положило конец их встречам. На помощь страдающим влюбленным пришел Викрама со своими друзьями. Они сочинили Амарасили письмо, в котором говорилось, что ей срочно нужно явиться в университет, и, когда Амарасили приехала в Коломбо, в том учреждении, где работал Джаясекара, по специальному разрешению был зарегистрирован их брак. Молодые затем уехали в Бадуллу и провели там две недели.
«Это было неземное блаженство, — рассказывал мне Джаясекара. — Амарасили пошла против воли родителей, чтобы остаться со мной. Мы жили словно во сне. Особенно мне запомнился один день. Мы пошли в парк погулять, и там нас застал дождь. Взявшись за руки, мы побежали по высокой мокрой траве и укрылись под каким-то навесом. Амарасили положила руки мне на плечи. Капельки дождя на ее лице собирались в тонкие струйки. Она счастливо улыбалась, а ее глаза нежно и преданно смотрели на меня».
4
Каждый раз, как Джаясекара вспоминал о своей встрече с Амарасили и о любви, которая пришла к ним, в его сердце вместе с чувством безмерного счастья закрадывались грусть и горечь. Да, невзирая на яростное сопротивление родственников Амарасили, они поженились. Однако родители Амарасили и особенно Лесли по-прежнему относились к Джаясекаре с недоброжелательностью и презрением. «Жалкий поганый писаришка». Эти слова до сих пор отзывались обидой в сердце Джаясекары. Но с другой стороны, Лесли вызывал у него чувство жалости. Каким же надменным, спесивым, пустым и глупым должен быть Лесли, чтобы так оскорбить человека! Да и кто такой этот Лесли? Недоучка, который даже с помощью репетиторов — а на них его отец ухлопал уйму денег — не смог окончить среднюю школу. Ни деньги, ни влияние отца не помогли Лесли найти работу в частном или в государственном секторе. От безделья Лесли повел такую разгульную жизнь, что отец поскорее услал его на самую дальнюю плантацию кокосовых пальм. Его единственная обязанность заключалась в том, чтобы отправлять в Коломбо кокосовые орехи, когда на них повышался спрос. На радостях, что Лесли занялся хоть каким-либо делом, отец подарил ему автомобиль. Лесли почувствовал себя настоящим господином и стал еще больше задирать нос. Джаясекара же считал, что у него есть гораздо больше оснований гордиться. Когда он пришел на работу, то умел печатать только на сингальской машинке. Но затем поступил на политехнические курсы и, занимаясь после работы, освоил английскую стенографию и научился печатать на английской машинке. Пусть он занимает в жизни и не совсем завидное положение, но добился он его своими стараниями и трудом.
После возвращения из Бадуллы они поселились в комнате, которую Джаясекара снимал в пансионе. Заработка Джаясекары им хватало. Поскольку по случаю своего бракосочетания они ограничились скромным обедом в одном ресторанчике и пригласили лишь друзей да некоторых сослуживцев Джаясекары, то в долги они не залезли. К тому же гости надарили им так много вещей, необходимых в домашнем обиходе, что, когда они сняли домик в Раттанапитии — к тому времени Амарасили уже была на четвертом месяце, — им оставалось купить только мебель. Домик, который они сняли, был неважный. Но благодаря стараниям Амарасили через неделю после переезда обе комнаты их нового жилища сверкали чистотой и выглядели очень уютными. Приведя в порядок дом, Амарасили принялась шить приданое для первенца.
По мере приближения родов Амарасили стала жаловаться на плохое самочувствие. Джаясекара несколько раз возил ее к врачу, но тот не нашел в ее состоянии ничего необычного. Джаясекара привез из деревни свою мать, чтобы она взяла на себя хлопоты по дому.
Наступил праздник весак. Джаясекара и Амарасили сходили в храм, возложили цветы, зажгли лампады и возвратились домой. Вокруг царила тишина. В небе величественно плыла полная луна. Джаясекара приладил между двумя пальмами бамбуковый шест и повесил на него несколько восьмиугольных фонариков, обтянутых розовой бумагой. Эти фонарики они мастерили втроем. На оба столба забора он положил доску, а его мать и Амарасили расставили на ней плошки. После того как зажгли фонарики и плошки, они втроем уселись на ступеньках крыльца. Амарасили сидела рядом с Джаясекарой, и ее рука покоилась между его ладонями. Вдруг Амарасили пожаловалась на недомогание и вошла в дом, чтобы прилечь и немного отдохнуть. Мать Джаясекары быстро приготовила отвар из плодов бэвиля и чеснока.
— Я думаю, что Амарасили лучше отвезти в больницу, — шепнула она сыну, отозвав его в сторонку.
Джаясекара пулей выскочил из дома и минут через пятнадцать вернулся на такси. Тем временем мать Джаясекары приготовила все, что могло понадобиться Амарасили в больнице. Амарасили уже не жаловалась на недомогание, а корчилась от боли. И все же до такси решила дойти сама. Когда Амарасили, поддерживаемая Джаясекарой, спустилась во двор, она остановилась и некоторое время молча смотрела на дом, а потом заплакала, словно прощалась с чем-то очень дорогим ее сердцу. А затем повернулась и, опираясь на руку мужа, побрела к такси.
Джаясекара и его мать отвезли Амарасили в родильный дом «Да Зойса». По дороге Джаясекара нещадно корил себя за то, что вырвал Амарасили из привычной среды и стал причиной ее разрыва с родителями, особенно с матерью, которую Амарасили очень любила. И будь ее мать рядом, насколько бы спокойнее и легче было сейчас Амарасили! К тому времени, когда они приехали в родильный дом, боли утихли. Старшая сестра, которая приняла Амарасили, сказала, что, прежде чем начнутся роды, еще пройдет немало времени, и велела Джаясекаре идти домой, а его матери разрешила остаться. Но Амарасили, схватив Джаясекару за руки, умоляла старшую сестру разрешить остаться и ему.
— Пожалуйста, успокойтесь, — мягко уговаривала ее сестра. — У нас есть кому о вас позаботиться — здесь и врачи, и медсестры. Для страхов нет никаких оснований. Все будет хорошо. А ваш муж утром вернется.
Кое-как утешив Амарасили, Джаясекара вышел из родильного дома, сел на автобус и поехал домой. Войдя во двор, он увидел, что некоторые фонарики и плошки погасли, и Джаясекара в его тревожном состоянии счел это за дурной признак. Он вошел в дом. Там было пусто и тихо. Он походил из угла в угол, а потом присел на кровать, где валялись вещи Амарасили — следы спешки, с которой его мать собирала все нужное для невестки. Оставаться одному в доме было выше его сил — чувство тревоги и беспокойства за Амарасили вновь погнало его в родильный дом.
Когда Джаясекара выходил из переулка на улицу, ему повстречался господин Сатарасинхе. Господин Сатарасинхе читал лекции в педагогическом колледже. Его постоянно обуревали различные проблемы, и своими мыслями он делился с первым встречным, независимо от того, хотели его слушать или нет. Господин Сатарасинхе отличался резкостью и независимостью суждений и никогда не боялся высказывать свою точку зрения. Джаясекара испытывал к нему искреннее расположение, и ему всегда было приятно, когда утром по дороге к автобусной остановке он встречался с господином Сатарасинхе. Сейчас господин Сатарасинхе стоял около забора и, поблескивая толстыми стеклами очков, высматривал потенциального собеседника, или, говоря точнее, слушателя.
— Куда это вы на ночь глядя, господин Джаясекара? — В голосе господина Сатарасинхе звучали радостные нотки.
— Амарасили отвезли в родильный дом. Сейчас я иду туда.
— Когда же вы ее отвезли?
— Сегодня вечером.
— С божьей помощью все будет хорошо.
— Мне только показалось, что в последние дни Амарасили часто думала о своей матери и как бы снова переживала свою ссору с ней, — поделился своими сомнениями Джаясекара.
Как-то Джаясекара рассказал господину Сатарасинхе о том, как они с Амарасили поженились, и встретил полное понимание и сочувствие.
— Конечно, очень важно, что у человека на душе. Но если беременность протекала нормально и мать физически здорова, то и роды пройдут нормально.
— Да, это так. — Простые и искренние слова господина Сатарасинхе приободрили Джаясекару.
— Сейчас как раз праздник весак, и если у вас родится сын, ему надо будет дать имя Сиддхартха, — заявил господин Сатарасинхе.
— Разве можем мы, простые миряне, назвать своего ребенка одним из имен Будды?
— Кто это вам сказал, что Сиддхартха имя Будды? Имя Будды — Гаутама. «Сиддхартхой» называли тех, кто стремился быть похожим на Будду. Это наши буддистские монахи все напутали. Правильное объяснение дал Мартин Викрамасинхе. А они теперь на него нападают. — Господин Сатарасинхе нашел подходящую для себя тему и постепенно входил в раж. Джаясекара поспешил остановить его, пока это еще было возможно:
— Меня в родильном доме ждет мать. Она забыла дома одну вещь, и я должен ее привезти.
Господин Сатарасинхе, который не успел высказать и десятой части своих мыслей по затронутому вопросу, схватил Джаясекару за рукав, пытаясь удержать его силой, но, вспомнив, какая причина заставила Джаясекару выйти из дома в столь поздний час, со вздохом отпустил его.
В родильном доме Джаясекаре удалось через привратника послать записку своей матери, и она вышла к воротам.
— Пока ничего. Врач осмотрел Амарасили и сказал, что поскольку это первый ребенок, то роды могут затянуться.
— Мама, я буду здесь, а ты время от времени выходи ко мне и говори, как там у вас дела.
— Шел бы ты лучше домой и ложился спать.
— Домой я не пойду, а приду сюда снова в двенадцать часов. Скажи Амарасили, что я здесь.
Мать ушла, и Джаясекара некоторое время походил перед воротами. Башенные часы на улице Кинси пробили одиннадцать. Чтобы скоротать время, Джаясекара решил сходить к Борэлле. Там царило веселье. Улицы были запружены людьми, и автомобили, гудя клаксонами, медленно пробирались через толпу. Магазины и маленькие лавочки были украшены гирляндами лампочек.
Проходя мимо какой-то ярко освещенной витрины, Джаясекара рассеянно заглянул в нее и отпрянул. За стеклом стоял гроб, а в нем лежал восковой мертвец. Это был магазин фирмы похоронных принадлежностей. Над входом яркими лампочками сверкала вывеска с названием фирмы. До какой же степени нравственного уродства и духовной опустошенности нужно было дойти, чтобы в праздничный день рекламировать свои товар! И почему муниципалитет допускает это? И не только это. Джаясекара слышал, что в больницах всегда толкутся комиссионеры, которые вынюхивают, кто из больных находится в безнадежном состоянии, и когда те умирают, то скорее тянут родственников в магазин похоронных принадлежностей, нисколько не считаясь ни с этическими соображениями, ни с чувствами убитых горем людей. Конечно, человек, вкусивший прелестей безработицы, соглашается на любую работу, но куда смотрят чиновники муниципалитета? Внезапно Джаясекару иглой пронзила мысль, что он не случайно оказался около такого магазина, и дурные предчувствия захлестнули его. Наверняка с Амарасили не все благополучно! Надо, чтобы ее осмотрел главный врач! Он бросился в сторону Мараданы, забежал в какое-то кафе, нашел в телефонном справочнике домашний телефон главного врача и набрал номер. Служанка сказала, что главный врач уже спит. Джаясекара заявил, что у него срочное дело, и попросил его разбудить. Минут через пять в трубке послышался недовольный голос:
— Кто это говорит?
— Муж одной пациентки в вашем родильном доме, Амарасили Джаясекара. Она, по-видимому, в очень тяжелом состоянии…
— Если бы кто-нибудь в моем родильном доме был в тяжелом состоянии, мне бы уже давно позвонила старшая сестра. — В трубке раздались частые гудки.
Джаясекара повесил трубку, расплатился и вышел на улицу. Взглянув на часы — было уже около полуночи, — он быстро зашагал в сторону родильного дома. В двадцать минут первого он был у ворот. Мать его уже поджидала.
— Сынок, это ты звонил главному врачу? Зачем ты это сделал? Совсем недавно главный врач позвонил дежурному врачу той палаты, где лежит Амарасили, и спросил, в каком она состоянии. А когда узнал, что все в порядке, сказал, что ты его зря вытащил из постели. Дежурный врач сильно бранился.
— А как себя чувствует Амарасили?
— Снова начались схватки. К утру должна родить.
Джаясекара теперь сам стыдился своего опрометчивого поступка. Побеспокоил главного врача. А зачем? Нельзя так легко поддаваться внезапно возникающим настроениям. Но с другой стороны, человек — не компьютер. Он может действовать — и часто действует — под влиянием эмоций. Джаясекаре вспомнился разговор о человеческой природе и человечности, который как-то завел господин Сатарасинхе: «Человечность можно сохранить только в условиях гуманной по своей сути социальной системы. Существующая же у нас система плодит эгоистов. У нас каждый так и стремится оттолкнуть другого. Короче говоря, либо ты топчи другого, либо другой затопчет тебя». Джаясекара тогда недоумевал: «Почему в этом обществе нельзя сохранить человечность и жить по законам человеколюбия?»
В пять часов утра к воротам подбежала мать Джаясекары: Амарасили родила сына. В это время Джаясекара в изнеможении от постоянного хождения взад-вперед дремал, прислонившись к воротам. Привратник, с которым Джаясекара уже успел подружиться, сразу же разрешил молодому отцу пройти в родильный дом.
Амарасили, измученная, но счастливая, лежала на кровати. Джаясекара осторожно погладил ее по руке.
— У нас с тобой появился такой крикун, — прошептала она.
Когда подошло время родов, Амарасили написала своей тете, что ожидает ребенка. Родителям она не писала с того дня, как вышла замуж за Джаясекару. Они послали ее родителям телеграмму, но ответа не получили. И все-таки Амарасили была уверена, что такую важную новость тетя обязательно передаст матери. Теперь же она попросила Джаясекару отправить еще одну телеграмму: «Родила сына. Родильный дом «Да Зойса». Амарасили».
На следующий день в родильный дом приехали мать и тетя Амарасили. Амарасили уже сидела на кровати. Мать и дочь обняли друг друга и обе всплакнули.
— Здравствуй, моя дорогая беглянка…
— Я знала, что ты обязательно приедешь, мамочка…
Амарасили познакомила свою мать с матерью Джаясекары. Мать Амарасили склонилась над кроваткой, в которой посапывал новорожденный, и не удержалась от банального замечания:
— А он вылитый дедушка… — И добавила оглядываясь: — А где же твой муж?
Джаясекара, как только мать и тетя Амарасили появились в палате, отошел в сторонку. Амарасили бросила на него умоляющий взгляд — а вдруг Джаясекара, помня о тех обидах и даже унижениях, которые ему пришлось испытать, не захочет и разговаривать с ее матерью?
— Сын мой, — мать Амарасили сама подошла к Джаясекаре, — если мы были несправедливы к тебе, то забудь об этом. Я уверена, что теперь все будет по-другому.
Джаясекара сложил ладони в почтительном приветствии и склонился перед матерью Амарасили. Для Амарасили это был безмерно радостный день — рождение сына проложило дорогу к примирению с родителями, ссора с которыми тяжелым камнем лежала на ее душе.
Перед уходом мать Амарасили — оставалась она сравнительно недолго, молодую мать утомлять было нельзя, — безапелляционно заявила:
— В самое ближайшее время, дети мои, вы должны приехать к нам и погостить у нас не меньше месяца.
— Ну что ты скажешь? Съездим? — спросила Амарасили, когда ее мать скрылась за дверью.
— Не хочу я ехать. А ты, если хочешь, поезжай. — Ответ Джаясекары прозвучал довольно резко.
— Ну как знаешь, — обиделась Амарасили.
— Мы еще успеем поговорить об этом. — Джаясекара старался говорить как можно мягче — ему было неприятно, что он не сдержался, но мысль о возможной встрече с Лесли вывела его из себя. — Завтра я заберу тебя отсюда. К нам придут друзья, отметим твое возвращение домой. И еще две недели, пожалуйста, не думай ни о каких поездках — тебе нужно отдохнуть и набраться сил.
Через неделю от матери Амарасили пришло письмо, в котором она вновь приглашала их приехать. Однако Джаясекара настоял, чтобы сначала родители Амарасили приехали к ним. Через три дня после того, как было отправлено письмо с приглашением, родители Амарасили вместе с Лесли приехали к своей дочери и зятю. Все прошло очень хорошо, но Джаясекара и Лесли избегали не только разговаривать друг с другом, но и друг на друга смотреть.
5
Джаясекара раскрыл папку с бумагами, которые ему предстояло перепечатать, но не сразу принялся за работу, а долго сидел за столом, глядя перед собой, и думал о прошлом.
После того как Амарасили родила сына, родители стали относиться к Джаясекаре вполне терпимо. Однако Лесли по-прежнему держал себя надменно, считая, что человек, у которого и гроша за душой нет, неподходящая пара для его сестры. Что и говорить: не только Лесли, но и многие-многие другие определяют ценность человека по тому, какой собственностью он обладает и какое положение занимает. Участок земли, собственный дом, автомобиль — все это стало мерилом ценности и достоинства человека. И под воздействием этой господствующей в обществе точки зрения Джаясекара решил предпринять попытку подняться по служебной и социальной лестнице. К этому его подталкивало еще одно соображение. Сама Амарасили, ее родственники и большинство друзей принадлежали к более высокому социальному слою, чем он. Сейчас это не имело для нее никакого значения. Но пройдут годы, и многое может измениться. Единственным доступным путем для достижения поставленной цели было заочно закончить университет, предварительно закончив подготовительные курсы. Когда он спросил у господина Сатарасинхе, при каком колледже подготовительные курсы лучше, тот с присущей ему непосредственностью ответил:
— Все заочные курсы — сплошное надувательство.
— Но ведь многие люди заканчивают их, — пролепетал Джаясекара.
— Вот именно, заканчивают. А получают ли они нужные знания? Ничего подобного. Ни в школах, ни в колледжах, ни в университетах настоящих знаний не дают. Почему у нас все газеты заполнены объявлениями, в которых преподаватели предлагают свои услуги? Да потому, что наша система образования насквозь прогнила и не дает нужной подготовки! — Кризис системы образовании был одной из любимых тем господина Сатарасинхе. — Образование превратилось у нас в бизнес. Все стремятся заграбастать побольше денег, а до того, чему учить и как учить, никакого дела нет.
В конце концов господин Сатарасинхе несколько смягчился и назвал колледж, где, по его мнению, дела обстояли не так уж плохо. Однако его совет для Джаясекары практического значения не имел: с рождением ребенка свободного времени поубавилось, а расходы увеличились, и от мысли о получении высшего образования пришлось отказаться.
— Ты что с самого утра уставился в одну точку и сидишь словно каменное изваяние? — Вирасинхе, который сидел рядом с Джаясекарой, проходя к своему месту, хлопнул его по спине. — А я сегодня едва не опоздал, — продолжал Вирасинхе, усаживаясь за стол. — Расписался в книге прихода за несколько секунд до того, как палач схватил ее и провел красную черту.
Мелкие служащие называли «палачом» господина Дабарэ, который ведал вопросами дисциплины. У него вот-вот должен был наступить пенсионный возраст, и, чтобы доказать начальству, как хорошо он справляется со своими обязанностями, господин Дабарэ проявлял чудеса служебного рвения, и плохо было тому чиновнику, который опаздывал хоть на полминуты.
— Я-то сегодня рано пришел.
— А слыхал новость? Сегодня утром в аэропорту Катунаяка разбился самолет. Около двухсот человек погибло.
— Вот несчастье-то! И в газетах уже было?
— Нет, в газетах об этом пока ни слова. Утром по радио передали.
— А чей самолет?
— Я прослушал. На нем из Мекки в Индонезию возвращалась группа паломников.
— Опять катастрофа. Ведь два года назад у нас тоже разбился чей-то самолет. А причина катастрофы?
— Наверняка диспетчеры во время ночного дежурства поддали да чего-нибудь напутали, а вину свалят на экипаж самолета. Благо никого из них и в живых-то нету.
Разговор с Вирасинхе направил мысли Джаясекары в другое русло. В словах Вирасинхе, несомненно, была доля истины. В каждом государственном учреждении царили некомпетентность и кумовство. Да и как можно требовать от служащих хорошей работы, когда выплачиваемой зарплаты часто не хватает на то, чтобы свести концы с концами! Когда городской транспорт работает из рук вон плохо! Повсюду взяточничество, злоупотребления, политические интриги! По служебной лестнице продвигаются только пройдохи да те, кто имеет большие связи. А как тяжело человеку без знакомств и покровителей получить работу! Амарасили так никуда и не устроилась после окончания университета. Да и многие ее однокурсники до сих пор безуспешно обивают пороги различных учреждений. Иногда Джаясекара думал, стоит ли сожалеть, что его мечтам о высшем образовании, по-видимому, сбыться не суждено, когда столько людей с университетскими дипломами ходят без работы.
Первый удар по планам Джаясекары получить университетское образование нанесла смерть отца. Джаясекара учился тогда в восьмом классе колледжа «Такшила» в Хоране. В колледже он получил возможность учиться после того, как в пятом классе успешно сдал экзамены, дающие ему право на получение стипендии. Однажды прямо во время урока в класс пришел сторож колледжа и сказал, что Джаясекару хочет видеть его дядя. Преподаватель разрешил Джаясекаре выйти из класса, и он побежал к воротам. Он-то думал, что дядя пришел попросить его помочь по хозяйству — так уже бывало не раз. Когда же Джаясекара увидел осунувшееся лицо дяди, его охватило смутное беспокойство.
— Занятия еще не окончились?
— Нет.
— А сегодня какая-нибудь контрольная будет?
— А в чем дело, дядя? Тебе нужно помочь? — Джаясекара недоумевал, почему дядя говорит как-то непонятно и задает бессмысленные вопросы.
Тут дядя оглянулся по сторонам и положил руку на плечо Джаясекаре:
— Ты только, пожалуйста, не волнуйся. Твоему отцу стало худо прямо в поле. Вэда натер его маслом, но ему не полегчало, и мы отвезли его в больницу в Панадуру.
— А что, отцу очень плохо? — с тревогой спросил Джаясекара.
Дядя немного помялся, а потом ответил:
— Плохо. Надо сейчас же ехать в больницу.
Пока автобус тащился из Хораны в Панадуру, Джаясекара то и дело норовил выскочить из него и бежать в Панадуру бегом — ему казалось, что так будет быстрее. Когда Джаясекара влетел в больницу, мать и сестры, сидевшие в коридоре, с рыданиями бросились к нему. Джаясекара все понял без слов, и мир вокруг подернулся черной пеленой.
И еще долгое время после того, как тело отца было предано земле, Джаясекара жил словно в тумане, не в силах примириться с постигшей его утратой. Почти все в доме — и веревочная кровать, на которую отец ложился после трудового дня, и нехитрые орудия крестьянского труда — напоминало Джаясекаре об отце. Часто на его глаза навертывались слезы, и тогда он уходил куда-нибудь подальше, чтобы скрыть их от матери и сестер.
После смерти отца Джаясекара хотел бросить учебу, но этому решительно воспротивилась мать: ведь отец всегда мечтал, что его сын по крайней мере окончит колледж. Об университете теперь не могло быть и речи, но колледж нужно было закончить обязательно. И не только из уважения к памяти отца, но чтобы найти хоть какую-нибудь работу, так как участок земли, который у них был, в будущем никак их всех не прокормит. Из этих же соображений было решено, что и старшая сестра должна учиться дальше, а дом и земельный участок следует оставить младшей сестре. Как только Джаясекара окончил колледж и устроился на работу, он принялся помогать старшей сестре, которой удалось закончить университет в Перадении. Закончить-то университет она закончила, а вот работы долгое время найти не могла. Однажды какой-то человек, близко знакомый с депутатом парламента от их округа, предложил за пятьсот рупий устроить сестру на работу. Однако Джаясекару это возмутило. «Если наши политики потеряли и честь, и совесть, то хоть мы, простые люди, в их плутнях участвовать не будем», — твердо заявил Джаясекара и заставил домашних со своим мнением считаться.
Старшая сестра только через два года устроилась на работу в банке, вскоре после этого вышла замуж за работавшего там же клерка и через полгода вместе с мужем переехала в Тринкомали. По-видимому, она затаила-таки обиду на Джаясекару: писала ему крайне редко и после переезда в Тринкомали впервые встретилась с ним только на похоронах матери. Тогда они с мужем приехали в деревню на новеньком мотоцикле «судзуки», и сестра сунула Джаясекаре, который оплатил все расходы по похоронам, только триста рупий, посетовав на тяжелые времена и безденежье.
Младшая сестра продолжала жить в деревне. Она вышла замуж за простого крестьянского парня и вместе с ним вела нелегкую борьбу за существование. Тяжелый крестьянский труд преждевременно состарил ее, но она по-прежнему была доброй и приветливой и жила счастливо со своим мужем Пиядасой. Впрочем, Джаясекаре иногда казалось, что она умело делала вид, будто довольна своей судьбой.
Старшая сестра Джаясекары в конце концов нашла работу. А сколько университетских друзей Амарасили остались безработными! Как по-разному складываются их судьбы! Как-то к ним зашли Джинадаса и Сирисена. В студенческие годы они вместе со своим товарищем Джаясири организовали марксистско-ленинский дискуссионный кружок. Амарасили часто приходила на его заседания. Ей нравились та убежденность, искренность и последовательность, с какими рассматривались самые различные явления общественной жизни — литература, борьба профсоюзов, международные проблемы. Однако Амарасили происходила из сравнительно состоятельной семьи и поэтому имела смутное представление о тех проблемах, которые волнуют простых людей, и многое из того, что вызывало жаркие споры, было ей просто непонятно.
После окончания университета, как рассказали Джинадаса и Сирисена, Джаясири быстро распрощался со своими студенческими увлечениями. Он получил должность клерка в Ратнапуре и начал помимо всего прочего спекулировать драгоценными камнями. Через некоторое время он стал обладателем вполне приличного состояния, вступил в одну буржуазную партию и активно участвовал на ее стороне в предвыборной кампании. Теперь он был секретарем одного из министров.
— То, что такой слизняк, как Джаясири, переметнулся в другой лагерь, ровным счетом ни о чем не говорит, — сказал в заключение Джинадаса. — Положение в развитых капиталистических странах убедительно свидетельствует и том, что капитализм не в состоянии обеспечить сносные условия жизни для трудящихся. Постоянно растет число безработных. Реальная заработная плата падает. Все большее число крестьян разоряется. Но наступит день, когда трудящиеся, объединившись, прогонят эксплуататоров и наладят новую жизнь. А что Джаясири? Вначале он соблазнился деньгами, и ему удалось их заработать. Потом ему потребовалась власть, чтобы защищать добытое. Узкие, эгоистические соображения скрыли от него неумолимый ход истории и вытравили прежние убеждения.
Амарасили тут же отметила про себя, что Джаясири занимает сейчас значительное положение. Если обратиться к нему с просьбой помочь получить работу, то он наверняка поможет, тем более что в студенческие годы она ему нравилась и он пытался даже ухаживать за ней. Однако когда она поделилась своими мыслями с Джаясекарой, то вначале поддержки у него не нашла.
— До сих пор мы жили на мой заработок, проживем как-нибудь и дальше, — возразил Джаясекара. Ему было неприятно просить об одолжении такого человека, как Джаясири.
— Прожить-то проживем. Но ты ведь сам видишь, как трудно нам приходится, — принялась мягко уговаривать мужа Амарасили. — Денег хватает только на еду. Мне тебя жалко. Забросил учебу и вечно мечешься в поисках дополнительного заработка.
Вначале Джаясекара никак не поддавался на ее уговоры, но в конце концов сдался и даже согласился пойти вместе с Амарасили, когда та, позвонив Джаясири, договорилась с ним о встрече. Когда Джаясекара вместе с Амарасили переступил порог приемной министра, им овладели робость и смущение — никогда прежде ему не приходилось видеть ничего подобного. Пол был покрыт роскошными толстыми коврами. Перед дверью, ведущей в кабинет министра, застыли двое полицейских. Чиновники и посетители были одеты так, словно собрались на праздник, и Джаясекаре стало стыдно за свой более чем скромный костюм. Он украдкой взглянул на Амарасили — у нее тоже был смущенный и растерянный вид. Перед ними вырос чиновник, ведавший приемом посетителей. Джаясекара объяснил ему цель их прихода. Чиновник тут же позвонил Джаясири, а затем, проводив их к кабинету, распахнул дверь и пригласил войти. Джаясири говорил по телефону. Он небрежно кивнул Джаясекаре и Амарасили и махнул рукой в сторону стоявших у стола стульев. Джаясекара и Амарасили сели напротив друг друга, а Джаясири все говорил и говорил по телефону. Он сидел вполоборота к столу, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку вращающеюся кресла так, что его лицо было обращено к потолку. Положив трубку, он, не обращая внимания на посетителей, нажал на кнопку электрического звонка. Затем передал проскользнувшей в кабинет секретарше какую-то папку со словами:
— Немедленно отнесите министру.
И лишь после этого повернулся к Джаясекаре и Амарасили и, изобразив на своем лице приветливую улыбку, осведомился:
— Ну, так чем я могу быть вам полезен?
Однако прежде, чем Амарасили успела что-нибудь сказать, зазвонил телефон.
— Ни минуты покоя, — пожаловался Джаясири и, притворно вздохнув, снял трубку. — Конечно, я уже доложил министру, — принялся он уверять невидимого собеседника. — Если я обещал, можете не сомневаться — все будет сделано. Безусловно. Безусловно.
Когда наконец Амарасили изложила свою просьбу, Джаясири важно кивнул головой и сказал:
— Для меня это не составит никакого труда. Только вам нужно будет повидать министра — он сам принимает решения по таким вопросам. Сначала я зайду к нему один, а уж потом мы пойдем все вместе.
Джаясири вышел, и примерно через пятнадцать минут пришла секретарша и пригласила Джаясекару и Амарасили пройти в кабинет министра. Министр окинул Амарасили оценивающим взглядом и принялся расспрашивать ее о том, какое учебное заведение она окончила, по каким предметам специализировалась, где живет.
— А партийную карточку вы принесли? — закончил министр свои расспросы.
Джаясекара догадался, что речь идет об удостоверении члена партии, к которой принадлежал сам министр.
— Какую карточку? — в недоумении спросила Амарасили — смысл последнего вопроса министра до нее не дошел.
— Джаясири, эти люди помогали нашей партии на выборах? — Вопрос министра прозвучал очень сурово.
— Думаю, что да. — Джаясири смутился и начал усиленно подмигивать Джаясекаре.
— Надо не думать, а знать наверняка, — отрезал министр. — Вам придется принести письмо с рекомендацией от депутата, которым избран в парламент от вашего округа, — продолжал он, обращаясь к Амарасили.
— Депутат вряд ли даст мне такое письмо, — упавшим голосом сказала Амарасили.
— Что же он, не знает людей, которые нам помогают?
— Ни я, ни моя жена ничем не помогали вашему депутату на выборах, — вступил в разговор Джаясекара. — И без рекомендации депутата ясно, что у моей жены есть все основания, чтобы получить работу.
— Ах так! Уж не думаете ли вы, что мы отблагодарили всех своих сторонников и теперь устраиваем на работу кого ни попадя? — Голос министра был полон сарказма. — И потом, — продолжал он, — в первую очередь мы должны предоставлять работу незамужним, а вы замужем, и вас должен обеспечивать муж, — закончил министр, бросив иронический взгляд в сторону Джаясекары.
— Сар, может быть, у вас все же есть возможность предоставить мне работу, — со слезами в голосе попросила Амарасили. — Это нам очень бы помогло.
— Я предоставляю работу только тем, кто приносит письма от депутатов. — И министр углубился в какие-то бумаги на столе, давая понять, что разговор окончен.
Джаясири торопливо распрощался с ними у дверей кабинета министра.
— У меня есть одно срочное дело, — пояснил он.
— Неужели нельзя было сказать, что мы голосовали за депутата от партии министра? — упрекнула мужа Амарасили, когда они вышли на улицу.
— Незачем унижаться и говорить, чего не было, — возразил Джаясекара. — Честное правительство предоставляет работу всем, а не делает это в виде одолжения только для тех, кто его поддерживает.
— Теперь уж мне работы не получить, — вздохнула Амарасили.
— Ничего страшного. Может, оно даже к лучшему. Если бы ты пошла работать, то пришлось бы искать няню для сына. А кто будет заботиться о ребенке лучше, чем мать? А я худо-бедно смогу вас обеспечить. У меня почти все время есть сверхурочная работа. Да еще беру работу у Ратнаяки. В удачные месяцы до трехсот рупий зарабатываю. А ты ведь у меня экономная хозяюшка, так что продержимся. — Джаясекара ласково сжал руку Амарасили.
Вспомнилась Джаясекаре и поездка на похороны отца Чандрасены. Джаясекара учился в колледже вместе с Чандрасеной начиная с шестого класса. В те годы они были неразлучными друзьями, принявшими в свою компанию Тилакавардхану. Однако Тилакавардхана происходил из зажиточной семьи, и Джаясекара и Чандрасена всегда помнили об этом, тем более что сам Тилакавардхана сохранял известную дистанцию. Несмотря ни на что, много времени они проводили вместе, и не только в колледже, но и во время каникул. Поэтому, когда у Чандрасены скончался отец, Джаясекара сразу же позвонил Тилакавардхане с тайной надеждой, что тот подвезет его на своей машине.
— К сожалению, я поехать не смогу, — сказал Тилакавардхана. — У меня завтра лекция, и ее никак нельзя отменить.
— Ну а я собираюсь выехать сегодня же.
— Это же за Матарой. Как ты туда доберешься?
— На автобусе.
— А стоит ли ехать? Вполне достаточно послать телеграмму.
— Я обязательно поеду. — Равнодушие Тилакавардханы неприятно поразило Джаясекару.
Однако, когда в тот день Джаясекара возвратился домой, отправляться в такой далекий путь было уже поздно, тем более что ехать надо было с пересадкой на двух автобусах, и он отложил поездку на завтра.
6
На следующий день утром Джаясекара выехал в Матару на автобусе, который отправился из Питакотувы в половине шестого. Час был ранний, пассажиров было мало, к Джаясекара без труда нашел себе место у окна справа по ходу автобуса. Автобус быстро промчался по пустынным улицам мимо еще закрытых магазинов и выехал из города. Когда водитель остановился около дерева бо недалеко от Калутары и кондуктор, собрав с пассажиров деньги для подношения, поспешил к дереву бо — опустить их в стоявший там специально для этой цели ящичек, — Джаясекара тоже вышел из автобуса. Вокруг царила тишина. Воздух был напоен ароматом цветов. Джаясекара почувствовал необыкновенное умиротворение и спокойствие, и, если бы не дела, он простоял бы на обочине дороги бесконечно долго.
Миновав Калутару, автобус понесся по дороге вдоль берега океана. Огромные волны величественно набегали на берег, распластывались на песке тонкой пленкой. У скалистых берегов в воздух взлетали фонтаны серебряных брызг. Величественное зрелище безбрежного океана настолько захватило Джаясекару, что он, забыв о позвавшем его в дорогу печальном событии, невольно порадовался тому, что эта поездка нарушила монотонное однообразие его жизни. После рождения сына с деньгами было так туго, что только один раз Джаясекаре удалось вместе с женой и сыном съездить в Анурадхапуру. Зато поездку он запомнил навсегда. В Анурадхапуре они остановились в скромной гостинице «Дутугэмуну» и, как положено, прежде всего пошли к Шри маха бодхия, посетили парк «Махамэвна», дагобу «Руванмэлисэя», Исурумунию и другие святые места. А потом отправились на берег озера и долго сидели там в тени деревьев. Сын играл на коленях у Джаясекары и терся щекой о шершавый подбородок отца, а Джаясекара и Амарасили вспоминали то искрящееся радостью и счастьем время, когда они, только что поженившись, ездили в Бадуллу.
— Наверно, знай ты тогда, что нам придется жить в таком жалком домишке и считать каждый грош, не вышла бы за меня замуж, — сказал Джаясекара, подумав об их нынешнем незавидном положении.
Во взгляде, который Амарасили бросила на мужа, сквозил не только горький упрек, заставивший Джаясекару пожалеть о сказанном, но и бесконечная нежность.
— Дурачок ты мой дорогой! Сколько мы уже с тобой прожили, а ты меня совсем не знаешь. — И Амарасили спрятала лицо на плече у Джаясекары.
Когда автобус прибыл в Матару, было около одиннадцати часов. Джаясекара быстро разыскал автобус, идущий в Вэвахамандуву. Наверно, Чандрасена уже решил, что Джаясекара не приедет. После окончания колледжа Чандрасена сдавал вступительные экзамены в университет, но не прошел и поступил на работу в Народный банк. Затем закончил курсы для банковских служащих и, хотя начал свою трудовую деятельность на два года позже Джаясекары, был уже заместителем управляющего отделением банка в Тангалле. Чандрасена долго служил в отдаленных районах, и виделись они редко, но Джаясекара до сих пор считал его своим лучшим другом. Когда во время каникул Чандрасена приезжал навестить свою тетушку в Хоране, он неизменно появлялся в Говинне, чтобы встретиться с Джаясекарой. Однако Джаясекара только один раз был в доме у Чандрасены — мать не хотела отпускать его одного в столь дальнюю, по ее понятиям, поездку, да и билет туда и обратно по их деньгам был дороговат. В тот единственный раз Джаясекара провел в доме у Чандрасены два дня, и ему очень понравился отец Чандрасены — пожилой, но еще крепкий мужчина, весельчак и балагур.
Когда Джаясекара с остановки, где он прямо на ходу выпрыгнул из автобуса, прибежал в дом Чандрасены, его уже никто не ждал. Чандрасена обнял друга со слезами на глазах. Джаясекара, отдав дань уважения усопшему, совершил все положенные обряды, а затем принялся помогать родственникам в их невеселых хлопотах. Сразу же после похорон он собирался отправиться в обратный путь, но уйти так рано у него не хватило духу, и вместе с близкими друзьями и родственниками он вернулся с кладбища в дом Чандрасены. После того как все, кроме домашних, разошлись, Чандрасена позвал Джаясекару в лавку — его отец занимался торговлей, — вытащил припрятанную там бутылку арака, наполнил стаканы и, залпом осушив свой, принялся изливать душу. Джаясекара сидел как на иголках. Если он вернется поздно, Амарасили будет волноваться. Да и у сына вчера вечером поднялась температура… Но сказать Чандрасене, что ему пора домой, он все не решался. Только когда в половине седьмого все домашние сели за стол, чтобы помянуть умершего, Джаясекара, посидев из приличия несколько минут, сказал, что его сыну нездоровится и ему пора ехать.
— Что же ты раньше не сказал? — засуетился Чандрасена. — И бы не держал тебя так долго. И как ты теперь доберешься до дома? Ведь уже около семи.
— Мне только попасть в Матару, а оттуда добраться до Коломбо не проблема.
— Автобус в Матару идет в семь тридцать. Хотя нет, лучше я отвезу тебя туда на мотоцикле.
Несмотря на плохую дорогу, Чандрасена погнал свой видавший виды мотоцикл с такой скоростью, что всю дорогу до Матары Джаясекара сидел, судорожно вцепившись в ручку седла, опасаясь, как бы на каком-нибудь повороте или колдобине не вылететь пулей из седла и не разбиться в лепешку. До отправления автобуса, следующего в Коломбо, оставалось еще много времени, и Джаясекара вскочил в автобус, который вот-вот должен был отправиться в Галле — оттуда часто шли автобусы-экспрессы до Коломбо. В половине девятого он приехал в Галле. Ближайший автобус отправлялся в Коломбо только через сорок пять минут. Рядом с автобусной остановкой стояло такси, и какой-то мальчик зазывал пассажиров: «Кому до Коломбо? Кому до Коломбо?» На заднем сиденье уже расположились два пассажира, заняв крайние места. Когда Джаясекара направился к такси, его обогнал какой-то мужчина в европейском костюме и со словами: «Ну что ж, поедем» — занял свободное место рядом с шофером. Джаясекара забрался на заднее сиденье. Мальчик, зазывавший пассажиров, побежал в находящуюся рядом чайную и привел таксиста — здоровенного детину с прыщеватым лицом. Шофер сунул мальчику монету, протиснулся на свое место за рулем, и такси помчалось по улицам Галле. Вскоре перестали мелькать уличные фонари, неровный свет которых время от времени проникал внутрь машины, — такси выехало за пределы города. Спутники Джаясекары молчали. Пассажир, сидевший на переднем сиденье, достал пачку сигарет, закурил сам и угостил шофера. Джаясекару стали одолевать сомнения: разумно ли он поступил, сев в такое позднее время в такси с незнакомыми людьми? Не окажутся ли они жуликами и не попытаются ли его ограбить? А когда убедятся, что взять у него нечего, не сорвут ли на нем свою злобу? Но, вспомнив, что передний пассажир производил впечатление вполне порядочного человека, и увидев, что молодые люди, сидевшие по обе стороны от него, задремали, он успокоился.
Когда приехали в Коломбо, Джаясекара попросил высадить его в Тимбиригасйая и оттуда автобусом доехал до Раттанапитии. Уже наступила полночь, и с автобусной остановки Джаясекара бежал во весь дух.
Амарасили встретила его на веранде.
— Что ты так поздно? Я уж думала, не случилось ли что?
— Я только в семь часов смог уйти от Чандрасены. А как сын?
— Температура спала. Я давала ему отвар из кориандра.
Джаясекара прошел в комнату, где спал их сын, и коснулся губами его лба.
— Надо все же завтра показать его врачу.
Он быстро умылся и сел к столу.
— Я, пожалуй, немного поем.
Амарасили принялась раскладывать рис по тарелкам. Как бы поздно Джаясекара ни возвращался, она никогда не ужинала без него.
7
Работа в бюро кипела вовсю — трещали пишущие машинки, то и дело звонил телефон. Джаясекара тоже принялся за работу. Его пальцы проворно бегали по клавишам машинки, но мысли были по-прежнему далеко.
Они обязательно получат новую квартиру. Джаясекара вспомнил, что адвокат Ратнаяка возвратится из Лондона в декабре месяце. Он сам написал ему об этом. Рассчитывает, по-видимому, что Джаясекара будет, как и прежде, брать у него работу. Снова у него будет дополнительный заработок. Но весть о предстоящем возвращении обрадовала Джаясекару не только этим. Господин Ратнаяка был консультантом в юридическом отделе жилищного департамента и, кроме того, соседом заместителя комиссара по жилищным вопросам. Возможно, именно поэтому он и получил должность консультанта. Как бы там ни было, если его попросить посодействовать в получении квартиры, он наверняка поможет. Правда, совесть Джаясекары бунтовала, но квартирный вопрос был для него чрезвычайно важен. Да и какой другой путь возможен в обществе, где определяющей силой являются знакомства, связи и взятки? И хотя у Джаясекары, который родился и вырос в деревне, не очень-то лежала душа к «бетонным коробкам», как он называл про себя многоквартирные панельные дома, в его положении привередничать не приходилось. Квартира поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, новостройки значительно ближе и к его работе, и к конторе адвоката Ратнаяки. Значит, на дорогу у него будет уходить меньше времени, и он не только будет меньше уставать, но и сможет дольше выполнять сверхурочную работу. Во-вторых, он сумеет отдать сына, который в марте будущего года достигнет школьного возраста, в хорошую школу. В школы теперь принимают детей, проживающих в том же районе. А какие школы в Раттанапитии! Есть, конечно, возможность устроить ребенка в школу другого района. Но для этого необходимо за год, а еще лучше за два договориться с домовладельцем нужного района и перевести на его адрес свои продовольственные карточки, удостоверение на радиоприемник, почту. А затем, заручившись справками из соответствующих учреждений, попытаться доказать администрации школы, что ты проживаешь именно в этом районе. Но имело ли смысл это делать? Какая уж там учеба, когда ребенку дважды в день приходится ездить в переполненном автобусе! С новой квартирой эта проблема решится сама собой. И в-третьих, за новую квартиру нужно будет меньше платить. А если принять во внимание долги Джаясекары, это было очень важным обстоятельством. Особенно туго стало с деньгами, когда заболел ребенок. Это случилось несколько месяцев тому назад. Вначале сын лежал дома, и его лечил доктор, к услугам которого они обычно прибегали. Болезнь протекала без особых осложнений, но однажды ночью вдруг резко подскочила температура, появился озноб, стало трудно дышать. Амарасили натерла сыну грудь горчичным маслом, и дыхание стало ровнее. Но температура не понизилась, и сына по-прежнему бил озноб.
— Надо скорее везти его в больницу, — глотая слезы, сказала Амарасили.
А в доме оставалось всего две-три рупии — лекарства, которые прописывал врач, были очень дорогими. У Джаясекары подогнулись колени, и он беспомощно плюхнулся на стул. Денег нет. На дворе глубокая ночь. К кому бежать за помощью? Если только разбудить соседей… Но и они такие же бедолаги, и у них вечно не хватает денег. И тут Джаясекара вспомнил о господине Сатарасинхе. Тот обычно допоздна засиживался за книгами, да и наверняка был при деньгах. Когда Джаясекара подбежал к дому господина Сатарасинхе, то увидел, что одно окно освещено — господин Сатарасинхе сидел в кабинете и при свете настольной лампы что-то читал. Услышав шаги во дворе, господин Сатарасинхе отложил книгу и подошел к окну.
— А, господин Джаясекара! Заходите, пожалуйста. — Господин Сатарасинхе махнул рукой в сторону входной двери. В голосе его не было ни удивления, ни тревоги, словно визит в два часа ночи был для него самым обычным делом. Но Джаясекара не стал заходить в дом, а тут же, стоя под окном, рассказал господину Сатарасинхе о беде.
— Сейчас иду, — коротко сказал господин Сатарасинхе.
Он задернул занавеску, погасил свет и через несколько минут появился в дверях дома с каким-то свертком в руках.
— Это пузырь со льдом, — пояснил он, спускаясь по ступенькам. — А вы, господин Джаясекара, бегите к Русирипале, будите его и скажите, чтобы он без промедления подъезжал на такси к вашему дому. — И, наклонившись к Джаясекаре, вполголоса добавил: — О деньгах не беспокойтесь.
Ближе всего была больница «Калубовиля», но по совету господина Сатарасинхе, который поехал с ними, они отвезли сына в детскую больницу «Риджуэй» в Борэлле.
— Нам придется ехать минут на десять-пятнадцать дольше, но зато там есть специалисты по всем детским болезням, — объяснил господин Сатарасинхе.
В больнице врач сказал, что положение сына тяжелое, сразу же распорядился поместить его в палату и принести кислородную подушку. Упрекнув Джаясекару и Амарасили за то, что они поздно привезли ребенка, он написал что-то на клочке бумаги и, передавая его Джаясекаре, сказал:
— Вашему сыну нужно сделать укол, а нужного лекарства в нашей больнице нет. Я вам написал название лекарства. Постарайтесь как можно скорее найти его в какой-нибудь аптеке и привезти сюда.
— Господин Джаясекара, поезжайте на такси к глазной поликлинике и поищите в аптеках в районе площади Юнион, — посоветовал господин Сатарасинхе и вложил в руку Джаясекары сто рупий.
Когда через полчаса Джаясекара вернулся с нужным лекарством, господин Сатарасинхе собрался домой. Со слезами благодарности на глазах Джаясекара обнял господина Сатарасинхе, а Амарасили равнодушно кивнула головой — беспокойство за сына сделало ее совершенно безучастной. Джаясекара проводил господина Сатарасинхе до ворот, где его поджидал в такси Русирипала. Джаясекара протянул ему сорок рупий.
— Что вы, господин Джаясекара, — замахал руками Русирипала. — Это слишком много. Я возьму с вас только за бензин. — И он отсчитал двадцать рупий.
Когда такси отъехало, Джаясекара собрался было вернуться в больницу, но дорогу ему преградил привратник.
— Нельзя, господин. Мне накануне здорово влетело за то, что я пропускаю посетителей во внеурочное время.
Как ни упрашивал привратника Джаясекара, тот был непреклонен. Амарасили, которая осталась в больнице, небось беспокоится, куда это он запропастился. И как там сын? Полегчало ли после укола? Надо любым путем пройти в больницу, узнать о состоянии сына и успокоить Амарасили. В поисках какой-нибудь лазейки Джаясекара повернул за угол и увидел там еще одни ворота. Они были на запоре, но привратник мирно дремал в своей будке. Джаясекара прошел немного дальше, оглянулся вокруг и, убедившись, что никого поблизости нет, перемахнул через забор. У палаты он наткнулся на сестру. Джаясекара скороговоркой, словно спортивный комментатор, рассказывающий о напряженном моменте в ходе соревнований, спросил ее о состоянии сына и о том, где Амарасили. Сестра, понимая, что Джаясекара проник в больницу тайком, торопливо ответила, что после укола сыну стало лучше, что Амарасили сидит около его кровати, и велела уходить побыстрее и возвращаться утром. А что он заходил, Амарасили передаст она.
Джаясекара вышел на улицу через главные ворота, и привратник с удивлением уставился на него. Джаясекара закурил сигарету и пошел к перекрестку. Улица была пустынной. Только на тротуаре спали бездомные. Джаясекаре вспомнилось, как четыре года назад он бродил здесь в таком же смятении и беспокойстве, отправив Амарасили в родильный дом «Да Зойса».
На следующее утро в больнице Джаясекару ожидала радостная новость — состояние сына улучшилось, и доктор ожидал, что дня через два-три дело пойдет на поправку. Но на Амарасили было страшно смотреть — она осунулась и, казалось, постарела за одну ночь на несколько лет. Оказывается, в палате ночью умерли двое детей, и Амарасили была на грани истерики. Когда Джаясекара собрался уходить, она словно клещами вцепилась пальцами ему в руку.
— Но мне же надо на работу, — как можно мягче сказал Джаясекара. — И потом, надо раздобыть где-нибудь денег.
— Мы уже взяли в долг, где только можно. Придется заложить вот это. — Пальцы Амарасили скользнули по золотому ожерелью, украшавшему ее шею. — И надо дать телеграмму маме…
«Это предел», — с отчаянием подумал Джаясекара, но понимал, что это было, по-видимому, единственным выходом.
— Пройдут тяжелые времена, и мы не только выкупим это ожерелье, но купим еще и другие. — Она расстегнула застежку и вложила ожерелье в руку Джаясекары.
Джаясекара направился с ожерельем в Борэллу и, отчаянно поторговавшись около получаса, заложил его у ростовщика, получив двести пятьдесят рупий.
С полуторачасовым опозданием на работе появился Ронио Сильва. Он жил в Минувангоде. А опоздал потому, что из-за авиакатастрофы полиция перекрыла движение на некоторых дорогах. Ронио Сильва громогласно объявил, что своими глазами видел место катастрофы. Вокруг него тут же сгрудились сослуживцы. К группе любопытных присоединился даже проходивший в это время по коридору заместитель начальника, чем поверг в немалое смущение господина Дабарэ: войдя в бюро и увидев, что добрая половина служащих покинула свои рабочие места и, собравшись в кружок, осушает чьи-то разглагольствования, он словно бульдог ринулся в их сторону, но, заметив начальство, тут же изобразил на лице почтительно-угодливую улыбку.
Господин Дабарэ был наушником и злобным и мстительным интриганом. Совсем недавно он жестоко расправился с двумя служащими. Первой его жертвой оказался Сиридиэс. В один прекрасный день господин Дабарэ с высокомерным видом велел Сиридиэсу сбегать в магазин. Сиридиэс отказался. Господин Дабарэ ничего не ответил, а только угрюмо и многозначительно кивнул головой. А через два дня Сиридиэс опоздал после обеденного перерыва. И не только опоздал, но и расписался под красной чертой, проведенной господином Дабарэ. Сиридиэс клялся и божился, что, когда он ставил свою подпись, никакой красной черты не было. Что произошло на самом деле, установить было трудно. То ли Сиридиэс не заметил красной черты, то ли господин Дабарэ — и это было более вероятно, — увидев фамилию Сиридиэса последней в списке, провел над ней красную черту… Как бы там ни было, наказание было непомерно суровым — Сиридиэс из помощника стенографиста стал простым уборщиком. За Сиридиэса попытался заступиться Намасена, в то время исполнявший обязанности секретаря одного из двух профсоюзов, существовавших в управлении. В запальчивости он высказал господину Дабарэ все, что думал о царивших в управлении порядках: чиновники среднего и высшего звена занимаются спекуляцией драгоценными камнями, продажей автомобилей и другими аферами, используя для этого служебное время; начальство же этого не замечает, так как получает щедрые подношения; нередко чиновники, занимающие высокое положение, появившись на работе в положенное время, затем уезжают якобы в министерство или на какую-либо конференцию, а на самом деле на служебных машинах развозят своих детей по школам или жен по магазинам — и все шито-крыто. Когда же речь заходит о мелком служащем, то суровость администрации не знает пределов. Даже если Сиридиэс и виноват в опоздании, то наказан он слишком жестоко. Господин Дабарэ выслушал все это с каменным выражением лица. А через несколько дней Намасену вызвал начальник управления и сделал ему суровый выговор за то, что он распространяет по управлению нелепые, позорящие администрацию слухи. Все думали, что дело на том и закончится. Но не тут-то было — через несколько дней господин Дабарэ вручил Намасене конверт со служебным распоряжением и попросил расписаться в его получении. Намасена достал из конверта сложенную вчетверо бумагу — это было распоряжение министра о его переводе в филиал управления в Ампаре. Увидев, как вытянулось лицо Намасены, господин Дабарэ елейным голосом сказал:
— Я пытался уговорить начальство вступиться за вас перед министром. Но вы так кричали, когда разговаривали со мной, что кто-то услышал, донес, и начальство решило прибегнуть вот к таким мерам.
Намасена был отцом троих детей, и все трое уже ходили в школу. Жена Намасены работала в государственном учреждении в Нарахэнпите. И перевод в Ампару ставил Намасену в чрезвычайно затруднительное положение. Что было делать? Намасена обратился к помощи профсоюза. В управлении, однако, существовали две профсоюзные организации. Одна была левого толка, вторая состояла в основном из прихлебателей администрации. Первая, членом которой был Намасена и обязанности секретаря которой он выполнял в отсутствие выборного секретаря, защищала интересы служащих. Вторая же, как правило, поддакивала администрации. Администрация прежде всего повышала по службе членов второй профсоюзной организации, и поэтому та была довольно многочисленной. Джаясекара состоял в первой профсоюзной организации. Правда, его участие в профсоюзной работе сводилось к присутствию на собраниях и к перепечатке на машинке протоколов заседаний комитета и профсоюзных собраний. Комитет профсоюзной организации левого направления принял решение провести забастовку, чтобы добиться отмены решения о переводе Намасены. Однако на собрание, где должны были утвердить решение комитета о проведении забастовки, пришли немногие — сказались посулы и угрозы, к которым администрация прибегла накануне. Кроме того, параллельная профсоюзная организация отказалась присоединиться к решению о забастовке. В таких условиях забастовка была обречена на провал. Председатель параллельной профсоюзной организации предложил Намасене перейти в свой профсоюз и обещал, если Намасена согласится, принять участие в забастовке. Но Намасена ответил решительным отказом.
Джаясекара перепечатал все бумаги, которые лежали у него в папке, и откинулся на спинку стула. Взгляд его упал на господина Сильву, начальника машинописного и стенографического бюро, который сидел в углу за своим столом. Очень своеобразный человек. Жена принесла ему в приданое небольшую птицеферму около Коломбо, и господин Сильва регулярно, раз в неделю, привозил в управление огромную корзину куриных яиц и продавал их своим сослуживцам. Нередко он играл и на скачках. И наверняка сейчас, вложив в папку со служебными бумагами программу скачек, тщательно изучал ее, чтобы выбрать лошадь, на которую следовало сделать ставку. Если принималось решение о проведении забастовки, то господин Сильва неизменно голосовал за него и столь же неизменно выходил на работу. «Понимаете, — оправдывался он потом, — по радио передали, что, вероятно, забастовка не состоится. А я поверил этой утке и пришел на работу. Неудобно было как-то уходить, после того как я расписался в книге прихода».
Работы пока не было, и Джаясекара с разрешения господина Сильвы пошел выпить чашку чаю в закусочную «Некта». Каждый раз, очутившись в закусочной, он старался сесть за тот столик, за которым когда-то сидел с Амарасили. Но сегодня столик был занят, и Джаясекара, наспех выпив чай прямо у прилавка, возвратился в бюро.
8
Папка, в которую господин Сильва клал бумаги для перепечатки, была по-прежнему пуста, и Джаясекара решил почитать статью, которую принес вчера Тилакавардхана, — когда Джаясекаре предстояло перепечатывать рукописный текст, он всегда внимательно прочитывал его, выписывая неразборчивые слова и буквы. Статья называлась «К вопросу о свободной экономике». По мнению автора, иностранные капиталовложения способствуют экономическому развитию страны, и для скорейшего осуществления ряда проектов, которые пока малореальны из-за нехватки капиталов, надо привлекать капиталы транснациональных компаний, Международного валютного фонда. К чему приводит осуществление «свободной экономики» на практике, Джаясекара узнал на прошлой неделе, когда собрался было купить сыну игрушечный самолет и на свой вопрос, сколько стоит эта игрушка, услышал: «Сто семьдесят рупий». Аванс, который он получил в тот день на работе, составил сто двадцать пять рупий.
Джаясекара оторвался от статьи и увидел направляющегося к его столу Тилакавардхану. «Никак срочно статья потребовалась», — подумал Джаясекара.
— Джая, мне нужно поговорить с тобой, — сказал Тилакавардхана, подходя к его столу.
Когда они вышли в коридор, Тилакавардхана уселся на один из стульев, предназначенных для посетителей, а на другой поставил свой огромный кожаный портфель. Джаясекара присел рядом.
— Что-нибудь случилось? — спросил Джаясекара, гадая, что же так срочно понадобилось Тилакавардхане — не поленился на работу к нему приехать.
— Понимаешь, какая произошла история, — начал Тилакавардхана издалека. Было видно, что он никак не решится приступить к сути дела. — Вчера я допустил промашку. Дал тебе чек, не так ли? Но я совсем забыл, что вчера утром я снял с этого счета полторы тысячи рупий, чтобы заплатить за новую морозилку для нашего холодильника, и на счету осталось не больше ста — ста пятидесяти рупий. Сегодня Дулани напомнила мне об этом.
У Джаясекары все поплыло перед глазами. «Неужели у Тилакавардханы нет такой ничтожной суммы, на которую он выписал чек? — словно в тумане подумал Джаясекара. — А я-то обрадовался, что Тилакавардхана пришел ко мне на помощь, и так гордо и независимо держал себя с Даниэлем Мудаляли!»
— Что же теперь делать? — Джаясекара сам услышал, как дрожит его голос.
— В том-то все и дело. Если завтра же утром не положить на мой счет такую сумму, чтобы можно было оплатить чек, мы с тобой окажемся в весьма неприятном положении.
— Но ты же знаешь, как мне сейчас трудно. — Джаясекаре казалось, что если все хорошенько объяснить Тилакавардхане, то он поймет и сможет найти какой-нибудь выход — у человека со степенью, преподающего в университете, гораздо больше возможностей, чем у простого стенографиста. — Я только что похоронил мать. И не успел после этого оправиться, как тяжело заболел сын. Я уж взял в долг, где только мог. Тебе же найти деньги — пара пустяков. Через две недели — да нет, даже меньше — я тебе все верну, если хочешь — с процентами. Но сейчас мне просто неоткуда взять денег.
— Джая, сегодня я до предела занят. Тороплюсь на очень важную встречу, да должен еще отвезти Дулани в магазин. Мой счет в иностранном отделении Цейлонского банка. А это у черта на куличках. Тебе, Джая, проще будет найти деньги и положить их на мой счет. Вот тебе номер счета, и постарайся сделать это как можно быстрее.
Тилакавардхана написал на бумажке номер своего счета и протянул ее Джаясекаре. Он либо не понимал, либо не хотел понять объяснений Джаясекары. «Какие у Тилакавардханы могут быть неприятности, если к моменту предъявления чека на его счете не окажется требуемой суммы? — с горечью подумал Джаясекара. — Чек вернут неоплаченным, и Тилакавардхане напомнят, сколько денег осталось на его счете. А мне придется вылетать на улицу». Он взял бумажку и вслух произнес:
— Хорошо, к завтрашнему утру я достану денег и положу на твой счет, — хотя в тот момент не имел ни малейшего представления, как это сделать.
— Значит, договорились. В банк лучше идти утром. Тогда там не будет очереди. — Тилакавардхана подхватил портфель и стал спускаться по лестнице.
Несколько минут Джаясекара сидел в полной растерянности, вертя между пальцами бумажку с номером банковского счета Тилакавардханы. «Надо же что-то делать, — с отчаянием подумал он. — Нельзя допустить, чтобы Амарасили с сыном лишились крыши над головой». Он встал и направился к выходу. Прежде всего он решил сбегать в Фонд помощи государственным служащим, который помещался в том же здании, что и казначейство, — может быть, там ему удастся получить хоть сколько-нибудь денег в счет предстоящего займа. Джаясекара был настолько ошарашен поведением Тилакавардханы, что забыл предупредить господина Сильву о своем намерении отлучиться.
В Фонде помощи государственным служащим чиновник, которому Джаясекара объяснил цель своего прихода, посоветовал обратиться к начальнику отдела. В приемной начальника отдела секретаря не оказалось, и Джаясекара беспрепятственно вошел в его кабинет. Узнав, в чем дело, начальник отдела обрушился на Джаясекару с бранью:
— Ты уже как-то заходил ко мне, и я тебе объяснил, что раньше, чем в конце месяца, мы не можем тебе предоставить заем. Неужели так трудно сообразить, что мы ожидаем поступления взносов с очередной зарплаты и у нас сейчас нет денег? Из своего кармана тебе платить, что ли?
Словно пьяный спускался Джаясекара по лестнице. Мрачные мысли одолевали его. В какой-то момент ему захотелось броситься в лестничный пролет и избавиться наконец от бремени невыносимо тяжелых забот. Но Амарасили с сыном? Ведь его жизнь принадлежала не только ему. Постепенно успокаиваясь, Джаясекара думал: до какой же степени приспособленчество вытесняет все человеческие чувства, не оставляя места ни для чего, кроме себялюбия и эгоизма! Чиновник, долгом которого является оказывать помощь государственным служащим, даже не соизволил выслушать его до конца и вникнуть в суть дела.
Джаясекара решил попытать счастья у Виджесинхе, который работал в отделении Народного банка на Президентской улице. В этой части города стояли здания, построенные еще в колониальный период, и они казались Джаясекаре бастионами, хранящими дух того времени — равнодушного отношения к нуждам простого человека.
Время близилось к полудню. Жара становилась нестерпимой, и яркий свет больно резал глаза. Джаясекара торопливо шагал по тротуару, толкая прохожих, гадая про себя, сможет ли Виджесинхе чем-нибудь помочь. Ему что-то кричали вслед, но он ничего не видел и не слышал и при переходе через улицу чуть было не попал под машину. Джаясекара заметил бампер автомобиля, когда тот был в метре от него, и метнулся на тротуар. Водитель, высунувшись из окна, ругался на чем свет стоит, а прохожие смеялись — видно, у Джаясекары был уж очень потешный вид, когда он с середины проезжей части сиганул на тротуар. Нашлись и такие, которые набросились на него с руганью. Джаясекара втянул голову в плечи и юркнул в толпу. Через несколько минут он уже вошел в здание «Селинко», на первом этаже которого находилось отделение Народного банка. Виджесинхе был добрым и отзывчивым человеком. И Джаясекара надеялся, что если Виджесинхе и не сможет помочь, то по крайней мере внимательно и с участием выслушает его, а Джаясекаре так нужно было сейчас чье-нибудь доброе слово.
— Да, тебе не позавидуешь, — со вздохом заключил Виджесинхе, после того как Джаясекара рассказал, в чем дело. — Но не отчаивайся. Что-нибудь придумаем. Ты посиди здесь, а я пойду посмотрю, что можно сделать.
Виджесинхе исчез за какой-то дверью и вернулся примерно через полчаса.
— Вот какое дело, Джая. Сейчас конец месяца, и денег ни у кого нет. Но завтра мне пообещали принести четыреста рупий. Заходи завтра утром, и я их тебе передам.
Джаясекаре предстояло раздобыть еще пятьсот шестьдесят рупий, но почувствовал он себя намного бодрее. Он решил обратиться к одному ростовщику с улицы Рохаль. Джаясекаре уже случалось брать у него по пятьдесят и даже по сто рупий под поручительство одного своего сослуживца, и каждый раз он в установленный срок возвращал деньги вместе с процентами. Так что Джаясекара надеялся, что ростовщик не откажет и сейчас. Правда, если он возьмет шестьсот рупий, возвращать ему придется семьсот двадцать, да делать было нечего. Но у ростовщика Джаясекару ждала неудача: сослуживец, на которого надеялся Джаясекара, сам не вернул вовремя взятые под проценты двести пятьдесят рупий, а найти другого поручителя Джаясекара не мог. Он сбегал еще к своим друзьям, в магазин «Гунасена» и в департамент оросительных работ, но ушел от них с пустыми руками. Солнце беспощадно палило, и рубашка Джаясекары пропиталась потом. Проходя по улице Баудхалока, он остановился в тени дерева, чтобы немного передохнуть. К нему подошел какой-то господин в европейском костюме, с тросточкой в руке.
— Вы не знаете, как вчера закончилась встреча? — поинтересовался он, имея в виду матч по крикету между командами двух колледжей, в котором решалась судьба первенства.
«И о чем только думают люди!» — с горечью и злостью подумал Джаясекара. С трудом подавив раздражение, он ответил, что не знает. Было около трех часов, и Джаясекара, вспомнив, что не предупредил господина Сильву, поспешил обратно в управление.
Едва Джаясекара вошел в бюро, как почувствовал, что что-то случилось: некоторые сотрудники как-то странно посмотрели на него, а господин Сильва выскочил из-за стола и бросился ему навстречу.
— Где ты шляешься! — принялся он распекать Джаясекару. — Хоть бы меня предупредил, что тебе нужно куда-то сходить! Мне из-за тебя так влетело! Сейчас же иди к господину Дабарэ!
— Почему тебя так долго не было на рабочем месте? — встретил его вопросом господин Дабарэ. Глаза его метали громы и молнии. — Ровно в час дня тебя вызывал начальник управления — ему срочно нужно было продиктовать письмо министру в связи с запросом в парламенте. Битый час дожидался тебя. А другой стенографист болен.
— У меня большие неприятности. Мне нужно было…
Господин Дабарэ не стал его слушать.
— Пусть у тебя хоть самые неприятные неприятности, ты должен быть на рабочем месте. Из-за тебя мне пришлось получить нагоняй. Будто дисциплина в управлении ни к черту и я ничего не могу сделать. Но я вас всех приструню! Каждый будет сидеть на своем месте как приклеенный! Вот возьми, внимательно прочти и к завтрашнему дню напиши мне объяснение. — Господин Дабарэ протянул Джаясекаре сложенный вдвое лист бумаги.
С трудом переставляя словно ватные ноги, Джаясекара вернулся на свое место. На листке, который ему вручил господин Дабарэ, значилось:
1978—11—17Господину Т. М. Д. Джаясекаре,стенографисту второго разряда
О нарушении дисциплины
1. 17 ноября 1978 года вы явились на работу в 7.45, что подтверждается вашей подписью в книге регистрации прихода на работу.
2. В этот же день вы отсутствовали на работе с 10.50 до 15.55, в связи с чем не смогли выполнить срочную работу для начальника управления.
3. В соответствии с уставом государственных учреждений Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка до 11 часов утра 19 ноября 1978 года вы должны представить письменное объяснение для принятия обоснованного решения по допущенному вами нарушению дисциплины.
В. П. Дабарэ,ответственный за соблюдение дисциплины
Предписание господина Дабарэ означало только одно: какими бы уважительными ни были причины, приведшие к нарушению дисциплины, сурового наказания не избежать.
Многие сотрудники бюро подходили к Джаясекаре, читали предписание господина Дабарэ и выражали свое сочувствие. Подошел и господин Сильва.
— Не отчаивайся. — Он потрепал Джаясекару по плечу. — Завтра постараемся попасть на прием к начальнику управления и все ему спокойно объясним. Может, еще и обойдется.
Наступил конец рабочего дня, бюро опустело, а Джаясекара все сидел за столом, с безучастным видом глядя перед собой. В его сознании все плыло словно в тумане, из которого попеременно появлялось то лицо Тилакавардханы, то лицо господина Дабарэ.
С ведром и щеткой появился Сиридиэс.
— И вас, сар, палач подловил, — посочувствовал он Джаясекаре.
— Да, добрался он и до меня.
— Никакой управы на него нет. Творит что хочет. Меня вот уборщиком сделал за то, что отказался бегать по его личным поручениям. — А затем, подойдя к Джаясекаре вплотную, зашептал: — Я уже три раза протыкал ему шины. Когда-нибудь вообще машину подожгу. Поделом ему будет.
— Чего ты этим добьешься? — возразил Джаясекара. — Нам надо всем вместе держаться. Надо создать сильный единый профсоюз. Вот тогда махинациям Дабарэ и ему подобных наступит конец.
— Ваша правда, сар. А то у нас профсоюз только называется профсоюзом. Одни прихлебатели там собрались.
— Ну я, пожалуй, пойду. — Джаясекара встал из-за стола и направился к выходу.
Он прошел мимо автобусной остановки у здания Женского общества и двинулся в сторону Питакотувы — он всегда садился на Главной автобусной станции, автобусы оттуда отправлялись сравнительно свободными. По дороге, сам не зная зачем, он забрел на железнодорожную станцию и, прислонившись к стене около входа на платформу, долго смотрел на двигавшуюся непрерывным потоком толпу, на усталые и понурые после трудового дня лица людей. Рабочий день высосал из них все соки, и им предстоял еще неблизкий путь в переполненном до отказа вагоне — далеко не всем квартплата в Коломбо была по карману. А завтра, дав ночью короткий отдых измученным нервам и мышцам, им снова придется отдавать свою рабочую силу фабрикам и конторам.
«Но что же делать? Где раздобыть нужную сумму денег? — Мысли Джаясекары вернулись к его собственным проблемам, и, вздохнув, он побрел к автобусной станции. — Может быть, броситься в ноги Даниэлю Мудаляли, дать ему четыреста рупий и упросить подождать остальные деньги до конца месяца? Нет, вряд ли Даниэль Мудаляли согласится. Придется съездить к Тилакавардхане. Не может быть, чтобы у него дома не нашлось пятисот шестидесяти рупий!» Джаясекара знал, что домой он возвратится поздно, и решил заехать сначала к себе и уже оттуда отправиться к Тилакавардхане.
9
Когда Джаясекара свернул в свой переулок, уже близился вечер — бронзовое солнце клонилось к закату, и на землю легли длинные тени. В лучшие времена Джаясекара шел по переулку быстрым и упругим шагом, сегодня же едва ноги волочил. Как обычно, Амарасили с сыном стояла у калитки. Джаясекара взял сына на руки, и они вошли в дом. По дороге он решил ничего не говорить Амарасили ни о визите Тилакавардханы, ни о том, что ему грозит дисциплинарное наказание. Но у него был такой удрученный вид, что это не укрылось от внимания Амарасили. Она стала расспрашивать его, и он подумал: а не лучше рассказать все как есть — и зачем приходил к нему на работу Тилакавардхана, и к чему привели его попытки раздобыть деньги, и о том, что он собирается съездить к Тилакавардхане и еще раз с ним поговорить.
— Я чувствовала, что что-то должно произойти, — сказала Амарасили, когда Джаясекара кончил говорить. — И нечего тебе к нему тащиться — все равно толку не будет. Я больше чем уверена, что здесь не обошлось без Дулани. Она испугалась, что мы не сможем вернуть долг, и выдумала все это. А ты поверил, что у них всего сто — сто пятьдесят рупий.
Джаясекара чувствовал, что Амарасили права: действительно, трудно предположить, что у Тилакавардханы нет денег. Еще в университете он получал неплохую зарплату, да и в других местах подрабатывал. Дулани принесла в приданое дом. Недавно он продал одну из двух машин, которые привез из Америки. Отец Дулани занимал важный пост в одном из министерств, а сейчас был председателем комиссии по заработной плате. Многие родственники Дулани занимали высокие посты в государственных учреждениях. Недаром ходили толки, будто именно поэтому Тилакавардхана и женился на Дулани — он надеялся, что родственники жены помогут ему сделать карьеру. Карьеру он действительно сделал. Вскоре после свадьбы его послали учиться в аспирантуру американского университета. А вчера он похвастался, что его, возможно, пошлют в Международный валютный фонд. Правда, сделав хорошую карьеру, он оказался под каблуком у Дулани, но его, по-видимому, это устраивало.
— Так часто бывает: когда у людей много денег, они трясутся над каждым центом, — продолжала Амарасили. — И ты нужен Тилакавардхане только потому, что бесплатно перепечатываешь его рукописи. Вспомни, как мы ходили к нему в гости.
Джаясекара хорошо помнил тот случай, о котором упомянула Амарасили. Одно время Тилакавардхана постоянно приглашал их в гости — ждем, мол, в любое время суток. Поверив в искренность его слов, Джаясекара вместе с Амарасили и сыном отправился с визитом к Тилакавардхане. Едва они переступили порог его дома, как Тилакавардхана начал говорить о семинаре, который должен был состояться на следующий день и к которому ему нужно было основательно подготовиться, давая понять, что они пришли некстати. Видно было, что их приход смутил Тилакавардхану. Так же неловко чувствовали себя в роскошной обстановке зажиточного дома Джаясекара и Амарасили. Они поспешили откланяться, и Тилакавардхана с чувством облегчения проводил их до двери.
— Что толку сейчас вспоминать, — со вздохом сказал Джаясекара. — Лучше подумаем, где денег достать. — И, помолчав немного, добавил: — Я, пожалуй, съезжу в Боралэсгамуву к Даясене.
Правда, прежде всего Джаясекара вспомнил о господине Сатарасинхе. Но отношения между ними были не настолько близкими, чтобы попросить в долг такую большую сумму. Да и тех ста рупий они пока не вернули… А Даясена был жизнерадостным и никогда не унывающим человеком, которого, казалось, ничто не могло пронять. «Если есть проблема, — любил он повторять, — то есть и способ ее решения». Но когда Джаясекара по пути на автобусную остановку проходил мимо дома господина Сатарасинхе, он замедлил шаг. Если бы господин Сатарасинхе, как обычно, стоял у ворот или был на участке, они бы поздоровались, поговорили немного — и Джаясекара, осмелившись, попросил бы у него помощи. Но господина Сатарасинхе нигде не было видно.
Когда Джаясекара пришел на остановку, ему невольно вспомнилось, в каком приподнятом настроении он сел сегодня утром на автобус. «Насколько же зыбка и неустойчива жизнь, — подумал он. — И как можно совладать с теми силами, которые в любой момент могут бросить человека в бездну отчаяния и безысходности?»
Даясены не оказалось дома, и Джаясекаре пришлось ни с чем возвращаться домой. Он прошел несколько остановок пешком, думая о своих бедах и о жизни вообще — о том, почему люди с таким остервенением рвутся к материальным благам и стремятся подняться хоть на одну ступеньку социальной или служебной лестницы, жертвуя при этом непреходящими ценностями — человечностью и собственным достоинством.
Возвратился домой он совершенно измученным и смертельно усталым. Отрицательно покачав головой в ответ на немой вопрос в глазах Амарасили, он со словами: «Утро вечера мудренее» — трупом свалился в постель.
10
— Вставай! Вставай! Уже утро!
Джаясекара с трудом разлепил глаза: Амарасили, склонившись над кроватью, трясла его за плечи. Джаясекара сбросил одеяло и пошел во двор умываться. Солнце золотыми лучами затопило небосклон на востоке, весело гомонили птицы. Но на душе у Джаясекары скребли кошки, словно где-то совсем рядом притаился питон, который в любой момент мог наброситься на него. Умывшись, он поднялся в дом, Амарасили поставила перед ним чашку горячего чая и села напротив.
— Так что же нам делать? Может быть, собрать вещи и переехать к матери? — предложила Амарасили. — Не оставит же она нас в беде!
— Не хочу я…
— А что, у нас есть другой выход?
— Виджесинхе обещал четыреста рупий. Надо где-то достать еще пятьсот шестьдесят.
— Но где? — Амарасили немного помолчала. — Слушай, мне, кажется, пришла в голову неплохая идея. Мы до сих пор не смогли выкупить мое ожерелье. Если Виджесинхе даст тебе четыреста рупий, то ты сможешь это сделать. И заложи его где-нибудь в другом месте. В последнее время цена на золото здорово поднялась, и за него теперь дадут в два раза больше.
То, что предлагала Амарасили, позволило бы решить одну проблему. Джаясекара подарил это ожерелье Амарасили, когда они только поженились. Но носить его Амарасили пришлось совсем недолго. И сейчас из одного заклада оно должно перекочевать в другой. Но оставалось еще предписание господина Дабарэ и неприятности, которые оно могло за собой повлечь.
Джаясекара поднялся из-за стола — пора было идти на работу. В его жизни начинался еще один день. Что он ему готовил?
Ашока Виктор Суравира
СЫНОВЬЯ, НЕ ПОКИДАЙТЕ ДЕРЕВНИ
Повесть
ඒ.වී. සුරවීර
නොයන් පුතුනි ගම හැරදා
කොළඹ
1975
1
Что бы Описара Хаминэ ни делала: занималась ли работой по дому, ложилась ли отдохнуть после полудня и даже ночью, во время сна, — она чутко прислушивалась к тому, что происходило на участке, и ей постоянно казалось, что там кто-то бродит — то ли человек, то ли заблудшее животное. Эта привычка появилась у нее после того, как все заботы о хозяйстве — или, вернее, о том, что от него осталось, — легли на ее плечи. Зная о своей мнительности, она не выскакивала поминутно из дома и никому ничего не говорила, но иногда нервы ее сдавали, и она кричала служанке:
— Сопия, ну-ка послушай! Кто-то забрался к нам на участок и рвет кокосовые орехи!
Сопия делала вид, что слушает, и через некоторое время отрицательно качала головой.
— Ничего не слышно, Хаминэ. Это вам показалось.
— Показалось?! — вскипала Описара Хаминэ. — Что тебе, уши заложило? Никому ни до чего дела нет! Скоро из дому вещи начнут выносить, а вы и бровью не поведете!
— Да нет там никого, мама! Тебе просто послышалось, — вступала в разговор Ясомэникэ.
Однако, когда Описара Хаминэ расходилась, не так-то легко ее было успокоить. И чтобы остановить поток бесконечных попреков, Сопия выходила на задний дворик и, постояв там некоторое время, возвращалась:
— Никого нигде нет, Хаминэ. Я обежала весь участок.
В тот день с наступлением сумерек Описара Хаминэ прилегла отдохнуть. И вдруг она явственно услышала звук шагов. Это не мог быть кто-либо из домашних — и Сопия, и Ясомэникэ, и ее младший сын Вималядаса около получаса тому назад ушли в монастырь и должны были вернуться только после возложения цветов к изображению Будды. Описара Хаминэ прислушалась — шаги были до боли знакомые. Так обычно ступал ее муж, Описара Раляхами, возвращаясь после наступления сумерек домой в те уже далекие времена, когда он был жив и вся семья жила под одной крышей. Описара Хаминэ резко привстала на кровати, от чего все суставы заныли так, что она охнула, и снова прислушалась. Шагов больше не было слышно. «Опять почудилось», — вздохнула Описара Хаминэ и откинулась на подушки. Но мысли о муже не покидали ее. Она вспомнила, что сразу же после смерти Описара Раляхами около огромной каменной глыбы на их участке поселилась змея. Это был удивительный камень. Своими очертаниями он походил на слона, который, встав на колени, низко кланялся дому Описара Раляхами. В семье существовало поверье, будто камень принес Описара Раляхами благополучие, почет и уважение.
— Это волшебный камень, — частенько говаривал Описара Раляхами. — Он дал мне силу предков.
А теперь этот камень скрывался за стеной буйно разросшегося кустарника и до самой макушки был покрыт большими безобразными пятнами мха и лишайника. Описара Хаминэ считала, что после того, как там поселилась змея, вырубить кусты и соскрести лишайники было бы большим грехом, и талисман дома Описара Хаминэ стоял теперь такой же запущенный, как и все вокруг. Правда, Описара Хаминэ иногда ставила около камня глиняную плошку, и ее слабый огонек тускло мерцал в темноте.
Того, что было, уже не вернешь. И сколько ни скреби и ни украшай этот волшебный камень, ничто не изменится. Каждый раз, как Описара Хаминэ вспоминала все, что произошло после смерти Описара Раляхами, ее охватывало отчаяние. А кто в состоянии сказать, что может еще случиться?
Снова послышались шаги. Теперь Описара Хаминэ догадалась: ее пришел проведать старший сын. Может быть, даже с внуком! Силы внезапно оставили ее, она неподвижно лежала на кровати, не в состоянии встать с нее и сделать несколько шагов до двери, чтобы выглянуть на веранду.
Нельзя сказать, что приход сына был для Описара Хаминэ полной неожиданностью. Она уже знала, что два дня тому назад он вернулся в деревню с намерением здесь поселиться, и ждала его визита. И вот теперь на веранде слышались его шаги. Он не входил в комнаты, наверное, потому, что там было темно, — подумал, что все куда-то ушли. И Описара Хаминэ мысленно обругала Сопию за то, что она ушла в монастырь, не оставив зажженной лампы.
Когда смерть Описара Раляхами как удар грома обрушилась на Описара Хаминэ, основную часть легших на ее плечи забот взял на себя ее старший сын Бандусена.
— Если бы не мой старший, — постоянно твердила в те дни Описара Хаминэ, — ума не приложу, что́ бы я делала. Судьи, адвокаты… Попробуй разберись во всем этом.
Она была твердо убеждена в том, что, если бы не Бандусена, дела покойного Описара Раляхами оказались бы вконец запутанными и семью ждали бы еще бо́льшие лишения.
Дела дома Описара Раляхами пошатнулись еще при его жизни. Свои потери он попытался восполнить игрой на скачках, а в результате ему пришлось заложить почти все свои земли ростовщикам из Мигамува. Описара Раляхами настолько упал духом и так запустил дела, что к концу жизни совершенно запутался и не знал, какова общая сумма его долга, по скольку раз заложены его земли. Не только в деревне, но и по всей округе пошли слухи, что в дом Описара Раляхами стали приходить требования об уплате долгов и часто наведывались рассерженные кредиторы. Как будто этого было мало, Описара Раляхами оказался свидетелем потасовки, закончившейся смертью одного из ее участников, и когда на его имя пришел вызов в верховный суд, то в деревне на Описара Раляхами и его домашних чуть ли пальцами не показывали. Так постепенно стала закатываться звезда Описара Раляхами — человека, который долгое время пользовался непререкаемым авторитетом не только в Эпитакандэ, своей родной деревне, но и во всей округе. Невзгоды и треволнения, обрушившиеся на Описара Раляхами, подорвали его здоровье. Все чаще и чаще стал он жаловаться на боль в груди, а однажды домашние нашли его лежащим без сознания около своего письменного стола. В руке у него было зажато письмо от нескольких ростовщиков из Мигамува, в котором они угрожали, что если Описара Раляхами в течение шести месяцев не уплатит долга, то они передадут дело в суд и в качестве компенсации конфискуют все его имущество. Через два дня Описара Раляхами скончался, и тело его было предано земле.
После смерти отца все хлопоты по наследству, обремененному огромными долгами, обрушились на Бандусену, которому тогда исполнился двадцать один год. Но поскольку ни он, ни Описара Хаминэ ничего не смыслили в судопроизводстве, пришлось прибегнуть к помощи адвокатов, и к искам, которые сыпались от кредиторов, добавились счета адвокатских контор. Все передряги закончились тем, что у семьи Описара Раляхами осталось только шестнадцать акров земли — состояние Описара Раляхами было сметено волной исков и счетов, как поток воды во время паводка смывает посевы.
Но едва закончились судебные дрязги, как между родственниками Описара Раляхами начались ссоры. Причиной послужила женитьба Бандусены на девушке, которую ни мать, ни тем более сестра не могли признать своей ровней. Мало того, он решил покинуть дом и вместе с женой попытать счастья на новом месте.
— Не отец, нет, а старший братец довел нас до такого состояния! — бушевала Ясомэникэ. — Я давно предупреждала об этом. А ты только потакала ему. Даже если он говорил, что дерево кос и дерево кэшью — одно и то же, ты соглашалась с ним. Вот и докатились. В грязь втоптал наше достоинство.
— Если Бандусена и сделал что-нибудь не так, как надо, так ведь неопытен он еще, — пыталась урезонить свою дочь Описара Хаминэ. — Тут хоть голову в лепешку расшиби, а сделать ничего нельзя было. Ну а что женился на этой женщине, так теперь ничего не поделаешь. И нельзя так говорить о старшем брате.
— А как о нем говорить прикажешь? Ты, мам, совсем уж в детство впала! — Ясомэникэ не очень стеснялась в выражениях. — Как мне на улицу выйти?! Как людям показаться?! Да отец, наверное, в гробу бы перевернулся, узнай он о том, что здесь творится!
— Ну-ка помолчи, Ясомэникэ! — вспылила Описара Хаминэ. — Думай, что говоришь!
— Я-то думаю. Черт с ним, что он женился на этой дряни! У меня есть новость почище. Твой обожаемый сынок заложил половину земли, что у нас осталась. Деньги, видите ли, ему нужны, чтобы устроиться на новом месте!
У Описара Хаминэ все поплыло перед глазами.
В тот вечер, едва Бандусена переступил порог дома, как Описара Хаминэ обрушила на него поток брани. Бандусена даже и не пытался оправдываться, а молча слушал, как его честила мать. Потом круто повернулся и, не сказав ни единого слова, вышел из дома. На следующий же день он уехал из деревни.
С тех пор прошло три года и два месяца — Описара Хаминэ считала каждый час, — и до сегодняшнего дня она не получила ни единой весточки от своего старшего сына. Как она страдала все это время! Сколько слез пролила! А как узнала, что Бандусена вернулся в деревню и остановился в доме матери Саттихами, своей жены, она только и ждала, когда же сын придет ее проведать.
Все это молнией сверкнуло в памяти Описара Хаминэ в тот краткий миг, пока звук шагов с веранды приближался к комнате. Вот они уже слышны в комнате. В доме было темно, но никаких сомнений не оставалось: это Бандусена. Поэтому-то вначале его шаги напомнили Описара Хаминэ походку мужа. И хотя последние два дня она ожидала этого момента и внутренне готовилась к нему, сейчас она совсем растерялась. С крепко сжатыми веками лежала она на кровати, то находясь во власти жгучей обиды на Бандусена, то испытывая к нему бесконечную нежность, тут же сменявшуюся желанием осыпать его упреками.
Шаги замерли посередине комнаты.
— Мама!
Да, это голос старшего сына. Окрепший и возмужавший голос. Голос мужчины.
Описара Хаминэ по-прежнему лежала на кровати — в смятении, с закрытыми глазами, не в силах вымолвить ни слова.
— Мама! Это я, Бандусена!
И столько было робости и тревожного ожидания в этих словах, что все противоречивые чувства, терзавшие Описара Хаминэ, свелись к одному возгласу:
— Сынок, дорогой!
Бандусена шагнул к кровати и крепко прижал к себе поднявшуюся навстречу Описара Хаминэ. А она, приникнув к его плечу, гладила огрубевшие от тяжелой работы руки с бугорками мозолей на ладонях. Даже в полумраке было видно, что Бандусена похудел и лицо его осунулось. Она провела рукой по его груди и почувствовала, как под рубашкой выступают ребра.
— Все хвораю я, сынок. Сил совсем нет, — пожаловалась Описара Хаминэ, смахнув набежавшие на глаза слезы.
— Прости меня, мама. Прости и не поминай старого. — Бандусена снова приник к матери.
— Какое это имеет значение, простила я тебя или нет? Что было, то было. Надо думать, что дальше делать… Ох, как колет. — Описара Хаминэ схватилась за грудь. — А ты сильно изменился, — продолжала она, помолчав. — Вытянулся, похудел… А что же ты внучка не привел? Хендирияппу тут пару раз заглядывал осведомиться, нет ли от тебя вестей. В прежние времена такие люди и во двор к нам войти боялись. А теперь вот могут запросто зайти. Господи, как все изменилось!
С охами и вздохами Описара Хаминэ встала с кровати и зашаркала на кухню, зажгла коптилку, принесла ее в комнату и поставила на сундук. Бандусена с любопытством огляделся. Да, до чего же сильно изменился дом, в котором прошли его детство и юность! В прежние времена, как только солнце скрывалось за горизонтом, в доме вспыхивала лампа «пэтромэкс», подвешенная под потолком в гостиной. Ее свет достигал даже двора. А сейчас на сундуке подрагивало неверное пламя коптилки! Кровать матери стояла теперь в гостиной. Вплотную к ней был придвинут огромный старый сундук из красного дерева. Повсюду: на кровати, на подлокотниках кресел — можно было увидеть заношенные, в пятнах сари матери. По-видимому, в комнате, которой раньше пользовался Бандусена, расположилась Ясомэникэ — там висело несколько ярких новых сари. «А старые сари Ясомэникэ теперь, наверное, донашивает мать», — подумал Бандусена. Он все еще чувствовал себя скованным и не знал, что сказать.
— А лекарства ты пьешь, мама? — спросил он первое, что пришло в голову.
— Ты явился сюда для того, чтобы спросить, пью ли я лекарства? — Описара Хаминэ сокрушенно закачала головой. — Как вспомню, что произошло, я не то что лекарство принять — глотка воды выпить не могу. Лекарства… Мне теперь уж все равно — жить или умереть. Правда, бог нас немного пожалел. С помощью Котахэнэ Хамудуруво, да поможет ему господь во всем, что он делает, Ясомэникэ получила место в школе. Словно ожили мы. А ты, сынок, повернулся спиной и ушел…
Бандусену снова охватило чувство раскаяния, которое все эти годы подспудно тлело в глубине души. Веки у него набрякли. А что он мог тогда сделать? Ведь то, что произошло, надломило и его. Единственным утешением для него в те дни стала Саттихами. Только с ней он чувствовал, что живет. А все остальное время… Бесконечные хождения по конторам адвокатов и целые вороха бумаг, которые он собирал для того, чтобы его признали наследником. Нескончаемые претензии кредиторов… Слезы и причитания матери… Полное безденежье… Но и это еще можно было бы выдержать, если бы не постоянные нападки Ясомэникэ. Что бы Бандусена ни делал, что бы ни предлагал сделать, Ясомэникэ все тут же принимала в штыки. Она алчно стремилась взять инициативу в свои руки.
И среди этих треволнений и передряг единственной отдушиной было общение с Саттихами. Едва улучив момент, Бандусена бежал в дом Саттихами и там, в простой и бесхитростной атмосфере скромного крестьянского дома, обретал недолгие минуты успокоения. Искреннее сочувствие, искренние слова утешения, трогательная забота, которую он там находил, помогли ему пережить самый трудный период в его жизни. И однажды Бандусена почувствовал, что эта девушка из бедной крестьянской семьи стала ему бесконечно дорога. И хотя в деревне уже начали судачить о них, ничто не обязывало Бандусену, юношу из хотя и разорившейся, но когда-то богатой и влиятельной семьи, жениться на Саттихами. Однако Бандусена считал, что лучшей жены ему не найти. Он понимал, что мать никогда не согласится на этот брак, и поэтому женился на Саттихами тайком. И никогда потом не раскаивался в этом.
А дома все шло по-прежнему. Мать проливала бесконечные слезы, скорбя о муже и утраченном богатстве. Ясомэникэ дала волю своему злобному и неуживчивому нраву. Даже тарелку с рисом она ухитрялась поставить перед Бандусеной так, чтобы дать ему почувствовать все свое презрение и ненависть. Младший брат Вималядаса во всем поддакивал Ясомэникэ.
Жизнь в отчем доме стала для Бандусены невыносимой, и вместе с женой он покинул деревню, поселившись у дяди Саттихами в сельскохозяйственной колонии. На новом месте молодая супружеская пара хлебнула немало горя. Бандусена был непривычен к физическому труду, а в колонии он работал под палящими лучами солнца от зари до зари. Когда у Саттихами подошло время родов, им стало еще тяжелее. Денег постоянно не хватало, а за помощью обратиться было не к кому. Мысли о будущем все чаще тревожили Бандусену. Беременность Саттихами с каждым днем становилась заметнее, а Бандусена все мрачнел и мрачнел. Чтобы не огорчать жену, он ничего не говорил ей о своих тревогах. Она тоже не досаждала ему расспросами, но однажды не выдержала и спросила:
— Что с тобой, миленький мой?
Бандусена почувствовал глухое раздражение, оттого что Саттихами нарушила молчаливый уговор не тревожить друг друга понапрасну, и готов был уже сказать что-нибудь резкое, но, взглянув на осунувшееся, тревожное лицо жены, сдержался и постарался ответить как можно спокойнее:
— Ведь не сегодня завтра тебя нужно будет отправить в больницу. А как наскрести нужную сумму денег? Ума не приложу! Вот это и не даст мне покоя.
— Не волнуйся. Я тебе раньше не говорила — я давно уж ухитрилась отложить деньги на этот случай.
— Ты у меня молодец! — На лице у Бандусены впервые за последнее время появилась улыбка. — Но что же ты мне раньше не сказала? Я совсем извелся.
Саттихами с виноватым видом приникла к нему, а он нежно обнял ее, испытывая чувство глубокой признательности.
Роды прошли благополучно. С рождением сына их жалкое жилище словно наполнилось ярким светом. Вдвоем или поодиночке, они часто склонялись над ним. Он вертел из стороны в сторону своей еще лысой головкой, причмокивал губами и беззаботно сучил ножками, а родителей одолевали мысли о том, что делать дальше. Жизнь на новом месте не удалась. Заработка Бандусены едва хватало на двоих, а для Саттихами никакой работы в колонии не нашлось. Оставаться с ребенком среди чужих было трудно. И постепенно их мысли обратились к родной деревне. Первой заговорила об этом Саттихами:
— Не пора ли нам опять перебраться в деревню? Жить будем у моей матери. Ты найдешь работу по найму. Я устроюсь на плантации собирать латекс. Тогда и с деньгами будет полегче.
Вначале Бандусена упорствовал — уж больно горько было ему возвращаться ни с чем туда, откуда он ушел в поисках лучшей доли, но всем его колебаниям и сомнениям пришел конец, когда Саттихами призналась ему, что снова беременна. Действительно, ничего другого, как только вернуться в деревню, им не оставалось. Все это вспомнилось Бандусене, когда он услышал упрек матери. Что тут ответишь? Да и чья вина, что все так произошло?
А Описара Хаминэ, увидев, какой растерянный вид у ее старшего сына, пожалела о том, что упрекнула его, и почти виновато сказала:
— Не сердись на меня, сынок. Ты ведь понимаешь, как мне было тяжело… Ну а как внучек? Здоров?
— Все в порядке, мама.
— Ну и слава богу. Приведи его как-нибудь сюда. Больно мне сознавать, что ты живешь у чужих людей, сынок… И здесь вам с Саттихами нельзя жить. С Ясомэникэ вы никак не поладите. Вот что я тебе скажу. Ты помнишь, на нашем участке около дороги есть старая лавка. Стены еще ничего, только крышу подремонтировать надо. Поселяйся там. Вроде и со мной рядом, и от Ясомэникэ далеко. И можно расчистить место для огорода…
На глаза Бандусены навернулись слезы. Он почувствовал себя блудным сыном, которого вновь принимают в лоно семьи.
Вдали раздался лай собак, который стал приближаться к дому, и вскоре между деревьями замелькал свет факела.
— Должно быть, Ясомэникэ и Вималядаса возвращаются, — то ли с сожалением, то ли с облегчением сказала Описара Хаминэ.
Бандусена весь напрягся — встреча с сестрой не радовала его. Он слишком хорошо знал неукротимый нрав Ясомэникэ и то, что она не переносит. Саттихами — даже упоминание этого имени может вызвать вспышку ее гнева.
Через несколько минут три фигуры приблизились к веранде, и, пока Сопия гасила факел около ступенек крыльца, Ясомэникэ и Вималядаса вошли в дом.
— Ясомэникэ! Вималядаса! Подите сюда! Бандусена пришел! — оживленно затараторила Описара Хаминэ, но под напускным радостным оживлением угадывалось тревожное ожидание — как встретятся ее дети.
Ясомэникэ только скользнула взглядом по Бандусене, прошла к себе в комнату и крикнула:
— Поди-ка сюда, Вималядаса!
Вималядаса немного потоптался на месте и, потупившись, прошел за Ясомэникэ. Едва он переступил порог, дверь с треском захлопнулась.
Бандусена двинулся к выходу:
— Ну я пошел, мама.
— Так смотри, сделай, как я говорю, — сказала ему вслед Описара Хаминэ. — И внучка приведи мне показать.
Тотчас же из комнаты Ясомэникэ полился поток брани. И, даже шагая по двору, Бандусена слышал выкрики сестры:
— И как только совести хватило заявиться сюда… Подзаборная тварь… Внука еще должен привести…
Потом, по-видимому, Вималядаса попытался унять ее, и до Бандусены донеслось:
— Да заткнись ты, сопляк!
2
Когда Бандусена впервые после возвращения увидел участок, где стоял их дом, при дневном свете, он был ошеломлен открывшейся картиной бесхозяйственности и запустения. Сорняки густым ковром покрывали землю, цепкими плетями обвивая деревья. Пальмы, которые раньше всегда были тщательно ухожены и щедро плодоносили, покрывали наросты и засохшие ветки. Все кому не лень срывали появлявшиеся на них немногочисленные орехи, выпивали сок и тут же бросали на землю пустую скорлупу. Когда был жив отец, никто из посторонних и думать не смел пройти по участку. Теперь же повсюду виднелись тропки, протоптанные теми, кто, не желая делать крюк, шел напрямик.
А колодец! Иная мать не проявляет к своему ребенку столько заботы и внимания, сколько проявлял к нему отец. Во всей деревне не было колодца с такой холодной водой. Отец часто рассказывал, как однажды в давние времена восторгался какой-то белый чиновник, отведав из него воды. А сейчас колодец был в таком же запустении, как и все остальное. На облицовке там и тут расползлись грязные пятна мха и лишайника, в местах, где выпали камни, зияли черные дыры. А когда Бандусена вытянул ведро и сделал несколько глотков, то почувствовал привкус ржавчины. Со смешанным чувством взирал Бандусена на все вокруг. Его охватывала горечь оттого, что пришло в упадок когда-то цветущее хозяйство, и в то же время он смотрел на все словно со стороны, как будто то, что здесь происходит, его уже не касается.
Конечно, мать предпочла бы, чтобы Бандусена вместе со своей семьей поселился с ними под одной крышей, в «большом доме», как называли их дом в деревне. Но это было невозможно. И мать, и Бандусена это хорошо понимали. И хотя в глубине души Бандусена надеялся, что мать предложит ему поселиться у них, он ясно осознавал — нельзя упрекать ее в том, что она не сделала этого.
И главным препятствием было здесь отношение Ясомэникэ к Саттихами. Они ходили в одну и ту же школу. Мало того, учились в одном классе. Но Ясомэникэ, как и дети из других богатых семей, сидела за одной из передних парт, а место Саттихами было в последнем ряду. За все время учебы в школе они едва обменялись несколькими словами. И преодолеть их взаимную отчужденность было невозможно. Однажды учитель по ошибке отдал тетрадь Ясомэникэ Саттихами, которая обнаружила ее только у себя дома и на следующий же день вернула тетрадку Ясомэникэ. Та взяла ее двумя пальцами, поднесла к носу и, скорчив гримасу: «Как дурно пахнет!», разорвала в клочья. Саттихами навсегда это запомнила.
Бродя по участку, Бандусена дошел до самого его края, где, скрытая от «большого дома» деревьями и кустами, стояла глинобитная лавка. Время и здесь оставило свои следы — крыша провалилась, а от стен откололись большие куски глины. Бандусена дотошно осмотрел свое будущее жилище. Повреждения были не такими уж сильными, как Бандусене показалось сначала. «Если постараться, то можно за три дня привести все в порядок», — решил он.
Это было в понедельник. А в четверг Бандусена и Саттихами перебрались в новое жилище, первое жилище, которое они могли назвать своим, со всем имуществом — веревочной кроватью, простым дощатым столом да нехитрой кухонной утварью.
— Ну вот, можно сказать, что у нас есть свой дом, — удовлетворенно сказал Бандусена, после того как все было расставлено по местам и Саттихами принялась укладывать сына на циновке, расстеленной перед домом. — Здесь можно расчистить место для огорода, и вместе с той полоской рисового поля, что обещала мать, нам этого как-нибудь хватит.
— Да, наконец-то у нас есть свой угол, — сказала Саттихами, а затем, глядя на сына, мирно посапывавшего на циновке, добавила: — Вот только для него бы соорудить какую-нибудь кроватку.
Бандусена подумал, что на чердаке где-то должна валяться кроватка, в которой он спал ребенком. Потом в ней спали Ясомэникэ и Вималядаса. А когда все выросли, отец отнес ее на чердак. Однако жене Бандусена ничего не сказал: «Пусть это будет для нее сюрпризом».
— Я вот что думаю, — продолжала тем временем Саттихами. — Раз мы теперь живем совсем рядом, нам обязательно нужно сходить в «большой дом» поклониться матери. А не то подумает, что мы загордились.
— Мать сказала, чтобы мы приходили вместе с сыном. Вот только если Ясомэникэ окажется дома, чего она не наговорит!
— Надо бы захватить листья бетеля. А я приготовлю плод хлебного дерева.
— Это еще зачем?
— Чтобы поднести твоей сестре.
— Ну, этим-то ее вряд ли смягчишь. Только лишний раз унижаться.
— Сделай, как я говорю. Сколько можно враждовать! Пора бы и помириться. И кто-то должен сделать первый шаг.
3
После того как Ясомэникэ получила должность младшего преподавателя английского языка, все домашние с особым почтением стали относиться к Котахэнэ Хамудуруво, а сама Ясомэникэ стала принимать деятельное участие в делах монастыря.
Это случилось незадолго до возвращения Бандусены. Котахэнэ Хамудуруво года два тому назад отправился из монастыря в духовную школу — Малигакандэ Видйодая Пиривэна. Однако после сдачи промежуточного экзамена он решил уйти из Пиривэны и поступить в вечернюю английскую школу, а после экзаменов за среднюю школу и вовсе сложить с себя духовный сан. Настоятель монастыря был огорчен тем, что его ученик проявил так мало религиозного рвения. Косвенно в этом был виноват сам настоятель. Особое внимание он уделял своему племяннику, который считался вторым учеником, и по всему было видно, что тот в один прекрасный день займет место настоятеля. Самолюбивый и тщеславный Котахэнэ Хамудуруво, жаждавший более широкого поля деятельности, не мог этого перенести. Но внезапно все переменилось. Племянник настоятеля сложил с себя духовный сан и вернулся к мирской жизни, а настоятель тяжело заболел и был не в состоянии заниматься делами монастыря. Он вызвал Котахэнэ Хамудуруво и предложил ему взять на себя заботы о монастыре и прихожанах.
— Я совсем занемог и не могу уж со всем справляться. Без твердой руки здесь все захиреет, а прихожане разбредутся по другим монастырям. Принимай все на себя. То, что ты еще не закончил учебы, не помеха. Да и в нуждах деревни ты хорошо разбираешься.
Котахэнэ Хамудуруво легко отказался от своих планов сдать экзамены за среднюю школу и с большим усердием принялся за свои новые обязанности. В качестве первого шага он решил создать общество верующих женщин. Но прежде, чем приступить к этому делу, он подумал, что неплохо будет обойти дома влиятельных жителей деревни и выяснить, что́, по их мнению, нужно сделать в монастыре и деревне, и, кроме того, постараться завоевать расположение прихожан, особенно тех, которые делали солидные пожертвования в пользу храма. Он хорошо усвоил совет настоятеля: главное внимание уделять тем, кто деньгами и другими подношениями помогает храму, и держать себя с ними почтительно и благочестиво. Котахэнэ Хамудуруво сопутствовал успех — все обещали ему поддержку и содействие.
Однажды во второй половине дня Котахэнэ Хамудуруво вместе с прислуживавшим ему мальчиком и директором школы Абэтунга заглянул в дом к Описара Хаминэ. Ясомэникэ сидела под манговым деревом у колодца и читала, прислонившись спиной к манговому дереву и вытянув свои стройные ноги в прохладной высокой траве. Приподнятый подол простенького ситцевого платья обнажал не только колени, но даже полоски шоколадной кожи выше них. Едва увидев Ясомэникэ, Котахэнэ Хамудуруво вздрогнул и потупился. За время, пока он был в духовной школе, Ясомэникэ стала гораздо миловиднее, и он мысленно сравнил ее с банановым деревом, в первый раз покрывшимся нежными бутонами цветов. Ясомэникэ была так увлечена книгой, что не заметила прихода гостей. Видя, что Котахэнэ Хамудуруво молчит, Абэтунга кашлянул и сказал:
— Никак интересная книга, Ясомэникэ?
Ясомэникэ вздрогнула и выпустила книгу из рук. Потом проворно вскочила, смущенно одернула платье, поклонилась и, собрав обеими руками волосы, свободно падавшие на плечи, побежала к дому предупредить мать. Через минуту она вынесла на веранду стул для Котахэнэ Хамудуруво и, как требовал того обычай, покрыла его белым платком. Из дома вышла Описара Хаминэ и почтительно приветствовала гостей.
— Как поживаешь, Описара Хаминэ? — обратился к хозяйке дома Абэтунга. — Котахэнэ Хамудуруво пришел поговорить с тобой.
Описара Хаминэ, едва выслушав Котахэнэ Хамудуруво, заговорила о своих горестях, что у нее уже вошло в привычку. Она посетовала на то, что Ясомэникэ теперь придется работать, что она надеется получить место учительницы, но это оказалось не так-то легко, а помочь некому, и в их нынешнем положении трудно рассчитывать на чье-либо содействие…
Котахэнэ Хамудуруво поспешил заверить Описара Хаминэ, что сделает все возможное, чтобы их надежды сбылись. Растроганные мать и дочь опустились перед ним на колени. При этом ситцевое платье Ясомэникэ плотно обтянуло ее грудь, и Котахэнэ Хамудуруво поспешил отвести глаза в сторону.
— Так смотри, Ясомэникэ, я рассчитываю, что ты будешь участвовать в работе нашего женского общества, — обратился он к Ясомэникэ, поднимаясь со стула.
Ясомэникэ только улыбнулась в ответ. И пока Котахэнэ Хамудуруво спускался с веранды и пересекал двор, перед его мысленным взором стояло улыбающееся лицо Ясомэникэ с трогательными ямочками на щеках, два ряда ослепительно белых зубов с маленькой щелкой между двумя передними зубами в верхнем ряду. «Насколько проще, естественней и миловидней девушки, выросшие в деревне, чем их сверстницы в Коломбо, с их ужимками и косметикой», — думал Котахэнэ Хамудуруво.
После визита к Описара Хаминэ мысли о Ясомэникэ и о данном ей обещании не покидали монаха. Некоторое время его одолевали сомнения, благопристойно ли поддаваться столь внезапно возникшей у него симпатии к молодой девушке. Как он вел себя в Коломбо, не имело значения; здесь, в деревне, следовало проявлять осмотрительность. Однако, как бы там ни было, если он сможет помочь Ясомэникэ, это поднимет его авторитет среди прихожан и послужит подспорьем в осуществлении его планов.
4
И Котахэнэ Хамудуруво энергично принялся за дело. Так как Ясомэникэ приняла на себя обязанности секретаря общества верующих женщин, все выглядело благочинно: буддийский монах печется о девушке, которая близко к сердцу принимает интересы монастыря.
Как только в газетах было опубликовано объявление о вакансиях в министерстве образования, он посоветовал Ясомэникэ подать заявление, а сам тем временем поговорил с нужными людьми, которые могли бы повлиять на депутата парламента, чтобы при составлении списка рекомендованных претендентов от своего округа он включил Ясомэникэ. Поначалу, однако, дело с депутатом не выгорело: в списках, которые он намеревался отправить в министерство образования, Ясомэникэ не было. Едва Котахэнэ Хамудуруво узнал об этом, как с не подобающей его сану поспешностью помчался в контору депутата. Разговор у них был долгим и бурным. Котахэнэ Хамудуруво проявил чудеса красноречия, особенно напирая на то, что Ясомэникэ — сестра Бандусены, который в одной из избирательных кампаний оказал депутату существенную помощь. И хотя депутат не принадлежал к тем, кто считает своим долгом помнить об оказанной им однажды услуге, особенно если человек, оказавший ее, теперь ничем не может быть полезен, он в конце концов сдался, вычеркнул из списка, включавшего пять человек, одну фамилию и вписал туда имя Ясомэникэ.
— Я-то думал, что даже сам бог не заставит меня изменить список, а вы, Котахэнэ Хамудуруво, все же уговорили меня, — со смехом сказал депутат. — Да и, конечно, нельзя забывать, что Бандусена мне когда-то помог.
Поверил или не поверил Котахэнэ Хамудуруво заключительным словам депутата — неизвестно, но результатами беседы он был доволен. Однако это было только полдела. Нужно было добиться, чтобы Ясомэникэ назначили именно в их деревенскую школу. Несколько раз мать и дочь ездили в министерство образования. Но только когда Описара Хаминэ по наущению Котахэнэ Хамудуруво вложила в свое заявление двести рупий, дело было сделано.
Едва Ясомэникэ и Описара Хаминэ вернулись из Коломбо с положительным ответом, они сразу же пошли поблагодарить Котахэнэ Хамудуруво.
— Если бы не содействие вашего преподобия, Ясомэникэ никогда бы не получить этого места. Да благословит вас бог! — прочувствованно сказала Описара Хаминэ, низко поклонившись Котахэнэ Хамудуруво. Ей хотелось объяснить, как и она сама, и Ясомэникэ признательны ему, но никак не могла найти подходящие слова и вдруг неожиданно для себя заговорила о Бандусене: — И то, что Бандусена когда-то помогал депутату, пригодилось… Как он там живет?.. Думает ли вернуться?..
— Помолчала бы ты, мама! — сразу же вскинулась Ясомэникэ. — О чем бы ни заговорили, ты приплетаешь Бандусену.
— Не принимай близко к сердцу, Описара Хаминэ! — поспешил вмешаться Котахэнэ Хамудуруво. — Все образуется. А нам надо выполнять свой долг.
После того как Ясомэникэ завершила среднее образование, прошло четыре года. И все эти четыре года она провела почти в полном одиночестве дома или на участке: старые друзья и знакомые постепенно отошли от них, а новые не появлялись. Казалось, уже ничто не изменит монотонной и однообразной жизни, и еще много-много дней придется ей провести в четырех стенах. И тут — должность учительницы. Почетная и уважаемая всеми работа. Словно поток яркого света ворвался в мрачную комнату. И эта удача в ее жизни была связана с Котахэнэ Хамудуруво. Чувство признательности и благодарности переполняло Ясомэникэ, и она непрестанно думала о том, чем бы оказаться полезной Котахэнэ Хамудуруво. И тут ей вспомнилось, как однажды, еще при жизни отца, старый настоятель пожаловался, что у них в монастыре невзрачная дагоба.
— Стыдно, что в нашем монастыре такая маленькая дагоба, — сказал он. — Вот если бы ты, Описара Раляхами, выступил с предложением собрать по подписке деньги на строительство новой дагобы, то многие поддержали бы тебя.
Вскоре, однако, у Описара Раляхами началась полоса неудач, которая и свела его в могилу, а настоятель тяжело заболел, и им обоим стало не до дагобы.
Действительно, в монастыре была совсем небольшая дагоба, в которой помещалась одна-единственная статуя Будды весьма скромных размеров. Ясомэникэ вспомнила храмы в Келание и Ангурукарамулле и находящиеся там прекрасные статуи, которые изображали Будду спящим, сидящим и стоящим. Оба эти храма сверх того были богато украшены резьбой, картинами и другими предметами искусства. Ясомэникэ решила предложить Котахэнэ Хамудуруво собрать деньги на постройку новой дагобы. Члены женского общества поддержали Ясомэникэ.
Однако Котахэнэ Хамудуруво, хотя и был доволен, проявил известную сдержанность.
— Идея сама по себе прекрасная. И если такие девушки, как Ясомэникэ, возьмутся за ее осуществление, можно считать, что дело сделано. Но на это потребуется немало денег. А хорошо ли собирать столь большую сумму на нужды храма в деревне, где так много бедняков?
Кроме того, Ясомэникэ предложила класть цветы и зажигать лампады перед изображением Будды каждый вечер, а не только по праздникам.
Многие отзывались одобрительно об интересе, который проявлял Котахэнэ Хамудуруво к деревне, и о том, с каким азартом он принялся за исполнение своих новых обязанностей. Особенно щедрым на похвалы был прежний настоятель.
— У Котахэнэ Хамудуруво настоящая деловая хватка. Большая удача для прихожан, что Котахэнэ Хамудуруво стал у нас настоятелем. Когда недуг приковал меня к кровати, я часто с беспокойством думал: как пойдут дела в деревне и монастыре? Я просто счастлив, что нашел себе достойного преемника.
Но были и скептики.
— Вся эта суета недолго будет продолжаться, — говорили они. — В точности как бутылка с содовой: откроешь, она немного пошипит, и все. Да и что Котахэнэ Хамудуруво может сделать с двумя-тремя девчонками?
5
И вот наступил день, когда Бандусена вместе с сыном и Саттихами направился к своей матери. Он шел впереди, держа сына на руках, а за ним с плодом хлебного дерева в одной руке и широкой плоской корзинкой, в которой лежали приготовленные для подношения листья бетеля, — в другой семенила Саттихами. Время от времени она бросала взгляды на лицо Саната, прижавшегося щекой к плечу отца, и улыбалась, Санат был одет в свежевыстиранные штанишки и рубашку, волосы его были тщательно причесаны. Матери казалось, что во всем мире нет ребенка опрятнее, но Бандусена невольно вспоминал, как нарядно когда-то одевали его самого, и, глядя на более чем скромно одетого сына, невольно испытывал чувство горечи.
Огорчало его и другое. Вместе с женой и сыном он шел в дом, где родился и вырос, а его одолевали робость и беспокойство: какой еще номер выкинет Ясомэникэ? Не оскорбит ли Саттихами?
Саттихами же ничто не тревожило. Она знала, что стерпит все, что бы ей ни пришлось услышать. Нрав у нее был спокойный, да и жизнь приучила ее все сносить от господ, а родственники мужа, несмотря ни на что, оставались для нее господами. Свой долг она видела в том, чтобы помирить мужа с его семьей, и готова была на многое, чтобы этого добиться. Из-под крышки, которой был накрыт горшок с приготовленным плодом хлебного дерева, шел аппетитный запах, приятно щекотавший ноздри. Не каждая женщина может приготовить плод хлебного дерева, чтобы от него исходил такой аромат! Так и шли они молча, и каждый думал о своем.
Поскольку Ясомэникэ каждый день, как только солнце начинало клониться к закату, отправлялась в монастырь, они решили прийти к пяти часам — хотя бы часть времени, что они проведут под родительским кровом, Ясомэникэ не будет дома.
Описара Хаминэ сидела на ступеньках, ведущих на веранду, с полной корзинкой молодых листьев пальмы для плетения циновок. Еще издали Описара Хаминэ узнала гостей. Да, это шел ее старший сын, ее первенец, уже со своим сыном. И на мгновение память унесла Описара Хаминэ к тем далеким дням, когда сам Бандусена был маленьким — и она, молодая счастливая мать, брала его на руки, тискала и тормошила, а Описара Раляхами, широко улыбаясь, смотрел на них. Картины прошлого задрожали и исчезли. Описара Хаминэ сняла старые очки мужа, которые теперь носила, смахнула слезы, шагнула навстречу Бандусене и взяла у него внука.
— Мой золотой внучек! Смотри, улыбается! Ах ты мой дорогой. Узнал бабушку. Узнал. Такой же круглолицый, каким и ты был.
Осторожно ступая, Описара Хаминэ поднялась на веранду, прошла в комнату и посадила Саната на свою кровать.
— Идите сюда! — позвала она Бандусену и Саттихами, когда отдышалась. — А помнишь, сынок, как твоя мать бегала словно лань и совсем не уставала?.. А что это у тебя в руке, Саттихами?
— Это я приготовила плод хлебного дерева, чтобы не приходить с пустыми руками. — С этими словами Саттихами поставила горшок рядом с кроватью и сама уселась на пол около кровати.
— Разве мало у тебя хлопот, чтобы думать еще об этом? Я-то знаю, что такое маленький ребенок на руках… И нечего сидеть на полу. У нас хватает стульев.
— Я могу и здесь посидеть. А где Ясомэникэ? — спросила Саттихами из вежливости. Она никак не могла решиться называть обитателей «большого дома» по-родственному: «мама», «младшая сестра», «младший брат». Несколько раз она открывала было рот, чтобы сказать «мама», но слово застревало у нее в горле. Она опасалась, что это может не понравиться.
— И Ясомэникэ, и Вималядаса пошли собирать цветы для монастыря, — ответила Описара Хаминэ, догадавшись о том, что происходило в душе у Саттихами. — Теперь Ясомэникэ, как только вернется из школы, сразу же собирается в монастырь. Ничего больше для нее и не существует. Только монастырь. И Вималядасу с собой таскает — совсем не дает уроками заниматься. — А затем, подойдя к двери, крикнула так, чтобы служанка на кухне услышала: — Сопия, поставь-ка чайник!
Бандусена спустился во двор и направился к камню-талисману. В детстве они часто здесь играли. С Ясомэникэ, правда, редко — почти каждая их совместная игра кончалась ссорой, и Ясомэникэ с плачем и воплями убегала жаловаться отцу или матери. Она умело представляла дело так, будто Бандусена обидел ее, и, случалось, мать довольно сурово наказывала его.
Тем временем Описара Хаминэ села на кровать и стала гладить и ласкать Саната, говорить ему нежные слова. А потом принялась рассказывать Саттихами различные случаи из детства Бандусены — ведь в сердце женщины единой нитью материнской заботы и доброты связываются в одно целое дети, внуки и, если время дарует такую возможность, правнуки.
Они все вместе пили чай и непринужденно болтали, когда возвратилась Ясомэникэ. Словно принцесса прошла она к себе, не удостоив никого взглядом, и весь дом наполнился резким ароматом цветов рукаттана. От Ясомэникэ исходило столько презрения и недоброжелательности, что Саттихами, которая в этот момент хотела что-то сказать, так и осталась сидеть с открытым ртом.
Описара Хаминэ сделала робкую попытку позвать Ясомэникэ, но та даже не ответила. Бандусена и Саттихами засуетились и стали собираться уходить. Оба они взяли из корзинки листья бетеля и, низко поклонившись, преподнесли их матери.
Глаза Описара Хаминэ наполнились слезами.
— Да хранит вас Будда! — прошептала она.
Она вытащила из-под подушки несколько монет по одной рупии и, обмотав их ниткой, вложила в ладошку внука.
— Теперь у меня нет денег на дорогие подарки, — вздохнула Описара Хаминэ и нежно поцеловала курчавую головку.
Саттихами взяла оставшиеся листья бетеля и, собравшись с духом, подошла к двери комнаты, куда скрылась Ясомэникэ.
— Ясомэникэ, мне хотелось бы с тобой поговорить. Что случилось, то случилось. За что ты на меня так сердишься?
Дверь в комнату Ясомэникэ распахнулась.
— Скажи на милость, поговорить со мной хочет! Надеешься облапошить меня, как облапошила этого теленка! Не выйдет, душечка! А мне не то что с тобой разговаривать — глядеть на тебя противно! — прокричала она и захлопнула дверь.
Перед глазами у Бандусены поплыли оранжевые круги. Конечно, он виноват перед семьей. Ни с кем не посоветовавшись, он заложил половину оставшейся земли, и их материальное положение стало еще хуже. Да и сам он остался на бобах — в том, что осталось от угодий Описара Раляхами, его доли не было. Но ведь был период, когда все имущество Описара Раляхами находилось под арестом и, чтобы раздобыть денег, ему приходилось вертеться юлой. Не прояви он тогда сметки и находчивости, у Ясомэникэ не было бы не только учебников, но и платьев, в которых можно было бы пойти в школу.
— Помолчи-ка, Ясомэникэ! — загремел Бандусена. — Что я тебе плохого сделал? Все у тебя из головы выветрилось. Да разве стала бы ты сейчас учительницей, не дай я тебе возможность учиться дальше?
— Успокойся, сынок! Ну пожалуйста, не обращай внимания на Ясомэникэ. Пусть себе болтает. Ты же знаешь, какой у нее характер, — поспешила утихомирить сына Описара Хаминэ.
— Это у матери все выветрилось из головы, а я-то помню, — донеслось между тем из комнаты Ясомэникэ. — Кто начал транжирить те жалкие крохи, что у нас остались, и чуть не пустил нас по миру? Котахэнэ Хамудуруво нужно в ноги поклониться за то, что я стала учительницей.
Если бы Саттихами не встала на пути Бандусены, тот бы, наверное, бросился на Ясомэникэ. Саттихами повисла на Бандусене с одной стороны, а Описара Хаминэ — с другой, и они вдвоем вытолкали его на веранду.
— Держи себя в руках. И нам пора уже идти. Я сейчас возьму сына, — увещевала Саттихами мужа.
— Сынок, ты же знаешь, какой характер у Ясомэникэ. Не обращай на нее внимания, — вторила ей Описара Хаминэ.
6
— Я и не ожидала, что твоя сестра может быть такой злобной, — сказала Саттихами на следующий день. — На нашего ребенка и не взглянула. А мать у тебя золотая. Такой женщине стоит поклониться до земли.
— Ясомэникэ уже в детстве своевольничала. А теперь, когда получила работу, и вовсе возгордилась.
— Ну и пусть себе гордится. Стоит ли обращать внимание. Мы живем сами по себе. Какое нам до нее дело? — Саттихами подошла к мужу и положила руки ему на плечи. — Я вот что думаю. Надо мне устроиться на плантации сборщицей латекса. Посидела дома — и хватит.
— Ты думаешь, что говоришь? Четвертый месяц пошел — а ты на плантацию. Работы и здесь теперь хватит. Мать отдала нам треть участка, что рядом с лавкой. — Бандусена достал биди и прикурил от огня лампы. — И забор поставить надо, и землю обработать.
Пока Бандусена жил в сельскохозяйственной колонии, он научился пользоваться и мотыгой, и другими орудиями крестьянского труда, к которым раньше и не притрагивался. Прошло совсем немного времени, и участок, который Описара Хаминэ отдала Бандусене, очистился от кустарника, а землю около пальм тщательно разрыхлили и унавозили. На участке трудился не только Бандусена. Саттихами старалась как можно скорее разделаться с хлопотами по дому, а потом брала мотыгу и отправлялась рыхлить землю около пальм. Руки ее унаследовали опыт многих поколений, и, пока Бандусена, обливаясь потом, кончал обрабатывать землю около одной пальмы, на счету Саттихами уже было две. Частым гостем Бандусены и Саттихами стал Вималядаса. Он сильно привязался к Санату и, невзирая на недовольство Ясомэникэ, почти каждый день прибегал поиграть с племянником. И Санат, с нетерпением ожидавший Вималядасу, каждый раз приветствовал его радостным возгласом: «Бабба! Бабба!»
Иногда Вималядаса брал Саната в охапку и уносил в «большой дом», где Описара Хаминэ изливала на него потоки нежности. Правда, если Ясомэникэ узнавала об этом, то почем зря честила и мать, и младшего брата, а заодно и Бандусену и Саттихами. А Санат инстинктивно боялся Ясомэникэ, и, хотя она не устраивала сцен при ребенке, он каждый раз, завидев ее, начинал хныкать или прятал личико, если сидел у кого-нибудь на руках.
Работа у Бандусены и Саттихами спорилась, и скоро грядки в огороде, возделанном около их жилища, покрылись нежной зеленью всходов. Бандусена и Саттихами трудились самозабвенно — у них было такое ощущение, будто в их жизни открылась новая страница, и они изо всех сил старались обеспечить будущее себе и своим детям.
Иногда по вечерам, после трудового дня, Бандусена шел в ту часть деревни, где находились лавки и крестьяне собирались поболтать о своих делах. Жители деревни относились к нему по-дружески и вместе с тем почтительно. Отец Бандусены, Описара Раляхами, держался в деревне надменно и разговаривал свысока. И всем нравилось, что Бандусена совсем не был заносчив, что женился он на девушке из простой крестьянской семьи и занят скромным трудом, к какому привыкли они сами, в то время как его сестра вела себя высокомерно, словно принцесса.
А если речь заходила о семье Описара Раляхами, кто-нибудь из крестьян обязательно говорил: «Уж кто-кто, а Бандусена, хоть и сын Описара Раляхами, нисколько не гордый. Свой парень… Не то что эта заносчивая учителка». Когда Бандусена появлялся в их компании, они радушно встречали его и предлагали выкурить сигарету или пожевать бетеля.
Хотя Бандусена и Саттихами трудились в поте лица, того, что они получали со своего участка, им на жизнь не хватало. Раз в два месяца они собирали и продавали кокосовые орехи. Последние несколько лет за старыми пальмами никто не ухаживал, и Бандусена и Саттихами собирали за сезон не больше двухсот орехов. Некоторые пальмы были такие старые, что совсем ничего не давали. Их следовало вырубить и посадить новые, но для этого нужны были деньги, да и ждать пришлось бы не один год.
Саттихами постоянно заводила разговоры о том, не наняться ли ей, несмотря на беременность, на каучуковую плантацию собирать латекс. Но Бандусена и слушать не хотел.
— Ты пойдешь на плантацию, а я, твой муж, буду ковыряться на участке и ждать, пока ты принесешь деньги! Лучше и не придумаешь!
— Ничего страшного. На плантации много замужних женщин работает. Да и работа привычная.
— А я вот что думаю. Поднакопим немного денег и купим быка. Повозку обещала дать мама — она у них все равно без дела стоит. Извоз — дело надежное. И в нашей деревне работы хватит. Даже если только возить скорлупу кокосовых орехов на фабрику, и то в накладе не останешься.
— Прежде подумай хорошенько. Ведь извозом занимаются, когда уж ничего другого не остается. Самая неблагодарная работа. Люди скажут, это я довела тебя до такой жизни. А уж как Ясомэникэ изгаляться будет!
Бандусена совсем упустил из виду, что его решение вызовет досаду у Ясомэникэ, и теперь, представив себе, как она пуще прежнего взъярится на него, довольно усмехнулся: «Наука тебе будет, сестричка!» А вслух произнес:
— Какое нам дело, кто что скажет. Никакой работы не нужно чураться.
Саттихами не раз еще пыталась отговорить Бандусену, но у нее ничего не вышло: после очередного сбора и продажи кокосовых орехов Бандусена прибавил к вырученным деньгам все их сбережения и купил быка. Бык был слабоват и невзрачен на вид, но, поскольку у Бандусены было всего 170 рупий, покупку можно было считать удачной. В деревне, кроме Бандусены, извозом занималось только двое крестьян, и работы хватало. Однако не все оказалось таким простым и легким, как представлялось со стороны. Чтобы оправдать расходы на корм быку и заработать хоть самую малость, нужно было отвозить на фабрику не меньше четырех повозок скорлупы в день, а трудиться приходилось от зари до зари.
О том, что Бандусена занялся извозом, в деревне судачили несколько недель подряд. Некоторые злорадствовали: мол, выходец из некогда богатой и влиятельной семьи вынужден теперь заниматься тяжелой и малопочтенной работой, но большинство, особенно такие же бедняки, каким стал теперь Бандусена, сочувствовали ему. Шептались об этом и в школе, где учительствовала Ясомэникэ. С трудом подавляя досаду и раздражение, Ясомэникэ пожимала плечами и, словно ей было безразлично, с улыбкой говорила:
— Какое нам дело, что вытворяет Бандусена! Жаль только, память отца позорит.
По ее мнению, Бандусене лучше было сидеть дома и голодать, чем браться за работу, которой занимались бедняки.
Но один случай заставил ее смягчиться по отношению к Бандусене. Как-то, возвращаясь из школы, Ясомэникэ увидела двигавшуюся ей навстречу повозку, груженную скорлупой кокосовых орехов. Она в жизни своей не видела так много скорлупы. Чтобы увеличить емкость повозки, к ее бортам были вертикально привязаны ветки кокосовой пальмы, которые прогнулись наружу от огромного количества наваленной скорлупы, и повозка походила на небольшой холм, стоящий на своей вершине. В передней ее части прогнувшиеся ветки нависали над быком, который с трудом тащил эту махину. Ясомэникэ мысленно отругала возницу — совсем не жалеет бедное животное!
Спускаясь с небольшого возвышения, возница упирался плечом в край повозки изо всех сил, не давая ей быстро катиться вниз, и натягивал веревку, обмотанную вокруг морды быка, чтобы тот не опустил голову и ярмо не соскользнуло с его шеи. На вознице был грязный саронг, края которого были подоткнуты под пояс, волосы растрепаны, по голым плечам струился пот.
И только когда возница повернул к Ясомэникэ свое лицо, искаженное гримасой нечеловеческого напряжения, она узнала его — это был Бандусена. Непроизвольно Ясомэникэ прикрылась пачкой книжек, которые несла в руке. Увидел ли ее Бандусена? Пройдя несколько шагов, она остановилась и достала носовой платок — у Бандусены был такой жалкий и измученный вид, что на ее глаза навернулись слезы.
Поскрипывая, повозка поехала дальше, и только на влажной гальке проселочной дороги — недавно прошел небольшой дождь — остались две глубокие колеи, которые, не пересекаясь и не удаляясь друг от друга, тянулись насколько хватал глаз.
Прежде чем идти дальше, Ясомэникэ оглянулась. Ей показалось, будто повозка стоит на место. «Может, что случилось?» — с тревогой подумала она, но тут же подавила в себе желание подбежать и посмотреть, в чем там дело, круто повернулась и зашагала вперед. Всю оставшуюся дорогу до дома перед глазами у нее стояли перегруженная повозка и измученный, обливающийся потом Бандусена, который нечеловеческим усилием не давал ей скатиться вниз. И постепенно накопившуюся годами злобу и неприязнь к брату вытеснило сочувствие к нему. Но ненависть к Саттихами стала еще острее. Ведь источником всех невзгод и позора брата была именно эта женщина. «Правду тогда говорили, что эта ведьма вместе со своей матерью опоили Бандусену каким-то зельем, чтобы заполучить к себе в женишки», — повторяла про себя Ясомэникэ.
В тот же день за обедом Ясомэникэ рассказала Описара Хаминэ, как она встретила старшего брата по дороге из школы.
— Он совсем не жалеет себя, — вздохнула Ясомэникэ, закончив свой рассказ. — Что бы он ни натворил, мое сердце готово было разорваться от жалости, когда я его увидела. Эта ведьма погубит его.
— Что толку браниться, — возразила Описара Хаминэ. — Раз поженились, им теперь жить надо.
— Мне до слез было жалко Бандусену. Пусть Сопия хоть немного рису отнесет им, — сказала Ясомэникэ, вставая из-за стола, а Описара Хаминэ так и осталась сидеть с раскрытым от удивления ртом.
После этого случая отношения Бандусены с Ясомэникэ стали менее напряженными. Бандусена вместе с сыном чаще бывал в «большом доме». Ясомэникэ уже не бранилась, когда видела Бандусену, но и не разговаривала с ним, ограничиваясь короткими «да» или «нет», если он к ней обращался. Саттихами, зная, какую жгучую ненависть питает к ней Ясомэникэ, навещала Описара Хаминэ, только когда Ясомэникэ не было дома. Сама же Описара Хаминэ испытывала к Саттихами глубокую симпатию. А после того как однажды Описара Хаминэ, которая часто страдала от головных болей, попросила невестку натереть ей голову горчичным маслом и боль как рукой сняло, она посылала за Саттихами каждый раз, как только начинала ощущать симптомы приближающегося недуга. «От одного прикосновения ее рук мне становится легче», — утверждала Описара Хаминэ.
7
Наступил день полнолуния в месяце дурутта. Общество верующих женщин организовало большой праздник, в программу которого входили проповедь и благотворительная ярмарка. Никогда раньше в храме не собиралось столько желающих взять на себя обет по соблюдению заповедей. После церемонии подношения даров в деревне время от времени раздавались барабанная дробь и звуки труб, возвещавшие о том, что вечером состоится благотворительная ярмарка. Об этом напоминали и расклеенные повсюду красочные плакаты. Как обычно, в праздник полнолуния в деревне были преданы забвению все ссоры и распри, и каждый готовился принять посильное участие в ярмарке и аукционе.
После полудня юноши и девушки, принимавшие обет по соблюдению заповедей, собрались во дворе монастыря и, усевшись на циновках в тени священного дерева бо, слушали джатаки, которые читал монах, произносили молитвы, иногда тихонько перешептывались.
А тем временем в зале для проповедей полным ходом шла подготовка к ярмарке. За столиком около входа в зал сидели несколько девушек и записывали в специальной книге те вещи, которые приносили для продажи, а затем подвешивали на них ярлычки с указанием имени владельца и его местожительства. Другие девушки старались как можно живописнее расставить и разложить эти вещи на длинных скамьях. Ясомэникэ в белой кофточке, надетой по случаю принятия обета, металась по залу, советовала, как лучше разместить принесенные предметы. Хотя она была на ногах с раннего утра и на висках у нее то и дело выступали блестящие бисеринки пота, которые приходилось смахивать платком, усталости она не чувствовала. В зале торчали несколько молодых людей, которые следили за приготовлениями и нарочито громко ахали, выражая свой восторг.
— Какие прекрасные кокосовые орехи! В жизни ничего подобного не видел, — восклицал один, изображая на лице такое удивление, словно увидел бог весть какое чудо. — Кто же принес их? Посмотрим, посмотрим… — И, прочтя ярлык, продолжал в том же тоне: — Так это же Сандавати Рупасинха.
— Ах Сандавати Рупасинха! — подхватывал кто-нибудь из компании. — Не упустить бы случай! Вот только они по такой цене пойдут, что нам в складчину не купить и половинки ореха!
Но особым вниманием молодых людей пользовались скамьи, где лежали предметы рукоделия. Чего там только не было! Носовые платки с инициалами владельцев, наволочки с причудливо вышитыми узорами и яркими цветами, кофточки, скатерти и многое, многое другое. Тут уж охам да ахам, закатыванию глаз, причмокиванию, красочным эпитетам и восторгам не было конца.
В зал заглянул Котахэнэ Хамудуруво, чтобы посмотреть, как идут дела, и подбодрить девушек, занятых подготовкой ярмарки.
— Сегодня вечером многие тайны откроются, — затараторила одна из девушек, подбегая к нему. — Молодые люди все осмотрели и уж, наверно, наметили, что купить.
— Ну что ж, недолго ждать осталось. Начнется аукцион, и увидим, кто к кому питает симпатию, — улыбнулся Котахэнэ Хамудуруво.
Дело в том, что на таких ярмарках существовал установившийся с давних пор обычай: молодой человек во что бы то ни стало стремился приобрести предмет рукоделия, который выставляла на продажу приглянувшаяся ему девушка.
— А меня это совершенно не волнует, — вступила в разговор Ясомэникэ. — Кто бы ни купил мою наволочку, мне все равно. Пусть только поторгуются как следует и хорошую цену дадут.
— Ну, за твою-то наволочку наверняка хорошую цену дадут. Такую красивую вещь каждому приятно иметь.
Котахэнэ Хамудуруво еще немного походил вдоль лавок, на которых были разложены приготовленные к продаже вещи, и вышел из зала.
Тут же вертелся и Санат. Худенький мальчик, с трогательно наивным восторгом следивший своими большими смышлеными глазами за приготовлениями к празднику, то и дело привлекал к себе внимание взрослых. С ним заговаривали, расспрашивали, кто он и как его зовут.
Едва солнце скрылось за горизонтом, как снова раздались звуки труб, возвещавшие об открытии аукциона. Из-за видневшейся вдали горы Галахития вынырнула луна, и ее ровный и мягкий свет серебряным покрывалом окутал монастырь и деревню. Со всех сторон к монастырю потянулись люди. Те, кто принимал обет по соблюдению заповедей, и пришедшие с детьми родители уселись на циновках, расстеленных в зале, а все остальные расположились за ними.
Перед началом аукциона выступил Котахэнэ Хамудуруво. Он с похвалой отозвался о деятельности общества верующих женщин, особо отметив старания Ясомэникэ и некоторых других девушек. Затем слово предоставили Ясомэникэ. Она пространно заговорила о том, каким благом для всей деревни оказался приезд Котахэнэ Хамудуруво, а в конце поблагодарила жителей деревни за проявленный ими интерес к делам монастыря и женского общества. По знаку Котахэнэ Хамудуруво собравшиеся бурно зааплодировали, и аукцион начался.
Вел аукцион Эбилин Синьо — шутник и балагур, который никогда не лез за словом в карман и был накоротке с любой аудиторией. Пока говорили Котахэнэ Хамудуруво и Ясомэникэ, он нетерпеливо ерзал на стуле, не в силах спокойно дождаться момента, когда наступит его черед обратиться к присутствующим. Теперь же он степенно поднялся со своего места, подкрутил кончики усов, поклонился Котахэнэ Хамудуруво и попросил разрешения начать аукцион. Он обвел орлиным взглядом зал и предложил:
— Давайте-ка все дружно прокричим «саду» по случаю нашего аукциона!
И прежде чем присутствующие смогли откликнуться на его призыв, он набрал полные легкие воздуха и гаркнул так, что какой-то старик, задремавший на своей циновке, вскочил, словно его укололи иголкой, и стал испуганно озираться вокруг. Когда все в зале успокоились, Эбилин Синьо взял со столика, стоявшего перед Котахэнэ Хамудуруво, корзину с красными лотосами, высоко поднял ее над головой и поводил ею из стороны в сторону.
— Красные лотосы… пятьдесят центов, — загремел Эбилин Синьо на весь зал. — Лотосы красные, да цена не красная! А ну набавляй!
— Шестьдесят… Семьдесят… Рупия… — неслось из разных концов зала.
— Да не скупитесь! Каждый лепесток на рупию тянет! — подбадривал Эбилин Синьо.
Первая покупка считалась особенно престижной, и предлагаемая сумма быстро подскочила до шестидесяти рупий. Особенно усердствовали, набавляя цену, Хендирияппу и Рогис Аппухами. Они постоянно соперничали друг с другом, и сейчас никто из них не хотел уступать.
— Восемьдесят рупий!
— Восемьдесят рупий — раз.
— Сто рупий!
— Сто рупий — раз.
— Сто десять рупий! — провозгласил Хендирияппу в притихшем зале.
— Сто десять рупий — раз. Сто десять рупий — два. Сто десять рупий — три. Продано!
Эбилин Синьо торжественно вручил корзину с красными лотосами Хендирияппу и его жене, которые тут же направились возложить цветы к изображению Будды.
На продажу пошли бананы, кокосовые орехи, овощи… У собравшихся это не вызывало никакого интереса, и, как ни рассыпался в шутках и прибаутках Эбилин Синьо, эта часть аукциона прошла довольно монотонно. Пожилые люди позевывали, а молодежь с нетерпением ждала момента, когда в ход пойдут предметы рукоделия.
С продажей последней грозди бананов Эбилин Синьо произнес замысловатое четверостишие, заканчивающееся словами: «А теперь не мешало бы и горло промочить!», и под общий смех выскользнул из зала, крикнув на ходу: «Я скоро вернусь!» Через две-три минуты он уже стучал в дверь хижины Кабарабаса. Не говоря ни слова, он сунул вышедшему хозяину пятьдесят центов и единым духом опорожнил стакан с «дьявольской водицей». Закурил биди и, затянувшись несколько раз, проворно зашагал обратно.
— Ну вот, после чаю сразу лучше стало, — провозгласил он, входя в зал и занимая свое место. — Что там у нас дальше? Платье для девочки. А кто его сшил? Вэпола Сингитамма. Предлагайте цену!
Аукцион продолжался. Вслед за платьем для девочки были проданы кошелек Джэпин Нона, носовой платок Чанданахами, наволочка Вималавати. В зале царило оживление. Молодые люди быстро догадывались, кто из них какую вещь хотел купить, и тут же принимались набавлять цену. Набавляли понемногу — по пять-десять центов, но торговались азартно, вызывая восторг у всех присутствующих. Наступила очередь наволочки Ясомэникэ.
— Наволочка нашей Ясомэникэ! — объявил Эбилин Синьо, показывая белую наволочку, в одном углу которой были вышиты две птицы, а в другом — надпись по-английски: «Good Luck»[1]. — Того, кто предложит меньше двенадцати рупий, я сам выведу из зала!
— Двенадцать пятьдесят! — выкрикнул Вильсон.
И тут в торг вступила сама Ясомэникэ — она подняла цену до тринадцати рупий. Никто не мог припомнить случая, чтобы девушка, выставившая вещь на продажу, сама же и торговалась за нее. Поначалу решили, что Ясомэникэ хочет подзадорить возможных покупателей. Когда же она, прежде чем Эбилин Синьо успел произнести традиционное «Тринадцать рупий — раз», назвала цену в восемнадцать рупий, стало ясно, что Ясомэникэ решила сама купить свою наволочку.
— Восемнадцать пятьдесят! — предложил Вильсон. Предложил сгоряча, поскольку таких денег у него не было. Да уж больно обидно было уступить в торге с девушкой. И когда Эбилин Синьо стал размеренно произносить: «Восемнадцать пятьдесят — раз. Восемнадцать пятьдесят — два», он весь съежился, с ужасом ожидая слова «Продано!», а расплатиться ему будет нечем.
— Двадцать рупий! — заявила Ясомэникэ. Больше цену никто не набавлял, и наволочка, которую вышивала Ясомэникэ, досталась ей самой.
8
В школе, где работала Ясомэникэ, в течение нескольких дней преподаватели и ученики старших классов во всех подробностях обсуждали благотворительную ярмарку. Время от времени коллеги Ясомэникэ подшучивали над ней: что это она решила купить свою собственную наволочку? Не хотела небось, чтобы она досталась Вильсону, и хочет подарить кому-то другому? «Никому ничего я не собираюсь дарить, — пожимала плечами Ясомэникэ. — Просто видела, что всерьез никто и не думает покупать наволочку, вот и купила ее сама».
Но как ни старалась Ясомэникэ казаться спокойной и равнодушной, ей это плохо удавалось, и ни от кого не ускользало, что подобные шутки смущают ее и неприятны ей. А смущалась Ясомэникэ потому, что действительно собиралась подарить свою наволочку и уже несколько дней носила ее в сумке. Ясомэникэ давно вступила в тот возраст, когда девушки обычно выходят замуж, но жениха у нее не было. Молодые люди того круга, к которому когда-то принадлежала ее семья, не обращали на нее внимания, а с остальными она держалась высокомерно и заносчиво, всячески пытаясь показать, что они ей не ровня. Когда она задумывалась о нынешнем своем одиночестве, о том, что ее ожидало в будущем, ее охватывало чувство горечи и тревоги. Но сделать с собой ничего не могла. Она часто встречалась с Котахэнэ Хамудуруво, и они подолгу обсуждали дела храма и общества верующих женщин, а то и просто разговаривали о том о сем. Ясомэникэ относилась к Котахэнэ Хамудуруво с большим уважением и восторгалась всем, что он делал. И когда Котахэнэ Хамудуруво, осматривая товары, приготовленные для продажи на ярмарке, похвально отозвался о ее наволочке, она тут же решила купить ее сама и подарить ему.
В течение нескольких дней она не решалась осуществить свой замысел, хотя ей нужно было повидаться с Котахэнэ Хамудуруво, чтобы обсудить результаты ярмарки. Но однажды после занятий в школе, когда, по ее расчетам, в монастыре никого, кроме Котахэнэ Хамудуруво, не должно быть, она направилась в монастырь. Там действительно никого не было, даже мальчика, который прислуживал старшему монаху. Ясомэникэ поднялась на веранду дома, где жили монахи. Вокруг царила тишина. Ее нарушали лишь шаги Ясомэникэ да доносившееся откуда-то тиканье настенных часов. Дверь комнаты Котахэнэ Хамудуруво была приоткрыта — значит, он там.
Ясомэникэ подошла к двери и заглянула внутрь. Котахэнэ Хамудуруво в короткой юбке — его роба лежала на кровати — сидел за столом и что-то писал. Ясомэникэ невольно залюбовалась его широкими плечами, мускулистым бронзовым телом. «Удобно ли мне войти в комнату?» — засомневалась Ясомэникэ, но тут Котахэнэ Хамудуруво обернулся и увидел ее. Он проворно вскочил со стула, набросил робу и улыбнулся:
— А, Ясомэникэ! Заходи, пожалуйста. Ты, наверно, идешь из школы?
— Да, занятия в школе закончились, вот я и решила зайти.
Они немного помолчали — оба были смущены несколько необычными обстоятельствами своей встречи.
— А я вот делал заметки на будущее. — Котахэнэ Хамудуруво подошел к столу и стал собирать разбросанные на нем листочки бумаги.
Ясомэникэ украдкой бросила взгляд на кровать. Подушка была не первой свежести, с желтыми полосами — наверно, Котахэнэ Хамудуруво нередко ложился на кровать в своей робе, и от нее остались следы. «Позор, что никто до сих пор не поинтересовался, как живет Котахэнэ Хамудуруво, и не постарался сделать его жилище поуютней!» — подумала Ясомэникэ.
— Ярмарка прошла с большим успехом, — продолжал между тем Котахэнэ Хамудуруво. — Я очень доволен. Прихожане проявляют большой интерес к нашим делам. Ты уже подсчитала, сколько мы выручили на аукционе?
Мысли Ясомэникэ были далеко, и ей потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, о чем ее спрашивает Котахэнэ Хамудуруво.
— Всего триста восемьдесят шесть рупий.
Ясомэникэ понимала, что Котахэнэ Хамудуруво хочет обсудить с ней, как лучше всего потратить деньги, полученные от аукциона, поговорить о других делах, но думала она только о том, как преподнести свой подарок, что сказать при этом, что делать, если он вдруг откажется принять его. Наконец она решилась, открыла сумку, достала аккуратно завернутую в белую бумагу наволочку и протянула ее Котахэнэ Хамудуруво.
— Что это, Ясомэникэ?
— Небольшой подарок, — глядя в сторону, пролепетала Ясомэникэ и выбежала из комнаты.
9
Как раз в то время, когда в деревне состоялась благотворительная ярмарка, для Саттихами подошло время родов. Она хорошо помнила, как мать не раз советовала женщинам, которым предстояло стать матерями: «Перед самими родами не сидите без дела. Займитесь какой-нибудь работой, конечно не очень тяжелой. Лучше всего подавите масло из кокосовых орехов. Тогда и роды пройдут без особых болей». Она выбрала восемь орехов покрупнее, расколола их, посушила мякоть на солнце, а затем растолкла ее в ступке. Масло она собрала в большой глиняный горшок и добавила туда пучок корней сэвэндара и две луковицы. После того как масло отстоялось, она наполнила им бутылку из прозрачного стекла, чтобы было видно, какое масло чистое, и отнесла ее на благотворительную ярмарку. Во время аукциона около десяти часов вечера она наклонилась к мужу и сказала: «По-моему, вот-вот должно начаться. Пошли-ка домой».
Однако опасения Саттихами оказались преждевременными, и ночь прошла спокойно. Схватки начались на следующий день вечером. Бандусена, как было условлено, тут же сбегал за тетушкой Саттихами Элисаммой — повивальной бабкой, без участия которой за последние двадцать лет в Эпитакандэ не появился на свет ни один ребенок. Вначале Бандусена настаивал на отправке Саттихами в больницу. Но она не хотела оставить старшего сына хотя бы и на несколько дней, да и с деньгами было туговато, и в конце концов порешили, что Саттихами останется дома.
Элисамма первым делом выставила Бандусену за дверь, приговаривая:
— Нечего тебе здесь делать, раляхами. Иди погуляй во дворе. Бояться нечего. Опыта мне, слава богу, не занимать. Все будет хорошо.
Она сделала из мешковины занавеску, отделила ею угол в комнате, постелила на полу несколько циновок и уложила на них Саттихами. Бандусена сидел на крыльце. Сквозь тонкие стенки домика до него доносились стоны Саттихами, и, несмотря на уверения Элисаммы, что все будет хорошо, страх тонкими иголками покалывал его сердце. А когда Саттихами вскрикнула: «Ой, мамочки, мочи нет терпеть!», ему показалось, что Саттихами кончается, и он опрометью бросился в дом. Элисамма тут же вытолкала его обратно:
— Не сходи с ума, раляхами! С божьей помощью скоро все кончится.
Но до предела обеспокоенный Бандусена тут же послал Вималядасу, который пришел на всякий случай — вдруг потребуется помощь, — найти где-нибудь в деревне автомобиль, чтобы отвезти Саттихами в больницу. Однако, когда Вималядаса вернулся, все было кончено и новый член семьи Бандусены в первый раз подал голос.
— С сыном тебя, Бандусена! — объявила тетушка Саттихами, выйдя из дома.
Элисамма позвала мужчин в дом и показала им новорожденного.
Вималядаса тут же побежал сообщить радостную новость Описара Хаминэ.
Наутро Описара Хаминэ пришла посмотреть на своего нового внука. Впервые она переступала порог жилища своего старшего сына. Ни Бандусены, ни Саната дома не было. Саттихами, измученная и осунувшаяся, но вся светившаяся счастьем и радостью, лежа на циновках, кормила малыша грудью.
— Вот, мама, у нас еще один сыночек появился, — сказала она, когда Описара Хаминэ отодвинула занавеску и заглянула к ней. — Сынок, тебя бабушка пришла проведать. — Саттихами наклонилась и осторожно прижалась щекой к покрытой редкими волосенками головке.
Саттихами протянула малыша Описара Хаминэ, и та, опустившись на циновку, с превеликой осторожностью взяла в руки крохотный сверток.
Перед уходом Описара Хаминэ надавала массу советов и особенно строго наказала не кормить ребенка грудью в присутствии посторонних женщин — считалось, что от этого пропадает молоко.
Привычная к тяжелой работе Саттихами быстро оправилась после родов и уже на третий день хлопотала по хозяйству. Но с малышом творилось что-то неладное — он почти не переставая плакал, его часто тошнило: по-видимому, болел животик. Испробовали все средства народной медицины — безрезультатно. Тогда пригласили доктора. Тот сразу же велел отправить мать и ребенка в больницу в Рагама.
Три дня Саттихами с сыном пролежали в больнице в Рагама, но и там врачи оказались не в состоянии помочь ребенку. На четвертый день утром Саттихами с малышом на машине «скорой помощи» отправили в больницу в Коломбо. Когда Бандусена в тот день, как обычно в одиннадцать часов, пришел проведать жену и малыша и увидел пустую кровать, у него потемнело в глазах.
— Да не волнуйтесь. Их просто отправили в Коломбо, — поспешила успокоить Бандусену сестра, увидев, как он судорожно вцепился в спинку кровати. — Мы вам и телеграмму послали. Разве вы не получили?
— Их отправили в педиатрическую клинику, — продолжала сестра. — Там посетителей пускают к больным с пяти часов. Вы как раз поспеете.
В пять часов Бандусена уже был в Коломбо. Саттихами лежала на кровати, словно каменное изваяние, и неотрывно смотрела на малыша. Казалось, она даже не заметила, что в палату вошел Бандусена. Около кровати стояла капельница, и от нее тянулась тонкая резиновая трубка, исчезавшая под простыней. Ребенок спал.
— Вроде полегчало, — прошептала Саттихами, когда Бандусена подошел вплотную к кровати.
Три недели пришлось провести Саттихами с сыном в Коломбо. Бандусена мотался туда каждый день. В больнице то и дело не оказывалось нужных лекарств, и Бандусене с рецептом приходилось бегать по аптекам. За лекарства нужно было платить самому. По две-три рупии приходилось давать старшей сестре и дежурной сестре, чтобы они разрешали заглянуть к Саттихами, когда в больницу не пускали посетителей. Дважды Бандусена ходил домой к лечащему врачу — и каждый раз вручал ему конверт с двадцатью рупиями. Короче говоря, расходы были немалые, и скудных сбережений Бандусены хватило лишь на несколько дней. Описара Хаминэ даже попросила Ясомэникэ помочь старшему брату. Та скорчила недовольную гримасу, но два раза дала по десять рупий. В конце концов Бандусена обратился за помощью к Хендирияппу, у которого уже взял изрядную сумму в долг под залог земли. Хендирияппу не отказал и на этот раз и в обмен на расписку вручил Бандусене пятьсот рупий.
10
Когда Саттихами с сыном вернулась из больницы, можно было подумать, что не ребенок, а она перенесла тяжелую болезнь — такой измученный и изможденный был у нее вид. Хозяйство оказалось запущенным, а сам Бандусена около месяца не занимался извозом и не заработал ни цента. Помочь ему Саттихами не могла — едва оправившийся от болезни малыш требовал постоянного ухода и заботы. Однако постепенно все стало входить в обычную колею. Правда, надо было отдавать долги, в которых увяз Бандусена, пока Саттихами с малышом была в больнице. А отдавать-то было не из чего.
Хендирияппу знал о тяжелом положении Бандусены и решил им воспользоваться. Бандусена под залог пяти акров земли взял у него восемь тысяч рупий на семь лет. В случае неуплаты этой суммы и сверх того двенадцати процентов от нее к указанному сроку земля должна будет перейти в собственность Хендирияппу. И хотя у Бандусены оставалось еще около двух лет, надежды на то, что ему удастся собрать такие огромные деньги, не было никакой. Хендирияппу понимал это так же хорошо, как и Бандусена. Ему не терпелось наложить лапу на лакомый кусок. И дня не проходило без его увещеваний: «Послушай, Бандусена. Мы всегда были с тобой в хороших отношениях. И хоть и дальняя, но мы с тобой родня. Однако денежные дела есть денежные дела, и, если ты не сможешь со мной расплатиться, мне придется забрать землю. По всему видно, что такие деньги собрать тебе не под силу. Я хочу все сделать по-хорошему и помочь тебе. Давай так. Я прощу тебе те пятьсот рупий, что ты взял у меня в долг недавно, и еще дам тебе денег, а ты напишешь мне бумагу, что до истечения срока закладной отказываешься от всех прав на землю и передаешь ее в мою собственность. Я ведь знаю, в каком ты сейчас тяжелом положении, и деньги тебе будут очень кстати».
Бандусена колебался. Он понимал всю безвыходность своего положения. Да и не было у него врожденной крестьянской тяги к земле и стремления во что бы то ни стало сохранить ее, он все больше и больше склонялся к тому, чтобы принять предложение Хендирияппу.
Но когда Бандусена сказал о своих намерениях Саттихами, та встала на дыбы:
— И думать не смей! За свое надо держаться из последних сил! Надо посоветоваться с матерью и Ясомэникэ. Какой-нибудь выход да найдете.
— Да тут хоть с самим господом богом советуйся, все равно ничего не придумаешь.
— Не знаю, что тебе скажет бог, а я вот что предлагаю. Твоя доля составляет пять акров. Отпиши три или четыре акра Ясомэникэ при условии, что она выплатит твой долг Хендирияппу. У нее наверняка есть деньги. Тогда земля по крайней мере останется в семье, а не окажется в чужих руках. То, что ты собираешься сделать, просто преступление!
Бандусена решил, что Саттихами права, и последовал ее совету. Однако когда Бандусена заговорил об этом деле с Описара Хаминэ, та сразу же разразилась упреками, которые ему не раз приходилось слышать: как он мог так опрометчиво заложить землю, и не тяжело ли ему самому из-за своего легкомыслия, да и откуда у Ясомэникэ наберется больше восьми тысяч рупий!
— Ты не права, мама, — с досадой прервал ее Бандусена. — Я же не все те восемь тысяч потратил на себя. Большая часть ушла на покрытие судебных издержек. Да еще кое-что Ясомэникэ и Вималядасе пришлось купить. Может, я поступил и не наилучшим образом, да что теперь об этом говорить! Если есть возможность не отдавать землю Хендирияппу, то упускать ее нельзя.
Описара Хаминэ понимала, что сын говорит дело. Но как отнесется к этому Ясомэникэ? Да и смогут ли они набрать такую огромную сумму денег?
Ясомэникэ восприняла предложение Бандусены очень благожелательно, более того, сочла поступок Бандусены благородным и даже упрекнула себя — конечно, не вслух, — что была с ним так груба и непримирима. Деньги у нее нашлись — правда, немного пришлось занять на стороне, — и четыре акра были записаны на ее имя. При этом она согласилась, что, как только Бандусена будет в состоянии расплатиться с ней, он может забрать эти четыре акра обратно.
После этого отношение Ясомэникэ к Бандусене стало намного более терпимым. Правда, внешне все оставалось по-прежнему. Только к Санату она относилась теперь совершенно по-другому — приветливо встречала его, и каждый раз у нее находились для мальчика добрые и ласковые слова. Саната все время тянуло в «большой дом», где бабушка рассказывала ему интересные истории, а дядя Вималядаса всегда находил время поиграть с ним. Его только отпугивало присутствие там недоброжелательной и замкнутой Ясомэникэ. Но каким чудесным образом все изменилось! И теперь по утрам Санат нередко провожал свою тетю в школу — его ручонка покоилась в ее ладони, и они оживленно о чем-то разговаривали.
11
Как только закончились треволнения, вызванные появлением еще одного ребенка в семье Бандусены, и были решены возникшие в связи с этим имущественные вопросы, все внимание Описара Хаминэ вновь вернулось к проблеме, которая уже давно сначала исподволь, а потом все сильнее и сильнее беспокоила ее: как найти Ясомэникэ мужа. То, что Ясомэникэ в ее годы оставалась одинока, было настоящим несчастьем. А уж если Описара Хаминэ считала, что ее коснулось несчастье, то ни о чем другом ни думать, ни говорить она не могла. Первыми слушателями ее жалоб и причитаний пришлось быть Ясомэникэ и Вималядасе.
Ясомэникэ относилась к причитаниям матери довольно сдержанно, а у Вималядасы выдержки хватило ненадолго.
— Мама, теперь ты с утра до вечера и с вечера до утра говоришь об одном и том же. Хоть караул кричи! — заявил он однажды Описара Хаминэ.
— Что ты понимаешь? — оборвала его Описара Хаминэ. — Сиди и помалкивай!
Не встретив понимания со стороны домашних, Описара Хаминэ стала изливать душу кому ни попадя — Бастияну, которого они нанимали собирать кокосовые орехи, Манги, торговавшему орехами кос, прачке, приходившей к ним стирать белье. Они охотно поддакивали Описара Хаминэ, но не проявляли того участия, на которое она рассчитывала. И Описара Хаминэ решила искать сочувствия у Саттихами. Однажды, когда Саттихами натирала ей голову маслом, она приступила к делу:
— И Ясомэникэ, и Вималядаса ничего-то не понимают. Ведь если дома есть девушка того возраста, когда уже давно пора быть замужем, то это все равно что Махамэра свалилась на голову. А Ясомэникэ ведет себя так, словно ее это и не касается. Что же она, собирается всю жизнь провести в монастыре? Надо что-нибудь делать, и поскорее!
— А Руйта Аййа не смог помочь? — сразу же спросила Саттихами, вспомнив, что несколько раз видела, как Руйта Аййа, который считался в деревне самым большим специалистом по подыскиванию женихов и невест, несколько раз заходил в дом к Описара Хаминэ.
— Да разве же Ясомэникэ угодишь? Кого бы ни предлагал Руйта Аййа, ее все не устраивало. То из недостаточно знатной семьи. То некрасив. То ходит в национальной одежде. То беден. То работа у жениха не такая, как ей бы хотелось. Даже сына Гаджанаяка Мудаляли забраковала, а уж на что родовитая семья. Лысина, видите ли, у него! Просто ума не приложу, что делать.
Описара Хаминэ и Саттихами посудили-порядили и решили попробовать привести в дом еще одного жениха. По совету дяди Саттихами, Надориса Баса, выбор остановили на сыне Сиянэкорале — Вильсоне. Он приходился дальней родней со стороны Описара Раляхами и работал учителем английского языка. Поскольку Вильсона предложил Надорис Бас, то он и должен был прийти вместе с женихом.
Вечером накануне предполагаемого визита Саттихами приготовила угощение. Она специально послала Бандусену на рынок купить все самое лучшее — рыбу, горошек, морковь и другие овощи. Саттихами постаралась на славу — Описара Хаминэ попробовала готовое блюдо и пришла в восторг, заявив, что никогда не ела такой вкусной рыбы. Они выложили рыбу и гарнир на большое блюдо, украсили зеленью и прикрыли сверху другим блюдом.
В тот вечер, прежде чем лечь спать, Описара Хаминэ зашла в комнату к Ясомэникэ.
— Ты уж завтра не привередничай. Соглашайся и выходи замуж за Вильсона. Тебе давно пора обзавестись своей семьей. Если бы ты знала, как мне тяжело!
Из глаз Описара Хаминэ брызнули слезы, и она поспешно вышла из комнаты.
Ясомэникэ понимала, что матери действительно нелегко. После ухода Описара Хаминэ она долго лежала с открытыми глазами и думала о завтрашнем дне. Раньше она не видела своего нового жениха, но, судя по тому, что о нем говорили другие, Вильсон отличался приятной внешностью. «Надо бы и мне одеться получше, — подумала она. — Хорошо бы надеть голубое сари. Только вот рукава у кофточки к этому сари длинноваты. Придется надеть зеленое сари. К нему как раз есть кофточка в светло-зеленый горошек. Но мне больше идет голубой цвет». Она поднялась с кровати, зажгла лампу и надела голубую кофточку. «Нет, не пойдет», — вздохнула Ясомэникэ, внимательно осмотрев себя в зеркале. Она погасила лампу и снова легла.
Сон по-прежнему не шел к ней, и она снова стала думать о завтрашнем сватовстве. Постепенно мысли о женихе и возможном замужестве захватили ее. Каков он, ее жених? Ждать ли ей, пока он войдет в дом, или украдкой выглянуть из окна? Смотреть ли в глаза жениху, поднося блюдо с листьями бетеля, или смиренно потупить взор? После свадьбы они переедут в новый дом и начнут новую жизнь. Новую жизнь! Давно уж пора ей обзавестись своей семьей. Правда, мысль о том, что придется покинуть мать, мимолетной болью кольнула сердце. Но она быстро успокоилась, ведь под родительским кровом оставался Вималядаса, да и Саттихами здесь частая гостья. Так что мать не будет чувствовать себя одинокой.
Сон никак не шел к Ясомэникэ. «Боже мой, как же ужасно я буду выглядеть завтра, если не высплюсь как следует!» — подумала она. Ясомэникэ поминутно укладывалась поудобнее, крепко зажмуривала глаза, но заснуть так и не смогла. Пробило час. В комнате было душно. Ясомэникэ снова поднялась с кровати и распахнула окно. Прохладный ветерок нежно коснулся разгоряченного лица. Лунный свет пробивался через кроны деревьев и широкими полосами ложился на землю. Она залюбовалась красотой лунной ночи, но невольно думала и о завтрашнем дне. Надо будет набросить на стулья новые чехлы с вышитыми на них птицами. Точно такими, какие были вышиты на наволочке, которую она подарила Котахэнэ Хамудуруво. «Ах, если бы только новый жених был похож на Котахэнэ Хамудуруво!» — подумала Ясомэникэ и невольно вздохнула. И ее воображение сразу нарисовало портрет жениха, как две капли воды похожего на Котахэнэ Хамудуруво, поднимавшегося на веранду и улыбавшегося ей так, как мог улыбаться только Котахэнэ Хамудуруво. И голос у него был такой же, как у Котахэнэ Хамудуруво.
— Грех-то какой! — прошептала Ясомэникэ и чуть не замахала руками, пытаясь прогнать стоявшее перед ней видение. Она как сноп упала на кровать и, сложив руки в молитве, начала повторять пять заповедей.
Несмотря на бессонную ночь, Ясомэникэ проснулась, как только первые солнечные лучи коснулись земли, с радостным ожиданием чего-то значительного. То, о чем ей так внезапно подумалось ночью, было забыто. Она принялась оживленно хлопотать по дому, помогая матери и Сопии. Описара Хаминэ украдкой наблюдала за дочерью и, видя ее приподнятое настроение, твердила про себя: «Вроде Ясомэникэ в хорошем расположении духа. Дай-то бог, чтобы в этот раз все окончилось благополучно!»
В двенадцать часов появился жених. Он был одет в европейский костюм, а ворот сверкавшей белизной рубашки стягивал галстук. Его сопровождали молодой человек в национальной одежде, Надорис Бас и Бандусена. Ясомэникэ сразу же отметила европейский костюм Вильсона. Гости и хозяева уселись на веранде. Скованность, которую испытывали все вначале, скоро прошла, и завязалась общая беседа. И, однако, каждый раз, как Надорис Бас пускался в напыщенные рассуждения, Ясомэникэ чувствовала прилив необъяснимого раздражения. Она и сама не могла понять, в чем дело, но радостное возбуждение сегодняшнего утра постепенно улетучивалось.
К тому моменту, когда все встали из-за стола и Ясомэникэ должна была преподнести жениху листья бетеля, она уже смотрела на него беспощадно-придирчивым взглядом. Однако держала она себя вежливо и спокойно, так что о смене настроения у нее никто не догадался, и, когда гости ушли, Описара Хаминэ твердо заявила:
— Жених по всем статьям подходящий парень. Можно и о свадьбе подумать.
— Не будем торопиться, мама, — робко возразила Саттихами. — Пусть Ясомэникэ сама скажет.
— И скажу! — с готовностью откликнулась Ясомэникэ тоном, не предвещающим ничего хорошего. — И не подумаю выходить за этого заморыша!
— Сил моих больше нет! — всплеснула руками Описара Хаминэ. — Ведь вроде бы все было так хорошо! Сколько денег на сватов перевели, сколько раз угощение готовили! И все без толку! Ну чем тебе не понравился Вильсон? Согласилась бы ты, Ясомэникэ, выйти за него замуж… — закончила Описара Хаминэ смиренной просьбой.
Описара Хаминэ толковала о Вильсоне, а мысленному взору Ясомэникэ, как и ночью, явился, заслонив всех остальных, Котахэнэ Хамудуруво; она ответила матери резче, чем ей хотелось бы самой:
— Не пойду я за Вильсона, и все тут. А если я тебе надоела, то могу уйти из дому. И хватит с меня и ваших женихов, и вашей заботы!
Ясомэникэ ушла к себе в комнату, а Описара Хаминэ только и смогла пробормотать ей вслед:
— Хоть бы сказала, в чем дело. А то просто так: не хочу, и все тут. Господи! Скажи кому, так не поверят.
После этого в доме Описара Хаминэ никогда больше не говорили ни о сватах, ни о женихах. Только Санат, сопоставив поведение Ясомэникэ в день неудачного сватовства Вильсона с тем, что ему время от времени приходилось слышать в школе, как-то сказал Описара Хаминэ:
— А тетя Ясо рассердилась, когда ты уговаривала ее выйти замуж за Вильсона, потому что ей хотелось бы выйти за Котахэнэ Хамудуруво…
— Грех такое говорить, — замахала руками бабушка. — И чтобы больше я этого от тебя не слышала!
Санат потупился и замолчал, но по тому, как смутилась Описара Хаминэ, почувствовал, что его предположение не лишено оснований.
12
Описара Хаминэ беспокоила не только судьба Ясомэникэ. У Вималядасы тоже не все складывалось так, как ей бы хотелось. Он стал замкнутым и неприветливым, ушел в себя. Но если Описара Хаминэ жалела его, то Ясомэникэ постоянно осыпала младшего брата попреками. Если к ним приходили гости, то после их ухода Вималядасе неизменно приходилось выслушивать: «Ну что ты сидишь букой да смотришь исподлобья. Ни улыбнешься, ни приветливого слова не скажешь. А в чем дома ходишь? Драный саронг да пропахшая потом рубашка. В школу-то словно денди наряжаешься!»
Но особой горечью были полны ее упреки, когда речь заходила об учебе. Закончив деревенскую школу, Вималядаса дважды пытался сдать экзамен на аттестат зрелости, но оба раза неудачно. Он вознамерился было отказаться от идеи закончить свое образование, но по настоянию матери поступил в колледж «Лорэнс» в Гампаха и, проучившись год, снова попытал счастья на экзаменах. Однако и на этот раз безуспешно.
— Настоящий осел! — обрушилась на Вималядасу Ясомэникэ, когда узнала, что он снова провалился на экзаменах. — Никто ничего тебя делать не заставляет — сиди с утра до вечера над книжками. И все без толку. Сколько я с тобой английским занималась! Все равно что в дырявом кувшине воду носила. Если бы я с Сопией столько занималась, то даже она бы сдала экзамен по английскому. Надо мной уж люди смеются. Только и годишься на то, чтобы коровьи лепешки собирать!
— Что толку пилить парня, — попыталась успокоить ее Описара Хаминэ. — Не везет ему. Ну что тут поделаешь?
— Всё твои поблажки! Бандусена не живет, а горе мыкает. И этот туда же катится.
Но Вималядаса настолько привык к упрекам Ясомэникэ, что почти совсем не замечал их, как кузнец, всю жизнь проработавший в кузнице, не замечает жара горна. Однако порой обстановка дома сильно угнетала его, и ему хотелось сбежать — все равно куда. Однажды он сказал об этом Котахэнэ Хамудуруво, и тот в шутку предложил постричься в монахи. Вималядаса всерьез воспринял его слова и даже сказал об этом своим домашним, но они воспротивились его намерению.
Когда в доме готовились к приходу Вильсона, Вималядаса заявил матери, что намерен на два-три дня съездить к дяде, который жил в Калавэва. Описара Хаминэ отпустила его. Вместе с Санатом она пошла проводить сына. И Санат был свидетелем того, как бабушка, глядя вслед отходящему автобусу, смахнула слезу и со вздохом прошептала: «Вот и у этого не все ладно складывается».
Вималядаса приехал в Калавэва, когда наступила пора сбора урожая. Дядя хозяйствовал удачно. Он не только обеспечивал семью рисом до следующего урожая, но и много риса продавал. Часть вырученных денег уходила на оплату долгов, неизбежных для каждого крестьянского двора, а оставшиеся деньги он тратил, всегда устраивая праздник с обильным угощением, чтобы отметить завершение сбора урожая.
В первый же день двоюродный брат Вималядасы, Тилака, потащил его смотреть кинофильм. У Тилаки было свое рисовое поле. Одет он был очень нарядно — нейлоновая рубашка с длинными рукавами, саронг из батика, туфли фирмы «Батя». Левое запястье охватывал браслет часов. Тилака усадил Вималядасу на раму велосипеда, и они покатили по деревенской улице. По дороге Тилака остановился около деревенской лавки, вытащил из нагрудного кармана бумажку в десять рупий и купил пачку сигарет «Три розы» и коробок спичек. Вытащил сигарету, постучал ею о пачку и закурил.
— А ты куришь, Вималядаса?
— Нет.
— И не хочешь попробовать?
— Нет, — ответил Вималядаса и смутился. Ему стало стыдно за свое безденежье. Ясомэникэ каждый день выдавала ему ровно столько денег, сколько нужно было на автобус, чтобы доехать до школы и вернуться домой. Всего два-три раза он заходил в лавку в своей деревне — чтобы скопить денег на чашку чая и бисквит, ему нужно было топать домой пешком. А Тилака, расплачиваясь за сигареты и спички, небрежно протянул бумажку в целых десять рупий! И к рулю его велосипеда привязан радиоприемник, из которого тихонько льются звуки песни.
— Я уже вчера был в кино, — говорил Тилака, вертя педалями. — Но мне так понравилось, что я еще раз хочу посмотреть. Это индийский фильм. Любовь, приключения — все, что надо…
А Вималядаса за всю свою жизнь был в кино три раза. Однажды фильм показывали в буддийском монастыре в их деревне. Еще два раза он ходил в кино в Гампаха. И пока они ждали начала сеанса, Вималядаса думал о том, как отличалась жизнь Тилаки от его собственной. Тилака самостоятельный человек, и им никто не помыкает. И стоит ли во что бы то ни стало стремиться получить аттестат, чтобы потом в лучшем случае быть мелким чиновником?
Возвращались они по дороге, которая проходила вдоль озера, и перед ними открылось чудесное зрелище: лучи заходящего солнца окрашивали водную гладь в багровый цвет; по узкому каналу, выходящему из озера, бурно стремился водный поток, и над ним вилась водяная пыль и взлетали белые хлопья пены.
На следующий день с первыми лучами солнца Вималядаса вместе с тетей и сестрами пошел на участок хэна. Кунжут уродился на славу — стебли сгибались под тяжестью туго налитых золотистых колосьев. Они уже начали сохнуть, и над полем висел густой, щекочущий ноздри запах. Богавати сорвала несколько сухих колосьев и протянула Вималядасе:
— Вылущи зерна и пожуй.
— Как вкусно! — воскликнул Вималядаса, раздавив на зубах несколько зерен. — А я-то думал, что зерна кунжута горьковатые на вкус.
— Это поле обрабатываю я и Богавати, — сказала тетя.
— Вималядаса, посмотри, какие у нас арбузы! — позвала Сириявати. Она стояла на другом конце участка, и вокруг нее на земле зеленели огромные глянцевитые плоды. — Выбирай любой. — Сириявати протянула кривой нож.
Вималядаса стоял в растерянности: какой арбуз выбрать? Любой хоть на выставку отправляй. Он наклонился над первым попавшимся арбузом, срезал плеть и едва коснулся ножом прорезанной темно-зелеными полосами корки, как арбуз с хрустом раскололся надвое, обнажив сахаристую ярко-красную мякоть.
Дядя Вималядасы семь-восемь лет назад взял участок хэна и переехал сюда из Эпитакандэ. Многие тогда считали, что рано или поздно ему придется вернуться: почва была такой бедной, что и представить было невозможно, чтобы кто-нибудь, сколько бы труда ни вкладывал, смог на этой земле прокормиться. Однако дядя работал не покладая рук и превратил участок в цветущее хозяйство. Вималядасу приводило в восторг все, что он здесь видел.
Когда три дня спустя Вималядаса с объемистым мешком, набитым фруктами и овощами, вернулся домой, он уже твердо знал, чем будет заниматься в дальнейшем.
13
Не успела Эпитакандэ успокоиться после парламентских выборов, которые проходили несколько месяцев тому назад, как всю деревню залихорадило вновь — подошло время выборов представителей в деревенский комитет.
Страсти, которые бушевали в деревне во время выборов в парламент, не коснулись ни Бандусены, ни кого-либо из обитателей «большого дома». Скудные средства и незаметное положение, которое он занимал теперь в деревне, исключали его активное участие в предвыборной кампании. Кроме того, ввязываться в такие дела — значит нажить себе врагов. А этого Бандусене совсем не хотелось. Однако во время выборов деревенского комитета Бандусена и сам не заметил, как оказался в гуще событий.
Уже много лет неизменным представителем от Эпитакандэ в деревенском комитете был Рогис Аппухами. Ничьей другой кандидатуры не выдвигалось, и многие даже думали, что никаких выборов и нет, а Рогис Аппухами просто назначается на этот пост и они должны выразить свое одобрение этому назначению. Нередко можно было слышать, как какой-нибудь крестьянин с жаром доказывал, будто выборы проводятся только в Государственный совет, или, как его теперь называли, парламент. Но на этот раз группа молодых людей решила выдвинуть еще одного кандидата. По заведенному обычаю решающее слово при выдвижении кандидата принадлежало настоятелю. Однако, зная о его приверженности Рогису Аппухами, молодые люди решили действовать самостоятельно.
Первой в семье Бандусены узнала об этом Саттихами, которая теперь подрабатывала, собирая латекс на плантации, принадлежавшей белому хозяину. Там-то она и проведала, что группа молодых людей решила выдвинуть своим кандидатом Тэджавардхану. А поскольку Тэджавардхана был сыном Хендирияппу и, следовательно, приходился Бандусене хоть и дальним, но все же родственником, то Саттихами почувствовала что-то вроде гордости.
— Ты слышал новость? — спросила она вечером мужа. — На этот раз в деревенский комитет собираются выдвинуть Тэджавардхану.
— Ну и дела… — Бандусена даже рот открыл от удивления. — А что, Рогис Аппухами не будет участвовать в выборах?
— Почему же, его тоже выдвигают. Да только молодые люди решили со своей стороны выдвинуть Тэджавардхану.
— Пора бы прокатить Рогиса Аппухами. Как пиявка присосался к деревенскому комитету. Для деревни ничего не делает, а только под себя гребет.
Наверно, не один Бандусена подумал так, когда стало известно, что на выборах в деревенский комитет будет еще один кандидат.
— Рогис Аппухами — за Объединенную национальную партию, а Тэджавардхана за левых, — заявил Санат.
— А ты откуда знаешь? — Удивлению Бандусены не было конца — оказывается, он был самым неосведомленным человеком в семье.
— Ребята сказали. Надо поддерживать левых, — с необычайной серьезностью сказал Санат. — Мне даже поручили написать несколько лозунгов.
Во всех случаях, когда в деревне более или менее открыто сталкивались интересы богатых и бедных, Бандусена неизменно вставал на сторону последних. И сейчас он, естественно, симпатизировал Тэджавардхане, которого выдвинули и поддерживали простые люди. И хотя Хендирияппу в свое время пытался наложить лапу на землю Бандусены, он не держал зла ни на него, ни на его сына. А когда после подачи заявок на участие в выборах Тэджавардхана со своими друзьями зашел в дом Бандусены, то тот из просто симпатизирующего стал активным сторонником и помощником Тэджавардханы. Если Бандусена и испытывал какие-либо сомнения и опасения — ввязываться ему в предвыборную борьбу или нет, — то Тренинг Махатта, сопровождавший Тэджавардхану, быстро их рассеял:
— Рогис Аппухами небось думает, что он навечно получил место в деревенском комитете. Как бы не так! На этот раз придется ему остаться ни с чем. Но нужно, чтобы ты нам помог.
— Ты, Бандусена, человек авторитетный, и люди будут к тебе прислушиваться, — вставил Вилбот.
Саттихами расплылась в улыбке — уж очень приятно слышать, что люди ценят ее мужа.
— А мы после выборов в долгу не останемся. Мы не то что Рогис Аппухами и его люди. Не только о себе думаем, — продолжал увещевать Тренинг Махатта.
«А может, и будет от этого какая польза, — подумал Бандусена. — Вечно в стороне сидеть, так ничего и не дождешься. Ведь двоих парней учить надо. Это тебе не шутка».
— А чем я особенно могу помочь? Не так уж люди прислушиваются к моим словам. — Бандусена отнекивался из вежливости, решение он уже принял. — Опыт, правда, у меня есть. На выборах до последнего момента ничего определенного сказать нельзя. Да и потом, люди за кого угодно проголосуют, дай им только стакан арака или пять рупий.
Все прекрасно помнили, что на последних парламентских выборах большинство избирателей голосовали за кандидата, которого поддерживал Рогис Аппухами. Но добился он этого исключительно благодаря подкупу.
— Все это так. Да только настроения в деревне изменились. Теперь лживыми посулами да подкупом немногого добьешься, — веско закончил беседу Тренинг Махатта.
Приближался день выборов, и все больше жителей Эпитакандэ вывешивали красные флажки. Поскольку это был цвет Тэджавардханы и его сторонников, то уверенность Тренинга Махатты, казалось, оправдывается. Однако большой неприятностью для всех, кто поддерживал Тэджавардхану, явилось то, что Котахэнэ Хамудуруво, долгое время хранивший молчание и никак не выказывающий своего отношения к происходящему, стал открыто поддерживать Рогиса Аппухами. После этого и значительная часть общества верующих женщин, включая Ясомэникэ, встала на сторону Рогиса Аппухами — еще одна причина для дальнейшего отчуждения между братом и сестрой.
Не обошлось и без стычек. Однажды Бандусена проходил мимо лавки, где Рогис Аппухами обычно проводил вечера со своими друзьями, и тот нарочито громко сказал:
— Понавешали флагов и думают, победа у них в кармане. Посмотрим, что они запоют, когда откроют урны. Вон еще один умник идет. Наслушался сладких речей — и нос задрал.
— Твоя правда, в день выборов узнаем, кто победит. А и сейчас уже ясно: больше ты не можешь безраздельно верховодить в деревне, — не остался в долгу Бандусена.
С каждым днем напряжение нарастало. В день выборов вся деревня была расцвечена красными и зелеными флагами — зеленый цвет был цветом Рогиса Аппухами. Туда-сюда сновали группы молодых людей в красных рубашках и шапках. Их старались перекричать парни в зеленом, призывая голосовать за своих кандидатов. Группа женщин средних лет, среди которых была и Саттихами, все в красных кофточках, уговаривали направлявшихся на избирательный пункт людей поставить крест против знака лампы — символа Тэджавардханы.
Санат со своими сверстниками — все с большими листами картона, на которых были нарисованы лампы, — ходили по деревне, агитируя за Тэджавардхану. Хотя у Саната еще не было права голоса, он с большим азартом включился в предвыборную кампанию. Он очень гордился различными поручениями взрослых — и, будь то просьба принести пачку сигарет или напомнить кому-нибудь о необходимости проголосовать, он со всех ног бросался ее выполнять. Он также нарисовал большую часть памятных карточек. Его радовало, что в успехе Тэджавардханы — а он не сомневался, что Тэджавардхана победит, — будет и его заслуга.
Однако Тэджавардхану и его сторонников ждало разочарование: когда вскрыли урны и подсчитали бюллетени, оказалось, что Рогис Аппухами получил на тридцать девять голосов больше.
Все те, кто поддерживал Рогиса Аппухами, тут же организовали импровизированное шествие по деревне, а сторонники Тэджавардханы понуро разошлись по домам. Санат спрятал лицо в ладонях и разрыдался.
— Есть из-за чего плакать! — Бандусена положил руку на плечо сына. — На выборах всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.
Бандусена пытался утешить Саната, а у самого на душе было прескверно.
14
Выборы в деревенский комитет оказались для Эпитакандэ чем-то вроде урагана, пронесшегося над деревней отдельными полосами — кому-то он не причинил никакого ущерба, а кто-то от него сильно пострадал. Среди последних оказался и Бандусена. Ему пришлось на несколько недель забросить все свои дела и заниматься только выборами. Много дней подряд повозка стояла под навесом, а бык мирно пощипывал траву на лужайке. Поскольку деньги на текущие расходы Бандусена получал от извоза, ему нечем было заплатить за самое необходимое. Он стал продавать кокосовые орехи с участка, не давая им дозреть. Мало того, что получал он за них сущие гроши, но и лишал себя какого-либо дохода в будущем. А однажды, когда сторонники Тэджавардханы собирали деньги на оплату каких-то непредвиденных расходов, Бандусена ничтоже сумняшеся продал два бушеля риса — Тэджавардхана после победы все вернет.
Но кончилось все совсем не так, как они надеялись, и Бандусена и Саттихами только разводили руками: как могли они столь опрометчиво ввязаться в такое дело и подорвать и без того шаткое материальное положение семьи? Особенно беспокоили их ежедневные расходы на дорогу и на завтраки Санату, которого недавно из деревенской школы перевели в колледж в Галахитиява. Через несколько дней Саттихами удалось взять на плантации в счет аванса тридцать рупий. При этом, правда, ей пришлось-таки покланяться и выслушать немало обидных замечаний.
После выборов вновь потекли дни, похожие один на другой, как кокосовые орехи из одной грозди. Заботы… заботы… заботы… Только стремление во что бы то ни стало обеспечить сыновьям возможность учиться дальше не позволило Бандусене поддаться отчаянию и опустить руки. Правда, работы теперь стало меньше. Больше Бандусене не приходилось вывозить скорлупу кокосовых орехов с плантаций, принадлежащих Рогису Аппухами, Джасентулияну, Надукара Хамудуруво и некоторым другим. Иногда его нанимали привозить товары в кооперативную лавку. Платили за это хорошо, но такая удача выпадала редко. В те дни, когда возить было нечего, Бандусена брал в руки мотыгу и работал на участке, пытаясь выжать из него все, что можно. С мотыгами в руках постоянно можно было видеть и обоих его сыновей, Саната и Викраму.
Так Бандусена и Саттихами, стиснув зубы, боролись за будущее своих детей.
15
Хотя Ясомэникэ сама отвергла всех женихов и предпочла остаться старой девой, временами она остро испытывала горечь одиночества. В такие минуты она завидовала всем женщинам, у которых были семьи, дети. Но особое раздражение вызывала у нее Саттихами. Всю жизнь Ясомэникэ смотрела на нее свысока. А теперь у Саттихами муж и семья. И муж не какой-нибудь, а сын Описара Раляхами. Ни кожи, ни рожи, за душой ни гроша, а сумела-таки устроить свое счастье. Ей же не суждено выйти замуж за любимого человека и предстоит остаться одинокой.
Сознание того, что очень важная часть жизни обходит ее стороной, что, кроме ближайших родственников, у нее никого в мире нет, сделало ее гораздо мягче и терпимей по отношению к матери. Но к Вималядасе она оставалась по-прежнему непреклонной — ведь нужно же было добиться, чтобы хоть один мужчина из рода Описара Раляхами занял подобающее место в жизни. Поэтому и шпыняла Вималядасу, пытаясь заставить сдавать экзамены вновь. Но Вималядаса и думать не хотел об учебе. То, что он трижды пытался получить аттестат зрелости и его трижды постигала неудача, уже вызывало иронические ухмылки у многих односельчан. Ему вовсе не хотелось добавлять к трем своим неудачам еще одну. Да и не лежала у него душа к книгам и занятиям, к чиновничьей карьере, которую прочили ему мать и сестра. Его тянули к себе земля и крестьянский труд, дающий людям хлеб насущный.
Он снова отпросился у матери в Калавэва и пробыл там целую неделю. Как и в прошлый раз, дядя щедро снабдил Вималядасу кунжутом, просом, арбузами. Едва он переступил порог дома, как принялся горячо расписывать хозяйство дяди. Ясомэникэ мрачно слушала восторги брата.
— Ясо! Дядя и тебя приглашал приехать к ним погостить, — обратился Вималядаса к сестре.
— Не лезь ко мне с глупостями! — почти крикнула Ясомэникэ.
Резкий отпор со стороны Ясомэникэ не обескуражил Вималядасу: он продолжал оживленно рассказывать о своей поездке. Вытащив из мешка арбуз, он разрезал его на толстые ломти и один из них протянул Ясомэникэ:
— Попробуй-ка, Ясо. Такая прелесть!
Ясомэникэ схватила кусок арбуза и швырнула его во двор.
— Чем шататься черт знает где, лучше бы сел за книги да попытался еще раз сдать экзамены. Всю жизнь собираешься в земле ковыряться, что ли?
Из людей, окружавших Вималядасу, только Саттихами сочувствовала ему в его желании крестьянствовать и не видела в этом ничего зазорного.
16
После выборов представителей в деревенский комитет деятельность общества верующих женщин почти совсем замерла — сказывался раскол, который произошел между его членами во время выборов. Котахэнэ Хамудуруво не предпринимал никаких шагов, чтобы восстановить мир и согласие между членами общества, полагая, что с течением времени страсти улягутся, и тогда это будет сделать легче, чем теперь. Ясомэникэ недоумевала и огорчалась:
— Свамивахансэ[2], если вы ничего не предпримете, то скоро в деревне забудут, что когда-то было общество верующих женщин. Многие меня спрашивают: «Что думает Котахэнэ Хамудуруво? Почему он ничего не делает?»
Сложившаяся ситуация удручала Ясомэникэ — работа этого общества было единственным делом, которым она занималась с интересом. Ей уже давно надоело преподавать английский язык в школе. Да и какое удовлетворение можно испытывать от того, что вопросом «Как ваше имя?» и ответом на него почти исчерпывались знания, которые твои ученики были в состоянии приобрести! От того, что, сколько ни бейся, они продолжали произносить вместо «ф» — «п», а вместо «ш» — «с»! Не раз она думала о переводе в другую школу, но осуществить это было очень трудно.
Но по крайней мере в школе ее не одолевали мрачные мысли, как по вечерам в субботу и воскресенье, когда ей приходилось коротать время дома. Ее не ждали те хлопоты и заботы, которые ждут замужнюю женщину, и часто сознание одиночества железным обручем сдавливало ей грудь. С грустью думала она о матери, с ужасом сознавая, что наступит время, когда ей придется остаться одной. Порой ей казалось, что какая-то неумолимая сила заталкивает ее в мрачные, беспросветные джунгли, из которых ей уже не выбраться до конца жизни.
Нередко она подолгу думала о прошлом, словно рассматривала семейный альбом. Перед ее мысленным взором проходили женихи, которых она отвергла. Большинство из них были теперь женаты, и это невольно задевало ее самолюбие. Раскаивалась ли она в том, что обрекла себя на одиночество? Вряд ли сама Ясомэникэ ответила бы на этот вопрос. Но из минувшего память непроизвольно выбирала самые приятные для нее мгновения и подолгу задерживалась на них — встречи с Котахэнэ Хамудуруво. И о чем бы она ни думала, мысли ее всегда обращались к нему. До сих пор Котахэнэ Хамудуруво хранит наволочку, которую она когда-то подарила. Ясомэникэ сама видела ее, застиранную и штопаную-перештопанную, в комнате Котахэнэ Хамудуруво. Видно, неспроста он так долго хранит ее. Однако положение Котахэнэ Хамудуруво, наверно, не позволяет ему откровенно поговорить с ней и исключает для нее всякую возможность сделать это самой. Ясомэникэ вышила для Котахэнэ Хамудуруво еще одну наволочку, но пока она лежала в ее сумке.
Теперь Ясомэникэ гораздо реже виделась с Котахэнэ Хамудуруво — общество почти бездействовало, не было и удобных поводов для встреч. Но все же время от времени Ясомэникэ заходила к нему. Перед каждым визитом она подолгу стояла перед зеркалом. И огорчалась, и радовалась, глядя на свое отражение в зеркале, — около глаз и губ уже побежали первые морщинки, но лицо по-прежнему было миловидным. Тщательно выбирала сари и кофточку. Капелька духов, самая малость, чтобы аромат не был густым и навязчивым, а только угадывался.
Однажды, когда Ясомэникэ зашла к Котахэнэ Хамудуруво, тот спал. Осторожно ступая, она вошла в комнату и прикрыла дверь. Котахэнэ Хамудуруво спал, прижавшись щекой к подушке, и на его губах дрожала улыбка. Ясомэникэ с трудом подавила желание коснуться его лица и опустилась на стул. Стул скрипнул, Котахэнэ Хамудуруво открыл глаза. Некоторое время он ошарашенно смотрел на Ясомэникэ, словно она ему только что спилась, и сейчас никак не мог сообразить, видит ли ее наяву или во сне. Ясомэникэ смутилась, будто Котахэнэ Хамудуруво, внезапно проснувшись, подглядел, что творится у нее в душе. Некоторое время оба молчали. Затем Котахэнэ Хамудуруво сел на кровати и с улыбкой сказал:
— Это ты, Ясомэникэ. А я вот прилег и не заметил, как заснул.
— А я решила к вам зайти, саду, — ответила Ясомэникэ, подавляя охватившее ее смущение. — Последнее время вас нигде не видно. Все в комнате у себя сидите.
— Готовлюсь к экзаменам. Я уже давно сдал экзамены за среднюю школу и заочно учился в университете Видъяланкара. А теперь вот подошла пора дипломных экзаменов. Кучу книг надо прочесть. Только, Ясомэникэ, никому ни слова. Пока это тайна.
— Никому не скажу, саду. А я очень рада, что вы получите степень бакалавра искусств.
Ясомэникэ была действительно безмерно обрадована признанием Котахэнэ Хамудуруво. Во-первых, он поделился с ней тем, о чем никому не говорил. Во-вторых, если он хочет получить степень бакалавра искусств, значит, подумывает о мирской жизни. А если он сложит с себя духовный сан, многое изменится.
Предположение Ясомэникэ, что Котахэнэ Хамудуруво собирался сложить с себя сан и вернуться к мирской жизни, было верным. Пока он не принял определенного решения. Ему уже давно приглянулась Ясомэникэ, но не настолько, чтобы ради нее отказаться от духовной карьеры.
После этого Ясомэникэ не приходила в монастырь несколько дней подряд — занемогла Описара Хаминэ, и ей пришлось неотлучно находиться при матери. Когда же Ясомэникэ пришла возложить цветы к изображению Будды, то узнала, что Котахэнэ Хамудуруво уехал. Служка только и мог сказать, что Котахэнэ Хамудуруво уехал в Коломбо, а когда вернется, не имеет ни малейшего представления. Ясомэникэ больно кольнуло то, что Котахэнэ Хамудуруво не счел нужным предупредить ее о своем отъезде.
Наступил день поя. И хотя Котахэнэ Хамудуруво еще не возвратился, Ясомэникэ решила принять обет по соблюдению заповедей. Прежде в дни поя Ясомэникэ в белой одежде появлялась в монастыре раньше всех. Однако в то утро Ясомэникэ испытывала непонятную апатию и вялость — может быть, потому, что непрерывно моросил мелкий дождь и все вокруг выглядело уныло и неприветливо, — прособиралась намного дольше обычного, и, когда пришла в монастырь, все, кто готовился принять обет по соблюдению заповедей, уже уселись в кружок во дворе монастыря. Она заняла свое место и вместе с остальными стала ждать прихода монаха. Зашуршали шаги, и, когда Ясомэникэ подняла глаза, сердце радостно забилось — к ним для совершения обряда подходил Котахэнэ Хамудуруво. Ясомэникэ едва дождалась конца церемонии. Но перемолвиться с Котахэнэ Хамудуруво ей так и не удалось: как только завершилось возложение цветов, его плотным кольцом обступили молодые люди. Он объяснил им причину долгого своего отсутствия: ему нужно было на пару дней съездить в Коломбо, но там он внезапно почувствовал боль в груди, и пришлось две недели провести в больнице. Ясомэникэ поспешно отвернулась, чтобы никто не заметил заблестевших у нее в глазах слез.
Дома Ясомэникэ не находила себе места и к вечеру побежала в монастырь. Котахэнэ Хамудуруво сидел за столом и что-то писал при свете лампады. Он медленно поднялся ей навстречу. Прошло некоторое время, прежде чем Ясомэникэ отдышалась и смогла говорить.
— Саду, как только вы сказали, что лежали в больнице, у меня сердце остановилось. — Ясомэникэ говорила шепотом. — Разве вы не могли прислать нам письмо, чтобы мы знали, что с вами?
— Зачем же понапрасну беспокоить вас всех, и так обошлось. — Котахэнэ Хамудуруво тоже говорил шепотом.
За окном зашумел дождь. Сверкнула молния, и на стены легли сиреневые блики.
— Ну мне-то вы могли написать. — Губы Ясомэникэ дрогнули. Она подняла глаза и посмотрела прямо в лицо Котахэнэ Хамудуруво.
Внезапный порыв ветра задул лампаду. В темноте Ясомэникэ почувствовала, как руки Котахэнэ Хамудуруво легли на ее плечи, и ей показалось, что пол уходит из-под ног.
17
Вималядаса всячески сопротивлялся попыткам матери и сестры устроить его на работу в какое-нибудь правительственное учреждение. Он хорошо понимал, что с незаконченным средним образованием можно рассчитывать только на должность пеона. А какова жизнь пеона, он убедился еще в Коломбо, когда навестил своего друга Сенанаяка, работавшего в департаменте просвещения. Вималядасе пришлось прождать около часа, прежде чем Сенанаяка освободился на несколько минут и они смогли поговорить. И дело даже не в этом. Работа есть работа. Но какая работа! Носить папки с бумагами с одного стола на другой. Подавать чиновникам чай и бегать за сигаретами и биди для них. По звонку начальника сломя голову бросаться в его кабинет. С первого взгляда определять, что представляет собой посетитель, и в зависимости от этого либо выставлять его за дверь, либо просить подождать, либо услужливо провожать к столу какого-нибудь чиновника.
— Сейчас я подам чай Гандэ, и мы с тобой поболтаем, — бросил на ходу Сенанаяка, направляясь с чашкой чая в руках к тощему как палка чиновнику, который сидел за своим столом с таким видом, будто весь мир вызывает у него чувство глубокого омерзения. Когда Сенанаяка принес ему чай, он молча указал глазами на стол.
— Что, сар? — спросил Сенанаяка.
— Что, сар! — взорвался чиновник. — У тебя глазницы ватой набиты, что ли? На столе такой слой пыли, что пахать можно, а он спрашивает: «Что, сар?»
— Я утром вытер ваш стол, сар.
— А я вот покажу начальнику, как ты вытер стол, и посмотрим, что ты тогда запоешь!
Не говоря больше ни слова, Сенанаяка принес тряпку и протер стол.
— Как Гандэ с женой поссорится, так житья от него нет, — пояснил Сенанаяка. — А такое случается два-три раза в неделю.
«Лучше побираться на улице, чем так работать», — решил про себя Вималядаса.
Описара Хаминэ увещевала Вималядасу подать заявление в департамент полиции — с чего она взяла, что Вималядасу обязательно туда примут, никто сказать не мог. Но насколько сильным было влечение Вималядасы к крестьянскому труду, настолько же стойким было его отвращение к зеленой форме блюстителей порядка. Ясомэникэ настаивала на том, чтобы принять предложение Сиривардхана Уннэхэ, который за взятку в пятьсот рупий обещал устроить Вималядасу автобусным кондуктором. По нескольку раз в день — правда, только когда Ясомэникэ была в школе — Описара Хаминэ причитала:
— Хоть вешайся. Дочь стольких женихов забраковала и все еще в девках сидит! А теперь и сын, что ему ни предлагай, нос воротит!
Но Вималядаса был непреклонен, и матери с сестрой ничего другого не оставалось, как уступить.
— Может быть, и твоя правда, сынок, — заявила в конце концов Описара Хаминэ. — За землей — хотя и не бог весть сколько ее у нас осталось — хозяйский глаз нужен. Арендатор-то что — засеял поле, собрал урожай, а там хоть трава не расти.
Срок аренды на землю кончался после сбора урожая, но Вималядаса не терял времени даром. Он и раньше-то был частым гостем в конторе по распространению агротехнических знаний, а сейчас пропадал там целыми днями — читал брошюры и книги по земледелию, консультировался со специалистами. Во время уборки урожая и молотьбы он постоянно находился в поле или на току, и арендаторы смогли убедиться, какой у него зоркий глаз и твердый характер. Если раньше никакого труда не составляло утаить часть урожая, то теперь об этом и думать было нечего. Правда, в награду Вималядаса добавил каждому к его доле по два бушеля риса, чтобы не держали зла.
А когда настала пора вспахивать поле под следующий урожай, Вималядаса удивил всю деревню: за сумасшедшие деньги он нанял для этой цели трактор. Мало того, он привез целый грузовик минеральных удобрений. Старики сокрушенно качали головами:
— Все обрабатывают рисовые поля, как их отцы и деды, и никто не жалуется. А он трахтур пригнал! Да этот стальной конь все поле изуродует. Лучше бы мотыгу научился в руках держать. А потом еще какие-то минеральные удобрения!.. И в старое время без них обходились, и сейчас они ни к чему.
Когда же рис заколосился, все только ахали, глядя на поле Вималядасы, — по всему было видно, что Вималядаса соберет такой урожай, о котором в деревне никогда и не мечтали. А Вималядаса, приходя на поле, думал о том времени, когда сможет обзавестись собственным трактором.
18
Перед Бандусеной и Саттихами, которые, словно два путника, долго блуждали в ночи и, несмотря ни на какие трудности, пытались найти человеческое жилье, блеснул наконец свет в окошке. У них не было ни земли, ни денег, ни положения в обществе, и единственное, чем они могли помочь детям, — это дать им хоть какое-то образование. А Санат относился к учебе чрезвычайно серьезно и радовал родителей своими успехами.
— Эх, каким же я был дураком! — вздыхал Бандусена. — Что только отец и мать не делали, чтобы заставить меня учиться, а я лоботрясничал да надеялся на деньги отца. Правду говорят, что даже слоны не могут притянуть назад пропавшую мудрость. А парень с головой. Дай-то бог, чтоб ему повезло. А я ради него и Викрамы готов в лепешку расшибиться.
— Ради детей и живем, — соглашалась с ним Саттихами. — Только когда вижу, как ты не жалеешь себя, у меня сердце разрывается.
— А что еще остается делать? Нас кормят только наши руки.
После того как Вималядаса стал сам хозяйничать на своей земле, он часто обращался за помощью к Бандусене. Во время уборки урожая, когда обмолачивали и провеивали рис, на поле Вималядасы и на току можно было видеть не только Бандусену, но и Саттихами и двух их сыновей. Помощь семьи Бандусены была важна не только сама по себе — их горячее участие в его делах оказывало ему моральную поддержку.
Вималядаса со своей стороны не оставался в долгу. Он охотно ссужал Бандусену и Саттихами деньгами, брал на себя часть расходов по обучению Саната и Викрамы.
Хотя Санат и был одним из самых способных учеников в классе, за полгода до экзаменов на аттестат зрелости классный руководитель посоветовал ему дополнительно позаниматься с преподавателями по физике и английскому языку. Плата за такие занятия должна была составить двадцать рупий в месяц. Санат понимал, что помочь ему может только дядя Вималядаса.
— Молодец, что пришел, — сказал Вималядаса, выслушав Саната. — Договаривайся с преподавателями, а денег я дам. Только не надо никому говорить.
Как и следовало ожидать, Санат блестяще сдал экзамены на аттестат зрелости. Радости Бандусены и Саттихами не было предела. Вместе с ними искренне радовался и Вималядаса — ведь в успехе племянника была и его заслуга.
— Что дальше собираешься делать, Санат? — поинтересовался у племянника Вималядаса, когда стали известны результаты экзаменов. Они вчетвером — он сам, Санат, Бандусена и Саттихами — сидели в крохотном дворике Бандусены.
— Все учителя в колледже в один голос говорят, что Санату нужно поступать в университет, — ответил за сына Бандусена. — А сам Санат хочет устраиваться на работу.
— Хорошо бы не делать перерыва в учебе. А на мою помощь всегда можете рассчитывать.
— Нет, дядя, — возразил Санат. — В университете еще пять лет учиться надо, а это для нашей семьи тяжело. Один преподаватель обещал устроить меня на хорошую работу. А ведь в университете можно и заочно учиться.
Ликовала и Описара Хаминэ. Она гордилась тем, что ее внук был первым молодым человеком в Эпитакандэ, который сдал экзамены на аттестат зрелости. Правда, она тут же всплакнула, подумав о том, как бы радовался Описара Раляхами, если бы дожил до этого времени. Ясомэникэ, с одной стороны, гордилась тем, что сын ее брата и ее племянник, короче говоря, представитель рода Описара, успешно сдал экзамены, а с другой — ее бесило, что и Саттихами имела полное право сказать: «Мой сын очень хорошо сдал экзамены».
19
Звезда удачи продолжала светить Санату и дальше — вскоре он получил должность техника на металлургическом заводе в Орувэла. Среди жителей Эпитакандэ уже было два-три учителя, полицейский, работавший на железной дороге, привратник, водитель автобуса и автобусный кондуктор. Это были должности, о которых каждый имел представление. А что такое «техник», не знал никто. И может быть, потому, что слово звучало странно и непонятно, все решили, что это важная и почетная должность. Родители Саната знали не больше других, чем, собственно, предстоит заниматься их сыну на заводе в Орувэла, — сам он не очень-то вдавался в подробности, а расспрашивать его они стеснялись. На вопрос Описара Хаминэ, что такое «техник», Бандусена ответил: «Очень большая должность». А когда Санат принес домой известие, что его на полтора года посылают в Советский Союз для прохождения практики на одном из металлургических заводов, Бандусена и Саттихами окончательно и бесповоротно уверовали в то, что их сын стал важным человеком. При этом, правда, на глаза у Саттихами набежали слезы — весть о поездке сына не только обрадовала, но и огорчила ее. Полтора года не видеть сына!
С первой получки Санат купил отцу новый саронг, матери — отрез ситца на кофточку, Викраме — новые штанишки.
Санат выходил из дома рано утром, а возвращался поздно вечером. В длинных брюках и ботинках он казался Саттихами настоящим господином. И не только Саттихами. Раньше почти никто из жителей деревни не замечал Саната, или, как его часто называли, Сатана. Теперь же, когда он шел на железнодорожную станцию или возвращался с нее, односельчане почтительно приветствовали его.
По воскресеньям Санат совсем не выходил из дома. Но почти каждый выходной к нему приходили крестьяне с просьбой помочь составить заявление или прошение. Санат никому не отказывал.
Теперь, когда у него была работа и он получал хорошую зарплату, Санат не раз уговаривал отца отказаться от извоза, а мать — от работы на плантации. Бандусена и слышать ничего не хотел.
— Я уже привыкла, сынок, — отбивалась и Саттихами. — Пока в руках и ногах есть сила, я буду работать. Сидеть дома сложа руки — еще хуже.
И все же ей пришлось оставить работу на плантации. Как-то раз она делала надрез на каучуконосе, нож скользнул по стволу и вонзился ей в ладонь. Через три недели рана зажила. Но Санат и Бандусена воспользовались случаем, чтобы выудить у нее обещание не возвращаться на плантацию.
Не обходилось и без осложнений. Тэджавардхана решил во что бы то ни стало заполучить Саната к себе в зятья. А когда его предложение не было принято, то счел отказ за личную обиду. «Ну что ж, посмотрим, — говорил он каждому, кому не лень было слушать. — Пусть Санат и стал важной птицей, а живет-то с нами, в одной деревне».
Наступил день отъезда Саната на практику. Чуть ли не каждый пятый житель Эпитакандэ приехал в аэропорт Катунаяка проводить его. Особенно много было девушек. Приехали и его новые друзья с завода. Народу собралось столько, что Санату, когда настало время прощаться, чтобы не пропустить никого, пришлось стоять на одном месте, как жениху на свадьбе, а провожавшие, вытянувшись в цепочку, по очереди подходили к нему. Последней подошла Описара Хаминэ. Годы взяли свое. Волосы ее совсем поседели, лицо изрезали глубокие морщины. Она близоруко щурила глаза и опиралась на палку. Санат склонился перед ней, а Описара Хаминэ, положив руку ему на голову, прошептала дрожащими губами:
— Да поможет тебе бог! Пусть хоть тебе сопутствует удача, внучек!
После того как Санат прошел на посадку, все вышли из здания аэропорта и, остановившись рядом с летным полем, смотрели, как огромный самолет вздрогнул и пополз по бетонным плитам, а затем с оглушающим ревом оторвался от земли и исчез высоко в небе.
20
Гандара Махатмая двенадцать лет проработал в школе в Эпитакандэ. Начав с должности помощника учителя, он дослужился до директора школы. И вдруг его уволили. Мало того, большую часть учителей было решено перевести в другие школы. Это явилось неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто рассчитывал спокойно проработать под началом Гандара Махатмая два-три года, остающиеся до выхода на пенсию. Среди учителей, которых должны были перевести в другие школы, оказалась и Ясомэникэ.
Собственно говоря, в том, что произошло, ничего неожиданного не было, а началом этой истории послужили трения по каким-то финансовым вопросам между директором школы и Тэджавардханой, который с некоторых пор заправлял делами в комитете по сельскому развитию. Тэджавардхана от имени комитета состряпал несколько жалоб на директора школы в министерство просвещения. Приехала комиссия, чтобы разобраться на месте, сочла жалобы обоснованными, рекомендовала уволить директора и целый ряд учителей перевести в другие школы.
Вначале, когда Ясомэникэ узнала, что ей придется уйти из школы в Эпитакандэ, ее охватило чувство гнева. Правда, она сама не раз подумывала о переводе в другую школу, но в школу, которая была бы лучше школы в Эпитакандэ. Ехать же в такую дыру, как Эхэлиягода! Она не на шутку забеспокоилась, узнав, что перевод осуществляется по распоряжению министерства. Добиться его отмены было чрезвычайно трудно, и Котахэнэ Хамудуруво ничем помочь не смог. Когда Ясомэникэ сказала матери о предстоящем переводе в Эхэлиягоду, Описара Хаминэ схватилась за сердце:
— Господи, да что же это делается! Опять на нас неприятности посыпались! Я совсем уж немощной стала. Упекут тебя в эту Эхэлиягоду, а случись со мной что, так некому будет и воды дать напиться!
Ясомэникэ немножко кольнуло то, что мать нисколько не посочувствовала ей, а думала только о себе. Однако сетования матери на свою немощность натолкнули ее на одну идею.
В школу тем временем прислали нового директора. Почему-то в учительской сразу же решили, что у него хорошие связи в министерстве просвещения. Правда, было несколько странно, что при своих связях он оказался в Эпитакандэ, но, возможно, для этого были причины. Ясомэникэ решила с ним поговорить. Как-то раз она задержалась после уроков и, дождавшись, пока учителя уйдут из школы, направилась в кабинет директора. Дверь в кабинет была открыта, и еще из коридора Ясомэникэ увидела, что директор сидит за письменным столом, склонившись над какими-то бумагами. Пиджак он повесил на стул, ослабил галстук и расстегнул воротник рубашки. На огромной лысине — голый череп обрамлял только венчик жиденьких волос — блестели капельки пота. Лицо, с которого на людях не сходило раздраженное и даже, можно сказать, злое выражение, было сейчас мягким и добрым.
— А, Ясомэникэ. Заходи, садись, — приветствовал он Ясомэникэ, вынимая изо рта сигарету. — Из-за железной крыши тут настоящее пекло. — Господин Раджапакша — так звали нового директора — взял носовой платок, лежавший на краю стола, провел им по черепу и откинулся на спинку стула. Сняв очки, он положил их поверх бумаги, которую читал, и улыбнулся. Это было уж совсем необычно, и Ясомэникэ подумала, что, пожалуй, первая удостоилась улыбки нового директора. Ясомэникэ села на краешек одного из стульев, стоявших перед письменным столом, и только собралась объяснить цель своего прихода, как господин Раджапакша наклонился вперед, положил локти на стол и сказал:
— Я думал о твоем переводе, Ясомэникэ. Эхэлиягода на другом краю земли, а ты ведь не замужем. Несладко тебе там будет.
— Об этом-то я и пришла поговорить, сар. — Хотя господин Раджапакша был преподавателем сингальского языка, дослужившимся до должности директора, и к нему следовало бы обращаться на сингальский манер «локу махаттая» — «большой господин», Ясомэникэ заметила, что такое обращение ему не очень-то по душе. — Сар, — продолжала она. — Дело не в том, что я незамужняя. Моя мать — старая и больная женщина, и я никак не могу оставить ее одну. Если бы вы смогли помочь, сар…
Некоторое время господин Раджапакша сидел неподвижно, о чем-то размышляя. Вверх от плотно зажатой в губах сигареты тянулась тонкая струйка дыма. Ясомэникэ сидела не шевелясь. Внезапно он шумно вздохнул, словно нашел решение для трудной задачи, и на его лице вновь появилась улыбка.
— Вот что надо сделать. Напиши мне заявление и укажи все причины, по которым ты не можешь ехать в Эхэлиягоду, а я отвезу его в нашу контору. Может быть, нам и вдвоем придется съездить в Коломбо…
— Как вы скажете, сар.
— Посмотрим, посмотрим. Прежде всего напиши заявление. Поподробнее. Напиши, что мать больна и, кроме тебя, за ней некому присмотреть. Что еще? Напиши, что ты не замужем, что до сих пор работала хорошо и никаких претензий к тебе нет. Обо всем напиши. Еще что-нибудь придумай.
Ясомэникэ четыре раза переписывала заявление, прежде чем решила, что смогла убедительно изложить причины, по которым ей необходимо остаться в Эпитакандэ. Она вручила заявление господину Раджапакше, и через неделю он вызвал ее к себе.
— Я показывал твое заявление в конторе. Там говорят, что получили распоряжение из министерства и сами не в состоянии ничего изменить. Но не надо отчаиваться. У меня в Коломбо есть друг. Важная птица, и нужных знакомств у него полно. Я ему звонил, и он мне сказал, что надо приехать и все толком ему объяснить.
— Хорошо, сар.
— Тогда в пятницу. В час. Я отвезу тебя на своей машине.
— Спасибо, сар, вы очень добры. Но зачем вам беспокоиться — я и сама как-нибудь доберусь до Коломбо.
— Никаких возражений! Я отвезу тебя в Коломбо и привезу обратно. Только никому не говори, по какому делу мы едем. И домашним не говори, куда и с кем едешь, а просто скажи, что в пятницу нужно отлучиться из дому, и все. Итак, в пятницу ровно в час я подъеду к воротам монастыря. Будь в это время там. Нечего нам ждать друг друга и мозолить людям глаза.
21
В четверг вечером Ясомэникэ тщательно выбрала сари и кофточку для завтрашней поездки и еще раз продумала то, что она скажет влиятельному другу господина Раджапакши.
Рано утром она проснулась от шума во дворе: Вималядаса гремел подойником и ругал Рыжуху. Вероятно, Рыжуха, своенравная корова, которую Вималядаса недавно приобрел, опять капризничала и не хотела стоять смирно, пока ее доили. Решив, что снова заснуть ей не удастся, Ясомэникэ поднялась и вышла во двор. День обещал быть дождливым — небо на востоке затянулось тучами.
Ровно в час Ясомэникэ была у ворот монастыря. Моросил мелкий дождик. Прошло пять минут. Десять. А господин Раджапакша все не появлялся. Ясомэникэ нервничала и поминутно поглядывала на часы. По дороге то и дело кто-нибудь проходил и заговаривал с ней. Наконец показался автомобиль господина Раджапакши. Затормозив рядом с Ясомэникэ, господин Раджапакша открыл заднюю дверь.
— Садись, садись, Ясомэникэ. Еле завел свою колымагу. Аккумулятор, что ли, сел? Пришлось заводить ручкой.
Ясомэникэ захлопнула дверцу, и они тронулись в путь. Ведя машину по блестящей от дождя дороге, господин Раджапакша болтал не умолкая:
— Это ничего, что мы немного задержались. Гаджадира обещал, что после полудня он никуда не поедет и обязательно будет дома. А если дождь пойдет, то он вообще носа из дома не высунет. А бывает, что на работу не ходит — все распоряжения отдает по телефону. Он-то может себе это позволить. Но моя просьба для него закон…
По ветровому стеклу лениво двигался дворник. Он не успевал стирать падавшие на стекло капли дождя, и господин Раджапакша время от времени останавливал машину и протирал ветровое стекло тряпкой. Когда в Коломбо они проезжали мимо глазной поликлиники, Ясомэникэ поглядела на часы — стрелки показывали без двадцати четыре. Господин Раджапакша свернул в боковую улицу, миновал несколько коттеджей, въехал в какой-то двор и остановился перед верандой большого, но старого и невзрачного дома. Когда машина въезжала во двор, Ясомэникэ обратила внимание, что кирпичные столбы, стоявшие по обеим сторонам въезда, основательно разрушены временем и покрыты толстым слоем мха и лишайника. Она торопливо достала из сумки гребенку и пригладила прядь волос, выбившуюся из прически. Тем временем господин Раджапакша вышел из машины и спросил тощего старика, который сидел на ступеньках лестницы, ведущей на веранду:
— Господин дома?
— Куда-то уехал. Обещал скоро вернуться.
Господин Раджапакша и Ясомэникэ поднялись на веранду. Там на плетеных стульях сидело несколько человек. Господин Раджапакша и Ясомэникэ уселись на свободные стулья и стали ждать возвращения хозяина дома. Все молчали. И дом, и двор имели запущенный вид. Двор не подметали уже несколько дней. На посыпанной гравием дорожке, которая тянулась от веранды к воротам, там и здесь росла трава. С того места, где сидела Ясомэникэ, была видна просторная комната. И хотя посреди нее стоял большой стол и рядом с ним несколько стульев, она выглядела неуютной и нежилой. Где-то зазвонил телефон. Позвонил-позвонил — и замолк. Снова наступила тишина. Господин Раджапакша закурил сигару и, вытянув губы дудочкой, выпустил дым кольцами.
Прошло около получаса. Во двор въехала большая черная машина и остановилась около веранды.
— Это Гаджадира, — сказал господин Раджапакша, выбрасывая окурок сигары во двор.
Все вскочили со стульев и приветствовали господина Гаджадиру глубокими поклонами, едва он поднялся на веранду. А господин Гаджадира слегка улыбнулся господину Раджапакше и Ясомэникэ и прошел в свой кабинет, не обращая ни малейшего внимания на остальных посетителей.
— Пусть Гаджадира сначала примет других. Тогда он без всякой спешки сможет выслушать нас, — шепнул господин Раджапакша Ясомэникэ.
Дверь в кабинет господина Гаджадиры оставалась открытой, и иногда на веранде было слышно, как он, возвысив голос, распекал своего собеседника. И каждый раз господин Раджапакша удовлетворенно кивал головой, а в душу Ясомэникэ закрадывались опасения. Ушел последний посетитель. «Боже! Помоги мне!» — взмолилась про себя Ясомэникэ, входя в кабинет.
— Заходите-заходите. Садитесь. — Господин Гаджадира был приветлив и дружелюбен. — Мне понадобилось уехать по срочному делу. А вам долго пришлось ждать?
Господин Раджапакша взял из рук Ясомэникэ заявление и передал господину Гаджадире.
— А, это тот случай, о котором ты мне говорил. — Господин Гаджадира принялся читать заявление. Время от времени он поглядывал на Ясомэникэ, которая встречала каждый его взгляд любезной улыбкой.
Отложив заявление в сторону, господин Гаджадира вытащил сигарету из лежавшей на столе пачки, закурил и откинулся на спинку стула. Ясомэникэ затаила дыхание.
— Значит, вы и есть мисс Ясомэникэ, — обратился к ней господин Гаджадира, делая ударение на слове «мисс».
— Да, сар.
— Вам уже скоро надо приступать к работе на новом месте.
Тут господин Раджапакша кашлянул и вступил в разговор:
— Сар, мисс Ясомэникэ самый лучший преподаватель в моей школе. Она одна ведет английский язык…
— Посмотрим, посмотрим… — Замечание господина Раджапакши почему-то не понравилось хозяину дома, и он заговорил о делах школы вообще: — А как дела в школе? Смогли ли вы устранить все те недостатки, которые обнаружила комиссия?
— За три месяца работы в Эпитакандэ устранить все недостатки было просто невозможно. Дайте мне хоть год. Уверен, что за этот срок превращу школу в Эпитакандэ в одну из лучших. Но для этого нужно, чтобы мне оставили таких преподавателей, как мисс Ясомэникэ.
Господин Гаджадира, словно внезапно вспомнив о каком-то деле, встал из-за стола и, пробормотав извинения, вышел в дверь, которая была в центре стены, за его письменным столом. Ясомэникэ вопросительно взглянула на господина Раджапакшу.
— Все идет хорошо, — прошептал тот. — Только постарайся ему понравиться.
Господин Гаджадира вернулся минут через пять, снова сел за стол и быстро что-то написал на небольшом листке бумаги.
— Вот что мы сделаем, — сказал он, складывая листок и протягивая его господину Раджапакше. — Пожалуйста, съездите в мою контору. Там вам по этой записке выдадут личное дело мисс Ясомэникэ. Привезите его сюда. Постараюсь уже сегодня что-нибудь предпринять.
— А контора еще не закрыта?
— Нет. Там сегодня несколько клерков останутся допоздна.
Ясомэникэ поднялась, чтобы ехать вместе с господином Раджапакшей, но господин Гаджадира остановил ее:
— А вам зачем ехать? Господин Раджапакша съездит один, а мы тут немного поболтаем.
По-видимому, дело шло на лад. Однако, по мере того как затихали шаги господина Раджапакши, ее охватывало все большее беспокойство: как себя держать наедине с таким могущественным чиновником, как господин Гаджадира? Только бы не навредить себе каким-нибудь неосторожным словом!
— А вы давно работаете в школе в Эпитакандэ? — Господин Гаджадира широко улыбнулся.
— Уже шестнадцать лет.
— Немалый срок. Опыт у вас действительно большой.
Господин Гаджадира вышел из-за стола и вплотную подошел к Ясомэникэ, так, что их колени соприкоснулись. Ясомэникэ съежилась и отодвинулась. Господин Гаджадира усмехнулся, закурил сигарету и стал расхаживать по комнате. Ясомэникэ попыталась улыбнуться ему, но почувствовала, что улыбка получилась жалкой. Оба молчали. Господин Гаджадира докурил сигарету и раздавил окурок в пепельнице. Резко повернувшись к Ясомэникэ, он схватил ее за запястье:
— Я тебе помогу. Ну а ты не девочка и, надеюсь, все понимаешь. Пошли.
Ясомэникэ не шевелилась. Она попыталась высвободить руку, но пальцы господина Гаджадиры сжимали ее словно клещи.
— Чего ты боишься? Не дури. — Он рывком поднял ее со стула и потащил к двери. Ясомэникэ была так напугана, что и крикнуть не могла, а только шептала:
— Что вы делаете? Пустите меня. Пустите…
Когда Ясомэникэ пришла в себя, то обнаружила, что лежит на измятой кровати в какой-то комнате, что за окном уже темно, а в углу комнаты на полу горит лампа. Кроме нее, в комнате никого не было. Она с трудом слезла с кровати, кое-как привела в порядок платье и прическу и, пошатываясь — временами у нее все начинало плыть перед глазами, — пошла искать кабинет господина Гаджадиры. В кабинете тоже никого не было. Ясомэникэ опустилась на стул, на котором сидела раньше. Послышались чьи-то шаркающие шаги — тощий старик, которого они встретили на ступеньках, когда приехали, принес чашку кофе. Он поставил ее на углу стола рядом с Ясомэникэ и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Кофе был горячий — от чашки вверх убегали тонкие струйки пара, наполняя кабинет приятным ароматом. К кофе Ясомэникэ не притронулась. Через несколько минут появился господин Гаджадира и занял свое прежнее место за столом. На лице его играла самодовольная улыбка.
— Не вешайте носа, мисс. Что случилось — то случилось. Выпейте-ка лучше кофе.
Ясомэникэ молча глотала слезы. Потом словно из-под земли появился господин Раджапакша — Ясомэникэ не заметила, как он вошел в кабинет.
— Сар, я не смог выполнить вашей просьбы. У меня лопнула шина. Пришлось менять колесо, и когда я приехал в контору, там уже никого не было.
— Ничего страшного. — Господин Гаджадира небрежно махнул рукой. — Я завтра же напишу письмо, чтобы отменили перевод мисс Ясомэникэ, и все будет в порядке. — И обращаясь к Ясомэникэ: — Не бойтесь, мисс Ясомэникэ. Теперь-то я вашу просьбу обязательно выполню. — Он самодовольно хохотнул.
— Тогда мы поедем, сар. — Господин Раджапакша встал со стула.
Но Ясомэникэ помедлила еще несколько мгновений — она опасалась, что стоит ей стать на ноги, как закружится голова и она не сможет дойти даже до двери. Наконец она собралась с духом и, даже не взглянув на господина Гаджадиру и не попрощавшись с ним, двинулась за господином Раджапакшей.
Автомобиль мерно катился в ночи. На поворотах фары выхватывали из темноты деревья, заборы, дома. Господин Раджапакша почти непрерывно болтал, но Ясомэникэ не слышала ни единого слова. Она сидела, съежившись на заднем сиденье, и проклинала господина Раджапакшу, который подстроил все это, себя, весь мир вообще.
22
Как ни старалась Ясомэникэ выбросить из памяти обстоятельства злополучной поездки в Коломбо, ей это не удавалось. Порой ей казалось, что ее снова обхватывают грубые и бесцеремонные руки господина Гаджадиры, чувствовала на своем лице его дыхание. Она вздрагивала, и к горлу подкатывала тошнота. Она долго смотрела на свое отражение, когда на следующее после поездки утро причесывалась перед зеркалом. Лицо было угрюмым. Под глазами лежали черные круги, около губ — горькие морщинки. Ей показалось, что и седых волос, которые она стала замечать с некоторых пор, стало больше. Гребень выскользнул из руки, и она бросилась лицом вниз на кровать, кусая подушку, чтобы не дать вырваться душившим ее рыданиям.
После поездки Ясомэникэ стала молчаливой и замкнутой. Ей никого не хотелось видеть, не хотелось ни с кем разговаривать. Глядя на нее, Описара Хаминэ сокрушенно качала головой: вот что бывает, когда женщина остается одинокой, — и просила Вималядасу не трогать сестру и не пререкаться с ней, даже если она к нему будет придираться. По настоянию Описара Хаминэ Вималядаса послал в газету «Силумина» брачное объявление, в котором сообщались сведения о Ясомэникэ и излагались требования к возможному жениху. Пришло несколько писем, но Ясомэникэ, едва взглянув на них, заявила, что никто из претендентов на ее руку и сердце ей не подходит.
— Не надоело тебе, мама, искать женихов для меня? — сказала она Описара Хаминэ. — Если тебе делать нечего, поищи лучше невесту для Вималядасы.
Вималядаса уже был в том возрасте, когда следовало подумать о женитьбе. Он и невесту себе присмотрел — старшую дочь Гинихимуллэ Сэкары. Она не отличалась особой красотой, но была скромной и трудолюбивой девушкой. Останавливало Вималядасу только одно — старшая сестра все еще была не замужем. Но после того, что Ясомэникэ сказала матери, это препятствие отпало. Когда Гинихимуллэ Сэкара согласился отдать свою дочь за Вималядасу, Описара Хаминэ сообщила об этом Ясомэникэ. Новость вызвала у Ясомэникэ чувство горечи — ей казалось, что она стала лишней в доме и уже никому не нужна. Особенно ее удручало то, что в организации брака активно участвовала Саттихами.
23
Первое время после приезда в Советский Союз Санат тосковал по дому. Но вскоре работа и все, что он увидел в этой стране, настолько захватили его, что по крайней мере днем он редко думал о доме и родителях. Санат проходил практику в Москве, на металлургическом заводе «Серп и молот». Его поражало здесь буквально все — масштабы и организация производства, самоотверженный труд рабочих и служащих, но больше всего, пожалуй, отношения между людьми: рабочие и служащие держались с чувством собственного достоинства, никто не сгибался в три погибели перед начальством, как у него на родине. Вместе с Санатом на этом заводе проходили практику еще трое цейлонцев. Ратнасурия и Стиван были из Коломбо, а Сиватамби — из Джафны. Они подолгу обсуждали увиденное. Но Санату, родившемуся и выросшему в деревне, очень хотелось увидеть, как живут в этой стране крестьяне. И такая возможность представилась. Всем четверым предложили провести месяц в колхозе. Это был сравнительно небольшой колхоз, расположенный на берегу Черного моря. Санат, Ратнасурия, Стиван и Сиватамби вызвались работать на винограднике. Они срезали тяжелые гроздья спелых и сочных ягод и укладывали их в ящики. До приезда сюда Санат и не думал, что на полях может работать столько машин. В колхозе была своя школа и дом культуры с библиотекой, кинозалом и спортивным залом. Станет ли когда-нибудь жизнь в его Эпитакандэ такой же? — с горечью думал Санат.
Только здесь, за тысячи километров от дома, он понял, какое тяжелое и безрадостное существование ведут крестьяне в его стране. Каждый директор школы в Эпитакандэ утверждал, что для него прежде всего важны интересы крестьян, и стремился привлечь в школу как можно больше учеников. Но целью его было вовсе не то, чтобы большее число крестьянских детей получили образование. Он стремился добиться перевода школы в более высокую категорию и тем самым обеспечить себе прибавку к зарплате. Настоятель монастыря из кожи вон лез, чтобы собрать как можно больше пожертвований. В глубине души Санат чувствовал, что Котахэнэ Хамудуруво уже не удовлетворен своим нынешним положением и что в один прекрасный день он, возможно, станет его родственником. А такие люди, как Рогис Аппухами и Тэджавардхана, только и думали, как бы набить кошелек потуже. На недавно состоявшихся выборах Тэджавардхана одержал победу над Рогисом Аппухами и прошел в деревенский комитет. Ему удалось, кроме того, заполучить должность председателя кооперативного комитета. И тогда-то жители Эпитакандэ в полной мере оценили его предприимчивость. Иногда целыми неделями жителям деревни не выдавали по карточкам ни сушеной рыбы, ни гороха, ни перца, ни муки. К дверям кооперативной лавки прикреплялась бумажка, в которой сообщалось, что продуктов на складе нет. А тем временем все это втридорога продавалось из-под полы…
— Эх, Санат, Санат, — рассмеялся один раз Ратнасурия, когда Санат рассказал ему об Эпитакандэ. — Да разве такое творится только у вас в деревне! Раскрой глаза пошире! Везде у нас одно и то же.
— Ты прав, Ратнасурия, — ответил Санат. — Я говорю об Эпитакандэ, потому что мне там все хорошо знакомо. Говорят одно, а делают другое. Здесь социализм не просто лозунг, а реальность. А наши буржуазные демагоги своими делами только могут подорвать веру народа в это дело.
— Мало того. Они еще изобрели «демократический социализм». На все тяжкие идут, только бы надуть народ да сохранить свои привилегии, — с горечью сказал Сиватамби.
— Надо смотреть в корень и судить о людях по их делам. Пока у нас в стране существует эксплуатация, ни о каком социализме и речи быть не может, — твердо заявил Ратнасурия.
— А я вот что думаю, — продолжал Санат. — Только социализм может обеспечить народу хорошую жизнь. Посмотрите, каких успехов добились здесь за короткий срок! А как люди здесь работают? Знают, что работают на себя.
— Даже девушки на винограднике любого из нас посрамят, — подал голос Стиван.
— А ты, Стиван, что бы мы ни обсуждали, все стараешься на девушек разговор перевести, — поддел товарища Ратнасурия, и все четверо рассмеялись. — У нас капиталисты эксплуатируют физическую силу рабочих, — продолжал он, — а буржуазные политики — их веру.
— Мы все говорим да говорим, а какой в этом толк, — вздохнул Стиван.
— Поговорить тоже нужно, — возразил Санат. Он подошел к телевизору и включил его. Выступал танцевальный ансамбль, но никто даже не взглянул на экран. Санат снова щелкнул выключателем. — Как бороться за лучшую жизнь у себя на родине, я пока не представляю. Для этого нужно еще многое узнать и многое понять. Но одно знаю твердо. Когда я вернусь домой, то не буду сидеть сложа руки и равнодушно смотреть, как притесняют простых людей.
— А не случится ли так, что ты вернешься домой, будешь получать хорошую зарплату, обзаведешься автомобилем, хорошим домом — и до бедняков тебе не будет никакого дела? — засомневался Ратнасурия.
— Нет, не случится, — упрямо мотнул головой Санат.
Многое из того, что он видел у себя на родине, хоть и представлялось ему несправедливым, казалось неизбежным. И потребовалось уехать за тысячи километров, чтобы освободиться от традиционных взглядов и представлений, чтобы в полной мере понять те тяготы, которые испытывали его родители и другие, такие же, как и они, бедняки. Санат считал своим долгом сделать что-нибудь не только для своих родителей, но и для всех, кто страдал от нужды, непосильного труда и злой воли власть имущих.
В своих письмах домой, особенно брату Викраме, Санат подробно рассказывал о том, что увидел в Советском Союзе, что собирается делать по возвращении домой. Каждое письмо Саната читали всей семьей по три-четыре раза, и вера в Саната была настолько велика, что все беспрекословно соглашались с тем, о чем он писал.
24
После того как в школе стало известно об отмене перевода Ясомэникэ в Эхэлиягоду, она заметила, что в ее отношениях с учителями появилась какая-то натянутость. Не раз она замечала, как при ее появлении в учительской только что оживленно болтавшие учителя внезапно замолкали, а потом вяло и без всякого интереса начинали говорить о погоде, нерадивости учеников или о чем-нибудь самом обыденном. Не раз она ловила на себе насмешливые взгляды. В чем тут дело — нетрудно было догадаться. Однажды Ясомэникэ, войдя в учительскую, услышала, как Самавати Нона — она стояла спиной к двери и не видела Ясомэникэ — сказала:
— Вот мы все жалуемся на бюрократизм. А ведь если раньше, чтобы добиться чего-нибудь, надо было к начальству несколько раз съездить, то теперь при желании и за один раз можно все устроить.
Увидев стоявшую в дверях Ясомэникэ, господин Джаятилака зашикал на Самавати Нону. Краска бросилась в лицо Ясомэникэ. Она сделала вид, что ничего не слышала, и поспешила выйти из учительской. Работать в тот день она не могла — буквы прыгали у нее перед глазами, она готова была вот-вот разрыдаться. Ясомэникэ написала директору школы записку и под предлогом плохого самочувствия побрела домой. «Хорошо еще, что Котахэнэ Хамудуруво уехал и я совсем с ним не встречаюсь!» — подумала Ясомэникэ, подходя к монастырю, и словно окаменела — из ворот вышел Котахэнэ Хамудуруво и остановился на дороге, поджидая ее. Первым порывом Ясомэникэ было повернуться и побежать в обратную сторону, но она быстро овладела собой и пошла навстречу Котахэнэ Хамудуруво.
— А я и не знала, что вы вернулись, саду.
— Вчера поздно вечером приехал. Как твои дела, Ясомэникэ?
— По-старому, — пробормотала Ясомэникэ. — А как экзамены?
— Все сдал до единого, — с облегчением сказал Котахэнэ Хамудуруво, словно человек, избавившийся от непомерно тяжелого груза. — Я тебе привез книги. — И добавил почти шепотом: — Пошли ко мне в комнату.
И надо же было случиться, чтобы его последние слова услышал Кораласутия — известный на всю деревню соглядатай и сплетник, к которому вроде бы все относились с презрением, но у которого тем не менее никогда не было недостатка в слушателях. Проходя мимо монастыря, он приметил Ясомэникэ и Котахэнэ Хамудуруво, и чутье подсказало ему, что здесь будет что послушать. Он подкрался к тому месту, где стояли Ясомэникэ и Котахэнэ Хамудуруво, спрятался за деревом и был тут же вознагражден. Когда Ясомэникэ и Котахэнэ Хамудуруво отошли подальше, он выскочил из своего укрытия, сделал крюк за оградой монастыря, чтобы никому не попасться на глаза, и подкрался к окну комнаты Котахэнэ Хамудуруво.
Войдя в комнату, Ясомэникэ сразу же отошла в дальний угол и прислонилась к стене. Ей хотелось броситься к Котахэнэ Хамудуруво, прижаться к нему, но между ним и ею незримо встал господин Гаджадира. Котахэнэ Хамудуруво видел, что Ясомэникэ взволнована, но ни о чем не спрашивал — волнение красило ее еще больше, а ее состояние он объяснил неожиданностью их встречи. Он достал из ящика стола коробку шоколадных конфет и протянул Ясомэникэ:
— Вот тебе небольшой подарок, Ясо.
Ясомэникэ не двигалась. Тогда Котахэнэ Хамудуруво подошел к ней и попытался вложить коробку с конфетами ей в руки. Их пальцы встретились. Ясомэникэ показалось, будто электрический ток пронзил ее тело, и, выпустив коробку с конфетами, она со стоном упала на грудь Котахэнэ Хамудуруво…
— Саду…
— Ясо…
Кораласутия осторожно заглянул в окно и остолбенел: стоило прожить жизнь, чтобы увидеть такое! Задрав саронг почти до пояса, он сломя голову бросился в деревню. Встречные ребятишки показывали на него пальцами и смеялись ему вслед, но Кораласутии было не до них. Он как на крыльях летел к кооперативной лавке, перед которой на скамейке всегда можно было найти кого-нибудь. На этот раз там оказалось несколько парней.
— Что я видел!.. Что видел… — даже не отдышавшись, затараторил Кораласутия. — Ясомэникэ с Котахэнэ Хамудуруво у него в комнате… Сначала он дал ей коробку конфет… А потом… Пошли скорей… Сами увидите…
Новость была настолько ошеломляющей, что поначалу к словам Кораласутии отнеслись с недоверием. Но он клялся и божился, что сказал чистейшую правду. В конце концов двое парней вскочили на велосипеды и помчались к монастырю, а остальные побежали следом.
Едва Ясомэникэ вышла из ворот монастыря с коробкой шоколадных конфет в руках, как с ней рядом резко затормозили двое на велосипедах. Один из них, осклабившись, указал пальцем на коробку с конфетами и с издевкой произнес:
— А в монастыре можно и сладеньким полакомиться.
— Уж если так приспичило, то могла бы и нам сказать, — добавил другой. — Зачем к монаху приставать.
— Ишь чего захотел, приятель. Ведь это же секретарь общества верующих женщин. Тут только монаху можно.
Со стороны лавки со свистом и улюлюканьем бежали несколько человек. Кровь отлила от лица Ясомэникэ, и, опустив голову и не оглядываясь, она побежала домой.
В тот день в монастырь пришло необычно много народу — даже те, кто едва знал туда дорогу. Они спешили послушать сплетни и, если удастся, взглянуть на Котахэнэ Хамудуруво. Но увидеть Котахэнэ Хамудуруво в тот день никому не удалось: он не высовывал носа из своей комнаты. Величественно прошествовал Тэджавардхана — он пришел потребовать от главного монаха суровых мер против Котахэнэ Хамудуруво и Ясомэникэ и хоть косвенно да отомстить Бандусене за отказ с ним породниться. Главный монах заверил Тэджавардхану, что если то, что он слышал, правда — ему еще предстоит во всем разобраться, — то и духу Котахэнэ Хамудуруво не будет в монастыре.
А тем временем события развивались в доме Описара Хаминэ. Вималядаса узнал о том, что произошло в монастыре, когда был в поле. Он сразу же бросился домой. Ясомэникэ лежала на кровати в своей комнате совершенно безучастная, повернувшись лицом к стене. Вималядаса кинулся к Бандусене — посоветоваться, что делать. Едва выслушав брата, Бандусена рысцой побежал в «большой дом». Вималядаса — за ним. Бандусена рывком распахнул дверь в комнату Ясомэникэ и рявкнул:
— Может быть, все же скажешь нам, что произошло?
В ответ ни слова. Только сдавленные рыдания да в такт им вздрагивающие плечи Ясомэникэ. Описара Хаминэ бросила свою палку и запричитала:
— Да что ж это творится, господи! Куда нам теперь деваться? Как людям в глаза смотреть? Как дальше жить?
— Успокойся, мама! — Вималядаса крепко обнял Описара Хаминэ и отвел ее на веранду. Затем он и Бандусена спустились во двор.
Ясомэникэ некоторое время лежала неподвижно. «Это конец, — думала она. — Как я покажусь на улице? Как смогу работать в школе? Как посмотрю детям в глаза? Нет, жить дальше нет смысла». Шатаясь, Ясомэникэ встала с кровати и, придерживаясь за стену, вышла из комнаты. Вималядаса и Бандусена стояли во дворе и разговаривали, когда со стороны колодца раздался стук, словно упало что-то тяжелое.
— Где Ясо? — не своим голосом закричал Бандусена, и оба брата опрометью бросились к колодцу. Бандусена проворно сбросил саронг и спустился в колодец по веревке, привязанной к стояку. Ему удалось схватить Ясомэникэ за волосы и поднять ее голову над водой. Услышав вопли Описара Хаминэ, прибежали Саттихами и Викрама и принесли толстую веревку. Вималядаса сложил вместе несколько сухих пальмовых веток и зажег их, чтобы посветить Бандусене. Конец веревки бросили в колодец, и Бандусена с трудом обвязал ею тело Ясомэникэ. Подоспело несколько мужчин, и с их помощью Ясомэникэ вытащили из колодца. К счастью, Ясомэникэ недолго пробыла в воде, все обошлось без особых осложнений. Она только наглоталась воды да несколько раз ударилась о стенки колодца. Ни у кого теперь не осталось сомнений в том, что разговоры о ней и Котахэнэ Хамудуруво — правда.
25
Попытка Ясомэникэ покончить с собой вконец расстроила Бандусену. К тому же он продрог до костей, пока выбирался из колодца. И когда в доме улеглась суета, он направился в хижину Кэлэподдэ и осушил там два стакана арака. Дрожь прошла, мысли прояснились, положение уже не казалось таким безвыходным. Надо было сходить к Котахэнэ Хамудуруво и заставить его жениться на сестре, чтобы смыть позор, который лег на их семью. Арак, горячей волной разлившийся по телу, придал Бандусене необходимую решимость. Он позвал Вималядасу, и они вдвоем направились в монастырь. Около монастыря толклось много народу, братьям пришлось подождать, пока с наступлением темноты все не разбредутся по домам.
А тем временем Котахэнэ Хамудуруво сидел у себя в комнате и обдумывал сложившееся положение. Доказать, что он невиновен, не было никакой возможности. Да и стоило ли пытаться это доказывать? Во-первых, Ясомэникэ нравилась ему уже много лет. Долгое время он подавлял свое влечение к Ясомэникэ, надеясь на карьеру в духовной иерархии. Но осуществить эти надежды оказалось не так-то просто, а сейчас им вообще пришел конец. С этим было связано второе обстоятельство. С некоторых пор он снова подумывал о возвращении к мирской жизни, и получение университетского диплома было важным звеном в этих планах. А сложив с себя сан, он сможет жениться на Ясомэникэ. Так что в том, что произошло, никакой трагедии не было. В деревне посудачат и успокоятся.
Когда Бандусена и Вималядаса вошли в комнату, Котахэнэ Хамудуруво сидел в кресле. По дороге в монастырь Бандусена решил говорить с Котахэнэ Хамудуруво строго и сурово, но, оказавшись с монахом лицом к лицу, как-то оробел. Первым заговорил Котахэнэ Хамудуруво:
— Я знаю, по какому делу вы пришли. Случилось то, чего никто и предположить не мог…
— Хватит ходить вокруг да около. Говорите прямо… — оборвал его Бандусена.
Котахэнэ Хамудуруво движением руки остановил Бандусену.
— Я еще не кончил. Не надо кричать. Будет гораздо лучше, если мы обсудим все спокойно. Что случилось — то случилось. Честь вашей сестры оказалась задетой. Я решил сложить с себя духовный сан…
— А нам-то что от этого… — Бандусена начал терять терпение.
— Да потерпи ты немного и дослушай. После этого я готов жениться на вашей сестре, если она согласится выйти за меня.
Бандусена и Вималядаса вздохнули с облегчением. Все оказалось проще, чем они предполагали.
— А вы-то согласны? — спросил Котахэнэ Хамудуруво.
— Конечно, согласны, — в один голос ответили братья.
Через две недели в присутствии ближайших родственников состоялись регистрация брака господина Силаратна Котахэнэ с госпожой Наваратна Ясомэникэ и скромная брачная церемония. Молодые поселились в «большом доме».
Первое время после свадьбы Ясомэникэ смотрела на Бандусену как на старшего в роду Описара Раляхами. Она считала, что обязана Бандусене и своей жизнью, и возможностью вступить в брак. Нападки на Саттихами прекратились. Но это длилось недолго. Вновь в адрес Саттихами полетели колкости, а Вималядасе приходилось выслушивать нескончаемые поучения.
26
Бандусена и Саттихами решили построить к приезду Саната новый дом. Старая лавка, которую они приспособили для жилья, совсем обветшала. Раньше о постройке нового дома они и думать не могли. Теперь же такая возможность появилась. Во-первых, Санат подкопил немного денег. А во-вторых, кругленькую сумму дал им в долг Вималядаса. Но встал вопрос: где строить?
Когда еще был жив Описара Раляхами, он сам выделил для дома Бандусены участок на холме возле дороги. Однако теперь этот участок был за пределами куцых владений Бандусены — ему пришлось перевести его на имя Ясомэникэ. На оставшемся клочке земли удобного места для постройки не было. Саттихами предложила спросить у Ясомэникэ: не согласится ли она вернуть им ровно столько земли, сколько нужно для нового дома? Заплатить ей они не могли — тогда денег даже на фундамент не хватит. Бандусена скрепя сердце согласился, но поговорить с Ясомэникэ попросил Вималядасу. Вималядаса дождался дня, когда Котахэнэ уехал и должен был вернуться нескоро, — ему не хотелось обсуждать имущественные дела при посторонних — и заговорил с Ясомэникэ об участке на холме. Как и следовало ожидать, Ясомэникэ встретила просьбу в штыки и припомнила все прегрешения Бандусены. Но Вималядаса не отступал. Он долго упрашивал Ясомэникэ проявить доброту и сделать это ради памяти отца. В конце концов Ясомэникэ сказала, что посоветуется с мужем. От него она услышала категорическое «нет» — Котахэнэ не был человеком, который выпускает добро из своих рук.
И пришлось Бандусене искать место для дома на том клочке земли, который остался у него. Десяток пальм упало под ударами топора. Почва была сырая, и сооружение фундамента потребовало денег и времени. Но работа шла споро, и через семь месяцев после того, как в фундамент был заложен первый камень, уже начали крыть черепицей крышу. Как бы ни был бережлив Бандусена, денег все же не хватало, и Вималядаса то и дело выручал старшего брата. До возвращения Саната оставался месяц, по всему было видно, что к тому времени строительство будет закончено. Это очень радовало Саттихами, она мечтала о том, чтобы, вернувшись, Санат переступил порог нового дома.
Вначале многие жители Эпитакандэ были настроены против Ясомэникэ и Котахэнэ. Порой казалось, что им придется переехать в другое место. Но страсти постепенно улеглись. Правда, Ясомэникэ оставила работу в школе, получив зато — не без помощи господина Гаджадиры — место преподавателя в колледже в Батуваттэ. Из Эпитакандэ туда можно было легко добраться на автобусе. К тому же это был колледж, а не деревенская школа, так что в итоге Ясомэникэ даже оказалась в выигрыше.
Многое изменилось в «большом доме», после того как там появился Котахэнэ Силаратна. Раньше, при всей своей вспыльчивости и грубости, Ясомэникэ считалась с матерью и ее желаниями. Котахэнэ всегда оставался спокойным и выдержанным, но ему было в высшей степени наплевать на Описара Хаминэ. А поскольку он быстро подчинил Ясомэникэ своей воле, сделав ее чем-то вроде адъютанта при своей особе, то и она перестала обращать внимание на мать. Все в доме делалось так, как было угодно Котахэнэ. И если теперь к Ясомэникэ обращались с вопросом или просьбой, в ответ неизменно раздавалось: «Надо посоветоваться с мужем». Котахэнэ самолично решал, когда и за сколько нужно продать урожай кокосовых орехов, что и когда покупать на рынке.
Положение в семье стало совсем невыносимым после того, как Котахэнэ поселил в доме свою мать, не предупредив ни Описара Хаминэ, ни Вималядасу. Не прошло и недели, как мать Котахэнэ, обращаясь к Ясомэникэ в присутствии Описара Хаминэ, заявила:
— Ясо, твоя мать совсем больная и немощная. Не лучше ли поместить ее в больницу?
— Хочешь выжить меня из моего дома! — взвилась Описара Хаминэ. — Это мой дом. Я прожила здесь долгую жизнь — и здесь же умру!
— Чего вы сердитесь, Описара Хаминэ? — Мать Котахэнэ сделала вид, будто только сейчас заметила Описара Хаминэ. — Я вижу, что вам тяжело, и подумала, что в больнице вам будет лучше.
— Я сама знаю, где мне лучше, а где — хуже. Едва переступила порог этого дома, и уже я тебе стала неугодной…
— Успокойся, мама. Сколько раз я просил тебя не принимать близко к сердцу всякую болтовню! — остановил Описара Хаминэ Вималядаса. Он только что вошел в комнату и, увидев, что назревает скандал, поспешил успокоить мать.
И Описара Хаминэ, и Вималядаса чувствовали, что всем вместе им в «большом доме» не ужиться. Но куда деваться? Несколько раз Описара Хаминэ советовала Вималядасе построить собственный дом. Но Вималядаса отдал свои сбережения старшему брату Вандусене, и теперь ему придется ждать года два-три, а то и больше, прежде чем он сможет приступить к постройке жилища.
Событием, которое вызвало взрыв, явилось изгнание Сопии. С детских лет она служила в доме Описара Раляхами и стала чем-то вроде члена семьи. Она была глубоко предана Описара Хаминэ и служила ей верой и правдой. Это-то и вызывало гнев и раздражение у матери Котахэнэ, которая в конце концов добилась того, что сын и невестка предложили Сопии убираться на все четыре стороны. Описара Хаминэ узнала об этом, только когда Сопия с узелком в руке пришла попрощаться с ней. Описара Хаминэ попыталась было остановить ее, но Сопия только покачала головой, вытерла ладонью слезы, катившиеся по щекам, и, подхватив свой жалкий скарб, засеменила к воротам. У Описара Хаминэ даже рассердиться не было сил. Ее охватило тупое отчаяние.
— Что же вы делаете? — запричитала она, когда Ясомэникэ вернулась домой. — Ведь Сопия на наших глазах выросла. Заботилась обо мне и относилась ко мне как к матери. А вы выгнали ее из дома, и все.
— Хамка и лентяйка твоя Сопия. Мать Котахэнэ велела ей вчера вскипятить воды, так она даже и ухом не повела. Нечего такую держать в доме. И Котахэнэ так сказал.
— Сопию привел к нам в дом Описара Раляхами. И теперь только я имею право отказать ей от места.
— Кроме тебя в этом доме живут и другие люди. Котахэнэ сказал, что найдет другую прислугу. Разговор окончен.
— «Котахэнэ сказал», «Котахэнэ решил»… А кто такой твой Котахэнэ…
— Замолчи, мама. У тебя и зубы выпали оттого, что ты всегда всех хулила! — Ясомэникэ круто повернулась и ушла к себе в комнату, а Описара Хаминэ осталась сидеть с открытым ртом.
Когда Вималядаса узнал, что Сопию выгнали вон и то, как Ясомэникэ разговаривала с матерью, он тут же собрал свои вещи и вещи матери, и они перебрались в прежнее жилище Бандусены — за несколько дней до этого тот с семьей переехал в новый дом. И Бандусена, и Саттихами настаивали на том, чтобы Описара Хаминэ и Вималядаса поселились вместе с ними, но они предпочли остаться в той развалюхе, где раньше ютился Бандусена. Чтобы соблюсти приличия, приходил к Описара Хаминэ и Котахэнэ с просьбой вернуться обратно.
27
Примерно через месяц возвратился Санат. Встречать его в аэропорт приехали только родители, Викрама, Вималядаса и еще два-три школьных товарища Саната. Он сам просил в письмах, чтобы о его приезде никому не говорили и пышной встречи не устраивали. Несколько дней Бандусена и Саттихами словно летали на крыльях, ничего вокруг не видя и не слыша.
А то, что Бандусена и Саттихами никому не сказали о предстоящем возвращении Саната и встретили его скромно и без излишнего шума, многие расценили как признак высокомерия и пренебрежительного отношения к односельчанам. Особенно сильным это убеждение было у тех, кто по вечерам собирался в кооперативной лавке, — у прихлебателей Тэджавардханы.
— Ишь как нос задирать стали, — заметил как-то Габанчи. — Никому не сказали, что сын возвращается. Сглазили бы мы его, что ли, если бы пошли встретить?
— А Бандусена-то! Всю жизнь только на повозке и ездил. А сына встречать — так автомобиль нанял.
— Скажи нам заранее, такую бы встречу организовали… Что ни говори, а Санат важной птицей стал.
— Да, подвалило парню счастье.
— Какое там счастье! Повалялся у кого-то в ногах, вот его и послали за границу учиться на казенный кошт, — веско заявил Тэджавардхана. — Учился он там, как же! Деньги загребал. Говорят, приемник привез, фотоаппарат. Кучу других вещей. Только-только вернулся, а уже ворчит, что и правительство у нас не то, и депутат не тот.
— Ваша правда, раляхами, — закивал головой Габанчи, отломив кусок жевательного табаку и ритмично двигая челюстями. Здесь было принято соглашаться с Тэджавардханой.
— А впрочем, кто его знает, — продолжал размышлять вслух Тэджавардхана. — Котахэнэ Силаратна тоже сначала петушился. А как присоединился к нам, так и в гору пошел. И какую пользу деревне приносит!
Вначале Котахэнэ Силаратна никакой симпатии к Тэджавардхане не питал. То, что Тэджавардхана требовал у главного монаха сурового наказания для Котахэнэ, привело к еще большему отчуждению между ними. Но все это было в прошлом. Ясомэникэ сумела убедить Тэджавардхану, что Котахэнэ может быть ему полезным. Да Тэджавардхана и сам понимал это: что-что, а людей он оценивал верно. Договорились быстро. Тэджавардхана протолкнул Котахэнэ на пост председателя комитета по сельскому развитию, и они вместе стали обделывать неплохие дела. Для многих в деревне не были секретом махинации в кооперативной лавке и в комитете по сельскому развитию, но они помалкивали. Депутат парламента от их округа благоволил к Тэджавардхане и Котахэнэ, и они чувствовали себя в безопасности.
28
Совсем немного времени потребовалось Санату для того, чтобы убедиться, что положение в Эпитакандэ стало хуже, чем до его отъезда. Теперь при поддержке депутата всем в деревне заправляла троица — Тэджавардхана, Силаратна и Раджапакша, директор школы. Они вершили дела с помощью сравнительно небольшой группы прихлебателей, которую подкармливали от своих щедрот. В их руках была сила, и никто не хотел с ними связываться. Санат подружился с Самараккоди, молодым учителем, недавно назначенным в школу в Эпитакандэ. Самараккоди принимал близко к сердцу все, что происходило вокруг, и Санат нашел в нем единомышленника. Они вели долгие разговоры, негодовали, но что предпринять — не знали.
Вскоре сбылось и предсказание Ратнасурии: Санат приобрел малолитражный автомобиль. За время пребывания в Советском Союзе Санат привык к простоте и непосредственности в общении с людьми и подзабыл об условностях и предрассудках, которые еще бытовали в деревне. Если Санат видел кого-нибудь бредущим по дороге, он тут же останавливал автомобиль и, если им было по пути, предлагал подвезти. Некоторые принимали его приглашение, но в машине устраивались на самом краешке сиденья, смущенно молчали и, когда доезжали до нужного места, многословно благодарили. Они думали, Санат просто хочет похвастаться своим автомобилем. Где это видано, чтобы владелец машины просто так подвозил обыкновенного крестьянина? Если же Санат предлагал свои услуги девушке, то та лишь смотрела на него исподлобья, отрицательно качала головой и спешила дальше.
Когда по деревне пошли пересуды, что Санат предлагает девушкам покататься на автомобиле, Саттихами по-своему истолковала поведение Саната и подняла вопрос о женитьбе. И она, и муж уже давно, еще когда Санат был на учебе в Советском Союзе, подумывали, что, когда он вернется домой, нужно будет найти ему хорошую девушку и сыграть свадьбу; теперь положение у Саната превосходное, и нет никакого смысла откладывать этот важный шаг в его жизни. Услышав деревенские толки, Саттихами решила поспешить с этим делом. Саттихами и Бандусена хотели устроить брак старшего сына по старинке, когда невесту подыскивали родители. Они только опасались, что Санат будет против. Но у самого Саната никого на примете не было, и он не противился желанию родителей. Их выбор пал на дочь господина Виджаясомы из Нуггоды — Суджату. Долгое время господин Виджаясома был начальником почтового отделения в Нуггоде, а сейчас вышел на пенсию. Суджата недавно окончила школу и пока нигде не работала. После обмена письмами молодых людей познакомили. Они приглянулись друг другу, и было решено не слишком медлить со свадьбой.
В преддверии этого важного и приятного события Саната сильно огорчало то, что жители Эпитакандэ относились к нему настороженно и с холодком: теперь, когда Санат стал важным господином, думали они, он смотрит на них свысока. А некоторым было выгодно, чтобы между Санатом и жителями Эпитакандэ образовалась пропасть. Все попытки Саната преодолеть это растущее на глазах отчуждение оказались неудачными. Санат был настолько этим удручен, что у него даже зародилась мысль переехать после женитьбы в Нуггоду. Но он тут же вспомнил предсказание Ратнасурии, и краска залила его лицо.
— Мы все болтаем да болтаем, — сказал он при следующей встрече с Самараккоди. — Пора обуздать нашу троицу.
— А что мы с тобой одни сможем сделать?
— А одним и не надо. Соберем десять-двенадцать парней, которые думают так же, как и мы, и создадим, к примеру, молодежное общество. А двенадцать человек — это тебе не два. К нашему мнению тогда прислушаются. И депутату глаза откроем на то, каких он помощников себе выбрал.
— Вроде и правильно ты все говоришь, сынок, а лучше бы не связывались вы с Тэджавардханой, — вмешалась в разговор Саттихами, которая сидела в сторонке. — Испокон веков крестьянина кто-нибудь притеснял да обманывал. И Тэджавардхана так легко не откажется от кормушки, к которой присосался. Наживешь ты себе неприятностей, сынок.
— Если будешь сидеть сложа руки да кланяться кому ни попадя, то тобой всегда помыкать будут. Я теперь знаю, что жизнь может быть совсем другой, и хочу, чтобы крестьяне в нашей деревне вздохнули свободнее.
— Ты, сынок, достиг хорошего положения. У тебя свадьба на носу. И какое тебе дело до других?
— А такое дело, мамочка, что каждый раз, когда я думаю о том, как туго пришлось тебе и отцу, у меня сердце болит. — Санат взял в свои ладони изрезанное глубокими морщинами лицо матери. — И болит не только за вас, а и за всех придавленных нуждой и несправедливостью.
А тут еще в один прекрасный день нагрянули ревизоры из продовольственного департамента и перевернули кооперативную лавку вверх дном: перевесили все имеющиеся в наличии продукты, проверили гири и весы, просмотрели отчетность. К вечеру ревизоры уехали и увезли с собой заведующего лавкой, свояка Тэджавардханы. Едва ревизоры принялись за работу, как Тэджавардхана и Котахэнэ куда-то умчались на автомобиле. В тот день до позднего вечера перед кооперативной лавкой толпился народ. А на следующий день лавка была открыта, как обычно, с самого утра, и заведующий важно восседал на своем месте, словно накануне ничего и не произошло. И тут же по деревне поползли слухи, что письмо с просьбой прислать ревизоров написал Санат. «Это все Санат подстроил, — нашептывали люди Тэджавардханы. — Он только говорит, что для простых людей старается, а на самом деле хочет спихнуть Тэджавардхану, чтобы превратить кооператив в свою вотчину и как следует поживиться. За границей хапанул деньжат и здесь того же захотел».
Не удалась и попытка сплотить деревенских парней. В одно из воскресений пятнадцать молодых людей, включая Саната и Самараккоди, собрались в школе. Они особенно не афишировали свое собрание, опасаясь неприятных сюрпризов со стороны Тэджавардханы и его людей. Их опасения оказались не напрасными. Едва Санат начал говорить, как дверь класса широко распахнулась, и на пороге выросла фигура Тэджавардханы. Пройдя мимо столов, он уселся прямо напротив Саната и вперил в него свой взгляд. Вместе с ним в класс ввалилось человек пятнадцать, и в открытую дверь было видно, что в коридоре осталось столько же.
— Ну что ж ты замолчал? — обратился он к Санату, откидываясь на спинку скамейки и закидывая ногу на ногу. — Мы тоже хотим послушать…
Санат молчал. Он видел, что силы неравны, что многие из его сторонников оробели и хотели бы, наверно, оказаться сейчас как можно дальше. Понимал он и то, что любое замечание может спровоцировать Тэджавардхану, а потасовка будет ему только на руку.
— А мы прослышали, что вы какое-то общество хотите создать, — продолжал Тэджавардхана, — и решил» в него вступить.
— Мы уже обо всем поговорили. Пошли, ребята. — Санат встал и направился к выходу. Как ни странно, сторонники Тэджавардханы расступились и дали им спокойно выйти. Только Тэджавардхана загородил Санату проход и с издевкой сказал:
— Увидел, у кого сила? Поднабрался за границей идей и воду тут мутишь. Если не успокоишься, нарвешься на неприятности.
— Ну что тебе не сидится спокойно, сынок? — запричитала Саттихами, когда узнала о происшедшем в школе. — Я экзаменов не сдавала, но знаю, что речку не заставишь течь в обратную сторону.
— Речка речкой, а я не отступлюсь, мама, — твердо сказал Санат. — Не знаю еще, что буду делать дальше, но в одном уверен: никакому Тэджавардхане меня не запугать.
29
Вскоре отпраздновали свадьбу Саната и Суджаты. Как обычно в таких случаях, было много суеты и споров. Мнения разделялись по каждому вопросу: состоится ли свадьба в Эпитакандэ или в Коломбо, где можно снять какой-нибудь приличный ресторанчик, сколько должно быть гостей и кого именно приглашать… Но в конце концов порешили на том, что свадьба состоится к Коломбо. Все прошло очень хорошо. Только Ясомэникэ и Котахэнэ на свадьбу не пришли. Ясомэникэ попыталась даже отговорить Описара Хаминэ. Да еще какой-то недоброжелатель подпилил одну стойку у арки, под которой должны были пройти молодые, возвращаясь домой.
Тем временем подошло время парламентских выборов. Их провозвестником явился одержавший победу на прошлых выборах депутат, приехавший в Эпитакандэ. Он обходил крестьянские дома, здоровался за руку с каждым встречным, участливо расспрашивал, как тому живется и чем он может помочь. Среди прочих он посетил Ясомэникэ и Котахэнэ, и именно в их доме был намечен состав комитета, который должен будет вести предвыборную кампанию в Эпитакандэ. Обычно после выборов никто в деревне и в глаза депутата не видел. Даже те, кто ездил в Коломбо, чтобы обратиться к нему с просьбой, в лучшем случае удостаивались чести быть принятыми его секретарем.
О приближении избирательной кампании свидетельствовало и то, что в кооперативной лавке появилось больше товаров. Как и прежде, большая часть порошкового молока, тканей и некоторых других товаров шла из-под полы, но уже не тем, кто больше платил, а главным образом тем, кого нужно было склонить на свою сторону. Крестьянам внушали, что снабжение лавки улучшилось благодаря стараниям депутата, что если он и на этот раз пройдет в парламент, то и дальше будет прилагать усилия к повышению жизненного уровня в Эпитакандэ и сумеет отблагодарить тех, кто голосовал за него.
Рогис Аппухами, который, как правило, поддерживал другого кандидата, выступавшего от ОНП[3], на этот раз отказался вести пропаганду в его пользу, и это вызвало ликование в стане Тэджавардханы.
— Теперь мы полные хозяева положения. Всех заставим голосовать, как нам нужно, — заявил он.
Однако, несмотря ни на что, многие, особенно люди самостоятельные, которые не шли у кого бы то ни было на поводу, были в растерянности: за кого же голосовать? Кандидат от ОНП совершенно себя дискредитировал. Да и партия, которую он представлял, не пользовалась авторитетом у простых крестьян. Нынешний депутат считал себя левым, твердил, что он против капиталистов и крупных земельных собственников и дело его жизни — служить народу. Партия, к которой он принадлежал, осуществила ряд положительных мер. Но с другой стороны, под крылышком этого депутата процветали такие пройдохи, как Тэджавардхана и Котахэнэ. Эти сомнения коснулись и семьи Бандусены.
— С меня довольно, — как-то вечером заявил Бандусена. — За кого ни голосуй — все одно. Не пойду я в этот раз голосовать.
— И я не пойду, — поддержала мужа Саттихами. — Кто там в парламенте ни сидит, мне безразлично.
— Выборы в парламент бывают один раз в пять лет, — вступил в разговор Санат. — И голосовать надо обязательно. Во всяком случае, нынешний депутат лучше своего соперника.
— В жизни никогда не голосовал за ОНП. — Бандусена встал и в возбуждении начал мерить шагами комнату. — Но скажите на милость, какой смысл голосовать за нынешнего депутата? Хватит! Сыт я по горло тем, что происходит с его благословения.
— А я буду голосовать за ОНП, — провозгласил Вималядаса. — По мне, что тот кандидат, что этот — все равно. А в пику Тэджавардхане и иже с ним проголосую за ОНП.
Санат был в растерянности. Голосовать за кандидата ОНП он не собирался. Но голосовать за нынешнего депутата значило бы одобрить существующее в деревне положение вещей, поддержать Тэджавардхану и Котахэнэ. Бывая в Коломбо, Санат посещал предвыборные митинги партии, к которой принадлежал нынешний депутат. С основными положениями ее программы он был согласен и готов был за эту партию голосовать, но как поступить в своем округе, он не знал. Опасался он и того, что не только Вималядаса, но и другие избиратели, которые испытывали глубокое отвращение к Тэджавардхане, но не говорили об этом вслух, проголосуют за кандидата ОНП. И Санат уговорил Самараккоди съездить вместе с ним к депутату и убедить его, что своим покровительством Тэджавардхане и ему подобным он вредит и своей партии, и себе. Шла предвыборная кампания, и депутат с готовностью принял их. Разговор был долгий, но никакого результата не дал. На все доводы молодых людей депутат твердил одно: «Тэджавардхана и Котахэнэ сделали для Эпитакандэ много хорошего. Они уважаемые люди. Они также работают для моей партии и приносят большую пользу. Самое лучшее для вас — стать их верными помощниками».
— Рука руку моет, — сказал Самараккоди, подводя итог их поездки на обратном пути. — Если сам забор губит урожай на твоем поле, то кому жаловаться?
За несколько дней до выборов Тэджавардхана и Котахэнэ организовали в Эпитакандэ митинг с участием депутата. Все выступавшие критиковали правительство ОНП, находившееся у власти несколько лет назад, и утверждали, что только ошибки и злоупотребления министров того правительства помешали партии нынешнего депутата осуществить намеченную программу. Среди выступавших был и Котахэнэ. Главную опасность в их округе, по его словам, представляют люди, которые под видом борьбы со злоупотреблениями преследуют свои корыстные цели. Хотя он и не упомянул имени Саната, всем было ясно, кого он имел в виду.
Накануне дня выборов Санат взял отгул и весь день провел дома, размышляя о своей жизни. Ему вспомнилось детство. Рано утром, едва забрезжит рассвет, отец запрягал быка в повозку и отправлялся зарабатывать нелегким трудом скудные гроши. Часто он возвращался домой затемно. Мать уходила рано утром на плантацию собирать латекс, а потом погружалась в домашние хлопоты. Родители работали не покладая рук, но нередко по вечерам рис готовили только для детей, а сами пили жиденький чай с щепоткой сахара. Теперь те люди, которые наживались и продолжают наживаться за счет простых крестьян, кричат о своем бескорыстном служении стране, а Саната клеймят скрытым сторонником капиталистов. «Нет, рано я спасовал перед ними, — говорил себе Санат. — Попробовал организовать молодежь, а стоило Тэджавардхане показать клыки, как я отступил. Нельзя сидеть как улитка в раковине. Надо чаще встречаться с простыми людьми, убеждать их, что ты искренне хочешь им помочь». Он понимал, что и депутата винить не в чем — такова политика! С другими политическими деятелями он пока не сталкивался, но был уверен, что должны быть люди, которые с искренними намерениями включаются в политическую борьбу, разъясняют народу истинное положение дел и ведут его правильной дорогой.
В день выборов Санат до самого вечера оставался дома. Только когда до закрытия избирательного пункта оставалось не больше получаса, он вышел из дому и побрел к школе. Получив бюллетень, Санат направился в кабину.
— Вот еще один голос за ОНП! — крикнул кто-то ему вслед.
Но Санат даже не обернулся. В кабине он взял карандаш и вычеркнул фамилию кандидата ОНП, поставив крест напротив фамилии нынешнего депутата. Это не было выражением одобрения его кандидатуры, просто Санат выбрал из двух зол меньшее.
Победу одержал кандидат, которого поддерживал Тэджавардхана. По этому поводу в Эпитакандэ состоялось торжественное шествие. Огромная толпа с Тэджавардханой и Котахэнэ во главе, размахивая флагами и транспарантами и горланя песни, прошла несколько раз по деревне. Участники шествия не преминули остановиться около дома Бандусены и выкрикнуть в адрес его обитателей несколько оскорбительных замечаний. Нервы у Бандусены сдали, его всего затрясло. Он хотел выбежать из дома и ринуться на обидчиков, но Санат твердой рукой обхватил его за плечи:
— Не надо терять голову, отец. Пусть пока радуются. Но мы еще повоюем. Я знаю цель, за которую надо бороться. Я видел ее собственными глазами. Я только не знаю еще, как идти к этой цели. Но я узнаю это. Непременно узнаю. И обязательно придет день, когда правда восторжествует.
РАССКАЗЫ
Гунасена Витана
ПРАВО НА ЖИЗНЬ
© Издательство «Художественная литература», 1979.
Еще до рассвета Эсилин проснулась, как от резкого толчка, и с беспокойством огляделась по сторонам. На железнодорожной станции горели фонари. Рядом с Эсилин, прямо на голой земле, спало несколько десятков человек — таких же горемык, как и она сама: ни у кого из них не было ни крова, ни работы. Некоторые беспокойно ворочались и что-то бормотали во сне. Послышался паровозный гудок: отходил пятичасовой поезд в Канди, и в порту, как бы в ответ, протяжно и надрывно загудел пароход.
Эсилин встала, собрала волосы в пучок на затылке и подошла к двум своим ребятишкам — мальчику и девочке, которые, как и все остальные, спали прямо на земле. Сегодня нужно разбудить Чарли еще затемно.
— Вставай, сынок! — потормошила она сына за плечо. — А то набегут другие, и тебе ничего не останется.
Двенадцатилетний мальчик с трудом разлепил глаза. Вокруг было темно, и так хотелось еще поспать — хотя бы совсем немножко. Однако мать продолжала настойчиво будить его, и Чарли, с завистью взглянув на крепко спящую сестренку, поднялся на ноги. Всю ночь мальчика нещадно кусали комары, и первым делом он принялся энергично чесать зудевшие от укусов руки и ноги.
Перешагивая через спящих, Эсилин направилась к индийской смоковнице, под которой размещалась чайная Мартина Аййа.
Вчера вечером мать ласково обняла Чарли за худенькие плечи, пригладила его непокорные вихры и сказала:
— Сынок, у меня не осталось ни одного цента. Встань завтра пораньше и иди собирать бумагу. За нее сейчас неплохо платят. Только не связывайся с другими мальчишками, иди один — так соберешь больше. Милостыню не проси. Ведь завтра пятница, и нищих везде будет полно.
«Пока мать принесет чаю, можно еще полежать», — подумал мальчик, глядя вслед удалявшейся матери, и снова улегся возле сестры. Забрезжила заря, и в расступившейся тьме можно было различить спавших повсюду, вплоть до самой станции, людей. Около рынка «Мэнин» загалдели вороны. Кто-то мочился у памятника Олкоту[4].
— Совсем с ума спятил, что ли? — заорали на него со всех сторон. — Из-за тебя, подонка, нас всех отсюда прогонят! Вчера только приходил какой-то господин и ругался на чем свет стоит.
Чиновник, который приходил накануне, и впрямь пригрозил:
— Если кто-нибудь еще хоть раз позволит себе осквернить памятник — всех вытурю отсюда. Сущие вы мерзавцы! Не чтить памяти такого человека, как Олкот!
— Откуда нам знать, кто такой Олкот? — недоумевал уже после ухода чиновника Савул Хамид. — Вероятно, какой-то португалец?
Чарли думал о другом. Он вспомнил, как однажды сюда понаехало множество шикарно одетых господ и буддистских монахов. На другой день Чарли стащил венок, который они положили у подножия памятника, и отдал его сестренке.
Подошла Эсилин и протянула сыну жестянку с жиденьким чаем:
— Попей, сынок, и быстренько отправляйся. Смотри только не выпей весь чай — оставь сестренке.
Чарли стал пить чай, а мать засеменила по тротуару к зданию «Женского Союза». Каждое утро, еще до того, как полностью рассветет, она ходила туда в надежде получить какую-нибудь поденную работу.
Чарли отпил два-три глотка и поставил жестянку рядом с сестрой. Небо стало белесым, и теперь можно было разглядеть не только верхние этажи отеля «Селинко», но даже лицо статуи Олкота. «Хорошо ему, — подумал Чарли. — И дождь, и жара ему нипочем. Ни есть, ни пить никогда не хочется. Лафа!»
— Вставай, нанги[5]! — принялся он будить сестру. — Все на свете проспишь. На вот, попей чайку. Мать скоро вернется. А я постараюсь тебе что-нибудь принести.
Сестра пробормотала что-то невнятное, повернулась на другой бок и продолжала спать. Во сне она попыталась поплотнее закутаться в свое жалкое платьишко — со стороны океана подул прохладный ветер.
Чарли перекинул мешок через плечо и отправился на промысел.
С того дня, как Чарли помнил себя, он всегда помогал матери. Во время обеденного перерыва околачивался возле контор, и служащие отдавали ему остатки своего обеда. Собрав достаточное количество объедков, Чарли бежал к статуе Олкота и делился добычей с матерью и сестрой. Вместе с сестрой он ходил собирать милостыню. Обычно сестра шла впереди, а Чарли брел за ней, смиренно потупив взгляд.
— Где твоя мама, девочка? — останавливал сестру какой-нибудь участливый прохожий.
— У мамы отнялись ноги. Она не может ходить, — всхлипывая, отвечала девочка.
— А отец?
— Умер.
— И у тебя больше никого нет?
— Брат есть, старший. Вон он стоит. — Сестра показывала на Чарли, который смущенно переминался с ноги на ногу.
Прохожий торопливо совал в руку девочки несколько центов и шел дальше.
Больше всего Чарли любил рыться в мусоре. При виде мусорных баков его всякий раз охватывало нетерпение: а вдруг ему попадется старая кофточка, игрушка или остатки еды. Надежды эти обычно не оправдывались, но Чарли не отчаивался. Иногда, хотя и очень редко, ему везло. Как-то он нашел красивую книгу с цветными картинками, а однажды из бака около полицейского участка в Курундуваттэ он вытащил голову куклы, слегка поцарапанную, но целую. Как рад был Чарли своей находке! Он прекратил сбор бумаги и не останавливаясь пробежал больше двух миль, чтобы поскорее отдать найденное сокровище своей сестре. А как ликовала сестра, прижимая к себе голову куклы! Когда пришло время спать, она положила куклу рядом с собой, и ночью ее кто-то украл.
В сторону Форта прошел полицейский патруль. Загромыхали первые автобусы, и улица, по которой шел Чарли, стала постепенно заполняться нарядно одетыми господами и дамами, спешившими в конторы и большие магазины. Внезапно Чарли увидел перед собой Барава Аппу. Старик стоял, прислонясь к почтовому ящику, и его огромный лысый череп блестел в лучах утреннего солнца, как хорошо отполированный бронзовый шар. Барава Аппу собирал милостыню, показывая прохожим свою распухшую больную ногу. У него была слоновая болезнь. Мальчишки иногда дразнили Барава Аппу, и тогда он очень смешно сквернословил. А иногда вступал с мальчишками в разговор и рассказывал им о своей жизни. Заканчивал он неизменно так:
— И самая моя надежная помощница в этой жизни — больная нога.
Хотя Барава Аппу не принимал никаких лекарств, временами нога переставала гноиться, и раны затягивались. Тогда старик приходил в отчаяние.
— Вот беда, — причитал он. — Если нога совсем заживет, как же я жить-то буду?
— Как-нибудь проживешь, — однажды сказал ему один из мальчишек. — Найдешь себе работу.
— Молчи, балбес! — взорвался Барава Аппу. — Чем я могу заняться? Мне останется тогда только одно: подыхать с голоду, как твоя мать.
Чарли продолжает свой путь. Он вспоминает еще об одной находке, самой ценной из всех. Это было детское платье, поношенное и во многих местах разорванное, первое платье, которое надела его сестра.
«Привалило бы и сегодня такое счастье!» — думает мальчик и поднимает глаза к небу, словно моля его о помощи.
Сначала надо заглянуть в мусорный бак около зеркального магазина. Плохо только, если там стоит сторож.
— Убирайся прочь! — кричит он обычно на Чарли. — Ты тут весь мусор разбросаешь, вонь разведешь!
— Я только бумагу соберу. Не гоните меня, — просит Чарли.
— Слышал, что я тебе сказал, бродяга! Дождешься у меня. Из-за тебя и мне попадет. Водитель отказывается грузить мусор на грузовик. Покупатели зажимают носы и идут в другие магазины. А хозяин ворчит: «Ты что, спишь на работе?»
Иногда, правда, сжалившись над Чарли, сторож дает ему пачку бумаги. Но рыться в мусорном баке никогда не позволяет.
Чарли внимательно оглядывается по сторонам, но сегодня сторожа не видно. Убедившись, что никакая опасность ему не угрожает, мальчик снимает мешок с плеча и бежит к баку. Он проворно роется в отбросах и сует в мешок клочки бумаги. Проходящая мимо госпожа брезгливо морщится и прикрывает нос и рот носовым платком. Но Чарли так привык к запаху, что уже не чувствует его.
Если работать целый день, то вечером на вырученные деньги можно купить полбуханки хлеба и тарелку похлебки. Но бывают и неудачные дни, когда никак не удается собрать нужное количество бумаги. Вскоре к Чарли присоединяются другие мальчишки. Иногда он с ними ссорится. Бывает, дело доходит и до драки. Но все же Чарли нравится собирать бумагу целой ватагой. Их отгоняют от мусорных баков, но они возвращаются снова и снова. Когда никого поблизости нет, ребята вываливают мусор на мостовую и выбирают все, что представляет хоть какую-нибудь ценность.
Скоро должны появиться муниципальные грузовики. На таком грузовике работает и Перера Мама, который иногда приходит к матери Чарли. У него всегда припасено хотя бы немного бумаги для мальчика, и Чарли с надеждой смотрит на каждый грузовик: а вдруг за рулем Перера.
Чарли направляется к закусочной «Сирипура». Около нее можно найти не только бумагу, но и куски хлеба, недоеденные булочки, подгнившие фрукты.
Мимо Чарли проходит мужчина с двумя детьми. Девочку он несет на руках, а рядом идет нарядно одетый мальчик. Мальчик как вкопанный останавливается перед магазином и просит:
— Папа, купи мне этих двух птичек. Я их поставлю у себя в комнате. Хорошо, папа?
— Хорошо, хорошо.
Они заходят в магазин и через некоторое время снова появляются на улице. Мальчик бережно несет в руках двух игрушечных пташек. Чарли смотрит им вслед и с горечью думает: «У этих ребят есть отец, есть дом. А у меня нет отца. И я даже не знаю, кто он».
Как-то Чарли спросил у матери об отце. В ответ мать разразилась бранью:
— Глаза бы мои его никогда не видели! Все мужчины — негодяи! Негодяи и прохвосты!
А затем, подперев рукой щеку, горестно запричитала:
— Не спрашивай меня больше об отце, сынок. Я ведь тоже своего отца не знаю. Все эти мужчины — лютые звери! Бешеные собаки! Что им дети? Им только одно нужно… Ну ладно, иди, сынок, иди… У таких, как ты, не бывает отцов.
Чувство острой жалости к матери пронзило все существо Чарли. Он дал себе слово никогда больше не спрашивать об отце. «Ну нет отца, и нет, — сказал себе мальчик. — Зато у нас есть мама, которая любит и меня, и сестренку…»
На веранде закусочной «Сирипура» стоит сам хозяин, и Чарли, не задерживаясь, спешит дальше, по направлению к рынку «Триполи».
Солнце уже высоко поднялось над Борэллой. По улице непрерывным потоком бегут автомобили. Стайки мальчиков и девочек с пачками книжек в руках торопятся в школу. Однако ворота рынка «Триполи» еще плотно закрыты. Чарли доходит до Маранды и сворачивает на улицу Дали. В одном из мусорных ведер ему попадается несколько корок хлеба, и он с жадностью их проглатывает. Перед ним больница. В раннем детстве Чарли провел несколько дней и ночей на веранде одного из ее корпусов. Мать лежала тогда в расположенном тут же родильном отделении и вернулась оттуда с сестренкой. Чарли хорошо помнит — словно все это происходило только вчера, — как мать привела его на веранду, сунула в руки двадцать пять центов и сказала: «Вот тебе деньги, сынок, купи себе чего-нибудь поесть. И никуда не уходи отсюда, что бы тебе ни говорили. Я вернусь через два-три дня». И снова чувствует мальчик прикосновение губ матери к своей щеке и видит, как вздрагивают у нее плечи, когда она тяжелыми шагами возвращается в родильное отделение.
Чарли торопится. Ему надо поспеть на улицу Росмид прежде, чем грузовики заберут мусор. Проходя мимо роскошных, утопающих в зелени особняков, он со злостью думает: «Вот бы вытурить тех, кто живет здесь, к Олкоту, а бедняков переселить сюда!»
Но тут он замечает прехорошенькую девочку, которая со счастливым смехом резвится на лужайке, и ход его мыслей изменяется. «Нет, пусть дети остаются здесь, — решает Чарли. — Каково им там будет жариться на солнце и мокнуть под дождем!»
На улице Росмид Чарли ждало разочарование: грузовики уже успели опустошить все мусорные баки. Чарли решил вернуться к больнице, но оказалось, что, пока он бегал туда и обратно, грузовики побывали и здесь. Чарли нашел только несколько листов бумаги. Подойдя к колонке, он сполоснул лицо. На обочине дороги лежал худой как щепка человек.
— Есть хочется! Есть хочется! — непрерывно вопил он. — Дайте же мне рису! Рису дайте…
— Эй! Чаро Мама! — окликнул его Чарли. — Ты уже здесь?
Человек злобно покосился на мальчика и продолжал вопить. Чаро Мама собирал милостыню. Вечером на все те деньги, что ему удастся собрать за день, он купит касиппу[6] и, покачиваясь, будет бродить по улице Мэлибан.
Солнце уже переместилось от Борэллы к Форту. Чарли устал. Раскаленный асфальт обжигал ему ступни. Поясницу ломило. И, проходя мимо лужайки перед зданием Муниципалитета, он решил немного отдохнуть. Забрался в кусты, подложил под голову мешок и с наслаждением растянулся на траве. Однако отдыхал он недолго. Мысль о том, что мать и сестренка с нетерпением ждут его возвращения, заставила его снова тронуться в путь. Оставалось только попытать счастья на площадке перед отелем «Гол Фейс». Чарли несколько раз приподнял мешок, пытаясь определить вес собранной бумаги. «Нужно собрать еще столько же, — подумал мальчик. — Ну ничего. Около «Гол Фейс» всегда полно пустых пакетиков из-под орехов».
Красный шар солнца уже повис над самым океаном. Впечатление было такое, будто солнце не хочет опускаться в океан и изо всех сил цепляется за небосклон. Площадка перед «Гол Фейс» была заполнена маршировавшими под оркестр школьниками и солдатами. Чарли хотел перешагнуть через веревку, натянутую вокруг площадки, но его остановил грубый окрик:
— Эй, ты! Куда лезешь?
— Раляхами, — смиренно попросил Чарли. — Я только хотел посмотреть.
— Ну так стой и смотри. А за веревку заходить нельзя. А то получишь у меня. Завтра День независимости.
Чарли очень хотелось поглядеть на подготовку к параду, но ему обязательно надо принести рупию, чтобы купить хлеба и похлебки. Он со вздохом поднял мешок и ринулся к отелю «Самудрая». Там его ждал богатый улов. «Это бумага, в которую школьники заворачивают свои завтраки, — догадался Чарли. — Почему я раньше сюда не приходил?» И от радости он даже запел. Набрав еще полмешка, он во весь опор помчался к палатке, где скупали бумагу; уже темнело, и он боялся опоздать.
— Посмотрите, хозяин, сколько я сегодня собрал бумаги! — с гордостью сказал Чарли.
— Ты что же, паршивец, не мог прийти пораньше? Я уже и безмен спрятал, да и денег у меня сейчас нет. — Мешок полетел в палатку. — Приходи завтра или лучше послезавтра — получишь свою рупию. Ну а теперь проваливай!
Чарли оторопело смотрел, как хозяин палатки закрыл дверь и стал запирать ее на замок.
МОСТ
В этот день младший брат с женой должен был приехать на поезде в Галле, а оттуда добраться до нашей деревни на автобусе, который прибывает к нам в семь пятнадцать.
— Кто-нибудь отправился в Галле встретить невестку и сына? — спросил отец, едва вернулся домой. Излишний вопрос! В Галле мог поехать только я, но ни мать, ни сестра ничего не сказали мне об этом.
— Я не думал, что надо ехать в Галле, — пробормотал я. — Встречу их на остановке автобуса.
Отец мрачно взглянул на меня, но ничего не сказал — верный признак недовольства. Продолжая молчать, он поставил трость в угол и уселся в кресло, в котором обычно отдыхал после возвращения из лавки. Ему трудно теперь было пройти даже пятьсот ярдов.
Из кухни пришла мать с коптилкой. Она поднесла коптилку к часам и, ни к кому не обращаясь, сказала:
— Без десяти семь.
Отец повернулся ко мне:
— В семь десять тебе надо выйти из дома.
— А ты разве не пойдешь? — удивилась мать.
— Нет, не пойду. Хотите — идите все, а я не пойду! — резко ответил отец. Его громкий голос слышен был, вероятно, даже во дворе.
Когда отец злился, он переходил на крик. Я невольно вспомнил, как он вопил в тот день, когда от брата пришло письмо, в котором тот писал, что собирается к нам вместе с женой и детьми. Отец сразу же порвал письмо на мелкие клочки и до самой полуночи честил почем зря брата.
— Ишь гордец какой! Пусть только покажется, я его так отделаю, что на четвереньках поползет! — неистовствовал отец.
Мы все молчали. Никто не поддерживал отца, и никто ему не возражал. Только сестра, услышав угрозы, стала всхлипывать.
— Проклятье! — бушевал отец. — Ему, видите ли, захотелось навестить нас!
Я знал, что приезд брата вызовет неминуемую бурю. Я также знал, почему мать и сестра были против приезда брата. Они все еще надеялись развести его с женой и женить на сингалке. Однако отец был против этого. Я считал, что отец прав, и попытался убедить мать отказаться от этой затеи.
— Вся деревня знает, что брат женился, — сказал я. — У него уже двое детей. Теперь остается одно — принять их всех в нашу семью.
— Не суй нос, куда тебя не просят, Виджедаса! — взвизгнула мать. — Хочешь, чтобы он заявился сюда со своей тамилкой?
— Ты и сам совсем стыд потерял, якшаешься с рабочими-тамилами… — подлила масла в огонь сестра.
— За что вы так взъелись на жену брата? Только и мечтаете развести их. Чем она виновата? Думаете, я не знаю, о чем вы говорили с Паттини Рала? — перебил я ее.
— Что такое!.. — Брови отца сошлись над переносицей, и он медленно поднялся с кресла. — Пусть только этот мерзавец появится около нашего дома, я ему все ребра переломаю!
Отец снова опустился в кресло, но никак не мог успокоиться — он тяжело дышал, и воздух со свистом вырывался из его легких.
— Виджедаса! — позвал он меня через некоторое время. — Напиши письмо брату. Пусть приезжает к нам с женой и детьми. Я хочу видеть их всех. Понял?
Все в доме попритихли. Я тут же написал письмо и отнес его на почту.
Я до мельчайших подробностей помнил события трехлетней давности. В те времена отец и мать ругательски ругали меня за то, что я занялся политикой и часто выступал на собраниях тамильских рабочих с плантации Маномания. Не только домашние, но и многие в деревне сторонились меня тогда. Я получил образование в католическом колледже «Баддэгама», и отец надеялся, что я стану юристом или врачом. Однако мое увлечение политикой расстроило эти его планы, и он затаил на меня глубокую обиду. С тех пор как я подружился с тамильскими рабочими, брат, сестра и мать также относились ко мне с плохо скрываемым раздражением. Брат и сестра, закончив учебу, стали учителями.
Однажды разнесся слух, что фанатики-тамилы убили учительницу-сингалку в Вавниява. В отместку сингалы напали на тамильских рабочих с плантации и избили многих. А несколько распоясавшихся молодчиков подожгли табачный киоск Синнаййа на перекрестке Вадурамба. Одним из подстрекателей оказался мой брат.
— И зачем только ты получил образование! Позор тебе! — попытался я как-то урезонить брата.
— Катись-ка ты подальше, братец. Тоже мне, социалист нашелся! — ответил он мне. — У нас, сингалов, есть только этот маленький остров. Пусть тамилы убираются в Индию!
С помощью таких, с позволения сказать, аргументов люди, подобные моему брату, сеяли плевелы национализма в душах темных, необразованных крестьян.
— Разве в Индии живет всего одна нация? — продолжал я спор. — Тамилы живут лишь на юге Индии. Кроме них в Индии живут еще десятки других национальностей. Для того чтобы страна успешно развивалась, необходимо всем нациям жить в мире и дружбе. Неужели националистический бред настолько затуманил тебе мозги, что ты самых простых вещей не понимаешь? Тамилов хочешь выгнать в Индию, а куда же прикажешь деваться мусульманам, живущим на Цейлоне?
— Ты влюбился в дочку Миначчи, вот и таскаешься в поселок тамилов, — поддела меня сестра.
— Если я узнаю, что ты еще хоть раз ходил к тамилам, скажу своим ребятам, чтобы тебя как следует вздули, — пригрозил мне брат.
— Ах ты паршивый щенок!.. — вскричал я и залепил ему пощечину. Чтобы предотвратить драку, мать и сестра тотчас же повисли на мне, а отец оттащил брата в сторону.
— Не смей затевать скандал! — набросилась на меня мать. — Долго ты еще будешь цацкаться со своими тамилами? Глаза бы мои тебя не видели!
Я бросился в свою комнату, завернул в бумагу два баньяна и саронг и вышел из дома. Ночевал я в конторе нашего профсоюза. Нет худа без добра. С тех пор я стал уделять больше внимания работе профсоюзного комитета. А дел было невпроворот. Наш комитет призывал тогда рабочих на борьбу за справедливую зарплату, против националистов. Националисты — среди них был и мой брат — подстерегали рабочих-тамилов у моста через канал, когда они возвращались из лавок, избивали их, а покупки бросали в канал. Мое возмущение братом дошло до того, что я стал считать его своим врагом. Брат вскоре поступил в университет в Перадении, и после его отъезда в деревне стало немного спокойнее. Однако в Перадении брат нашел себе единомышленников, спутался с неким Джаяратной и принялся разжигать националистические чувства среди студентов.
В газетах публиковались его статьи, в которых он высказывал оголтелые националистические идеи и выступал против употребления тамильского языка в государственных учреждениях даже в тех районах, где тамилы составляют подавляющее большинство. Через некоторое время он стал одним из лидеров сингальских националистов. Это чрезвычайно льстило моему отцу. Он очень гордился своим сыном и высылал ему деньги по первой же просьбе. Мать и сестра также души в нем не чаяли.
Работе в националистической организации брат отдавал все свое свободное время. Однако Джаяратна вскоре переметнулся на сторону федеральной партии[7] и вошел в правительство. После его ухода возглавляемая им организация раскололась на несколько враждебных группировок. О брате докатились такие невероятные слухи, что отец тут же слег. Узнав, что отцу плохо, я побежал домой и отвез его в больницу в Галле. После того как отец немного поправился, я возвратился в наш дом, чтобы вместе со всеми домашними присматривать за ним.
— Такого позора, как твой брат, ты никогда не навлекал на мою голову, — сказал мне отец. — Хватит тебе ютиться на стороне. Возвращайся к нам. А если тебе нужно будет с кем встретиться, пусть приходят сюда.
Скоро моя комната превратилась в филиал комитета профсоюза. И даже мать приветливо встречала не только сингалов, но и тамилов, которые приходили ко мне по делам. Сестра, правда, продолжала еще коситься, но относилась ко мне без прежней враждебности.
Так я вернул свое прежнее положение в семье, не поступаясь своими принципами. Отчасти, как ни странно, я был обязан этим своему брату. Его же постигла расплата. «Интересно, как он сам относится теперь к своим прежним националистическим вывертам?» — думал я. Еще сохранились остатки разрушенного им моста, по которому проходила прямая дорога от поселка рабочих-тамилов к рынку.
Впервые о том, что брат подружился с Парвати Сундаралингам, девушкой-тамилкой, которая приехала в Перадению после окончания колледжа в Джафне, мне сообщил мои друг, который тоже учился в университете. А потом и сам брат написал, что собирается жениться на Парвати.
«Дорогой брат! — писал он. — Мы с Парвати твердо решили пожениться. Ее родители — против. Но ничто не заставит нас изменить своего намерения. Мои родители, как и родители Парвати, будут наверняка проклинать нас. У меня осталась одна надежда — на тебя. Постарайся уговорить мать и отца, чтобы они отнеслись к нам со снисхождением. Только теперь я в полной мере осознал, как непроходимо глуп был раньше».
Как только отец узнал, что брат намерен жениться на тамилке, он снова тяжело заболел. Сестре пришлось оставить школу в нашей деревне, где она работала учительницей, и перейти в другую школу, подальше от наших мест. Но и туда полетели анонимные письма, в которых сообщалось, что ее брат женат на тамилке. От всего этого сестра осунулась и похудела. В довершение всего ее бросил жених. И сестра, и мать были уверены, что причина тому — женитьба брата.
Долго-долго мне пришлось воевать с домашними, прежде чем они примирились с женитьбой брата. И хотя прямо об этом никто не говорил, я видел, что и отец, и мать, и сестра очень хотели снова увидеть брата, посмотреть, какие у него жена и дети. Для меня же дети брата и Парвати были символом единения двух наций — сингалов и тамилов.
— Ну, пора идти, — прервал мои воспоминания голос отца. Он надел новый саронг и рубашку с длинными рукавами и снова уселся в своем кресле.
Едва я успел прийти на остановку, как подкатил автобус. Сначала из него выпрыгнули двое ребят и стали с любопытством оглядываться вокруг. Вслед за ними вышла молодая стройная женщина и взяла их за руки. Должно быть, это была Парвати. И наконец появился брат с чемоданом и свертками в руках. Все наши распри давно уже ушли в прошлое, и мы с радостью бросились навстречу друг другу.
— Это мой брат! — с гордостью сказал он, поворачиваясь к Парвати.
— Много о вас слышала, — слегка смущаясь, сказала Парвати. — Раджа! Камали! Это ваш дядя.
— Отец и мать, наверное, на меня сердятся? — потупившись, спросила Парвати, когда мы направились к дому.
— Вовсе нет, — ответил я. — Теперь отец и мать на многие вещи смотрят по-другому.
— Это твоя заслуга, — с: улыбкой сказал брат и положил мне руку на плечо.
Когда мы пришли домой, брат и Парвати по обычаю опустились перед отцом и матерью на колени. А потом пошли слезы, объятия, поцелуи. Отец посадил ребят к себе на колени, и они оживленно принялись рассказывать ему о чем-то, путая сингальские и тамильские слова.
Потом стали приходить наши родственники, которых отец пригласил, чтобы познакомить с женой брата. Не пришли только Коттава Баппа и Махалапитийэ Нэнда.
— Ну и черт с ними, — решил отец. И ему, и всем остальным было ясно, почему они не пришли. — Обойдемся и без них.
Незаметно пролетело несколько дней. Подошла пора расставания. Отец попросил брата, чтобы он постарался перевестись в какой-нибудь колледж в Галле, поближе к нашей деревне.
Дети брата за это время сильно ко мне привязались. Иногда я брал их с собой в поселок рабочих-тамилов. Там они принимались болтать по-тамильски с обитателями поселка и подшучивали надо мной, что я не понимаю, о чем они говорят. А иногда мы ходили купаться на канал. Они резвились на берегу, строили из песка дома стены и украшали их цветами. Играя, они, случалось, подбегали к обломкам старого моста, скрытым буйно разросшимся кустарником.
К. Джаятилака
ПРИЗРАК
© Издательство «Художественная литература», 1979.
— Джаявира… Эксплуатация… Профсоюз… Забастовка… Забастовка… Наши требования… Наши требования… Жестокие законы… Злоупотребления администрации… Джаявира… Забастовка… — только и слышалось со всех сторон. И это были не просто слова. В них таилась непреклонная воля и решимость рабочих. Атмосфера царила такая напряженная, что достаточно было малейшей искры, чтобы долго сдерживаемое недовольство рабочих вспыхнуло ярким пламенем.
Совет директоров фабрики был назначен на десять часов утра. Некоторые директора были так напуганы, что пришли раньше рядовых служащих и рабочих и теперь мрачно сидели по углам конференц-зала. Те же, кто пришел позже, старались как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть мимо рабочих и служащих. Только сам генеральный директор Вирасурия появился минута в минуту без пяти десять и обычной твердой походкой, с высоко поднятой головой, важно прошествовал в зал. И хотя вид он сохранял уверенный и решительный, в глубине души его таилось чувство растерянности и беспомощности.
Вирасурия занял председательское место за столом и внимательно осмотрел присутствующих. Они безгранично верили в него — ведь еще ни разу не было так, чтобы он не нашел выхода из, казалось бы, самого безнадежного положения. Они надеялись, что и на этот раз он сумеет что-нибудь придумать. Впрочем, их заботил прежде всего вопрос о том, как события могут отразиться на них.
— Итак, каково ваше мнение об угрожающей нам забастовке? — нарушил молчание Вирасурия, прекрасно зная, что в его присутствии никто не посмеет заговорить первым.
— Сэр, возможно, они просто пошумят, а на серьезные действия так и не решатся. А после этого профсоюз неминуемо распадется, — сказал один из директоров.
Вирасурия мрачно взглянул на директора. «Пигмеи! Да разве хоть кто из них посмеет сказать что-нибудь такое, что может мне не понравиться! Готовы нести любую чушь, только бы мне угодить!» — с глухим раздражением подумал он. Уже давно все директора старались говорить только то, что было приятно генеральному директору, и всячески стремились завоевать его расположение. И надо сказать, что Вирасурии это нравилось. Однако сегодня их заискивание только злило его. Кроме того, Вирасурия опасался, что остальные директора постараются сделать его козлом отпущения, если произойдет худшее. Но он быстро взял себя в руки и с обычной своей твердостью и непререкаемостью сказал:
— Сейчас не время заниматься пустыми разговорами. Пользы от этого никакой не будет. На этот раз нам придется уступить рабочим.
— Простите, сэр, но я высказал свое предположение, хорошенько обдумав, как проходила предыдущая забастовка, — робко возразил все тот же директор. — Однажды они одержали успех, потому что во главе их стоял Джаявира. А сейчас-то его нет.
— И я имею в виду то же самое! — Вирасурия начал терять терпение. — Если бы Джаявира был жив, нам было бы легче с ними справиться. Но в том-то и дело, что теперь забастовщиками руководит не Джаявира, а, если можно так сказать, его призрак. У всякого живого человека можно было бы найти слабости. Можно было бы найти людей, завидующих ему или затаивших на него злобу. Но как справиться с бесплотным духом?
Вирасурия замолчал, и на две-три минуты в зале воцарилась гнетущая тишина.
— Нам остается одно, — вновь заговорил Вирасурия, — постараться в минимальной степени удовлетворить требования рабочих и не довести дело до забастовки. А потом, при удобном случае, мы еще с ними поквитаемся.
После этого представителей профсоюза пригласили в конференц-зал. Переговоры были бурными и напряженными. В конце концов Вирасурия принял все требования рабочих, кроме одного — об увеличении заработной платы. Однако руководители профсоюза во главе с Сирисеной твердо заявили, что этот вопрос является основным и неуступчивость администрации может сорвать переговоры. Вирасурии пришлось пойти на уступки. Однако он был согласен удовлетворить требование рабочих об увеличении зарплаты лишь наполовину. Руководители профсоюза посовещались — и заявили о своем согласии. Хотя главное требование рабочих и было удовлетворено не полностью, они добились несомненного успеха. Ведь не так давно было невозможно и думать об организации профсоюза на этой фабрике.
Когда рабочим объявили о результатах переговоров, вся фабрика огласилась радостными криками: «Ура!», «Мы победили!», «Мы будем продолжать борьбу!», «Да здравствует Сирисена!», «Мы помним тебя, Джаявира!». Многие рабочие стали в круг и, положив друг другу руки на плечи, принялись распевать песни. Некоторые пустились в пляс.
Больше всех ликовал Сирисена. Ведь это его победа. И радость каждого рабочего — его радость. Но внешне он никак не проявлял своих чувств, только перебирал в памяти события последних дней. Когда его попытались затащить в круг поющих и танцующих рабочих, он только смущенно улыбнулся и отрицательно покачал головой.
С наступлением вечера все стали расходиться. Сирисена присоединился к группе рабочих, оживленно обсуждавших победу. Они пошли по узкой улочке, застроенной небольшими домиками с двускатными крышами. Остановившись напротив дома Сирисены, они поговорили еще немного. Потом рабочие двинулись дальше, и Сирисена остался один.
Жара, царившая днем, спала. Было тихо. Взошла луна, и ее свет набросил серебристое покрывало на городок. Время от времени по небу проплывало облако, и тогда казалось, будто большой темный зверь бесшумно крадется по земле.
После ужина Сирисена вышел во двор. Возбуждение еще не улеглось, но сейчас он думал о давних событиях, которые предопределили успех рабочих.
Сирисена медленно побрел в сторону фабрики. В лунном свете забор, ворота, крыши цехов — все приобрело причудливые, нереальные очертания. Сирисена подошел к воротам, провел рукой по железным прутьям, выкрашенным серой краской, и невольно поежился — ворота были обильно покрыты холодной росой.
Хотя городок находился недалеко от Коломбо, до того как здесь построили фабрику, это было настоящее захолустье. Да еще и сейчас кое-где попадались заболоченные пустыри, однако все явственнее вырисовывались признаки активной деловой жизни: днем улицы были заполнены спешившими с занятым видом прохожими, то и дело проносились легковые автомашины и грузовики, бойко торговали многочисленные лавки.
Рядом с фабрикой лежал заброшенный участок земли. Когда-то здесь жил Джаявира. И он, и Сирисена были в числе первых рабочих, пришедших на фабрику. Дружба с Джаявирой помогла Сирисене многое понять, во многом разобраться. Но Джаявира погиб. И, глядя на покрытый буйно разросшимся кустарником клочок земли, где стояла его хижина, Сирисена вновь остро почувствовал, как много значил для него Джаявира. Сирисена закрыл глаза, и на какое-то мгновение ему показалось, что, как в прежние дни, друг ждет его, стоит сделать несколько шагов — и он увидит Джаявиру.
Шагая осторожно, чтобы не нарушить тишину, Сирисена сошел с дороги и направился к развалинам. Колючие кусты, стоявшие стеной, как немые стражи, охраняли царивший там покой. Раздвигая усыпанные острыми шипами ветви, Сирисена вышел к тому месту, где была когда-то дверь. В памяти Сирисены всплыл день похорон Джаявиры. Здесь собралось тогда двенадцать человек. Душу Сирисены кольнуло — вот она, человеческая память и признательность. На всей фабрике не было рабочего, которому бы Джаявира не помог словом или делом, а проводить его в последний путь пришла только небольшая группа друзей. Сирисена был одним из тех, кто опускал на веревках в могилу гроб из манговых досок, и он бросил первую горсть земли, с глухим стуком упавшую на крышку гроба. В тот день друзья обложили могилу дерном, но потом за ней долю никто не ухаживал, и теперь на месте холмика зияла яма. «Какая горькая участь! — думал про себя Сирисена. — Погибнуть от руки человека, которому Джаявира в свое время сделал столько добра!» Низко опустив голову, стоял Сирисена над могилой друга, и сквозь туман времени все более отчетливо выплывали события, которые предопределили и судьбу самого Джаявиры, и достигнутый сегодня успех…
В тот день после обеденного перерыва Джаявира, как обычно, внимательно следил за работой своего станка. Мимо него прошел старший охранник фабрики. На его и без того угрюмом и мрачном лице лежала печать какой-то отрешенности и отчаяния.
— Эй, Саймон, что случилось? — окликнул его Джаявира.
Саймон остановился. Хотел было что-то сказать, но не нашел подходящих слов и, безнадежно взмахнув рукой, стал топтаться на месте, как будто не мог решить, идти ли ему дальше или остаться.
— Так в чем же дело, Саймон? — вновь спросил Джаявира. — Куда ты ходил?
— К начальству вызывали… — начал Саймон, но тотчас же умолк.
— Для чего?
Саймон продолжал мяться, по-видимому про себя рассуждая о чем-то.
— Отругали тебя, что ли?
— Если бы только отругали. От ругани синяков на теле не бывает. Оштрафовали! В третий раз за этот месяц!
— А за что?
— Сказали, что я не поклонился генеральному директору, когда открывал дверцу машины. Бог свидетель — я все сделал как положено.
Саймон постоял еще немного и двинулся дальше. Часто, очень часто приходилось Джаявире слышать жалобы на произвол и притеснения администрации: «Автобус, на котором я ехал на работу, сломался, и я опоздал на десять минут. А у меня вычли зарплату за полдня», «Сегодня я опоздал на четверть часа. Штраф — заработок за два дня», «Сломался станок. Ремонт отнесли за мой счет», «Заявили, будто бы я плохо протер стекла окон, — штраф», «Сегодня ни с того ни с сего уволили Джемиса. А ведь у него пятеро детей…», «Пиясене сказали, чтобы с будущей недели он не приходил на фабрику».
«Что делать? Как защититься от несправедливостей, которые творятся на фабрике?» — не раз вопрошал себя Джаявира. И чем чаще он задавал себе этот вопрос, тем яснее и четче становился ответ — необходимо создать профсоюз. Вначале это была неопределенная, расплывчатая мысль, которая тут же исчезала, как мгновенно гаснет на лету искра. Но мысль эта появлялась снова и в конце концов окрепла и стала твердым убеждением.
Джаявира поделился своими соображениями с несколькими друзьями. Они согласились с ним. После этого Джаявира принялся убеждать других рабочих в необходимости организации профсоюза. Впрочем, особенно убеждать никого и не надо было — рабочие с готовностью соглашались с этим предложением. Вопрос заключался в другом — как осуществить его на деле. Слишком уж запуганы были все, кто работал на фабрике, только считанные единицы могли найти в себе достаточно смелости, чтобы открыто выступить против администрации. Джаявира несколько раз тайком собирался с теми, кто активно поддерживал идею организации профсоюза, но никаких практических мер выработать они не смогли. Тогда Джаявира предложил свой план.
Генеральный директор фабрики Вирасурия каждый год проводил отпуск в Нувараэлии. И, тщательно обдумав все, Джаявира решил, что это самый благоприятный момент для того, чтобы предпринять практическую попытку создать профсоюз. В отсутствие Вирасурии ни один из директоров не осмелится прибегнуть к решительным действиям, и таким образом рабочие выиграют хотя бы несколько дней. Кроме того, Джаявира предполагал, что, пока Вирасурии не будет на фабрике, он сможет убедить вступить в профсоюз тех рабочих, которые испытывают непреодолимый страх перед правлением.
И вот на следующий день после отъезда Вирасурии Джаявира, Сирисена и еще несколько человек расклеили листовки, в которых сообщалось об организационном собрании профсоюза. Прежде чем заместитель Вирасурии распорядился соскрести со стен листовки, большинство рабочих успело прочесть их, а те, кто не успел этого сделать, узнали о том, что говорилось в них, от своих товарищей. Заместитель Вирасурии тут же позвонил своему шефу в Нувараэлию. Вирасурия как следует отчитал своего заместителя, но прервать отпуск и вернуться на фабрику отказался — пусть рабочие и мелкие служащие не думают, что он испугался. На организационном собрании председателем профсоюза был избран Джаявира, секретарем — Сирисена. Саймон был выбран в комитет. Джаявира и Сирисена тут же съездили в Коломбо и договорились с руководителями одного профсоюзного объединения, чтобы они признали их профсоюз как свое отделение.
Вернувшись из Нувараэлии, Вирасурия первым делом распорядился вызвать к себе в кабинет всех директоров и старших служащих.
— Хорошеньких дел наворотили вы тут без меня! — обратился он к собравшимся, вкладывая в свои слова весь сарказм, на который был способен. — Распустили этот сброд!
Презрительно скривив губы, Вирасурия обвел взглядом сидевших перед ним людей — никто даже не посмел взглянуть на генерального директора, и тем более сказать что-нибудь. «Ну уж если эти от страха онемели, то с прочей мелюзгой я запросто расправлюсь!» — с самодовольной усмешкой сказал про себя Вирасурия.
— Чтобы завтра в десять часов утра все рабочие и служащие собрались в столовой! — отдал он распоряжение своему заместителю. — Я им прочищу мозги!
Как только на фабрике объявили о предстоящем выступлении Вирасурии, члены профсоюзного комитета принялись уговаривать рабочих и служащих бойкотировать собрание. «Попомните, — говорили они, — Вирасурия хочет одного — развалить наш профсоюз. И собрание он созывает неспроста. А если мы не пойдем на него, то ясно покажем, что готовы постоять за себя». Фабрика походила на потревоженный улей. Сотрудники правления носились из цеха в цех, уговаривая всех обязательно присутствовать на собрании. Активисты профсоюза стремились не допустить этого.
С большим трудом администрации удалось затащить на собрание человек восемнадцать — двадцать. Направляясь в столовую, Вирасурия предполагал, что он просто наорет на рабочих, пригрозит им, после чего не составит особого труда прижать профсоюз к ногтю. Однако, когда он увидел пустой зал, в котором сидела только жалкая кучка людей, ему показалось, что земля уходит у него из-под ног. И тут Вирасурия произнес речь, которой никто от него не ожидал. Да он и сам удивился бы, если бы кто-нибудь раньше ему сказал, что он будет выступать так перед рабочими и мелкими служащими.
— Господа! — начал он. — По фабрике распространился слух, будто бы я против создания на этом предприятии профсоюзной организации. Я сразу же хочу заявить вам, что это совершенно беспочвенная ложь. (Аплодисменты.) Право на создание профсоюза — одно из неотъемлемых демократических прав. А мы твердые сторонники демократии. Для нас нет ничего более священного, чем демократия, и наш долг — защищать и оберегать ее. (Аплодисменты.)
Я ни в коей мере не против того, чтобы на нашей фабрике был профсоюз. Однако тот профсоюз, который создан у нас, не сможет обеспечить ни прав рабочих и служащих, ни успешной работы фабрики. Поэтому я против него. Нам нужно создать новый профсоюз на таких принципах, которые бы обеспечивали соблюдение ваших интересов в наиболее полной мере.
Вирасурия говорил очень спокойно, вкрадчиво. Не повышал голоса, не размахивал руками. С лица его не сходила улыбка.
— И я предлагаю, — продолжал Вирасурия, — назначить сейчас организационный комитет, который и приступит к созданию нового профсоюза на нашей фабрике. Это будет профсоюз, который защитит интересы всех, кто работает здесь, и облегчит работу администрации.
После этого был назначен профсоюзный комитет из верных людей, готовых выполнить любое распоряжение генерального директора.
Совершенно неожиданно новый профсоюз, созданный с благословения администрации, стал расти и набирать силу. Путем разного рода мелких подачек и более щедрых посулов в новый профсоюз удалось привлечь значительное число членов. И тогда Джаявира предложил потребовать у совета директоров распустить новый соглашательский профсоюз, а в случае отказа провести забастовку. Он считал, что только так можно сохранить профсоюз, организованный самими рабочими и служащими.
— Нам предстоит вести борьбу не на жизнь, а на смерть, — говорил на заседании профсоюзного комитета Джаявира. — Мы хотим жить не как рабы, а как люди. Мы должны трудиться и за свой труд получать справедливую зарплату. У нас есть человеческое достоинство, и мы никому не позволим топтать его. Мы только хотим жить по-человечески, и ради этой цели нужно отдать все силы.
Предложение Джаявиры было поддержано всеми присутствующими. Было решено не только призвать членов профсоюза, во главе которого стоял Джаявира, прекратить работу, но и установить пикеты, чтобы не допустить к станкам других рабочих.
Когда началась забастовка, администрация вызвала полицию, и несколько рабочих и служащих под охраной полицейских и под свист и улюлюканье рабочих прошли на свои места. Вначале забастовка проходила успешно. Но постепенно среди бастующих начались колебания. Многие со страхом думали о том, что скоро кончатся их жалкие сбережения и их близким придется голодать. Многие стали опасаться потерять работу. И вскоре можно было видеть, как некоторые рабочие, только что осыпавшие бранью штрейкбрехеров, опустив голову и стараясь не встречаться взглядом: со своими товарищами, воровато проскальзывали в ворота фабрики, охраняемые дюжими полицейскими.
В течение нескольких дней к бастующим присоединилась еще горстка рабочих и служащих, но за это же время гораздо большее число людей решило вернуться на работу. Потом положение стабилизировалось — никто больше не примкнул к забастовщикам, но и никто не вернулся на работу. Бастовать продолжали большинство рабочих и служащих, и поэтому, несмотря на то что некоторые трудились на своих местах, фабрика практически не работала. Бастующие предложили администрации провести переговоры. Администрация ответила, что переговоры могут начаться только после прекращения забастовки. Забастовочный комитет на это не пошел. Положение бастующих было тяжелым — они жили только на вспомоществование сочувствующих. Но с другой стороны, каждый день забастовки приносил убыток и хозяевам.
Тогда Вирасурия заявил, что по всем вопросам он будет вести переговоры только с представителями нового профсоюза. Забастовочный комитет потребовал, чтобы переговоры велись с его представителями, но это требование осталось без ответа. Представителям нового профсоюза Вирасурия пообещал, что администрация не будет применять к бастующим никаких репрессий, если они на следующий день выйдут на работу. Им только не будет выплачена зарплата за те дни, когда они бастовали. Своим обещанием Вирасурии удалось внести раскол в ряды бастующих. Многие решили выйти на работу. Даже Саймон считал, что бастовать дальше не имеет смысла.
— В любом случае Вирасурия должен вести переговоры с нами, — доказывал Джаявира. — Мы организовали забастовку и вели борьбу. Сейчас Вирасурия ясно показал, что ему нужно только одно — ослабить наш профсоюз. Если забастовка прекратится, то это будет конец нашего профсоюза.
— Для тебя профсоюз важнее, чем живые люди, — твердил Саймон. — Пусть все потеряют работу, только бы остался профсоюз! Вот как ты рассуждаешь!
— Ты не прав, товарищ! — возражал Джаявира. — Пойми, что, если наш профсоюз распадется, для нас настанут тяжелые времена. Все уступки, на которые Вирасурия идет сегодня, он завтра же отменит. И никто ему не помешает этого сделать — ведь на фабрике останется только профсоюз, которым руководят его прихлебатели. Более того, администрация сможет тогда прижать нас еще сильнее, чем раньше.
Положение на фабрике было крайне напряженным. Дело доходило до потасовок между забастовщиками и теми, кто намерен был выйти на работу.
В тот день Джаявира вернулся домой далеко за полночь. Весь день и вечер он собирал рабочих небольшими группами и убеждал их продолжать забастовку, не отступать от своих требований. Он говорил страстно, убедительно, и многие из малодушных решили продолжать борьбу. Но много было и отступников. Настал такой момент, когда все висело на волоске. Не раз на протяжении дня Джаявиру охватывали сомнения в успехе начатою дела, но каждый раз он прогонял прочь мрачные мысли и убеждал, убеждал, убеждал…
Когда Джаявира открыл дверь своего домика, на какое-то мгновение его охватил непонятный страх — он побоялся войти в темную комнату. «Чушь какая-то», — подумал он и направился к столу, на котором, как он помнил, лежал коробок спичек. Он протянул руку, но найти коробок спичек так и не успел… Сзади раздался шорох, и, прежде чем Джаявира обернулся, что-то острое кольнуло его под левую лопатку, и все тело пронзила жгучая боль. Он попытался крикнуть, но услышал, как из его горла вырвался только слабый хрип…
«Завтра же надо поднять вопрос о том, чтобы поставить памятник на могиле Джаявиры, — решил Сирисена. — Каждый даст немного денег из той прибавки, которой мы добились у хозяев». И, уже повернувшись, чтобы идти, подумал: «Не каждая смерть и не каждое поражение означает конец. В справедливой борьбе из каждой смерти рождается новая жизнь, из каждого поражения — новая победа!»
Ранджит Дхармакирти
ВОЛНА
© Издательство «Художественная литература», 1983.
Сегодня Бандусена, как всегда, приехал в департамент раньше времени, поднялся на четвертый этаж и прошел в свой кабинет — маленькую клетушку, отделенную стеклянной перегородкой от помещения, где сидели его подчиненные. Хотя от дома до департамента было всего шесть-семь миль, утренняя поездка на работу утомляла и раздражала Бандусену. Машин было столько, что ему приходилось тащиться с черепашьей скоростью и выписывать замысловатые зигзаги, чтобы не сбить пешеходов, то и дело перебегавших дорогу. Собственно говоря, именно поэтому он и любил по утрам приезжать раньше остальных служащих — тишина и безлюдье, царившие и департаменте до наступления обычной дневной суеты, помогали улечься раздражению после поездки и автомобиле.
Бандусена открыл ящик стола, сунул туда кожаную панку, а на полку рядом со столом поставил привезенную из дома бутылку с водой и термос с чаем. Все это он проделал привычными движениями, и то время как мысли его были заняты совсем другим. Вдруг взгляд Бандусены скользнул по пыльной поверхности стола, который обычно блестел как зеркало. Бандусена провел пальцем по столу, оставив на нем длинную линию, а потом брезгливо стряхнул прилипшую к пальцу пыль. Этот огромный стол был нужен Бандусене не столько для работы, сколько для того, чтобы придать себе вес. Обычно Бандусена сквозь стеклянные переплеты клетушки еще издали замечал направляющегося к нему посетителя. И если в этот момент у него не было никакого дела и он просто читал газету или проглядывал журнал, Бандусена тут же откладывал их в сторону, пододвигал к себе папку с бумагами и делал вид, что внимательно изучает их. Несколько мгновений он словно не замечал вошедшего к нему посетителя — Бандусена считал, что это внушает тому должную робость и почтение, — а затем, не отрываясь от лежавших перед ним бумаг, небрежно указывал рукой на стоящий рядом стул. Еще через несколько минут он наконец захлопывал папку и, бросив суровый взгляд на посетителя, небрежно цедил: «Йес». Огромный полированный стол, снисходительно-пренебрежительный тон — все это Бандусена считал необходимым для того, чтобы поддержать престиж столь важной персоны, как заместитель комиссара. Неудивительно, что вид запыленного стола вызвал у него приступ глухого раздражения, и он с такой силой нажал на кнопку электрического звонка, словно хотел вдавить ее в крышку стола. Обычно, прежде чем Бандусена успевал оторвать палец от кнопки, на пороге ею кабинета вырастала фигура посыльного. Но сегодня будто бы никто и не слышал звонка Бандусены. Мало того, не работал ни один вентилятор, и в помещении было душно. Бандусена грозно сдвинул брови, но тут вспомнил, что сегодня бо́льшая часть служащих участвует в забастовке солидарности. Он совершенно забыл об этом, полагая, что, как и в прошлый раз, служащие пошумят-пошумят, да так ни с чем и вернутся на работу. К тому же Бандусена был уверен, что те из них, которые относились к нему дружески, и те, что были приняты по рекомендации министра, непременно выйдут на работу. Бандусена взглянул на часы — рабочий день еще не начался, и пока трудно было сказать, сколько столов сегодня будет пустовать.
Чтобы глотнуть свежего воздуха, Бандусена подошел к окну, выходящему на океан, и распахнул его. Окно давно уже никто не открывал, и Бандусене пришлось изрядно повозиться с задвижкой, прежде чем она поддалась. Свежий ветер устремился в комнату, и приятная прохлада мягко обволокла Бандусену. «И почему никогда не открывают это окно? — подумал он. — Насколько свежий ветер с океана приятнее, чем все эти фены и вентиляторы!» Бандусена придавил пресс-папье бумаги на столе, которые чуть не сдул ветер, потом снова подошел к распахнутому окну и стал смотреть вниз, где волны разбивались о каменистый берег бесчисленными фонтанами брызг. Бандусена не знал, как долго он любовался прибоем, когда крики «Да здравствует! Да здравствует!» заставили его вздрогнуть. Он подошел к другому окну, раскрыл его и выглянул наружу. Бандусена никак не думал, что на забастовку выйдет так много служащих. Они толпились перед зданием департамента, держа в руках транспаранты.
Один служащий стоял перед толпой и выкрикивал лозунги, а остальные громко подхватывали их. До окна на четвертом этаже, из которого смотрел Бандусена, четко доносились только подхваченные толпой обрывки: «Да здравствует! Долой! Классовая борьба! Единство служащих! Власть капиталистов! Наша борьба!»
Бандусене вспомнились годы учебы в университете, студенческие демонстрации. Когда же это было? Десять, нет, даже двенадцать лет тому назад. Тогда Бандусена сам шел во главе демонстрации и выкрикивал те же слова. В то время Бандусена был секретарем студенческого союза, примыкавшего к одной из левых партий. Два первых года студенческой жизни он целиком посвятил политической деятельности. Лишь когда приближалась пора экзаменов, Бандусена с лихорадочной поспешностью просматривал конспекты лекций, взятые у товарищей, они же натаскивали его по вопросам, о которых у нею было весьма смутное представление, и ему с грехом пополам удавалось закончить семестр. Вспомнил Бандусена и то, как однажды студенты, участвовавшие в демонстрации, которой он руководил, вошли в такой раж, что сдержать их было уже невозможно. Толпа ворвалась в дом проректора университета и устроила там настоящий погром. В гостиной стояли напольные часы под «Большой Бен», и, когда раздался их мелодичный перезвон, Бандусена, не понимая, что на него нашло, не только перестал сдерживать остальных, но сам подскочил к часам и первым попавшимся под руку тяжелым предметом вдребезги разбил циферблат.
Даже теперь при воспоминании об этом у него мурашки побежали по телу. Правда, когда полиция проводила расследование, никто не выдал Бандусену, но временами его охватывал страх, что этот случай выплывет наружу. Однако очень скоро Бандусена стал про себя называть тот период в своей жизни, когда он увлекался политикой, «порой юношеской незрелости». Не отойди он вовремя от политики, он бы, как Раджатуру, завалил последний экзамен и до сих пор бродил бы по улицам в потертых брюках, продавая газеты. Однако благодаря профессору Тилакавардхане он быстро понял всю бессмысленность своего увлечения политикой. Профессор Тилакавардхана, к которому Бандусена питал чувство глубокой признательности, долго работал в одном из американских университетов. Он толковал с Бандусеной о марксизме, буддизме, свободе личности, но главное, чему он учил своего студента, — это, по его выражению, «умению жить». Бандусена словно губка впитывал все, что говорил ему профессор. В последние два года учебы в университете он совершенно забросил свои прежние увлечения и успешно сдал выпускные экзамены…
Забастовщики вновь стали скандировать лозунги, и это вернуло Бандусену к действительности. К этому времени пришли помощники комиссара. Они сразу же прилипли к окнам, глядя вниз, где в такт выкрикиваемым требованиям поднимались транспаранты и взлетали вверх сжатые кулаки. Потом на вынесенный из здания стол поднялся секретарь профсоюза — Бандусена сразу же узнал его, — раздалось громкое «Да здравствует!», и воцарилась такая тишина, что даже на четвертом этаже можно было услышать, что говорит оратор.
— Товарищи! — начал он. — Правительство капиталистов приняло все дозволенные и недозволенные меры, чтобы подавить трудящихся. Но я с полной уверенностью заявляю, что, собрав свою силу в единый кулак, мы разобьем цепи, которыми нас опутали. Однако это дело будущего. А сейчас перед нами стоит задача добиться восстановления на работе без всяких условий нашего товарища, которым стал жертвой произвола администрации. И наша забастовка, начавшаяся так успешно, будет продолжаться до тех пор, пока наше справедливое требование не будет удовлетворено!
Толпа принялась громко скандировать: «Долой бюрократизм реакционных чиновников!.. Долой!»
Бандусена хорошо знал служащего, из-за которого заварилась эта каша. Он попросил отпуск, чтобы ухаживать за больной женой и детьми, а поскольку никто не взял на себя обязанности отсутствующего работника, его дела оказались запущенными, и служащего уволили за нераспорядительность. Однако ни сам комиссар, ни Бандусена, которые подписали приказ об увольнении, и представить себе не могли, что члены профсоюза почти все как один поднимутся на защиту своего товарища.
Бандусене казалось, что вначале, до своего назначения на должность заместителя комиссара и получения стипендии для продолжения образования в аспирантуре в Лондоне, он в большей степени, чем кто-либо другой из служащих, пользовался симпатиями коллег. Возможно, все еще давали себя знать его прежние убеждения, которых он придерживался в первые годы учебы в университете, когда участвовал в левом движении, и известная смелость и независимость суждений, которые он поначалу проявлял. Броме того, на первых порах Бандусена был вполне доволен своим положением и не участвовал ни в каких закулисных махинациях, чтобы сделать себе карьеру. Однако после женитьбы на девушке из богатой семьи его словно бес обуял — он во что бы то ни стало решил добиться положения не менее высокого, чем то, какое занимали родственники его жены. Взлет карьеры Бандусены, а вместе с ним и его окончательное духовное падение начались с того дня, когда его познакомили с министром. Министр сразу понял, что Бандусена готов на все, лишь бы подняться по служебной лестнице, а ему именно такой человек и был нужен, С тех пор всякий раз, когда министру было необходимо провести через департамент какое-нибудь решение, не совсем безупречное с точки зрения законности или соответствия существующим положениям, он вызывал к себе Бандусену и давал ему задание. Бандусена договаривался с сослуживцами, которые быстро почувствовали, откуда дует ветер, и они вместе составляли требуемую бумагу. В награду за то, что он беспрекословно делал все, что было нужно министру, его родственникам, друзьям, а то и просто знакомым, Бандусена стал вскоре заместителем комиссара. Ему была предоставлена возможность продолжить образование в Лондоне. Первое время Бандусену еще терзали угрызения совести: ведь с его помощью покрывались грязные махинации и расхищались деньги. Но постепенно личные выгоды и приятное ощущение власти, которую он теперь приобрел, свели на нет его нравственные принципы и превратили в черствого карьериста. С тех пор как Бандусена окончательно стал частью бездушной бюрократической машины, все проблемы морали были решены для него раз и навсегда — надо действовать так, как принято в обществе, по крайней мере в том, где ты вращаешься.
Приехал комиссар и вызвал к себе Бандусену.
— Ну и дела! — пожаловался он заместителю, вытирая мокрое от пота лицо. — Мой шофер, видите ли, тоже бастует. Служебная машина не пришла, и мне пришлось добираться на своем автомобиле.
Встревоженное выражение лица комиссара свидетельствовало о том, что он обескуражен размахом забастовки и обеспокоен ее возможными последствиями. Бандусена сообщил комиссару предварительные данные о численности забастовщиков и о тех мерах, которые следовало принять. Из одной тысячи восьмисот семидесяти восьми служащих на работу вышло только тридцать человек. Для самых неотложных дел Бандусена предложил поставить помощников комиссара на финансовые операции, прием корреспонденции, отправку срочных писем обычно выполняли клерки и мелкие служащие.
— Все это хорошо, — нехотя согласился комиссар и, наморщив лоб, поверх очков посмотрел на Бандусену. — Но ведь сегодня приезжает для переговоров японская делегация, а конференц-зал даже прибрать некому. Что делать, ума не приложу.
— Ничего страшного. Я сам уберу зал. На работу вышел один стенографист. Я скажу ему, чтобы он вел протокол, — нашел выход Бандусена.
— Чуть попозже я приду и помогу вам, — пообещал комиссар.
Перед тем как выйти из кабинета, Бандусена выудил у комиссара согласие выплатить служащим, которые будут сегодня выполнять чужую работу, по двадцать пять рупий и выдать им по пакету бурияни[8].
Из всех помещений департамента конференц-зал был самым великолепным. Пол устилал толстый ковер, посредине которого возвышался стол в форме подковы. Вокруг него располагались мягкие, удобные кресла, одно из которых, центральное, предназначалось комиссару. Рядом с ним находились телефоны, селектор и кнопка электрического звонка для вызова секретаря. Зал украшали вьющиеся растения в кадках. Их пышная зелень расползлась по планкам, прибитым под потолком, и образовала плотный зеленый навес над столом. «А ведь все идет к тому, что в недалеком будущем я наверняка займу кресло комиссара», — подумал Бандусена, орудуя щеткой, и горячая волна гордости и самодовольства захлестнула его. И в самом деле, занимая пост заместителя комиссара, разве не он практически заправляет делами в департаменте? Во все самые важные заграничные поездки обычно отправляется не кто иной, как Бандусена. А используя свое положение в департаменте, он легко сможет добиться выгодных кредитов для расширения отеля, который жена принесла ему в приданое, и прочих льгот. Радужные мысли сменяли одна другую: «Приемы в посольствах. Каждый день в газетах и радиопередачах упоминается его имя — комиссар Бандусена заявил, господин Бандусена в беседе с корреспондентом радио сказал, господин Бандусена отправляется за границу на важную конференцию… Почет и уважение. Привилегии. Известность». Да, весьма соблазнительно стать комиссаром. А нынешняя забастовка еще больше приблизила его к заветной цели. И, вспомнив, как много служащих приняли участие в забастовке, Бандусена довольно ухмыльнулся — несдобровать комиссару. Правда, и без этого Бандусена сумел подставить комиссару подножку, о которой тот еще и не подозревает. При мысли об этом лицо Бандусены расплылось в самодовольной улыбке. Некоторое время тому назад он передал на рассмотрение комиссара заявление близкого друга министра. При этом он не только умолчал о том, от кого исходит просьба, но и заметил, что подобную просьбу никак нельзя удовлетворить. Полагаясь на мнение Бандусены, комиссар тут же начертал в углу заявления «отказать» и поставил свою подпись. На следующий же день Бандусена показал заявление с резолюцией министру. И не только показал, но и заявил, что комиссар сделал это нарочно, что это прямой вызов министру и тому подобное. По тому, как помрачнел министр и как недобро сверкнули его глаза, Бандусена понял, что его уловка достигла цели.
Бандусена вспомнил также, что, когда назревала забастовка, комиссар поручил Бандусене вести переговоры с представителями профсоюза, так как считалось, что Бандусена лучше других знает дела профсоюза и сможет найти выход из создавшегося положения. Однако, увидев на первых же встречах с представителями профсоюза, насколько настойчивы и решительны они в своих требованиях, Бандусена не на шутку встревожился. А что, если, став комиссаром, он столкнется с такими же решительными действиями профсоюзных лидеров? Эти опасения заставили его на следующий день пригласить секретаря профсоюза в свой кабинет. Едва тот появился на пороге, как Бандусена, забыв о спектаклях, которые он обычно разыгрывал, отодвинул папку с бумагами в сторону и, широко улыбаясь, пригласил секретаря садиться.
— Я пригласил вас, Викрамасекара, не для того, чтобы обсуждать профсоюзные дела. Мне представили конфиденциальный доклад с рекомендацией повысить вас по службе. Об этом бы я и хотел поговорить с вами.
Бандусена был само дружелюбие.
— Боюсь, что, если я посижу у вас еще немного, доклад перестанет быть конфиденциальным. Я лучше пойду. — И Викрамасекара поднялся со стула.
Бандусена помрачнел, но быстро поборол себя и деланно рассмеялся.
— Чего вы боитесь, Викрамасекара? Поверьте, мое положение обязывает меня с достаточной ответственностью отнестись к конфиденциальной информации.
Бандусена с особым ударением произнес слова «мое положение» и «с достаточной ответственностью», чтобы Викрамасекара почувствовал, с кем он разговаривает.
— Итак, вы пригласили меня, чтобы поговорить о моем продвижении по службе. — Викрамасекара снова опустился на стул.
— Я познакомился с вашим личным делом, — начал Бандусена, барабаня пальцами по столу и искоса поглядывая на своего собеседника, — и убедился, что вы собственными руками губите свою карьеру.
— Да, что касается меня лично, то мое материальное положение действительно могло бы быть лучше, — согласился Викрамасекара и тут же добавил: — Но в своем будущем я уверен.
— Именно ваши личные дела я и имею в виду, — значительно произнес Бандусена и с некоторым облегчением откинулся на спинку кресла — похоже, что ему удалось заинтересовать Викрамасекару.
Затем Бандусена отеческим тоном поведал Викрамасекаре, как он, будучи студентом университета, тоже участвовал в политической борьбе, как, убедившись в том, что это ничего, кроме лишних хлопот и больших огорчений, не приносит, занялся своей карьерой и добился видного положения. А затем пообещал, что если Викрамасекара оставит пост секретаря профсоюза, то получит хорошую должность в департаменте.
— Да… — задумчиво протянул Викрамасекара. — Если бы все те, кто в университетах разделяли марксистские взгляды, заняв высокие посты, действовали в соответствии со своими прежними убеждениями, Цейлон давно бы был социалистической страной.
Бандусену передернуло — смысл сказанного не оставлял никаких сомнений. Бандусена некоторое время молчал, а когда снова заговорил, в голосе у него звучали железные нотки.
— Чушь это и обман. В таких странах, как Цейлон, где глубокие корни пустила буддистская культура, социализм невозможен. Поэтому выбросьте из головы эту ерунду и хотя бы впредь будьте разумнее.
— Я не верю в то, что вы говорите, — возразил Викрамасекара. — Какая бы культура ни была в стране, люди хотят жить по-человечески. Моя судьба неотделима от судьбы простых людей, а о собственной карьере я не думаю.
Викрамасекара встал со стула и, уже взявшись за ручку двери, добавил с едва уловимой иронией:
— Благодарю, сэр, за откровенную беседу.
Сейчас голос Викрамасекары — наверное, он взял мегафон — доносился даже до конференц-зала. Было слышно, как его речь время от времени прерывается негодующими или приветственными возгласами бастующих. Бандусена проворно заработал щеткой, но мысли, которые никак нельзя было назвать приятными, назойливо лезли в голову: разве не из эгоизма и корыстолюбия он постарался забыть свои прежние убеждения и отойти от политической борьбы? Став помощником комиссара, первое время он еще чувствовал укоры совести. Но, пожалуй, поездка в Лондон окончательно превратила его в нынешнего Бандусену. Дух стяжательства, охвативший его там, навсегда вытравил в его душе какие-либо сожаления о выбранном пути. За время пребывания в Лондоне он ни разу не удосужился сходить в музей или театр, а каждый вечер мыл посуду в ресторане, чтобы заработать несколько лишних фунтов и накопить денег на покупку автомобиля. Единственное развлечение, которое он себе изредка позволял, были встречи с определенного рода женщинами. Правда, в Лондоне Бандусена научился бегло говорить по-английски и усвоил привычку пожимать плечами, как заправский англичанин.
Снизу донесся яростный взрыв возгласов. Бандусена отставил щетку и подошел к окну. Бастующие заполнили всю улицу. Все так же над их рядами колыхались транспаранты, взлетали вверх гневно сжатые кулаки. «Словно река, вышедшая из берегов», — подумал Бандусена. Он перевел взгляд на берег океана, где волны с шумом разбивались о прибрежные камни. Они заливали пляж бывшего английского губернатора около маяка. Бандусена снова посмотрел на толпу перед зданием департамента, и вдруг как молния его пронзило сомнение: «А какой смысл в жизни, что я веду? Не слишком ли дорогую цену заплатил я за то, что получил взамен?» На какое-то мгновение в нем проснулись смелость и жажда справедливости, которые отличали его в далекой молодости, и ему захотелось сбежать вниз и влиться в ряды бастующих. Но эти чувства владели им только короткое мгновение. В следующий же миг Бандусена с раздражением и страхом прислушался к призывам, доносившимся снизу: «Вперед! Мы не откажемся от классовой борьбы! Долой насилие и несправедливость!» Эти слова, нестерпимо больно ударяя в барабанные перепонки, казалось, заставляли содрогаться все вокруг. И вдруг Бандусене почудилось, будто под зданием, до четвертого этажа которого его подняла судьба, разверзлась пропасть и он вместе со своими расчетами и махинациями вот-вот канет в зияющую пустоту. Это чувство было настолько реальным и острым, что Бандусена судорожно вцепился в подоконник.
РАБОТА
«Настоящим сообщаем вам, что вы должны явиться на работу завтра». Когда Ратнапала, раскрыв дрожащими от волнения руками телеграмму, прочел эту фразу, его захлестнула волна безграничной радости. «Мама! Мамочка!» — закричал он и бросился в дом. Не найдя матери в кухне, он снова позвал ее и наконец увидел, что мать моет за кухней посуду. Ратнапала в два прыжка подскочил к ней и выпалил:
— Мама! Я получил работу!
Мать выронила из рук щетку, которой терла кастрюлю, и подняла глаза на сына. Ее лицо, изборожденное глубокими морщинами, с ввалившимися щеками, осветилось счастливой улыбкой. Она сполоснула руки, вытерла их о подол, и, когда выпрямилась и снова посмотрела на сына, в глазах ее блестели слезы. Ратнапала и сам почувствовал, как у него дрогнул подбородок, а перед глазами поплыли радужные круги.
— Слава богу!
Голос матери дрожал. Она прижала голову Ратнапалы к своей груди, словно он был маленьким ребенком. Ее шершавые ладони легонько гладили сына по волосам, а он думал, что наконец у него появилась возможность что-то сделать для матери, хоть чем-то отплатить за ее безмерную заботу и любовь.
— А где ты будешь работать, сынок? — спустя некоторое время спросила мать. — В государственном учреждении?
— Нет, мама. Я буду работать в большой компании, куда я ходил на собеседование на прошлой неделе.
— Ну, хоть что-нибудь, сынок. А то я вся извелась, глядя, как ты целыми днями лежишь на кровати и терзаешься, что не можешь найти работу. Честно скажу, боялась я, сын, как бы ты не пошел по кривой дорожке.
На следующий день рано утром Ратнапала стоял у трехэтажного здания на улице Бэли в Питакотуве, где помещалась компания «Дауд и Хэбтулла». Едва он переступил порог здания, как к нему подошел служащий, вероятно рассыльный, и вежливо спросил:
— Вы господин Ратнапала?
— Да.
— Наш хозяин сказал, что вы сегодня впервые выходите на работу, и велел встретить вас внизу. Идемте, господин. Хозяин уже у себя в кабинете. Я его шофер. Вон там стоит машина нашего хозяина. — И провожатый показал Ратнапале блестевшую лаком машину марки «тойота краун».
Компания «Дауд и Хэбтулла» находилась на третьем этаже. Когда Ратнапала приходил сюда на собеседование, то без труда нашел название компании на указателе, висевшем около лестницы на первом этаже, хотя в этом здании располагались конторы почти двадцати пяти компаний. Но после этого он долго блуждал по темным коридорам с бесчисленными поворотами, напоминавшими лабиринт. И если бы сегодня его не встретили, ему пришлось бы потратить немало времени, прежде чем найти нужное помещение. Ратнапала был тронут предупредительностью господина Дауда, пославшего своего шофера встретить его. Они прошли мимо вывески с названием компаний и подошли к двери, на которой была прибита табличка: «А. Д. Дауд, управляющий директор».
— Хозяин у себя. Проходите, — пригласил Ратнапалу шофер, шедший впереди. Ноги Ратнапалы вдруг стали ватными. Робость и страх охватили его. Вот сейчас он переступит порог и окажется лицом к лицу с директором такой крупной фирмы! Как держать себя? Что сказать? Присутствие шофера еще больше смущало Ратнапалу. «Будь что будет!» — наконец решил он и, собравшись с духом, постучал в дверь. Посередине комнаты, куда вошел Ратнапала, стоял большой стол необычной формы, а боком к нему на вращающемся кресле сидел господин Дауд. Он упирался локтями в колени, зажав лицо большими ладонями. Казалось, он о чем-то напряженно думал.
— Гуд монинг, доброе утро, сэр, — поздоровался по-английски Ратнапала, безуспешно пытаясь побороть волнение и унять дрожь в голосе.
— Гуд монинг, — откликнулся господин Дауд и, повернувшись к столу, уже по-сингальски добавил: — Прошу садиться.
Массивное тело господина Дауда было облачено в рубашку с короткими рукавами и брюки из легкой белой ткани. Густые черные волосы покрывали обнаженные по локоть мускулистые руки. У него был большой рот и толстые, немного вывернутые наружу губы.
Господин Дауд был сама любезность — он осведомился у Ратнапалы, удобно ли ему добираться до работы, успел ли он позавтракать утром, а если нет, то он немедленно распорядится подать завтрак прямо в кабинет.
Ратнапала, польщенный таким вниманием и вконец смущенный, лепетал что-то невнятное.
Покончив с любезностями, господин Дауд перешел на деловой тон. Теперь он говорил по-английски, словно буравя Ратнапалу своими глубоко посаженными глазами.
— Так вот, мистер Ратнапала, с сегодняшнего дня вы служащий нашей компании. И запомните: успех компании — залог вашего благополучия. Будете работать добросовестно и усердно — продвижение по службе не заставит себя ждать.
В это время в комнату вошла девушка и заняла место за стоявшим в стороне небольшим столиком.
— Это моя секретарша, мисс Мэри да Сильва. А это наш новый сотрудник, мистер Ратнапала. Он будет заниматься рекламой, — представил их друг другу господин Дауд.
Затем он пространно заговорил о делах компании и об обязанностях Ратнапалы. В конце беседы господин Дауд предупредил Ратнапалу, что старые служащие всегда ревниво относятся к новичкам, особенно если те имеют университетский диплом, и попросил его быть осторожным в выборе друзей среди сослуживцев и не доверять разным сплетням. Если же у Ратнапалы возникнут какие-либо проблемы, будь то личного или служебного порядка, пусть обращается прямо к нему.
— А теперь, Мэри, покажите мистеру Ратнапале его рабочее место. — И, снова обращаясь к Ратнапале, добавил: — Я пришлю вам с Мэри несколько папок с бумагами. Проштудируйте их сегодня основательно, а завтра представьте мне доклад, и мы обсудим дела нашего нового отдела. Все понятно?
Лицо господина Дауда расплылось в широкой улыбке, и он кивком головы отпустил Ратнапалу.
Комната, куда Мэри проводила Ратнапалу, была опрятной и чистой, на полу — циновки, на подоконниках — цветы в горшках. Стол, за которым должен был сидеть Ратнапала, стоял в стороне от других — так обычно ставят столы для старших служащих.
Под потолком жужжал вентилятор. Наконец-то после стольких мытарств и бесконечного обивания порогов с университетским дипломом в кармане у него была работа, на которой он сможет применить свои знания. «Здесь сумели оценить мои способности, — с удовлетворением подумал Ратнапала. — На земле стало еще одним человеком больше, который получил то, что он заслуживает». Должно быть, не последнюю роль сыграло и то, что во время учебы в университете он увлекался литературой и даже сам пробовал писать. Ратнапала нисколько не сомневался в том, что он справится со своими обязанностями. Правда, его немного смущало то, что в этой компании все дела ведутся на английском, а он, к сожалению, знает его недостаточно хорошо. Но он тут же приободрился, вспомнив, что многие его бывшие сокурсники, которые знали этот язык хуже, чем он, устроившись на работу, быстро научились отлично составлять бумаги по-английски. По-видимому, на него также будет возложена обязанность поддерживать связи с рекламными отделами газет и радио. Тут-то он себя и покажет! Ведь еще в университете он проходил практику в газетах и на радио. А с каким почтением там относились к представителям рекламных отделов компаний! О трех годах, прошедших после окончания университета, Ратнапала старался не думать. Это было время, полное разочарований и нескончаемых бесполезных хлопот. В какие двери он только не стучался, чтобы получить хоть какую-нибудь работу! И все напрасно. Как-то Ратнапала вместе с бывшими студентами своей группы, такими же безработными горемыками, обратился к самому министру с просьбой предоставить им работу, но и это не помогло.
Сколько заявлений он написал в различные государственные учреждения! Но, поскольку депутат от округа, где проживал Ратнапала, вычеркнул его из своего списка, юношу ни разу даже не пригласили на собеседование. А дело было в том, что депутат подозревал Ратнапалу в симпатиях к левым партиям и поэтому считал своим противником. Ратнапала понял это, когда по настоянию матери в очередной раз пришел на прием к личному секретарю депутата. Секретарь, которому порядком надоели посещения Ратнапалы, решил объясниться с ним начистоту.
— В университете ты не упускал случая, чтобы пройтись насчет депутата, а теперь ходишь сюда и клянчишь, чтобы тебе помогли устроиться на работу.
Услышав это, Ратнапала понял, что депутату известно о нем все, и у него похолодело сердце. Но отчаяние быстро уступило место раздражению. Понимая, что терять ему больше нечего, Ратнапала дерзко заявил:
— У меня есть все данные, чтобы получить работу, но я чем-то не устраиваю депутата. Теперь-то мне все ясно.
Однако выпад Ратнапалы не произвел на секретаря ни малейшего впечатления.
— Если у тебя есть все данные, чтобы получить работу, — произнес он с издевательской ухмылкой, — зачем ты таскаешься сюда?
Ратнапала покинул дом депутата, с трудом сдерживая душившую его ярость, и тут же решил, что ноги его здесь больше не будет. Путь в государственные учреждения для него был закрыт, и он стал строчить заявления и прошения в частные компании. В компанию «Дауд и Хэбтулла» Ратнапалу привело попавшееся ему в одной английской газете объявление. Оно гласило:
Если вы молоды, энергичны, хорошо владеете пером и обладаете задатками руководителя, то вас ждет интересная работа в создаваемом у нас рекламном отделе. Просьба направлять документы до 10 августа. Просим не обращаться ни к кому за рекомендациями.
Компания «Дауд и Хэбтулла»№ 39, ул. БэлиКоломбо-1Тел. 89226.
Ратнапала послал все необходимые документы по указанному в объявлении адресу без особой веры в удачу. И вот он сидит за письменным столом в компании «Дауд и Хэбтулла».
Мысли Ратнапалы были прерваны приходом Мэри, которая принесла несколько папок с делами. Хотя ей было уже за тридцать, выглядела она очень привлекательно. Легкая шелковая кофточка едва прикрывала ее высокую упругую грудь, оставляя обнаженной полоску смуглой нежной кожи на животе. С ее появлением тонкий аромат духов наполнил комнату. И пока Мэри, положив папки на стол, шла к двери, Ратнапала неотрывно смотрел ей вслед.
Было уже около девяти часов, и комната постепенно стала заполняться служащими. Некоторые из них подходили к Ратнапале, здоровались и, обменявшись двумя-тремя словами, занимали свои рабочие места. Ратнапала пододвинул к себе папки и углубился в чтение подшитых в них бумаг. Но треск машинок, непрерывные телефонные звонки и разговоры сотрудников мешали ему сосредоточиться. В двенадцать часов ему позвонил господин Дауд:
— Мистер Ратнапала, после двенадцати вы можете в любое время сделать обеденный перерыв.
Ратнапала решил пообедать пораньше, пока никто из сотрудников не позвал его с собой, и найти какую-нибудь закусочную подешевле. Он спустился по лестнице и двинулся вдоль улицы Бэли. На углу Ратнапала увидел закусочную «Сайвар», которая показалась ему вполне подходящей, и, оглянувшись по сторонам, проскользнул внутрь. Денег у него едва хватило на то, чтобы заморить червячка, и, быстро покончив с едой и расплатившись, он снова вышел на улицу. У него еще оставалось около получаса свободного времени, но Ратнапала не стал ждать и сразу вернулся назад.
Когда он вошел в комнату, там не было никого, кроме пожилого служащего — на вид ему можно было дать лет шестьдесят, — который сидел в углу за столом с пишущей машинкой и заканчивал свой обед, принесенный из дому. Ратнапала запомнил, что его зовут Сильва. Вид у этого человека был какой-то странный — маленький рот на черном, как уголь, лице постоянно кривила улыбка. Утром раза два-три Ратнапале показалось, что она предназначена ему. Однако, когда он попытался улыбнуться в ответ, Сильва на это никак не прореагировал — он продолжал смотреть куда-то мимо Ратнапалы. Теперь, вернувшись с обеда, Ратнапала сел за свой стол и снова принялся изучать бумаги. Тем временем Сильва покончил с едой, встал со своего места и направился к Ратнапале. И, только когда он вплотную подошел к его столу, Ратнапала понял, что Сильва вовсе не улыбался — просто его верхнюю губу рассекал большой шрам, приподнимая ее правый край словно в улыбке.
— Мистер Ратнапала, — начал Сильва, оглядываясь по сторонам, — у меня три сына. Молодые люди, как и вы. У них у всех хорошая работа. Один сейчас трудится в Нигерии. Мне хотелось бы поговорить с вами откровенно, как со своим сыном.
Поначалу, увидев, что Сильва направляется к его столу, Ратнапала с беспокойством подумал, что старик собирается просить у него денег в долг. Однако, услышав, что у Сильвы три взрослых и хорошо обеспеченных сына, облегченно вздохнул.
Сильва еще раз огляделся по сторонам и, взяв себе стул, уселся напротив Ратнапалы.
— Мистер Ратнапала, это совсем неподходящее для вас место. Зачем, имея высшее образование, вы пришли сюда работать?
Он говорил на удивление бесстрастным голосом, и только брови его резко двигались то вверх, то вниз. Ратнапала вспомнил предупреждение господина Дауда и подумал, что Сильва, который дожил до седых волос, не видя ничего, кроме своей машинки, завидует ему и хочет отравить ему первый же рабочий день.
— А мне эта работа нравится, — возразил Ратнапала. — Мне кажется, она как раз по мне.
— Да что здесь может нравиться! Вы думаете, что это большая, солидная компания. Как бы не так! Мыльный пузырь это, и больше ничего.
— Ну пусть эта компания и не такая уж большая, но дело здесь поставлено хорошо.
— Какого дьявола хорошо! — Сильва так и затрясся от смеха. — Постелили циновки, размалевали стены, понаставили шикарных столов… Фасад-то хорош, а что за ним творится! — Сильва снова огляделся по сторонам, придвинул свой стул вплотную к столу и, наклонившись совсем близко к Ратнапале, продолжал: — Я хочу вас предупредить, как сына. Только не выдавайте меня! В этой комнате сидят представители нескольких компаний. Телефон у них один на всех. И плату за него взимает наш директор.
И, словно для вящей убедительности, Сильва высоко поднял брови и принялся буравить Ратнапалу взглядом. А Ратнапала вдруг почувствовал, что его охватывает какое-то смутное беспокойство. Неужели его мечтам и надеждам на будущее, пробудившимся, когда он поступил на работу в эту компанию, суждено развеяться, как предутренней дымке под безжалостными лучами жаркого солнца? Неужели ему снова придется целыми днями валяться на кровати и глядеть на потрескавшиеся стены? Нет, этого не может быть!
— Поймите меня правильно, — бубнил монотонный голос Сильвы. — Я сам печатал распоряжение о вашем зачислении и все знаю. Ведь вас взяли на работу с трехмесячным испытательным сроком?
— Да…
— И оклад положили триста рупий в месяц?
— Правильно…
— Триста рупий в месяц не так уж плохо, только платить вам их будут от силы в течение трех месяцев. А потом под разными предлогами начнут недоплачивать эту сумму. Пока, мол, вы еще недостаточно хорошо работаете… Сейчас у компании дела идут неважно, а месяцев через пять-шесть мы вам выплатим всю задолженность… Я уже в течение восьми месяцев вместо положенной зарплаты получаю какие-то крохи.
— А почему же вы, мистер Сильва, сами не уйдете отсюда? — Ратнапале показалось, что он нашел убедительный довод, доказывающий, что слова старого служащего — просто выдумка.
— Да как уйдешь? Ведь обещают все додать сполна. Вот и сижу здесь. Да и идейка одна у меня есть. Если держать глаза и уши открытыми, то такое можно разузнать про эту компанию, что не только выдадут, что задолжали, а с радостью заплатят в десять раз больше, только бы я не болтал! — И Сильва самодовольно захихикал.
У Ратнапалы все перепуталось в голове. С той самой минуты, как он узнал, что принят на работу, он мечтал о дне своей первой получки. Представлял себе, как придет с работы домой с подарками для матери и сестры. Радовался, что у него появилась возможность хотя бы немного скрасить жизнь матери, столько выстрадавшей после смерти отца. А теперь с каждым новым словом Сильвы все, о чем он мечтал, становилось все более призрачным. А откуда, как не из его зарплаты, можно накопить денег на приданое для сестры? Ратнапала рассчитал все до последнего цента — на собственные расходы он положил сто рупий в месяц, а остальное решил отдавать матери. И сегодня утром господин Дауд намекнул, что по мере расширения отдела рекламы его зарплата значительно возрастет! Это позволило бы Ратнапале избавиться от забот, которые одолевали его последнее время. А послушать Сильву, так все его расчеты ничего не стоят! У Ратнапалы был такой удрученный вид, что Сильва поспешил его утешить:
— Не принимайте все так близко к сердцу. Я ведь для вашего же блага об этом рассказал. Что толку от такой работы, как здесь… — По коридору прошли люди, и Сильва замолчал. Но как только шаги стихли, вполголоса продолжал: — Рулетку тут еще завели. Это идея нашего директора. Тоже дает неплохие доходы. Да… А этот рекламный отдел — просто ловушка.
— Ну это уж слишком, мистер Сильва! Когда я сегодня разговаривал с господином Даудом, ему позвонили и сделали заказ на проведение рекламной кампании стоимостью в двести тысяч рупий, — с победоносным видом заявил Ратнапала, вспомнив об одном телефонном разговоре, который господин Дауд вел утром в его присутствии.
В ответ Сильва расхохотался. Ратнапала с трудом сдержался, чтобы не вспылить. Что-то удержало его.
— Да это все уловки нашего шефа, — начал снисходительно объяснять Сильва, чем снова едва не вывел Ратнапалу из себя. — Многих он купил таким дешевым приемом. Это просто звонит его младший брат из магазина рядом, чтобы произвести впечатление на нового служащего. Я случайно об этом узнал. Затянут они вас, мистер Ратнапала, в сети, а потом заставят участвовать в своих не совсем благовидных делишках. А то по контракту направят работать в другую компанию. Все деньги, которые эта компания должна вам заплатить, возьмут себе, вам же какую-нибудь подачку бросят. А чуть что не по-ихнему, так живо на место поставят. Еще как поставят…
«Вероятно, в том, что говорит Сильва, все же что-то есть, — подумал Ратнапала. — Только не надо торопиться. Надо спокойно все обдумать».
— Взять, к примеру, отдел охраны, — продолжал Сильва. — Он там, за стенкой, помещается. Настоящая золотая жила! Шеф обеспечивает охранниками посольства, туристские отели, даже несколько фабрик. За каждого охранника он берет с клиента в день тридцать рупий. А охраннику сколько в день платят, знаете? Семь рупий пятьдесят центов. Охранников же у него в отделе сотни. Вот так-то…
Теперь господин Дауд, показавшийся Ратнапале таким порядочным и предупредительным, лишился в его глазах всей своей благопристойности и предстал в самом неприглядном виде. «Даже если половина сказанного Сильвой — правда, господина Дауда надо жечь каленым железом», — подумал Ратнапала.
— Уходите отсюда, мистер Ратнапала… — снова начал Сильва, но вдруг замолчал и проворно заковылял к своему столу — в коридоре дробно застучали каблучки Мэри.
Ратнапала задумался. Конечно, ему приходилось слышать о темных делишках, которые творились в некоторых компаниях. Но чтобы здесь, в этой фирме, где директор был так вежлив и благожелателен, а помещения выглядели такими опрятными, творились какие-то махинации! Ратнапала поднялся из-за стола и подошел к окну. Окно выходило во двор, и то, что увидел Ратнапала, резко контрастировало с фасадом здания, расцвеченным яркими пятнами витрин и реклам. Штукатурка на стенах облупилась, черепичные крыши с заплатами из гофрированной жести потемнели от времени. Облезлые тощие собаки гоняли во дворе ворон, густо облепивших кучи отбросов. Зрелище было таким удручающим, что Ратнапала отпрянул от окна. Чистые голубые стены, на которых висели красивые картины, а также карта мира и карта Республики Шри-Ланка, мерно вращающийся под потолком вентилятор немного успокоили его. Когда юноша взглянул на Сильву, тот мотнул головой в сторону перегородки, отделяющей комнату от отдела охраны, и указал пальцем на щель, прикрытую кашпо. Ратнапала не смог побороть в себе любопытство, подошел к перегородке, раздвинул зелень и заглянул в соседнюю комнату. Дверь была открыта внутрь, и Ратнапала разглядел висящую на медной цепочке табличку «Отдел охраны». В полупустой комнате поблескивали крышками два-три стола. В углу сидел человек в форменной одежде и фуражке. Рядом с ним за столом расположился здоровенный детина. Его могучие плечи, казалось, вот-вот разорвут рубашку с короткими рукавами, а голова выглядела слишком маленькой для такого огромного тела. Он был подстрижен ежиком. Зубы слегка выпирали вперед. Еще за одним столом восседал господин Дауд.
— Объясните еще раз, в чем дело, — обратился он к детине.
— Сэр, Рупасири во время дежурства оставил свой пост. Мне вчера сообщили об этом по телефону. Я вызвал его и поставил вас в известность.
— Ты слышишь, что говорит инспектор? Мы тебя взяли, чтобы работать или чтобы ты шлялся неизвестно где во время дежурства? Понимаешь ли ты, осел, что я могу тебя вышвырнуть сию же минуту, а завтра найду сотню таких, как ты?
Сочувствие к Рупасири острой иглой пронзило сердце Ратнапалы. Да и чем он сам был лучше того несчастного за стеной? Такой же беззащитный сотрудник в руках главы фирмы. Такой же бесправный раб, хотя его никто так и не называл.
— Сэр, я не успел утром позавтракать и забежал на минутку в столовую выпить чашку чая. У меня трое детей, сэр. У одного полиомиелит. Не увольняйте меня, сэр. Ради бога, не увольняйте, — не оправдывался, не просил, а просто причитал Рупасири.
— Были ли у него раньше какие-либо провинности? — спросил господин Дауд у инспектора.
— Нет.
— В таком случае его надо проучить как следует и перевести на другое место, — решил господин Дауд. — Другого человека возьмешь, так еще, чего доброго, придется шить новую форму. Опять же расходы.
Он подошел к двери и выглянул в коридор. Потом повернулся лицом к инспектору, уперся руками в дверной косяк и кивнул головой. Инспектор поднялся из-за стола и тяжелой глыбой надвинулся на Рупасири, который вскочил на ноги и прижался к стене. Инспектор неторопливо подошел к Рупасири вплотную и беззлобно, словно автомат, размахнувшись, ударил его по лицу. Рупасири начал сползать вниз, цепляясь руками за стену. Однако инспектор не дал ему упасть — одной рукой он схватил Рупасири за шиворот, а другой огрел еще раз.
— Пожалуй, хватит, — бросил Дауд. — Да не забудь вычесть треть месячной зарплаты. — С этими словами он вышел из комнаты.
У Ратнапалы все поплыло перед глазами. Он отошел от стены, но тут же был вынужден ухватиться за стол Сильвы — ноги отказывались держать его, к горлу подкатил комок. Ратнапала на минуту зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел, что Сильва смотрит на него и печально кивает головой, словно спрашивая: «Разве я говорил неправду?» Шатаясь, Ратнапала подошел к своему столу и оперся о него обеими руками. «Неужели все, что я видел, действительно произошло? А может быть, это только кошмарный сон?» — спрашивал он себя.
Юноша медленно вышел из комнаты. Пройдя по бесчисленным коридорам и спустившись по лестнице, он оказался на улице. На мгновение перед его мысленным взором предстало изможденное лицо матери, на котором лежала печать вечных забот. Вспомнил он и о сестре, замужество которой отодвинулось в далекое будущее. Он брел по улице, ничего не замечая вокруг, то и дело наталкиваясь на прохожих.
Саранапала Лэлвала
…ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ
Старая Ясохами стояла на коленях около тела своего единственного сына Джаясены и голосила. Она то закидывала голову далеко назад, словно хотела взглянуть на небо прямо у себя над головой, то бессильно роняла ее на грудь. Тело Джаясены лежало во дворе под деревом сизигиум, там, где застала его смерть. Несколько соседей стояли поодаль и шептались. Все недоумевали — что заставило Джаясену принять яд? Кто-то известил полицию. Вскоре подъехал полицейский джип, и из него вышли инспектор и сержант. Сержант прошел в дом, чтобы осмотреть комнату умершего, а инспектор достал записную книжку и авторучку и направился к Ясохами. Увидев подходившего к ней полицейского, Ясохами с трудом поднялась на ноги, покачнулась и, чтобы не упасть, прислонилась к стволу дерева.
— Как тебя зовут?
— Ясохами.
— Возраст?
— Шестьдесят три года.
— Где работаешь?
— Нет у меня работы. Сын кормил и одевал меня.
— А кем тебе приходится умерший?
— Это мой сын. — По щекам Ясохами вновь потекли слезы.
— Успокойся. Мне нужно задать тебе еще несколько вопросов. Почему твой сын принял яд?
— Не знаю, господин.
— Сколько лет было сыну?
— Двадцать девять.
— Где работал?
— Недавно устроился на почту. Сортировал там письма.
— Женат?
— Два месяца тому назад женился. Невестка позавчера уехала к себе в деревню.
— Поссорилась с мужем?
— Не знаю, господин. Она мне ничего не сказала.
В это время из дома вышел сержант и протянул инспектору конверт.
— Я нашел это письмо на столе Джаясены, сар. Оно адресовано начальнику полиции.
Инспектор повертел письмо в руках, а потом вскрыл конверт, достал исписанный листок и начал читать:
«Прошу в моей смерти никого не винить. Расстаться с жизнью меня заставила бедность. Я долго не мог устроиться на работу. Наконец один человек пообещал устроить меня на почту, но потребовал за это пятьсот рупий. Такой суммы у меня не было. Тогда я пошел в больницу и заявил, что согласен на стерилизацию, так как тем, кто соглашается подвергнуться такой операции, выплачивают пятьсот рупий. Так я смог получить работу. Моя жена Вималявати очень хотела иметь ребенка. Она постоянно говорила об этом. В конце концов я признался ей, что прошел стерилизацию. Вималявати проплакала несколько дней, а потом сказала, что уходит от меня. Жизнь потеряла для меня всякий смысл, и я решил покончить с собой. Я буду вам безмерно благодарен, если вы сможете выхлопотать матери какое-нибудь пособие. Да благословит вас бог!»
— Все ясно, — сказал инспектор. Он сложил листок, положил его обратно в конверт и вывел в своей записной книжке: «Покончил с собой по собственной воле».
ПЕТИЦИЯ
— Вот хорошо. Почти все в сборе, — заявил Амарабанду Раляхами, входя в чайную и занимая свое обычное место. Он достал из конверта два листа бумаги, скрепленные булавкой. — На первом листе петиция, а на втором всем надо расписаться.
— Состряпал новую петицию? — спросил Сирисена, откладывая в сторону газету, которую он читал, и беря из рук Амарабанду Раляхами листки бумаги.
— Я написал петицию нашему депутату с просьбой провести в нашу деревню электричество, — ответил Амарабанду Раляхами. — Для всех старался. — Он достал из кармана очки, водрузил их на нос и развернул газету.
— Уж не продал ли ты свой движок, Амарабанду Раляхами? — спросил Гунапала и подмигнул Сирисене.
— Движок дает электричество только в мой дом.
— А может, было бы лучше тебе самому съездить к депутату и лично с ним поговорить? — предложил кто-то из присутствующих.
— Лучше, если просьба будет исходить от всех, — возразил Амарабанду Раляхами и, глядя поверх очков, обвел взглядом присутствующих.
Все стали ставить свои подписи. Хозяин чайной велел своему сыну объехать на велосипеде те дома, из которых сегодня в чайную никто не пришел.
Когда сын хозяина чайной вернулся, Амарабанду Раляхами взял у него листок с подписями.
— Ого, сто тридцать восемь подписей, — удовлетворенно заметил он, глядя на порядковый номер напротив последней подписи. — Надо будет сегодня же отослать. — С этими словами он вышел.
Придя домой, Амарабанду Раляхами сел за свой письменный стол, достал из конверта оба листа бумаги, вытащил булавку, взял первый лист бумаги, скомкал его и швырнул на стол. Затем открыл ящик, извлек оттуда исписанный лист бумаги, прикрепил его булавкой к листу с подписями и довольно потер руки. Последнее предложение на новом листе бумаги гласило:
«И в силу всех изложенных выше причин мы, нижеподписавшиеся, покорнейше просим вас содействовать назначению Дж. Амарабанду Раляхами на пост мирового судьи в нашем районе».
Р.-Р. Самаракон
ПТИЦЫ
© Издательство «Художественная литература», 1979.
1
Поздний вечер. Где-то совсем рядом не умолкая трещат цикады. Возле забора заливается лаем Черныш — наверное, почуял какого-нибудь заблудшего быка. Возятся и хлопают крыльями летучие мыши, облепившие верхушку дерева лови. Завтра утром весь двор будет усеян обгрызенными плодами.
В комнате, примыкающей к веранде, горит свет — мой старший сын, Сарат, сидит над книгами. Занимается он обычно до самой полуночи. Иногда в это время, если я не сплю, слышу, как он громко читает у себя в комнате. И тогда я с особой остротой ощущаю, как дороги мне дети и какое счастье — быть отцом. Голос Сарата, высокий и звонкий, напоминает мне голос старшего монаха из буддийского монастыря, который находится в деревне. Я знаю, что через пять лет Сарат станет инженером. Это так же несомненно, как то, что завтра взойдет солнце. Всякий раз, когда я задумываюсь о его будущности, меня наполняет гордость. Мне кажется, будто я прогуливаюсь по деревне и со всех сторон слышу: «Это господин Нандасена! Его сын — инженер. Он бился из последних сил, чтобы поставить детей на ноги. Ходил в поношенной одежде, никогда не ел досыта. И вот добился-таки своего!» Голова идет кругом от таких мыслей.
Я хорошо понимаю, что Сарат преуспеет в жизни не только благодаря моим усилиям, но прежде всего благодаря своим способностям. В мечтах я уже вижу, как он подъезжает к своей конторе на автомобиле. Секретарь, склонясь, подхватывает папку с бумагами и семенит следом за Саратом. На лестнице все почтительно уступают ему дорогу. На столе в его кабинете — три телефона. На потолке — вентилятор, на полу — ковер… Конечно же, мой старший сын выстроит себе дом в Курундуваттэ. Заведет себе прислугу. Иногда, по выходным дням, он будет возить всех нас на своем автомобиле в Дамбулля, Полоннаруву, Ялу. На Новый год купит матери сари, мне — новые белые брюки, подарит красивые вещи Нималю, Малини и Хиччи Махаттае…
Я расчувствовался до слез. Сон совсем пропал. Еще к концу дня все небо застлали тучи, и я даже думал, что дождь настигнет меня по дороге домой. Дождь, однако, так и не пошел, но с тех пор стояла нестерпимая духота. Лежать совсем невмоготу. По моей спине бежали струйки пота. Я встал с кровати и вышел из комнаты. Нималь и Хиччи Махаттая сладко посапывали во сне. Дверь в комнату Малини была плотно закрыта. Я подошел к открытой двери кухни и остановился у порога.
Моя жена Суманавати энергично месила тесто. Минут пять кряду она колотила упругую белую массу, затем, запыхавшись, прислонилась к стене и вытерла подолом капельки пота с лица. Я смотрел на ее спутанные волосы, застиранную кофточку и думал, как тяжело ей приходится. Сколько раз я просил ее не надрываться, а она только улыбнется в ответ, и все. Утром, когда все еще снят, она встает и печет рисовые лепешки. Днем подает рис. Потом чай, а к чаю еще что-нибудь вкусное. Вечером снова готовит рис. Дел невпроворот: прибрать дом, подмести двор, натаскать воды. Стирает она сама: ни за что не хочет носить белье в прачечную — бережет деньги. И никто из детей ей не помогает. Малини вообще не хочет ничего делать. А Нималь, если не дать ему десяти центов, даже в лавку не сбегает. Все дела — на Суманавати. Да еще на мне. Каждый вечер, возвращаясь с работы, я захожу в лавку на углу Вэликада и покупаю рыбу, овощи и другие продукты.
— Чего тебе не спится? — спросила Суманавати.
— Душно очень…
— Да… и душно, и москитов полно.
— Что ты готовишь?
— Да вот Малини просила испечь лепешек. Ничего другого не хочет.
— Сарат все еще занимается…
— Хочешь чаю?
— Нет. Спасибо. Угости лучше Сарата. — И я снова пошел к себе — может, хоть немного удастся вздремнуть…
До рождества оставалось совсем недолго, а по утрам было прохладно. Солнце теперь восходит позже. Я обычно встаю в половине шестого и сразу же выхожу во двор, окутанный пеленой тумана. Словно иголки, вонзаются холодные песчинки в босые ступни ног, и сразу чувствуешь сильный прилив бодрости. В шесть часов приходит почтальон. Я подхожу к калитке и забираю из ящика газеты. Чуть погодя Суманавати приносит мне на веранду чашку горячего чая.
— Пей, а то остынет, — говорит она.
С шести утра до половины восьмого в доме — дикая суматоха. Все носятся как угорелые. Только и слышно со всех сторон: «Мама, где мой носок?», «Куда девали мою готовальню?», «Я не хочу молока. Дай мне подливки из кокосовых орехов», «Кто взял мою пудру?», «Папа, ты думаешь, мне хватит двадцати пяти центов?», «Неужели у нас нет ни капельки подливки?». В конце концов Суманавати теряет терпение. «Тут вам не базар! Замолчите!» — кричит она громче всех. В полвосьмого Нималь привязывает книги к багажнику велосипеда, садится в седло и, крутя педали, кричит: «Мама, я поехал!» С монашеским смирением, потупив взор, молча выскальзывает из калитки Сарат. Малини нужно быть на работе в восемь. Она работает машинисткой в конторе одной компании в Котуве. Вся расфуфыренная, распространяя густой запах одеколона, она проплывает мимо меня и говорит едва слышно: «Я пошла».
На веранде остается только Хиччи Махаттая в своей коляске. Проводив всех грустным взглядом, он подъезжает ко мне и смотрит, как я бреюсь. Ему одиннадцать лет. У него парализованы ноги — и он прикован к своей коляске. Передвигается Хиччи Махаттая с помощью рук. Ладони у него загрубели, все в мозолях. И к вечеру всегда чернеют от грязи. Каждый вечер Суманавати греет ему воду для мытья. Сколько усилий мы с женой прилагали, стараясь вылечить Хиччи Махаттаю! Обращались к докторам, практикующим и национальную, и европейскую медицину. Приглашали колдунов совершать обряды и заклинаниями изгонять злых духов. Все бесполезно. Доктора сказали, болезнь врожденная, лечению не поддается. И в конце концов мать отчаялась, только вздыхает: судьба. То же самое она сказала, когда почтальон в нашей деревне попал под поезд: «Даже если бы он в это время был дома, все равно бы его задавило. Судьба». Да, судьба. Тут уж ничего не поделаешь.
— На, положи себе в копилку.
Как обычно, перед уходом я протянул Хиччи Махаттае десять центов и погладил его по голове. Он улыбнулся мне своей жалкой улыбкой, и я понял, что он будет провожать меня взглядом до самой калитки.
И вот я уже в конторе. Ко мне подошла молоденькая сотрудница.
— Анкал[9], какой пудрой ты пользуешься? — спросила она.
— Давно прошло то время, когда я пудрился после бритья, деточка, — ответил я.
— Ну что ты говоришь, анкал. Тебе только немного подкрасить волосы, и ты будешь выглядеть как настоящий жених.
— Если нужно будет, обойдусь и без подкраски, — отшутился я.
— Анкал, не окажешь ли ты мне маленькую услугу?
— Какую?
— Когда будешь возвращаться домой, купи мне клубок ниток, хорошо?
— Хорошо, хорошо… — согласился я. Начальник нашей конторы и его заместитель обращаются ко мне на американский манер: «Мистер Нандасена!» Все пожилые чиновники называют меня просто «Нандасена», а остальные — «анкал» или «анкал Нандасена». Учитывая, сколько лет я проработал в этой конторе, обращение самое подходящее: не сухо-официальное и в то же время достаточно почтительное. Со всеми сослуживцами у меня прекрасные отношения. «Анкал Нандасена и мухи не обидит, — говорят они обо мне. — Никогда не пытается подсидеть других. Наоборот — старается всем помочь. И работник неплохой». И действительно, вот уже двадцать лет, как я тружусь в этой конторе, и ни разу не слышал упрека по поводу работы. Всегда выполняю в срок любое поручение. А ведь некоторые нарочно тянут с порученным им делом, а потом работают сверхурочно, некоторые, но только не я. Заработанное нечестным путем добра не принесет. Наш начальник благоволит ко мне. Он так же, как и я, уроженец Канди.
2
Хиччи Махаттая очень любит мастерить игрушки. Он настоящий умелец. Из пустых сигаретных коробок вырезает цветы лотоса. Делает маленькие сумки. Каждый раз, возвращаясь из конторы, я собираю у знакомых торговцев пустые коробки из-под сигарет и приношу Хиччи Махаттае. Из катушек, огарков свечей и обрезков резины он ухитряется делать тракторы. А попади ему в руки порожняя банка из-под порошкового молока — через полчаса готов забавный светильник. Целый ящик набит поделками Хиччи Махаттаи. Тут и собаки, и кошки, и зайцы, маленькие столы и стулья, крестьянские повозки… Вся веранда у нас увешана гирляндами цветов, вырезанных Хиччи Махаттаей. А когда наступает праздник Весак[10], он плетет цветочные корзинки для всех соседских ребятишек. Глядя, как проворно двигаются его пальцы, я всегда вспоминаю пословицу — «Глухой всегда видит лучше». Может быть, у Хиччи Махаттаи такие ловкие руки именно потому, что он не может ходить.
— Сынок, давай отнесем твои игрушки в лавку, — как-то предложил я в шутку.
— Не надо, папа, — возразил он.
— Но мы их продадим и получим деньги.
— На что мне деньги, папа?
Пока я думал о своем младшем сыне, солнце опустилось совсем низко. Тени от деревьев вытянулись, по улице быстро шли запоздалые прохожие. К столбу на велосипеде подъехал фонарщик. Палкой с крючком на конце он включил рубильник и покатил дальше. Фонарь мигнул несколько раз и наконец загорелся в полную силу. Сзади послышался какой-то шорох. Оглянувшись, я увидел около дверей, ведущих из дома на веранду, Нималя. По его робкой улыбке я сразу догадался, что у него ко мне какая-то просьба. И действительно, отведя взгляд в сторону, Нималь пробормотал:
— Папа, мне нужны бутсы!
— Хорошо, посмотрим. Может, в конце месяца и смогу купить.
— Посмотрим, посмотрим… В прошлом месяце ты то же самое говорил. Выходит, ты меня обманываешь…
Я смущенно опустил глаза.
— Все ребята из нашего класса ходят на тренировки, — продолжал он. — Только я не хожу. Неужели ты не можешь найти тридцать рупий?
— Хочешь, я куплю тебе подержанные бутсы?
— Не нужны мне подержанные. Все меня дразнить будут, а нашим ребятам лучше на язык не попадаться.
— Мы должны жить по средствам, сынок. Знаешь, в чем я ходил в школу? В саронге и баньяне.
— Сейчас другие времена… Так купишь мне бутсы или нет?
На веранду вышла Суманавати.
— Ты что к отцу пристал! — набросилась она на Нималя. — Смотри, дождешься ты у меня!
Нималь сразу помрачнел. Он еще постоял некоторое время на веранде, затем, кусая ногти, резко повернулся и ушел в дом. Меня охватило раскаяние. Нималь — хороший спортсмен. В прошлом году на спортивном празднике в школе получил два приза. Просто грех не поддержать сына, если у него влечение к спорту. В наше время мало иметь школьный аттестат. Когда устраиваешься на работу, обязательно спрашивают, чем ты занимаешься. Играешь ли в крикет, футбол или хоккей на траве? Но вот вопрос — где взять тридцать рупий? У Суманавати — денег в обрез, только-только дотянуть до конца месяца. Конечно, у нас в конторе есть люди, которые под проценты могут ссудить денег. Но с такими людьми иметь дело противно. А я ведь за всю свою жизнь не взял в долг ни одного медяка. Что, если попросить тридцать рупий у Малини? — мелькнуло у меня в голове. Все свое жалованье она кладет на книжку, а нам ничего не дает. Я ее, правда, не осуждаю. Не хватало еще, чтобы я брал у своих детей деньги на домашние расходы! «А что она подумает, если я обращусь к ней с такой просьбой? — внезапно спохватился я. — Впрочем, пусть думает что хочет. Мы же не чужие, должны выручать друг друга. А долг я обязательно верну».
Я медленно подошел к двери комнаты Малини и заглянул внутрь. Дочь сидела в ногах кровати и что-то шила. Потоптавшись на месте, я повернул было обратно. Малини вспыльчива и, когда злится, разговаривает грубо и вызывающе даже со мной и Суманавати. Не потому, что она грубиянка. Просто такой уж у нее несдержанный характер. Наконец, собравшись с духом, я вошел в ее комнату.
— Малини, если у тебя есть деньги, дай мне, пожалуйста, тридцать рупий. Внезапно понадобились.
— Откуда же в середине месяца у меня могут быть деньги?
— Я тебе непременно верну.
Малини с удивлением взглянула на меня.
— Я отложила немного денег на новое сари, — проговорила она после недолгого размышления и, открыв чемодан, достала с самого дна три бумажки по десять рупий.
— А когда вернешь?
— Постараюсь как можно скорее.
Прежде чем дать мне деньги, она снова пересчитала их.
Вышел я из комнаты Малини удрученный. На душе у меня лежал тяжелый камень. Одалживать деньги у Малини — не слишком-то приятное занятие. Сам я сызмальства привык экономить деньги. С тех пор как я стал ходить в школу, я ни разу не потратил больше пяти центов просто так, на пустяки. Некоторое расточительство я позволял себе только в день Нового года, когда отец давал мне полторы рупии. Отец мой крестьянствовал, выращивал рис и возделывал участок хэны[11]. Детей в нашей семье, считая меня, было четверо. И сейчас все они продолжают обрабатывать землю. Только я стал правительственным чиновником. Нельзя сказать, чтобы жилось нам легко. У меня была одна-единственная смена одежды — застиранный саронг и баньян. Иногда по нескольку месяцев кряду не было денег, чтобы сходить к парикмахеру, и лохмы волос свисали до самых плеч. Рис у нас готовили лишь по вечерам, днем мы ели роти[12], бататы, кокосовые орехи, а по утрам нам давали только похлебку из кокосовых орехов. «Нандо, сынок! — помню, говаривала мать. — Сбегай к каналу и сорви несколько плодов кос[13]. Опять нечего сготовить на обед. О господи!» Да, немало пришлось мне претерпеть, прежде чем я достиг нынешнего положения.
Суманавати думает, что в конторе я ем на обед рис. Так было, но очень давно. И то я брал рис с овощами — на рыбу и яйца жалел денег. А теперь я наспех проглатываю лепешку в небольшой закусочной напротив нашей конторы. Потом закуриваю биди. Сигареты я покупаю лишь в исключительных случаях. Мои брюки и рубашки стирает и гладит старым утюгом на углях Суманавати. В прачечную отдаем только одежду Малини. И хотя мы экономим на всем, свести концы с концами бывает трудно. После того как мы вносим плату за жилье и рассчитываемся с владельцем лавки, у которого в течение месяца забираем продукты в долг, денег у нас совсем не остается. В прошлом месяце я сшил себе две белые рубашки и две пары брюк, но для этого мне пришлось в течение многих месяцев откладывать половину тех денег, что Суманавати дает на обед.
И все же я надеюсь, что наступит день, когда судьба улыбнется и нам.
Завтра Сарат начинает сдавать вступительные экзамены в университет. Еще позавчера я сходил в Калапалувава к знакомому предсказателю, и он определил благоприятное время, когда Сарату нужно выйти из дома. Суманавати заранее выстирала и отутюжила сыну белый костюм, а я собственноручно надраил его ботинки.
Поступление Сарата в университет очень важно для меня по двум причинам. Во-первых, с университетским образованием Сарат сможет получить хорошую работу. Во-вторых, это огромная честь для нашей семьи. Если же он провалится на экзаменах, то нам придется худо. Не говоря уже о Сирисене и соседях, многие из наших знакомых втайне позлорадствуют. Такие уж люди живут в городе. На их глазах могут убить человека, а им хоть бы что.
После ужина я и Суманавати долго разговаривали с Саратом. Я уже давно заметил, что все семейные дела он принимает близко к сердцу. Когда я ему давал деньги на книги, всю сдачу, до последнего цента, он всегда приносил обратно: видел, как тяжело нам живется. Вот Малини совсем другая — даже когда еще ходила в школу, она выпрашивала у Суманавати деньги на лакомства, но не тратила их, а откладывала.
— Я уверен, что сдам экзамены, — сказал Сарат. — Беспокоит меня другое. Если я поступлю, мне нужно будет жить в городе на полном пансионе, а это стоит недешево.
— Не думай об этом, сынок, — успокоил я его. — Как бы трудно нам ни было, деньги мы наскребем.
К утреннему чаю Суманавати отварила рис на молоке. Недавно мы купили втридорога две меры крупного, отборного риса. Из этих-то запасов она и приготовила завтрак. А на заборные книжки сейчас выдают мелкий, плохой рис. В тот день за столом не велось обычных разговоров — все попритихли. Суманавати усиленно потчевала нас рисом на молоке. Предсказатель назначил время для выхода из дома в восемь тридцать, и поэтому Сарат собирался без особой спешки. В белом костюме, он сидел на веранде. Волосы зачесаны на левый пробор, взгляд твердый и решительный, высокий и открытый лоб. Люди говорят, что это верный признак ума.
— Вот тебе, обязательно поешь днем. — Я протянул Сарату две рупии. — Ручку и карандаш взял?
— Да.
— Возьми часы.
— Зачем?
— Вот, возьми мои.
Ровно в восемь тридцать Сарат спустился по ступенькам во двор. Мы все вышли на веранду и смотрели ему вслед.
3
Нималь возвращается теперь из школы поздно вечером. Он сказал Суманавати, что ему нужно много тренироваться, чтобы попасть в футбольную команду. Повесив бутсы на шею, он подкатывает на велосипеде к самой калитке. На багажнике сидит приятель. Затем приятель уходит домой, а Нималь, толкая велосипед, входит во двор. Рубашка у него пропитана по́том, залеплена грязью, руки и ноги — в ссадинах. Вид у него не по годам взрослый. Ему еще не исполнилось и пятнадцати лет, а выглядит он как восемнадцатилетний юноша. Сарат в его годы был куда меньше ростом.
— Мама, я так голоден. И устал… Чай есть?
— Иди-ка сначала умойся, а то весь потом пропах. Да и в лавку надо сбегать.
— Так я и знал, что погонишь меня куда-нибудь. Я же сказал, что едва на ногах стою.
— Как тебе не стыдно! Кого еще я могу послать в лавку?
— Никуда я не пойду, — упорствовал Нималь.
— Что надо купить? — спросил я Суманавати, зная, что пререканиям не будет конца.
— Чаю и банку сгущенного молока.
— Я сам куплю.
— Подумать только! Одной банки хватило всего на два дня!
— Наверное, кто-то залезал в нее… не знаю кто…
— Во всяком случае, не я, — резко бросил Нималь и зашел в дом.
Я взял хозяйственную сумку и спустился с веранды. Черныш дошел вместе со мной до калитки и, если бы я его не прогнал, увязался бы за мной в лавку. Еще издали я увидел, что напротив закусочной «Пурасири» стоял Каролис с биди в зубах. Если подойти к нему, потом не отвяжешься — заговорит, поэтому я незаметно проскользнул мимо него и направился в Сагарика Сторс. Раньше Каролис работал сторожем в какой-то компании и жил на улице Каматаватта в глинобитном домишке. У него было трое маленьких ребят. Младший — грудной, а старшему — три года. Когда началось наводнение, жена и ребята спали в домике, и на них рухнула подмытая водой стена. Пока соседи сумели подобраться к развалинам, все четверо уже захлебнулись. Услышав об этом, Каролис мигом примчался домой, вернее, к тому месту, где стоял его дом. С тех пор он не в себе.
На обратном пути я снова увидел его. Он стоял на прежнем месте с бессмысленной улыбкой на лице. Зубы у него почернели от постоянного жевания бетеля. Подбородок зарос густой щетиной. Саронг и баньян — в заплатах.
— Каролис! — окликнул я его.
— А! — встрепенулся он. — Как поживаешь?
— Пошли к нам, Каролис! — предложил я. — Выпьем по чашечке чая.
— Спасибо, спасибо. Завтра обязательно приду.
Так он говорит каждому, о чем бы ни шла речь. Иногда я все же затаскиваю его к себе и кормлю чем-нибудь. Всякий раз, встречая Каролиса на улице, я даю ему бетель или биди. Суманавати также часто справляется о нем: «Как там бедняга Каролис?»
К моему возвращению уже свечерело, в небесах повис месяц. Его мерцающий свет с трудом пробивался сквозь густую листву лови, падал на цементные ступени крыльца. Я уселся на стул и зевнул во весь рот. В последнее время я мучился бессонницей и поэтому не спешил ложиться спать — сидел на веранде до половины одиннадцатого, а то и до одиннадцати. В кухне скрипнула дверь, и через некоторое время к веранде подошла Суманавати. Она села на ступеньки и начала жевать бетель. Некоторое время мы молчали. Внезапно Суманавати огляделась, словно хотела убедиться, что рядом никого нет. При свете месяца я увидел на ее лице выражение растерянности и беспомощности.
— Ты знаешь, что случилось?
— Что?
— Малини нашла себе жениха.
— Да ну! И кто же он?
— Клерк из конторы в Нарахэнпита.
— А как ты узнала об этом?
— Да уже все кругом говорят об этом. Только родители, как обычно, ничего не подозревают, — уклончиво ответила Суманавати.
До сих пор я всерьез не задумывался над тем, что Малини пора замуж. Ей ведь уже двадцать три года. Засиживаться в девушках вредно — еще какая-нибудь хворь привяжется. Характер у всех старых дев сварливый, только и знают, что ворчать. А злых языков не удержишь! Соседи начнут судачить: «Столько лет, а все не замужем. Никто из парней и глядеть на нее не хочет». Может быть, Малини сама нашла себе жениха, потому что мы вовремя не позаботились об этом. Я невольно вспомнил о том, что случилось с господином Сильвой, который работает у нас в конторе. Он совсем не интересовался судьбой своей старшей дочери, и в один прекрасный день она сбежала с каким-то таксистом.
— Надо бы разузнать об этом парне, — прервала мои размышления Суманавати. — Откуда он родом? Кто его родители? Ну и все остальное.
— Для чего нам копаться во всем этом? Если у него есть работа, то он сможет содержать семью. Малини он, видимо, нравится. А если так, то нам-то какое дело. Лишь бы наши дети были счастливы!
— Уши вянут тебя слушать. Неужели тебе все равно, из какой он семьи, какая у него родня?
— Теперь только в деревнях люди придают этому значение. В городе все по-другому.
— Ну, поступай как знаешь. — Суманавати насупилась.
В ту ночь я совсем не спал. Что бы я там ни говорил Суманавати, новость, которую она сообщила, сильно расстроила меня. Я собирался пристроить Малини сразу после того, как Сарат сдаст экзамены. И никак не ожидал, что она возьмет это дело в свои руки. Иногда к нам заходил Сирисома из моей конторы. Когда Малини бывала дома, он с ней заговаривал. Сирисома — человек очень порядочный. Спокойный, выдержанный. Малини ему, видимо, приглянулась. Вот если бы удалось их поженить! Теперь эта надежда пошла прахом. Выдать дочерей замуж в наше время совсем не так просто. Да еще за хороших парней. А мы с Суманавати, правду сказать, не слишком-то изворотливы.
Мне вспомнилось детство Малини. Однажды, во время школьных каникул, мы с ней поехали к родителям Суманавати. Играя там во дворе, она поскользнулась и ударилась лицом о каменную ступеньку. Я в это время дремал. Услышав сквозь сон ее надрывный плач, я мигом вскочил и бросился во двор. Малини сидела на земле, вся залитая кровью. Мы с Суманавати по очереди несли девочку на руках четыре мили до Навалапития, где есть хорошая больница. Конечно, можно было бы пойти в местную амбулаторию, и нам бесплатно дали бы лекарства. Однако врачи там были неважные, и мы не могли доверить им нашу девочку. Сколько денег переплатили мы тогда врачам, боясь, что на лице у нее останется шрам! В ту пору из деревни, где жили родители Суманавати, до города не ходили автобусы. И пока Малини не поправилась, приходилось два раза в неделю носить ее в больницу.
А когда мы переехали в Коломбо, сколько времени обивал я пороги в департаменте просвещения, пока не устроил Малини в колледж Вишакхава! Проучилась она там недолго. В предвыпускном классе у нее в книге нашли письмо, адресованное какому-то молодому человеку, и директриса тут же исключила Малини из колледжа. Получив официальное уведомление из колледжа, я тотчас же взял отпуск и отправился туда. Кабинет за кабинетом я обходил разных начальников и просил всех отнестись к Малини снисходительно. Но в колледже ее так и не восстановили. Единственное, чего я смог добиться, — это чтобы в справке не написали, что ее исключили за дурное поведение. Тогда бы я не смог устроить ее ни в одно другое учебное заведение.
И горькие, и радостные воспоминания о далеких днях!
А теперь Малини нет никакого дела ни до отца, ни до матери. Не нужны ей ни наша помощь, ни наш добрый совет. Даже не удосужилась сказать, что нашла себе жениха. Считает, что может поступать как ей заблагорассудится.
С каждым из детей у меня связаны какие-то надежды. Бог весть, сбудутся ли они. Много еще горя придется мне, видно, испытать. Я глубоко вздохнул и повернулся на другой бок. Какой смысл гадать о том, что может случиться? Как любила говорить моя матушка: «Чему быть, того не миновать». За всю свою жизнь я скопил десять тысяч рупий. Если свадьбу Малини отпраздновать скромно, то я еще смогу дать за ней приличное приданое.
Неделю спустя я поехал в Марадану купить для Хиччи Махаттаи дюжину листов ватмана. Была суббота, и обратный автобус шел почти совсем пустой — на втором этаже, куда я поднялся, было всего человек пять. По субботам все учреждения закрываются в час дня, и поток пассажиров поэтому давно схлынул. Я сел на заднее сиденье. Что-то в посадке головы и прическе девушки, сидевшей с молодым человеком на одном из передних сидений, показалось мне знакомым — и вдруг я узнал Малини. В смущении и растерянности я повернулся к окну и несколько мгновений сидел как оглушенный. Когда расплывчатые пятна перед моими глазами превратились наконец в автомобили и торопливых прохожих, автобус был уже в Борэлле. Я еще раз посмотрел на спутника Малини. Это, вероятно, и был тот, кого она выбрала себе в мужья. Вытянув руку вдоль спинки сиденья и наклонясь к Малини, он что-то ей тихо говорил. А Малини, опустив голову, слушала его, и время от времени ее плечи вздрагивали от сдерживаемого смеха. По всему видно было, что им очень хорошо друг с другом и никто другой для них не существует. Хотя на этом автобусе можно было доехать прямо до Вэликада, я сошел в Борэлле и пересел на другой автобус. Малини я ни о чем не стал спрашивать — пусть сама обо всем скажет. И Суманавати ничего не сказал.
Когда я в тот день приехал домой, я сразу же прошел к себе в комнату, лег и задремал. Разбудил меня голос Хиччи Махаттаи:
— Папа, иди есть!
За столом сидели Нималь, Сарат и Малини. Хиччи Махаттая не мог сидеть на стуле, для него стелили коврик на полу. Когда я сел за стол, Малини добавила себе риса и украдкой взглянула на пустое блюдо, где была рыба. Я положил ей в тарелку свой кусок рыбы.
— А как же ты, папа? Ешь сам.
— Мне что-то не хочется.
— Нималь сегодня избил одного мальчика, — сказал Сарат.
— Это правда, Нималь?
— Он все время дразнится, папа. Проходу не дает.
— Что за выходка! Хочешь, чтобы тебя забрали в полицию? Ты уже совсем взрослый, Нималь, а приходится отчитывать тебя, как маленького!
— Этого балбеса не отчитывать, а как следует вздуть надо! — ни к кому не обращаясь, бросила Малини и встала из-за стола.
— Не шипи, змея! — обозлился Нималь.
Собравшаяся уже уходить Малини подлетела к Нималю и залепила ему пощечину. Нималь успел хлопнуть ее по руке и, с грохотом отшвырнув стул, вскочил на ноги. Глаза его сузились, на скулах заходили желваки. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы Суманавати не вытолкала Нималя с веранды. Теперь я могу сладить только с Хиччи Махаттаей. Да иногда и он не обращает никакого внимания на мои слова. Суманавати умеет прикрикнуть на всех. А вот я не умею. Если я начинаю их пробирать, они только посмеиваются, и в конце концов моя злость улетучивается. Характер у Суманавати тоже мягкий, но в нужный момент она может напустить на себя такую строгость — только держись. Иногда Нималь без зазрения совести запускает руку в копилку Хиччи Махаттаи и, когда тот говорит, что пожалуется мне, сердится: «Это ты боишься отца, а я — нет!» Я же притворяюсь, что ничего не слышу, — просто не знаю, как поступить. Слов моих никто не слушает, а поднять на кого-нибудь руку я не могу. Мой отец тоже никогда не бил детей. С помощью палки можно заставить слушаться только животных.
— Кто знает, что из Нималя получится, — поделился я своими сомнениями с Суманавати.
— То же самое было и с Малини, — ответила она.
— Такой молодой — и такой злой. И с каждым днем все несдержаннее.
— Повзрослеет — все пройдет. Помнишь, какой была Малини в его годы. Один раз чуть не запустила в меня тарелкой. Теперь ей стыдно даже вспоминать об этом, — попыталась развеять мои страхи Суманавати.
А вот Сарат совсем не похож ни на Малини, ни на Нималя. Спокойный, даже какой-то безучастный. Когда не готовится к экзаменам, все равно сидит в своей комнате и возится с батарейками, лампочками, проволокой. Под кроватью в его комнате валяются кипы научных книг и журналов на английском языке. Когда он учился в четвертом и пятом классах, то уже интересовался механикой. К спорту же был совсем равнодушен. Я никогда не видел у него в руке биты для крикета. Когда он был совсем еще мальчиком, то признавал только заводные игрушки. О какой машине его ни спроси — все скажет: и в какой стране ее изготовили, и технические данные. Все стены в его комнате увешаны фотографиями автомобилей. Некоторые из них большие и красивые — настоящие дворцы на колесах. В них сидят белые леди и джентльмены. Смотришь на эти снимки — и как будто заглядываешь в какой-то сказочный мир.
Профессия инженера — истинное призвание Сарата. Тут и сомневаться не приходится.
4
По конторе прошел слух, что нашего начальника, господина Ратнапалу, переводят в другое место. Меня это, известно, опечалило. Такой начальник на тысячу один. Если у тебя какие-нибудь трудности, он всегда готов прийти на помощь. Никогда не откажется тебя выслушать. Ни разу никого не наказал за опоздание, только побеседует — и дело с концом. Случая не было, чтобы он наложил на кого-нибудь штраф или произвел денежный начет.
Контора наша иногда напоминает дом, где водятся злые духи. Хорошие начальники у нас подолгу не задерживаются. Некоторые уходят уже через месяц-полтора. Лишь кое-кто выдерживает по полгода. Только господин Баласинхам — тамил из Джафны — заведовал конторой целый год. Он никогда не разговаривал по-английски. Хотя трудно ему было, говорил лишь по-сингальски. Хотел поощрить тех, кто пользуется сингальским языком. Нашлись, однако, люди, которых Баласинхам не устраивал, — в разные инстанции, вплоть до самого министерства, посылались письма, заявления. Многие выступали против него только потому, что он — тамил. Что и говорить, интриганов у нас хоть отбавляй. Никчемные, завистливые, злобные людишки. Мне-то, правда, жаловаться не на что. Со мной все вежливы и предупредительны. Никогда мне никаких пакостей не делали. Зато друг другу норовят поставить подножку. И не только мужчины, но и женщины. Стоит зайти в контору жене или сестре какого-либо сотрудника, как вокруг нее тут же собираются наши женщины. А если гостья приходит с ребенком — целый переполох! Прежде чем бедная мать успеет опомниться, ребенка вырывают у нее из рук, начинают тискать, тормошить, целовать, пичкать сладостями. Буквально выворачиваются наизнанку. Но все это одна видимость. Как только посетительница покидает контору, тотчас же начинаются пересуды, все наши женщины наперебой стараются сказать что-нибудь обидное и колкое: «Видели, как одет ребенок? Самый дешевый шелк. По одной рупии двадцать пять центов за ярд. И никаких украшений. И немыт, видно, — подойти невозможно, а у самой туфли так стоптаны, что все пальцы наружу. Сережки — простая подделка, да и вся позолота уже слезла». И так далее, и тому подобное. Как-то к нам на работу поступила новая секретарша. Уже через неделю, возвратись после обеденного перерыва в контору, я увидел, что она рыдает. Чем-то она напоминала мне Малини. Я подошел к ней и ласково спросил, что случилось. Оказывается, три дня подряд она приходила каждый раз в новом сари, и пустили слушок, будто ее наряды и украшения ей покупает любовник. Да, слово иногда хуже ножа в спину. Впрочем, наша контора не исключение — везде то же самое творится.
Для господина Ратнапалы решили устроить проводы. Сейчас все только об этом и говорят. Но никто не дает себе труда задуматься, каким хорошим начальником был господин Ратнапала. Доброту и мягкость часто принимают за отсутствие воли и безразличие. Вот если начальник всеми помыкает и жмет последние соки из подчиненных — все побаиваются и даже относятся к нему с уважением. А господин Ратнапала для роли начальника вроде бы и не годился. «Ну ничего, скоро они поймут, кого лишились», — подумал я не без некоторого злорадства. К моему столу подошел Сирисома с листом бумаги в руках:
— Анкал Нандасена! Мы решили подарить господину Ратнапале серебряный поднос за двести рупий. Сколько можешь дать, анкал?
Я взял у него лист со списком сотрудников и против своей фамилии написал: «Пять рупий». Я рад бы дать в десять раз больше, но так трудно с деньгами. Успокоил себя тем, что даю от чистого сердца. А подарок от чистого сердца, если даже это только просто булавка, всегда дорог.
В назначенное время зал нашей конторы заполнился до отказа. Многие пришли с женами. Не желая быть на виду, я забился в самый дальний угол. Не очень-то по душе было мне это торжество. Что-то в нем неискреннее, показное. Сколько у нас любителей писать разные заявления! Только допусти оплошность — телеграммы летят к самому министру. Бывает, что, когда кого-нибудь собираются наказать переводом в провинциальное отделение, такую кутерьму подымут, что только держись! Но никому и в голову не пришло написать прошение, чтобы господина Ратнапалу оставили у нас. Конечно, может быть, из этого ничего бы и не получилось. Писание прошений, заявлений и разного рода кляуз — оружие, отточенное до совершенства, почему бы не попытаться использовать его ради благого дела.
В половине седьмого приехал господин Ратнапала с женой. Когда они вошли в зал, разговоры смолкли и все поднялись со своих мест.
Вначале, как всегда в таких случаях, были речи, вручение памятного подарка, а потом все пошли к столам, расставленным прямо во дворе, на открытом воздухе. Четыре официанта стали разносить подносы с закусками. Многие сразу же устремились к стойке, где продавались напитки. На столах воздвиглись бутылки арака, пива, джина, и вскоре торжественная сдержанность уступила место всеобщему веселью — со всех сторон послышался смех, завязались оживленные разговоры. Господин Ратнапала обходил столы и для каждого находил теплые прощальные слова. Посидев еще немного, я собрался уходить, но несколько чиновников удержали меня.
— Куда ты, анкал? Давай выпьем.
— Нет-нет. Я ведь не пью.
— Это никуда не годится. Мы же не каждый день пьем. Вот стакан, анкал. Здесь совсем мало спиртного. Почти одна содовая.
— Нет-нет. Это вы, холостяки, можете делать все, что вздумаете, а мне пора домой, к семье. Не уговаривайте.
— Анкал Нандасена! Не у тебя одного семья. Посмотри, как все веселятся. Ты обязательно должен выпить. Не то силой заставим.
К нам подошел господин Ратнапала:
— Нехорошо, господин Нандасена! Выпейте, а то не будет мне удачи на новом месте.
Господину Ратнапале я не мог отказать и, зажмурив глаза, одним глотком осушил стакан. В груди разлился огонь, на глаза навернулись слезы. Я поспешно взял бутерброд с сыром и принялся жевать. Следующий стакан я осушил, почти не поморщившись. Кто-то сунул мне в руку сигарету, и, затянувшись, я осмотрелся вокруг.
Веселье было в полном разгаре. Несколько молодых чиновников сдвинули стулья, уселись в кружок и наполнили свои стаканы араком. Немного в стороне девушки, отбивая такт ладошками, напевали какую-то песню. Большая группа мужчин и женщин, словно заводные куклы, танцевали байлу[14] между столами. Среди них был и господин Ратнапала. Все уже забыли, по какому поводу собрались. Мне стало душно. Тело покрылось испариной. Я вдруг почувствовал необыкновенную смелость и уверенность в себе. Но не успел я насладиться приливом приятных чувств, как все вокруг — лампочки, столы, стулья, бутылки, люди — завертелось перед глазами. Немного опомнясь, я поднялся со стула и, покачиваясь, направился: к выходу. Зазвенел чей-то смех. Хотя все были заняты только собой, я решил, что смеются надо мной, и, совсем съежившись, выскользнул на улицу.
Когда я подошел к дому, в окнах не было видно ни огонька. Я долго стоял около калитки, вглядываясь в темноту и не решаясь пересечь двор. Опьянение прошло, я не испытывал ничего, кроме раскаяния. Загулял, словно нет у меня ни детей, ни семьи. Стараясь ступать как можно тише, я поднялся на веранду и прокрался к себе в комнату, задев косяк двери плечом. Там меня поджидали жена и Хиччи Махаттая.
— Не ругайся. Я и сам не знаю, как все вышло. Ко мне пристали, чтобы я выпил, и никак нельзя было отвертеться, — стал я оправдываться.
— Поешь немного. Рис на столе.
— Не хочется.
— А ты все же поешь. Легче будет. Много ли выпил?
— Сам не знаю. Наливали, я и пил, — признался я. — Сам начальник предложил выпить. Как я мог отказаться?
— Конечно, конечно… — примирительно сказала Суманавати. — Ложись спать.
— Папа, а торт там был? — спросил Хиччи Махаттая. — Захватил бы мне кусочек.
— Всего там было вдоволь. Только как я мог тебе принести?
— Положил бы в карман и принес.
— Что ты, сынок! Если бы кто-нибудь увидел, позора не оберешься. Я тебе куплю торт, как получу зарплату.
Так кончился этот злополучный вечер.
А теперь снова о Каролисе. Несколько дней подряд он бродил около нашей конторы, а потом перекочевал к дереву бо у Раджагирии. Когда я подошел к нему, он долго всматривался в мое лицо, словно никак не мог узнать, а потом повернулся ко мне спиной и, не оглядываясь, зашагал прочь. Сделал несколько медленных шагов, затем бросился бежать. И вдруг остановился как вкопанный. Прохожие с удивлением оглядывались на него.
— Господин, он чокнутый, — сказал мне какой-то мальчишка. — Винтика в голове не хватает. Носится взад-вперед, как паровоз по рельсам.
Прохожие тыкали пальцем на Каролиса и что-то ему весело кричали. Я повернулся и медленно пошел прочь, думая о горькой судьбе Каролиса.
Когда я прихожу с работы домой, я не знаю, куда себя девать. Или иду на кухню к Суманавати и болтаю с ней о том о сем, или усаживаюсь под деревом лови и прочитываю насквозь газету. Одно время я пытался вырастить перец, но, когда появились побеги, их съели улитки.
Со стороны улицы донесся звон колокольчика. Это ехал на своей тележке торговец керосином. Черныш, который дремал на веранде, поднял морду и для порядка несколько раз тявкнул. Потом успокоился. Заскрипел ворот колодца. Суманавати вытянула ведро с водой и наполнила кувшин. Я опустил газету и поверх нее посмотрел, как Суманавати в поношенной кофточке и юбке возвращается к кухне. Уж несколько месяцев я собираюсь купить ей новое сари, и все никак не удается. Может быть, из-за отсутствия приличной одежды Суманавати и стала такая стеснительная. Никогда теперь не ходит ни на свадьбы, ни на похороны, а если к нам заявляется гость, то сидит в кухне. У нее есть только одно-единственное сари. Одно на все случаи жизни. А у Малини в шкафу их около тридцати. Однако она еще ни разу не позволила матери надеть что-нибудь из ее одежды. Порой мне сдается, что Малини живет в нашем доме не как член семьи, а как посторонняя жиличка. «Да, да… Обязательно надо купить Суманавати что-нибудь из одежды», — повторяю я про себя в сотый раз. Конечно, и я мог бы щеголять в модных брюках, а для Суманавати покупать дорогие сари. Но тогда у нас не было бы и цента за душой. Как бы мы помогали детям стать на ноги? Для кого же мы живем, как не ради них?
Солнце медленно сползало к горизонту. Скоро наступят сумерки. Лучи заходящего солнца стрелами пронзают листву дерева лови и падают наземь багряными пятнами. Затем меркнут. Долгое время стояла засушливая погода: земля растрескалась и все растения съежились и завяли. Лишь изредка по утрам веет прохладный ветер. В апреле и мае всегда так.
Из дома вышла Малини и стала поливать цветочные грядки. Всякий раз, опорожнив лейку, она, глядя себе под ноги, шла через двор к колодцу, а то поставит лейку на землю и смотрит куда-то вдаль. И лицо ее тогда озабоченно и угрюмо. Еще вчера за ужином я заметил, что она чем-то обеспокоена. Меня она избегает. Если у нее бывают секреты, делится она ими только с Суманавати. Поэтому я даже не стал спрашивать ее, в чем дело.
Перед тем как лечь спать, я закурил биди и уселся на веранде. Нималь еще не вернулся домой, а Хиччи Махаттая и Сарат спят крепким сном. Я слышу, как Суманавати из кухни зовет: «Черныш! Черныш!» — видно, хочет покормить пса на ночь. Малини, словно ищет что-то, бродит по всему дому. Несколько раз подходит к двери, ведущей на веранду, и выглядывает наружу. Наконец она приближается ко мне — так тихо, что я даже вздрагиваю от неожиданности, услышав ее голос совсем рядом.
— Папа! Мама тебе ничего не говорила?
— А что она должна была мне сказать? — отвечаю я вопросом на вопрос, хотя и догадываюсь, куда она клонит.
Малини молча грызет ногти. На ее лице — по-детски растерянное выражение: видимо, не знает, с чего начать. Я прихожу ей на помощь:
— Я слышал, Малини, что ты нашла себе жениха. Он работает в Нарахэнпита. Если он тебе по душе, не возражаем. Только бы у тебя с ним жизнь заладилась.
Малини просветлела и тут же оживленно затараторила:
— У него нет отца, папа. Только мать. Родом он из деревни около Ратнапуры. Работает клерком в Цейлонской автобусной компании.
Я молча слушал.
— Папа, я пригласила его к нам.
— Очень хорошо. Давно надо было это сделать.
— Только у меня одна просьба, папа. Пусть в этот день Хиччи Махаттая посидит у себя в комнате. Я уже и матери об этом сказала. Ведь мой жених придет к нам в дом впервые. Я ему после скажу, что у меня брат — калека.
Словно кто-то залепил мне звонкую пощечину. Я видел, как шевелятся губы Малини — она продолжала что-то говорить, — но ничего не слышал. Глядел в одну точку перед собой и молчал. Так и не проронив ни слова, я спустился с веранды во двор, думая о том, что и Хиччи Махаттая, и Малини, и Нималь, и Сарат — все мне одинаково дороги. Все мои дети, моя плоть и кровь. Пусть Хиччи Махаттая — калека, но ведь он же человек! Как можно стыдиться своего брата, который и без того обижен судьбой! Вот у меня с каждым годом все больше морщин, расширяется плешь. Может быть, наступит день, когда Малини постесняется признаться, что я ее отец? Я вспомнил, как однажды провожал Малини в школу, а она остановилась вдали от ворот и сказала:
— Папа, не ходи дальше. У тебя такие старые брюки и рубашка.
Но одно дело — слова несмышленой девочки, а другое — слова взрослой девушки. Однако я не был зол на Малини. Только был ужасно огорчен.
5
Несколько дней подряд Суманавати жаловалась, что у нее озноб, а вчера резко подскочила температура. Когда я утром зашел на кухню, где она месила тесто, то увидел: она вся раскраснелась. Положив ей ладонь на лоб, я почувствовал, что у нее сильный жар, и велел ей лечь в постель, но она заартачилась: «Мне же вас всех покормить надо. Как же я могу валяться в постели?» Обычная история. Как бы плохо ей ни было, никогда не ляжет в постель. Мне пришлось отобрать у нее миску с тестом. Затем я сбегал в лавку и купил хлеба и бананов. На работу я в этот день не пошел, принес жене лекарство, а потом встал к плите.
Часто в детстве, возвратясь из школы, я, вместо того чтобы играть со своими сверстниками, отправлялся на кухню. Мать давала мне пробовать оду, которую готовила, и спрашивала, достаточно ли соли. Иногда поручала смотреть за горшком с рисом, а сама занималось каким-нибудь делом. Вместе с матерью я ходил к колодцу за водой, собирал сухие пальмовые листья и хворост. «Тебе нужно было родиться не мальчиком, а девочкой», — шутила иногда мать. И теперь каждый раз, когда Суманавати болеет, я берусь за стряпню. В этот раз прошло около месяца, прежде чем Суманавати поправилась.
Тем временем подошел день, назначенный для первого визита жениха Малини. Накануне я сходил в магазин и купил торт, пачку печенья, орандж барли[15] и пачку сигарет «Три розы». Принимали молодого человека Малини и Суманавати, которой по этому случаю Малини дала одно из своих сари. Я с Хиччи Махаттаей укрылся на кухне. До нас доносились обрывки болтовни Малини — она уговаривала гостя не стесняться, отведать еще торта — и ее веселый смех. Хиччи Махаттая вырезал цветы, а я помогал ему, придерживая бумагу, пока он орудовал ножницами, собирал обрезки и складывал их в одно место. Я сидел на пороге, чтобы он не выехал наружу на своей тележке. Что ждет беднягу, если даже родные его чураются? Где он найдет себе приют, когда у него не станет ни отца, ни матери? Кто накормит и напоит его? Мысли шли самые невеселые. Слезы защипали мне веки, и я порывисто притянул к себе Хиччи Махаттаю.
— Ты плачешь, папа?
Хиччи Махаттая с удивлением и испугом смотрел на меня. Я изо всех сил старался сдержаться, но ничего не получалось — плечи продолжали вздрагивать, я судорожно всхлипывал. Мать была права — лучше бы мне родиться девочкой. Еще когда я был ребенком, стоило кому-нибудь погрозить мне пальцем, как я в слезы. Такой же я и теперь. Я поднялся и походил немного перед кухней. Хорошо еще, что никто, кроме Хиччи Махаттаи, не видит, что я распустил нюни, как баба. К тому времени, как Малини пришла сказать, что ее жених уходит, я уже успокоился.
— Мне сегодня немного нездоровится, поэтому я не мог выйти к вам раньше, — проговорил я с жалким подобием улыбки.
— Что с вами? — вежливо осведомился молодой человек.
— Приступ ревматизма.
— Выпейте лекарственного отвара — и сразу как рукой снимет. В этом деле я немного понимаю. В нашей деревне — лучшие врачи, практикующие национальную медицину… До свидания, — добавил он, помолчав, и спустился с веранды.
— Будет время, заходите к нам снова. Теперь вы дорогу знаете.
Обернувшись, жених улыбнулся мягкой улыбкой. «Сразу видно, человек он добрый, — подумал я. — Малини будет с ним счастлива». Я провожал его взглядом, пока он не вышел из калитки и не смешался с толпой на улице. Казалось, я знаю его уже давно. Жизнь у него тоже, видно, не сладкая. Отец умер. Мать живет далеко от Коломбо. А сам он мыкается, должно быть, по пансионам. Жаль, что не удалось с ним поговорить. Судя по тому, что Суманавати приговаривает: «Какой приятный молодой человек! Какой милый и совсем не гордый!» — он ей тоже понравился. Я так опасался, что Малини напорется на какого-нибудь прощелыгу, но, слава богу, мои опасения оказались напрасными.
— Как его зовут? Мне так и не сказали, — обратился я к Суманавати.
— Виджесундара. Малини познакомилась с ним на промышленной выставке. В начале будущего года они собираются объявить о помолвке.
— Ну, до этого еще много надо сделать. Сверить гороскопы. Встретиться с его матерью. Кто знает, какой она хочет видеть невесту своего сына? Не стала бы нас потом упрекать, будто мы обманули ее сына.
— Конечно, конечно. И Малини напомнить об этом надо. Пусть Виджесундара напишет обо всем матери.
Хотя и не все шло так, как мне хотелось бы, я был доволен. Малини уже пора замуж. Упустишь время, потом будет поздно — останется старой девой, и ей обидно, и всей семье обида. Мужчине легче. Он и в пожилые годы легко найдет себе жену. Похоже, правда, что Виджесундара из семьи побогаче нашей. Так что еще сомнительно, состоится эта свадьба или нет. Жизнь свою я прожил честно, без обмана. Все, что у меня есть, я заработал своим горбом. А своим горбом много не наживешь. Но все же, худо ли, бедно ли, у самой Малини на книжке должно быть тысяч шесть рупий. И я смогу дать за ней тысяч десять. Совсем неплохое приданое для девушки, которая к тому же еще работает.
Тучи затянули все небо. Моросит мелкий дождик. Холодный ветер заносит брызги даже на веранду. Мне стало зябко. Я накинул старый пиджак, запахнул его поплотнее и, усевшись в кресло, закурил биди. Как приятно в прохладную погоду вот так сидеть на веранде!
Кто-то остановился у калитки. Сквозь частую сетку дождя я с трудом узнал Каролиса, которого не видел уже несколько недель.
— Собака привязана? — спросил он, когда я подошел к калитке.
— Черныш не кусается. Заходи.
Каролис продолжал, однако, с опаской заглядывать во двор.
— Я вот все еще мальчика хочу взять на воспитание. Опостылело одиночество.
— Заходи в дом, — снова пригласил я его. — Поешь чего-нибудь, попьешь чайку.
— Завтра приду.
И Каролис заковылял прочь. Сквозь дырявую рубашку просвечивало его тощее, с выступающими ребрами тело. Волосы, которых давно не касалась расческа, безобразными космами свисали на лоб. Если встретишь вечером на улице — испугаешься. За какие же ужасные прегрешения в прошедшей жизни наказан он в этом существовании?
Суманавати принесла чашку кофе:
— С кем это ты тут говорил?
— Каролис приходил. Опять у него с головой неладно.
— Вчера он целый день стоял перед школой в Раджагирии и смотрел на ребят.
Работы в конторе теперь прибавилось. Мендис ушел в отпуск, и я согласился его подменить. Зато, когда я ухожу в отпуск, он обычно выполняет мою работу. К половине пятого в министерство нужно было послать доклад о том, как чиновники в нашей конторе владеют сингальским языком, и я усиленно скрипел пером.
— Анкал Нандасена, анкал Нандасена, — позвал меня Сирисома. — Сегодня в газетах напечатаны результаты экзаменов.
Я так глубоко был погружен в работу, что несколько мгновений оторопело смотрел на него, ничего не понимая. Когда же до меня дошел смысл его слов, я попросил у господина Бодхинаяка «Дейли ньюз» и вернулся на свое место. Руки у меня дрожали, буквы плясали перед глазами. Наконец я нашел нужную страницу. В списке абитуриентов, которые успешно сдали экзамены в колледж Ананда и были приняты в университет, значилось пятнадцать человек. Сарата среди них не было. Не веря своим глазам, я перечитал список несколько раз с начала до конца и с конца до начала. Сомнений быть не могло — Сарат не выдержал вступительных экзаменов.
Я откинулся на спинку стула, отупелым взглядом уставясь в одну точку. У меня было такое ощущение, будто я потерял что-то очень дорогое. И нет никого рядом, кто сказал бы хоть слово утешения. Сдача экзаменов была важна не только для самого Сарата, но и для всей нашей семьи. Молочник нес кувшин с молоком, но, замечтавшись, расплескал все его содержимое. И только тогда очнулся. Вот это произошло и со мной.
Впрочем, экзамены — своего рода лотерея. Люди способные иногда проваливаются, а те, кого все считали тупицами, успешно выдерживают. Везение. Как оно важно в каждом деле! Есть люди везучие, есть невезучие. Но ведь удача одного всегда оборачивается неудачей для другого. И наоборот. Так что везение и невезение — это две стороны одной медали. Но понимать это — слабое утешение. Особенно горько родителям, когда неудача преследует их детей. Им, можно сказать, двойное горе.
Когда я вернулся домой, Сарат спал на своей кровати. Даже во сне вид у него был измученный — ведь он просиживал целые ночи напролет. И все впустую. Он даже не допускал мысли, что завалится. И вот на́ тебе! Так, видно, ему на роду написано. Тут уж ничего не изменить. Жизнь не сплошной триумф. Это нескончаемая борьба с трудностями. Сарат должен попытать счастья еще раз. Мудрые люди говорят, что неуспех — первый камень, заложенный в основание будущего успеха.
6
В жизни моей наступила мрачная полоса. Неприятности так и сыплются одна за другой. Я пытаюсь успокоить себя мыслью о том, что не я один страдаю в этом мире, но это мало помогает. Самого себя не обманешь.
Несколько дней подряд мне и Суманавати пришлось уговаривать Сарата, чтобы он попробовал еще раз сдать экзамены. И не успели мы хоть чуть-чуть смириться с неудачей, которая постигла Сарата, как у нас появилась новая причина для беспокойства — Нималь. Он возвращался теперь домой только к ужину. Ни на наши уговоры, ни на упреки он не обращал никакого внимания. Никакого уважения к родителям. Сколько ни тверди ему, что надо заниматься, хватит лоботрясничать, — все попусту, а наказать нельзя — совсем уже взрослый. «Глухого слона музыкой не проймешь», — как-то в сердцах бросила Суманавати. А тут еще она нашла в кармане рубашки, которую собиралась стирать, несколько окурков. На другой же день, когда я зашел в закусочную «Пурасири», чтобы купить хлеба, встретил Нималя с сигаретой в руке. Увидев меня, он вздрогнул и поспешно выскользнул через черный ход на улицу. Я сделал вид, будто ничего не заметил. Но один из посетителей покачал головой.
— Это же ваш сын, Нандасена Махаттая. Ну и дети пошли! Увидел отца — и бежать.
Я покраснел.
В тот же вечер я решил как можно строже поговорить с Нималем.
— Откуда ты берешь деньги на сигареты?
— Я не курю.
— Но ведь я же своими глазами видел тебя с сигаретой!
— Почему же ты мне ничего не сказал?
— Замолчи. Выслушай меня.
— Умру — замолчу.
Не обращая внимания на его вызывающий тон, я продолжал:
— Ведь тебе еще рано, Нималь. Если хочешь вы расти сильным и здоровым — прекрати курение.
Нималь потупился. Его, видимо, смутило, что я не ругаю его, не упрекаю, прошу только прислушаться к моему совету. Да и сам я чувствовал себя слегка виноватым перед Нималем. Что ни говори, а мало мы ему уделяем внимания. Хотя, с другой стороны, это и понятно. Я возвращаюсь домой из конторы еле живой, а Суманавати весь день не отходит от плиты. Забот и хлопот у нас невпроворот. Но, как бы там ни было, за детей отвечают родители. Если сын или дочь поступают дурно, все сразу говорят: «Родители плохо воспитали».
— Домой ты заявляешься позже всех. Уж сколько времени я тебя не видел с книгой — все бездельничаешь. Скоро на нас с матерью пальцами начнут показывать: плохие мы родители. Но не это главное. Как ты дальше жить собираешься? Как себе на жизнь будешь зарабатывать?
Я думал, что Нималь, как обычно, состроит гримасу и тут же убежит, но он продолжал стоять на месте, низко опустив голову и переминаясь с ноги на ногу. Его смущение тронуло меня. «Парень-то он не такой уж плохой, — подумал я. — Со временем дурь пройдет».
И действительно, о Нимале можно сказать не только плохое. Он очень общителен. Все торговцы по улице Вэликада — его приятели. Когда идешь с ним вместе, со всех сторон слышатся голоса: «Куда ты, Нималь?», «Это ты, Нималь? Давненько тебя не было видно», «Заходи сегодня, Нималь. Попьем чаю». Если наши соседи готовятся к совершению какого-либо обряда, они зовут Нималя. А если даже и не зовут, он идет сам и помогает построить навес для обряда пириты[16] или украсить дом. Когда нужно отвезти кого-либо в больницу — Нималь быстро находит такси. И не было случая, чтобы таксист отказался поехать куда надо. Можно смело сказать, что Нималя любят. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь плохо о нем отзывался, а если ему самому нужна помощь, на его просьбу откликаются не меньше десятка ребят. Несколько раз я слышал, как не только подростки, но и взрослые говорили о нашем доме: «Здесь живет Нималь. Отличный футболист».
Чтобы Сарата допустили к экзаменам, надо внести восемьдесят рупий. А как их набрать? В конторе можно, конечно, внять аванс в двести пятьдесят рупий. Но тогда целый год каждый месяц ни зарплаты будут вычитать двадцать одну рупию с процентами. Попробуй-ка тут вывернись.
Сводить концы с концами становится все трудней и трудней. Три дня тому назад мне пришлось снова попросить денег у Малини. В прошлом месяце я взял десять рупий из копилки Хиччи Махаттаи. А жена ни в коем случае не позволяет мне снимать деньги со сберкнижки.
Суманавати вышла из дома и уселась на цементных ступеньках веранды. Она собралась залатать мою старую рубашку, на которой уже и без того несколько заплат. Каждую рубашку, какой бы старой и заношенной она ни была, Суманавати стирает, чинит и кладет в шкаф.
— Когда теперь у Сарата экзамены?
— В сентябре. Самое позднее послезавтра нужно внести деньги. Восемьдесят рупий.
— Восемьдесят! Попробуй их найти!
— И я вот думаю об этом. Придется снять с книжки.
— Неужели ничего другого придумать нельзя?
— Нет. Ничего другого я не могу придумать.
— Нельзя ли заложить мои браслеты? За них должны дать приличную сумму. Потом мы их выкупим.
Украшений у Суманавати мало. Все они лежат в шкафу, завернутые в чистый кусок материи. Ожерелье, два браслета и серьги — все это она получила в приданое. За всю нашу совместную жизнь я не смог купить ей даже небольшого золотого колечка. И хотя Суманавати равнодушна к украшениям, ее предложение для меня совершенно неприемлемо. Никакая сила не заставит меня отдать драгоценности в залог. Однако я хорошо понимаю ее тревогу. Она боится, что, если мы хоть раз возьмем деньги с книжки, потом будет уже трудно остановиться.
Спустились сумерки. Суманавати закончила штопку и ушла в дом. Около калитки остановилось такси. Я приподнялся и увидел, что из него вышла Малини с пакетом в руках. Хлопнула дверца, и такси поехало дальше. Наверное, Малини была вместе с женихом в кино или ездила в магазин.
— А почему Виджесундара не зашел? — спросил я у Малини, когда она поднялась на веранду.
— Сказал, что нет времени. Он и так куда-то опаздывает.
— Мог бы зайти на минутку. Поговорили бы. Правда, он какой-то молчаливый стал.
— Он немножко замкнутый, папа. Бывает, целый час из него слова клещами не вытянешь.
После того как Виджесундара побывал у нас, Малини стала часто говорить о нем с матерью. Зайдет на кухню, усядется возле плиты и расхваливает своего жениха: «Виджесундара такой хороший и добрый. Он словно большой ребенок. Совсем не умеет сердиться. Купил участок в Баттарамулла и собирается построить там дом». Слушая болтовню Малини, Суманавати молола перец или пекла роти, и по ее лицу расплывалась безмятежная, счастливая улыбка.
Мое настроение, однако, было далеко не таким радужным. Вот уже почти четыре месяца, как Виджесундара ходит к нам в дом, а мы еще не встречались с его родственниками. Я несколько раз говорил об этом Суманавати, но ее это совершенно не волнует. Хорошенькое дело! А вдруг мать Виджесундары не даст согласия на его женитьбу? Что тогда делать Малини? Как-то за ужином я спросил напрямик:
— Виджесундара уже написал обо всем своей матери?
— Он говорит, что это не к спеху.
— Особой спешки, конечно, нет. Но хотелось бы знать точно, согласна ли его мать, пока дело не зашло слишком далеко. Уже четыре месяца он ходит к нам, а мы так и не встретились с его матерью.
— Если ты, папа, настаиваешь, я напомню ему об этом. Скажу, что ты беспокоишься. Только ты ничего плохого не думай. Он честный. Не надо ко всем прикладывать одну мерку.
— А что, если он окажется хитрецом? — Я чувствовал, что говорю не то, но уже не мог остановиться. — Ведь ты его знаешь совсем недолго. А для того, чтобы хорошенько узнать человека, мало просто посмотреть ему в лицо. Нам свойственно думать, что все остальные похожи на нас.
— Если ты так сомневаешься в Виджесундаре, я ему скажу, чтобы он больше не приходил. — Малини закрыла лицо руками и зарыдала. — Зачем ты затеял этот разговор? Не хочу я выходить замуж! Не хочу! Лучше старой девой останусь!
— Не сердись, Малини, — примирительно сказал я. А потом, словно дьявол за язык тянул, добавил: — Я не хочу сказать, что он собирается тебя обмануть. Но ведь молодым людям не всегда можно доверять. Чуть что — и в кусты. Предусмотрительность не повредит.
— Помолчи, пожалуйста! — с досадой сказала Суманавати. — Предоставь заниматься этим нам с Малини!
Малини продолжала плакать.
— Черныш на кого-то лает, — вставил Сарат.
— Кто там, посмотри, Нималь!
— Каролис.
Я подошел к калитке, отогнал Черныша и увидел Каролиса. Сидя прямо на тротуаре, он куском проволоки ковырял себе пятку.
— Что случилось, Каролис?
— Пятку занозил.
— Ну-ка покажи.
Без очков, однако, я ничего не мог разглядеть.
— Пойдем на веранду. Да брось ты эту проволоку, а то расковыряешь до раны.
Каролис встал с земли и, опираясь на мою руку, заковылял к веранде. Нималь усадил его на ступеньку, положил его ногу к себе на колени и осмотрел пятку. Ступня была черпая, вся в грязи. Нималь принес тазик с водой, смыл грязь, вытащил занозу и перевязал ногу чистой тряпкой. В течение всей процедуры Каролис не отрываясь смотрел на Нималя, и его губы дрожали, словно он вот-вот заплачет.
— Ну как? Болит? — спросила Суманавати.
— Все в порядке.
Каролис поднялся на ноги.
— Выпей чаю. Я уже поставила чайник.
— Завтра приду, — пробормотал Каролис и поплелся к калитке.
Дочь нашего соседа Сирисены выходит замуж. Жениха он нашел через сватов. Сирисена до прошлого года работал государственным чиновником и теперь на пенсии. Хотя Сирисена и прожил всю жизнь в городе, он свято придерживается деревенских обычаев. «Не признаю я этой новой моды, господин Нандасена, — говорил он мне не раз. — Кривлянье какое-то. Не знаешь, плакать или смеяться». На свадьбу пригласили только две-три семьи. Нималь вместе с Сирисеной красил стены, а я накануне свадьбы помог вымести и вычистить двор. Из всех соседей самые близкие отношения у нас с семьей Сирисены. Сам он человек очень порядочный, всегда готов прийти на помощь. И жена у него очень добрая. Постоянно беспокоится о Нимале. Каждый раз, когда я прихожу к ним, меня приветливо встречает их дочь Суджата: «Анкал Нандасена, садись к столу. Выпей чаю». И при встрече на улице никогда не прошмыгнет мимо, а подойдет и расспросит, как дела на работе, как все домашние. Суманавати в ней души не чает. «Эту девушку достаточно увидеть один раз, чтобы целый день было хорошее настроение», — постоянно твердит она.
На свадьбу пригласили меня и Суманавати. Но Хиччи Махаттаю нельзя было оставить одного дома, и жена не пошла. Свадьбу отпраздновали скромно — присутствовало всего десять-двенадцать друзей и близких родственников, и, когда невесту отвозили в дом жениха, все поместились в двух машинах.
Где бы я теперь ни был, что бы ни делал, мысль об экзаменах, предстоящих Сарату, неотступно меня преследует. Когда я проезжаю на автобусе мимо буддийского монастыря или священного дерева бо, то встаю с сиденья и молю бога за Сарата. Перед тем как лечь спать, снова призываю всех богов на помощь.
Сарат сидит над книгами до часу ночи, а то и до двух. Каждый вечер жена готовит кофе и относит ею в термосе в комнату старшего сына. Потом сидит на веранде и жует бетель. Иногда, зайдя к Сарату в комнату, она начинает перебирать книги на столе.
— Что это за книга, сынок?
— Физическая химия.
— Про такую науку я слыхом не слыхала.
— Шла бы ты, мама, спать, — не очень ласково отвечает ей Сарат. — Оттого что ты бродишь из угла в угол, толку мало.
— Хорошо, сынок, — покорно соглашается Суманавати.
7
Нималь долго канючил, чтобы и ему дал пять рупий. Когда убедился, что у меня их не выманишь, пошел к матери на кухню. Через несколько минут оттуда донесся злой голос Суманавати:
— Ишь чего захотел! Пять рупий ему отвали! Опять в кино собрался.
Нималь с хмурым видом прошел мимо меня в дом. Когда мы сели ужинать, за столом его не оказалось. И вот уже десять часов, а Нималя все нет. Суманавати стоит, прислонясь к столбику веранды, и беспокойно смотрит на улицу — она так и не садилась ужинать. Да и у меня на душе кошки скребут. В последнее время Нималь повадился раз в неделю, а то и два ходить в кино. А на это, само собой, нужны деньги… Сколько он доставляет нам огорчений! Несколько раз я говорил с ним — и все впустую. Портится, и прямо на глазах. Что из него получится? Я часто корю себя за то, что мало уделял ему внимания, и все же это не по нашей вине Нималь стал таким. Как бы трудно нам ни приходилось, у детей было все необходимое — и одежда, и обувь, и книги. За один прошлый год мне пришлось купить Нималю две автоматические ручки.
С тяжелым сердцем ухожу к себе в комнату и ложусь на кровать. Хлынул ливень, и тяжелые капли барабанят по крыше дома. Ветер свистит в ветвях деревьев. Поворочавшись с боку на бок, зову Суманавати. Она не откликается. Тогда я встаю с кровати и иду на веранду. Суманавати сидит на ступеньках, положив голову на колени. Услышав мои шаги, она поднимает голову и тяжело вздыхает:
— Уже двенадцать, а Нималя все нет.
— С минуты на минуту должен прийти. Нечего волноваться — он же не маленький ребенок.
— Уж очень он разозлился, когда я не дала денег на кино. Боюсь, как бы чего не выкинул.
— Без денег он не очень-то разгуляется.
— Небось запустил руку в копилку Хиччи Махаттаи.
— Он должен скоро вернуться. Может, просто где-нибудь пережидает дождь.
Потоптавшись на веранде, я снова ушел к себе в комнату, вконец расстроенный.
Дождь постепенно прекратился, и снаружи воцарилась тишина. Стало прохладно. Закутавшись с головой в простыню, я зажмурил глаза и попытался заснуть. В этот миг залаял Черныш. Я поднялся с кровати и вышел на веранду, там уже стоял возвратившийся Нималь.
— Где шатался? — набросилась на него Суманавати.
— В кино ходил.
— Тебе же сказали, чтобы ты не ходил, и денег не дали!
— А это не ваше дело! Захотел — и пошел.
— Закрой свой поганый рот! — взвилась Суманавати. — Я тебе поогрызаюсь! Скажи еще хоть одно слово — я тебя за уши на улицу выволоку. Если ты никого из нас не признаешь, какого дьявола ты приперся обратно! Нашкодил и еще хамишь!..
Суманавати продолжала бушевать. Нималь смотрел себе под ноги. Это происходит уже не в первый раз, а толку никакого — Нималь упорно гнет свое. Надо что-то предпринять. А что — ума не приложу.
Когда утром я подошел к конторе, еще издали увидел на приступке женщину с ребенком. Одета она была в черную кофточку и розовое сари, сплошь в грязных пятнах. Волосы не расчесаны. В чем только душа держится — до того худа. Наверно, уже долго живет впроголодь. Каждую неделю у нас бывает два-три посетителя, на которых без боли нельзя глядеть. Глубоко запавшими глазами смотрела она на вереницу чиновников, равнодушно проходивших мимо нее. Когда контора открылась, она робко вошла внутрь и стала беспомощно озираться по сторонам. К ней тут же подскочил привратник.
— Мне нужно видеть начальника, — объяснила она.
Привратник записал на клочке бумаги ее фамилию, цель прихода и пренебрежительно буркнул:
— Подожди снаружи. Я позову.
Мой стол стоял прямо у двери в кабинет начальника, и, когда привратник наконец провел ее туда, я слышал, как она плакала и просила перевести ее мужа из Канди в Коломбо. Он работает и живет там, а она с детьми здесь, семейная жизнь от этого вконец разладилась, и как бы муж не бросил ее с детьми.
— Как его фамилия? — спрашивает начальник.
— Элбот. Ю.-Д. Элбот.
— Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать.
В десять часов я вышел выпить чашку чая. Она все еще торчала около конторы, ребенок сидел на земле и гладил ручонками песок. Я почему-то подумал, что у нее нет денег на обратную дорогу, и вытащил монету в пятьдесят центов — две трети всех денег, что у меня были.
— Вот тебе на автобус.
Несколько мгновений она неподвижно смотрела на меня, потом протянула руку и зажала блестящий кружок в высохшей, морщинистой ладони.
Хиччи Махаттая бо́льшую часть времени теперь проводил во дворе около калитки. Он подъезжал туда на своей тележке с самого утра и смотрел на непрерывную вереницу прохожих, спешивших на работу. Иногда несколько сердобольных женщин на минуту-другую задерживались около его тележки. «Бедный ребенок! Вероятно, полиомиелит!» — говорила одна. Другая сочувственно гладила Хиччи Махаттаю по голове, и все спешили дальше. Сидя в своей тележке, Хиччи Махаттая улыбался — ему приятна была эта жалость. Не все, однако, относились к нему доброжелательно. Как-то его окружила группа мальчишек. Они принялись гримасничать и дразнить его: «Эй, ты, калека!» Хиччи Махаттая запустил в них пригоршню гравия. Это раззадорило их еще больше. Тогда Хиччи Махаттая, судорожно работая руками, вкатился во двор и весь в слезах познал: «Папа! Мама! Ребята дразнятся!» Суманавати приласкала и, как могла, успокоила его. «Не надо тебе, сынок, выезжать на улицу», — мягко посоветовала она. А я подошел к калитке и погрозил ребятам, которые при моем приближении попрятались за деревьями и кустами: «Попадетесь — уши надеру!»
Но на другой день все было забыто. Хиччи Махаттая сидел в своей тележке около калитки и угощал плодами лови тех самых мальчишек, которые накануне его дразнили. Вот Нималь тоже нее время изводит его — то стащит деньги из копилки, то поломает какую-нибудь игрушку, а Хиччи Махаттая похнычет немножко — и все тут.
Сарат снова провалился на экзаменах. Боль, которую мы все испытали, была не так остра, как в первый раз, но чувство отчаяния гораздо сильнее. Сарат сделал все, что от него зависело: ни одной минуты перед экзаменами не потратил впустую. Стало быть, такова воля судьбы. Не суждено мне видеть моего сына инженером, а я-то надеялся, что, когда Сарат займет высокий пост, он нам поможет, я смогу нанять служанку и освободить Суманавати от рабской работы по дому. Пустая надежда.
После ужина я вышел на веранду, уселся на свое любимое место и закурил биди. Сарат также вышел на веранду. Увидев меня, он хотел было уйти, но передумал и остался. Вид у него был осунувшийся. В душе он сильно переживает свою неудачу, но старается не показать этого. Такой уж у него характер — как бы туго ему ни приходилось, никому и слова не скажет. Когда Сарат еще учился в школе, он часто с гордостью показывал свой табель мне и Суманавати: «Посмотрите на отметки! Я снова первый в классе!» «Верно, списываешь у других?» — подшучивал я над ним, скрывая свой восторг. Сколько честолюбивых надежд связывал я тогда с Саратом! Пожалуй, настала пора сказать им прости. Через семь лет мне на пенсию. А до этого нужно поставить детей на ноги. Неужели же образование, которое мы им дали с таким трудом, не принесет никакой пользы в жизни? Я взглянул на Сарата. Он смотрел куда-то вдаль, в глубокой задумчивости.
— О чем ты думаешь, Сарат?
— Ни о чем особенном.
— Не расстраивайся. Вероятно, в этот раз экзаменаторы были уж очень строги. Я слышал, многие не выдержали экзаменов. В следующий раз повезет.
— Нет, папа. Не хочу больше сдавать экзамены. Мне нужно устроиться на какую-нибудь работу. Хватит сидеть у тебя на шее.
— Что ты выдумываешь, Сарат? Кто тебе сказал, что ты сидишь у меня на шее? Это просто мой долг — помочь тебе стать инженером, раз у тебя призвание к этому делу.
— Я очень устал, папа. Так много занимался, что сейчас через силу могу прочесть четыре-пять строчек, дальше ничего не понимаю. Поступлю на работу, а через некоторое время еще раз попробую сдать экзамены. Если повезет, буду работать и учиться. На постоянном жалованье жить станет легче.
— Что тебя так волнует вопрос о деньгах, Сарат? Мне от тебя ни цента не нужно. Разве это так важно, работаешь ты или нет? И для меня, и для матери важно только одно — чтобы твои желания сбылись.
В этот миг во дворе у нас сцепились коты, послышался душераздирающий визг. Почему-то мне это показалось дурным предзнаменованием. Однако у меня не было сил спуститься с веранды и прогнать их. Сарат воспользовался случаем и ушел в дом. Я продолжал думать о Сарате. Что там ни говори, а старший сын на особом положении в семье. После того как Малини выйдет замуж, ее связь с нашей семьей совсем ослабеет. Трудно ожидать, что она поможет своим младшим братьям. Другое дело — Сарат, старший сын. Он вместе со мной несет ответственность за семью. И, когда меня не станет, кому, как не ему, быть опорой. Сарат должен стать инженером не только ради себя самого, но и ради остальных детей. Ведь если он займет важный пост, ему легче будет помочь и остальным. Но как он сможет одновременно работать и учиться? Он и сам-то, наверное, не очень в это верит, хочет только меня успокоить. И если уж он решил идти работать, то никто не заставит его изменить это решение.
Я поднялся и зашел к Сарату.
— Куда же ты собираешься поступить? — спросил я.
— В компанию «Браун», — ответил он. — Главный инженер — приятель одного из наших преподавателей, и я легко смогу устроиться туда учеником.
— Я на твоем месте все же еще раз попробовал бы сдать экзамены.
— Нет, папа. Все уже решено. Я и заявление подал.
— Когда же?
— На прошлой неделе. Просто раньше времени не хотел говорить никому.
Я спустился во двор и долго ходил по дорожке между верандой и калиткой. В доме у Сирисены погасили свет — после того как Суджата вышла замуж и переехала к мужу, все ложатся спать рано. А раньше, когда Суджата жила дома, они до поздней ночи пили кофе, разговаривали, смеялись. Когда я теперь захожу к ним, о чем бы мы ни говорили, в конце концов речь заходит о Суджате. Приезжает она редко, но пишет регулярно и каждый раз просит передать привет мне и Суманавати. Жена Сирисены постоянно жалуется на разлуку с дочерью. На прошлой неделе они мне сказали, что решили переехать к дочери, а этот дом сдать в аренду. Мне стало совсем грустно от этой новости. «Ну хоть изредка приезжайте к нам», — только и смог я попросить их.
Когда я пришел в свою комнату, часы пробили десять. Едва задремал, как меня разбудила Суманавати.
— Ты уже спишь?
— Нет. А что?
— Сдается мне, что у Малини с Виджесундарой нелады. Сегодня он заходил к нам, и они крепко повздорили.
— А из-за чего?
— Не знаю. Не прислушивалась. Слышала только, что очень зло друг с другом разговаривали.
— Ничего страшного. Сами разберутся — не маленькие.
— Что-то сердце у меня не на месте, — вздохнула Суманавати. — Если они теперь уже ссорятся, то что будет потом?
— А что мы можем сделать? По крайней мере Малини упрекать нас не будет — сама Виджесундару нашла.
8
— Папа, а что, если нам переехать в какой-нибудь другой дом? Этот уже совсем старый, — заявил как-то Хиччи Махаттая.
— Может, тебе не нравится, что я и папа тоже постарели? Хочешь, ищи другой дом, а нас и этот устраивает, — не раздумывая, ответила Суманавати.
— Если бы я, мама, мог ходить…
— А чем тебе не нравится этот дом? — сказал я как можно ласковее. — Мы прожили в нем уже больше двадцати лет. И ты здесь родился. Хоть мы и снимаем его, он уже вроде как бы наш. И район тихий, спокойный.
— Но ведь когда-то придется уезжать отсюда, папа.
— Конечно, придется, — вздохнул я.
— Куда же мы переберемся?
— В деревню. В мамин дом.
Да, время для переезда в деревню уже не за горами. Через несколько лет я выйду на пенсию, и тогда мы не сможем платить арендную плату. Да и какой смысл здесь оставаться? Пока в деревенском доме Суманавати живет ее дальний родственник. Платы мы с него никакой не берем. Иногда мы ездим туда, и тогда он нас щедро одаряет рисом и кокосовыми орехами.
За последнее время характер у Хиччи Махаттаи сильно изменился. Заставить его слушаться — все труднее. Часто его можно увидеть перед зеркалом — прихорашивается, словно собирается на праздник. Иногда тихонько принимается напевать песни из кинофильмов о красавицах, о любви, о разбитых сердцах. Поделки свои он совсем забросил. Забавные вещицы, которые он с таким усердием мастерил, пылятся по углам. Когда я напоминаю ему об этом увлечении, он небрежно отмахивается — никчемные, мол, детские забавы, и вспоминать не стоит. Стал много читать. Но, боже, какие книги! Только про убийства и любовь. Да еще стихи. Обложки разрисованы такими картинками, что смотреть противно. Вначале я думал, что это чтиво дает ему Нималь, а потом узнал, что Хиччи Махаттая завел дружбу с девочками и обменивается с ними книгами. Как-то в книжке, которую Хиччи Махаттая приготовил для одной из девочек, мне попался листок с такими душевными излияниями в стихах, что мои редкие волосы встали дыбом.
— Не нравится мне, что Хиччи Махаттая завел дружбу с этими девочками, — принялся я однажды вечером жаловаться Суманавати. — Ни к чему хорошему это привести не может.
— Он уже не маленький.
— Именно поэтому я и беспокоюсь. Забивает себе голову всякой дурью, как Нималь.
— Нельзя же Хиччи Махаттаю запереть в четырех стенах, — возразила Суманавати. — Не понимаю, чего ты боишься. Все ребята в его возрасте такие же.
— А Нималь совсем свихнулся. Вчера на улице видел его с какой-то девицей в обнимку. Стыда совсем нет. Если так будет продолжаться, придется отправить меня в сумасшедший дом. У всех детей все шиворот-навыворот. Сарат дважды провалился на экзаменах. У Нималя молоко еще на губах, не обсохло, а он уже с девками шляется. Малини делает, что ей вздумается. Скоро все на нас пальцами будут показывать — хорошеньких деток вырастили, нечего сказать!
— Перестань ты себя накручивать! Чем наши дети хуже других? Таких шалопаев, как Нималь, кругом полным-полно. И разве один Сарат провалился на экзаменах? Мы-то сделали все, что от нас зависело. Если не судьба, то что же делать? А что случилось с Араччи из нашей деревни? Обе дочери убежали из дому. И ничего — жив и здоров. Малини сама себе жениха нашла. Есть из-за чего отчаиваться! Не может же все быть так, как нам хочется.
— Твоя правда.
— Надо выполнить свой родительский долг, а уж как в жизни все обернется, никто предугадать не может.
— Все родительский долг да родительский долг… А у детей что, никаких обязанностей нет? Кому же, как не им, позаботиться о нас, когда мы совсем состаримся! Кто подаст нам тогда воды напиться?
— Ты уже совсем заговорился. — Суманавати поднялась со ступенек. — Иди-ка лучше спать. Поздно уже.
В нашей семье пять человек, но порой мне кажется, что я совершенно одинок. Отчего такое ощущение — я и сам не знаю. А иногда я пытаюсь представить себе, что случится, если я вдруг умру. Бремя всех забот тогда ляжет на плечи Суманавати. И, когда я думаю об этом, меня охватывает дрожь, как при виде зловещего призрака. А порой я сравниваю себя со старым волом, который тянет тяжело нагруженную повозку. Правда, волу все же легче. Он только выполняет свою работу, но ни за кого не переживает и не думает о завтрашнем дне.
Когда у меня в голове подобный ералаш, мне кажется, что я начинаю походить на Каролиса. Здоровому человеку такая чепуха в голову не полезет. Суманавати права — родители должны сделать все, чтобы помочь детям встать на ноги. Ну а если дети вырастают не такими, какими бы хотели их видеть родители, то тут уж ничего не поделаешь. И когда обзаводишься семьей, избежать ответственности нельзя. Нельзя свалиться в колодец — и не замочить платья.
В день получки я возвращался домой через Марадану. Утром, когда я уходил на работу, Суманавати сунула мне длинный список продуктов, которые нужно купить для долга. Вот уже два года, как мы покупаем продукты в магазине «С. Даблив. Е.». Цены в нем немного ниже, чем в других магазинах, но покупателей больше. Я вошел в магазин и пристроился к длинной очереди, но тут меня заметил управляющий и пригласил пройти в служебное помещение. Каждый раз, когда он видит меня, тут же распоряжается провести меня на склад и отпустить мне все нужное без очереди. Научалось это после того, как однажды с меня взяли на десять рупий меньше, чем надо, а на следующее утро я возвратил им эти деньги. Когда, нагруженный покупками, я вышел снова в торговый зал, то увидел на полках сари необычайно красивых расцветок. Я подошел поближе и, прежде чем успел опомниться и подумать, как мы сможем перекрутиться в этом месяце, уже держал под мышкой сари ценой в тридцать пять рупий для Суманавати. Позже я и сам никак не мог понять, как я решился на такой расход, предварительно не продумав все и не сосчитав до последнего цента.
Когда Суманавати развернула пакет и увидела сари, у нее даже порозовели щеки. Но она мгновенно подавила радость и заговорила с расчетливостью домашней хозяйки, у которой на учете каждая рупия:
— Я уже стара для такой красивой обновы. Она как раз для Малини.
— У Малини в шкафу полным-полно всего.
— Нет-нет. В этой одежде я даже не рискну выйти на улицу, — продолжала Суманавати, аккуратно складывая сари и заворачивая его в бумагу. — Я отдам новое сари Малини, а взамен возьму у нее какое-нибудь поношенное. Все равно я выхожу из дома не больше трех раз в месяц.
С прошлого месяца Сарат работает в компании «Браун». Выходить из дома ему нужно в половине седьмого, а это значит, что Суманавати теперь приходится вставать еще раньше и идти на кухню, чтобы успеть приготовить завтрак. Есть у нас старый будильник. Но положиться на него нельзя. То он звонит утром, то нет. Однако Суманавати каждый день встает в пять часов. На работе Сарату выдали шорты и рубашку с короткими рукавами цвета хаки. На кармане рубашки вышито: «Браун энд компани». Через неделю и рубашка, и шорты покрылись масляными пятнами и так пропахли бензином, что их невозможно оставить в комнате.
В день первой получки Сарат вернулся домой с многочисленными свертками. Мне он подарил саронг и баньян. Я был ему очень признателен за внимание ко всем. Но, как и в первый день, когда он вышел на работу, меня остро кольнуло чувство разочарования — перемены в жизни Сарата окончательно подводили черту под моей мечтой увидеть его инженером.
Хорошо ли, плохо ли, но Сарат устроился на работу и начал самостоятельную трудовую жизнь. А о том, что будет с Нималем, и подумать страшно. Со всеми в доме он разговаривает сквозь зубы. Шляется бог знает где. Иногда не приходит. «Было поздно, заночевал у приятеля», — небрежно бросает он мне или Суманавати, когда на следующий день заявляется домой. В школу ходит для того, чтобы не вывести нас из себя окончательно. И то только через день. А один раз целую неделю не показывался в школе. Бо́льшую часть учебников продал, чтобы раздобыть деньги на кино и на сигареты. И ничего уже нельзя сделать.
А тут еще случилось несчастье. Один из юношей, который учился в том же классе, что и Нималь, и даже был с ним дружен, получил в драке смертельный удар ножом. Поговаривали, что этот парень был отпетым негодяем, да и семья у него такая, что лучше держаться подальше. Сарат сказал нам, что этот парень успел уже несколько раз побывать в исправительной колонии, не исключили его из школы только потому, что сами учителя его побаивались. И когда Нималь собрался идти помочь родным умершего, я попытался его отговорить:
— Нималь, не стоит туда ходить. Все говорят, люди там дурные. Сходи на кладбище, когда будут похороны, и хватит.
— Я не могу не пойти. Ведь он был моим другом.
— Но подумай сам, Нималь, с какими людьми ты якшаешься. Ведь и для тебя это может плохо кончиться. Чего доброго, полоснут ножом.
— Подумаешь! Мне все равно нужно пойти туда.
— Ну и проваливай! — закричала не своим голосом Суманавати. — Там и торчи. Самое для тебя подходящее место!
— Не беспокойся, в вашем доме я долго не задержусь, — вполголоса сказал Нималь.
— Повтори, что ты сказал! Скажи громко, чтобы все слышали!
— Я сказал, чтобы все слышали.
— Замолчи, Нималь! Иди куда хочешь! — Меня внезапно охватила и злость, и досада, и усталость. Такие разговоры велись у нас теперь почти каждый день. — Ты уже достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки, и…
Но тут меня перебила Суманавати. На этот раз она говорила почти спокойно, и поэтому горечь в ее словах чувствовалась еще острее:
— Ну что ты изводишь отца и меня? Ведь мы кормим и поим тебя. Заботимся. А у тебя — ни капли благодарности.
— Родители и должны заботиться о детях, — с вызовом ответил Нималь. — Если вам тяжело растить детей, надо было думать раньше и не производить их на свет.
— Мы свой долг выполнили, Нималь. И заруби у себя на носу одно: мы с отцом едва успели выучить азбуку, как нам пришлось зарабатывать себе на жизнь. И в город мы переехали не для того, чтобы ходить в колледж. А чем мы виноваты перед тобой? Ты хоть раз ушел из дому голодным? Нет. Все, что мы должны были сделать, мы сделали. И если ты пошел по кривой дорожке, сам в этом виноват.
— Да, я пошел по кривой дорожке. Ну и что? Малини бегает со своим Виджесундарой в обнимку по всему городу. А женится он на ней или нет, еще не известно. И все смотрят на это сквозь пальцы. А что бы я ни сделал, все за голову хватаются. Я…
— Посмотри лучше на себя, чем кивать на других, — прервала его Суманавати.
Нималь круто повернулся, спустился с веранды и размашисто зашагал через двор к калитке. Иногда он рубил воздух правой рукой, словно продолжал что-то нам доказывать.
Вернулся он домой только через два дня.
9
Спустя три месяца мне исполнится пятьдесят семь лет. Надо написать прошение в казначейство с просьбой оставить меня на службе. Начальником у нас в конторе теперь Т.-Б. Викрамасингхе. Полное его имя — Тикири Банда Викрамасингхе. Родом он из Канди. Относится он ко мне хорошо. Как-то раз увидел, что я жду автобус на остановке, остановил свою машину и предложил меня подвезти. Я никак не соглашался, тогда он чуть ли не силой затолкал меня в машину и довез до самой Борэллы. На здоровье я пока не жалуюсь. Так что с божьей помощью еще года два-три смогу проработать.
Ко всем нашим огорчениям добавилось еще одно — Хиччи Махаттая заболел. Он стал задыхаться, и на него страшно смотреть, когда он с трудом ловит ртом воздух. Мало того. Время от времени руки у него сводит судорога. Но иногда приступы болезни проходят, и два-три дня он чувствует себя вполне здоровым. Суманавати совсем перестала спать по ночам. Стоит Хиччи Махаттае застонать, как она тут же вскакивает с постели и бежит к нему. И днем она не отходит от Хиччи Махаттаи ни на шаг. И я очень расстроен. Гляжу в разложенные на столе деловые бумаги, а вижу осунувшееся лицо младшего сына.
Вероятней всего, из-за этой своей болезни Хиччи Махаттая стал привередливым и застенчивым. Теперь он, даже когда чувствует себя хорошо, не выезжает за калитку, а держится поближе к кухне.
Каждое утро, затеплив лампадку, Суманавати повторяет все молитвы, которые знает. И все без толку. Даже мне в душу порой закрадывается сомнение в справедливости богов. Мало того, что за какие-то грехи в предыдущей жизни Хиччи Махаттая так тяжело наказан, на него обрушилось еще и это несчастье. Боги прогневались на наших детей, но сильнее всего их гнев разит меня и Суманавати. Последние двадцать пять лет мы буквально пригибаемся под тяжестью взваленной на нас ноши.
Я лежу на кровати у себя в комнате и смотрю в темноту. Раньше перед сном я обычно думал о будущем детей, строил планы, мечтал. Теперь же я не могу ни о чем думать. Просто лежу. В доме ни звука — все уже давно спят. С улицы доносятся звуки шагов и голоса. Наверное, кто-то возвращается с последнего сеанса из кино.
Глаза мои уже стали слипаться, когда я вдруг отчетливо услышал, что кто-то в доме плачет. Я поднялся и вышел в гостиную. Зажег свет. Дверь в комнату Малини была приоткрыта, и оттуда доносились приглушенные рыдания. Я подошел к двери и позвал Малини. Всхлипывания прекратились, но она не отозвалась. Тогда я разбудил Суманавати и попросил ее узнать, в чем дело, а сам прошел на веранду. Малини уже два дня не ходила в свою контору — жаловалась на недомогание. Может быть, ей стало хуже. Если ей нужно какое-нибудь лекарство, придется идти в больницу — ближайшая аптека уже давно закрыта. Кто-то положил мне руку на плечо, и от неожиданности я вздрогнул. Это была Суманавати. Я оглянулся и около двери, ведущей в дом, увидел Малини. Слезы текли у нее по лицу, она то и дело нагибалась и вытирала их подолом сари.
— В чем дело, Малини? Что случилось? — спросил я ее участливо.
Ничего не отвечая, она повернулась к стене и громко зарыдала. Я в недоумении переводил взгляд с ее вздрагивающих плеч на Суманавати и обратно. Предчувствие какой-то новой неприятности сдавило мне грудь.
— Слезами горю не поможешь, Малини, — сказала Суманавати. — Иди и постарайся уснуть, а мы с отцом поговорим и решим, что делать.
— Да скажите же мне, в чем дело! — почти прокричал я.
— Не нервничай и не кричи, — остановила меня Суманавати. — Малини рассорилась с Виджесундарой.
— Из-за чего?
— Бог знает…
— Должна же быть какая-то причина. Ни с того ни с сего люди не расходятся.
— Он сказал, что мать против его женитьбы на мне, — ответила Малини. Она перестала плакать, ее лицо исказила злобная гримаса. — Только не в этом дело. Он себе другую нашел. Подонок!
— Перестань так грязно ругаться, — поморщилась Суманавати. — Это грешно. Лучше скажи, откуда ты знаешь, что у Виджесундары есть другая девушка.
— Оставь, мама. Грязного пса так и надо называть грязным псом. Я пойду к нему завтра в контору и такой скандал закачу, что он меня долго помнить будет.
— Лучше я схожу поговорю с ним, — предложил я. — Уважающая себя девушка не должна так делать.
— Не хватало еще, папа, тебе унижаться. Он теперь важная птица. Глаза бы мои его не видели!
— Так о чем мы тогда говорим? Он от тебя отказался. Ты его видеть не хочешь. Выкинь его из головы, и дело с концом. Свет на нем клином не сошелся. Есть сколько угодно молодых людей ничуть не хуже его. Иди-ка лучше спать. Все образуется. — Я подтолкнул Малини к двери. — И ты иди спать, Суманавати. Уже поздно.
Суманавати обхватила дочь за плечи и повела в дом. Малини продолжала бушевать:
— Встретится он мне на улице, я ему пощечин надаю!
Как только они ушли с веранды, у меня подкосились ноги — и я рухнул на стул. Обхватил голову руками, словно у меня ныли зубы, и задумался. Скоро уже год, как Виджесундара появился у нас в доме. Слух о том, что у Малини есть жених, сразу облетел всю улицу. Вначале он появлялся у нас только раз или дважды в месяц. Если он приходил часа в четыре, то уходил еще до наступления сумерек. Если же заглядывал утром, то старался уйти до полудня. Уговорить его остаться и отведать с нами риса стоило больших трудов. Принимали мы его как самого желанного гостя. Увидев, как он входит в калитку, Суманавати не ждала, пока он поднимется на веранду, а шла ему навстречу. Заваривала свежий чай. Угощала соком кокосовых орехов. Предлагала сигареты, которые мы специально держали в доме для гостей. Бежала на кухню и готовила что-нибудь повкуснее. Но больше чем на два часа задержать Виджесундару у нас в доме было невозможно.
Мало-помалу все изменилось. Виджесундара стал постоянно торчать у нас в доме. Накануне дня поя он прямо из своей конторы приходил к нам, и до самого ужина он и Малини сидели на веранде и о чем-то шептались. После ужина он садился играть с Малини в шашки. И Малини хороша! Голову потеряла! Забыла совсем, что неприлично молодому человеку так поздно задерживаться в доме у девушки. Иногда Виджесундара подкатывал на мотороллере и начинал сигналить у калитки. Только слышался сигнал, чем бы Малини ни занималась, она тут же все бросала и бежала к нему. А потом они стояли около калитки и тараторили о чем-то на виду у всех, пока не темнело и не зажигались фонари. «Что вы у калитки стоите? Разве у нас в доме мало места?» — несколько раз говорил я Малини. «Виджесундара заехал на минутку договориться, куда мы пойдем завтра», — отвечала она. Ничего себе минутка — полтора, а то и два часа. Сирисена тоже как-то намекнул мне, что, пока не объявлено о помолвке Малини и Виджесундары, не годится им так часто бегать вместе в кино и по магазинам. Но сколько я ни говорил об этом Малини — все впустую. «Папа, сейчас другие времена, — отмахивалась она. — Надо почаще встречаться с человеком, за которого собираешься выйти замуж. Тогда и узнаешь его получше, и взаимная привязанность будет крепче». Суманавати тоже не видела ничего предосудительного в том, что происходило. Ну сейчас-то они поймут, что времена хотя и другие, но порядки старые. Конечно, не такое уж хитрое дело найти жениха для работающей девушки. Но не так это просто, если ее в течение долгого времени постоянно видели с другим молодым человеком. Ведь родственники жениха могут не ограничиться тем, что посмотрят гороскоп, а станут расспрашивать соседей. Что тогда? Такова женская доля — если есть хоть маленькое пятнышко, все с презрением отворачиваются. «Ну что за жизнь такая? — с отчаянием спрашивал я себя. — Все надежды рушатся одна за другой». Хотелось забиться в какой-нибудь угол, закрыть глаза, заткнуть уши и ничего не видеть, не слышать. Но разве можно спрятаться от жизни?
— Ну что ты совсем скис? — обратилась ко мне Суманавати, снова выйдя на веранду. — Держи себя в руках. Ведь ты же мужчина.
— Голова кругом идет. Что делать — не знаю.
— А что делать? Раз у Малини ничего не получилось с Виджесундарой, надо подыскать ей другого жениха. Только и всего. А от вздохов да охов толку никакого не будет. Удивляюсь я тебе. Чуть что, у тебя руки сразу опускаются.
— Да и сама Малини тоже хороша, — помолчав, продолжала Суманавати. — Несколько раз так грубо разговаривала с Виджесундарой, что я просто обомлела. Да ты сам хорошо знаешь, что от нее можно услышать, когда она не в духе. Может, и к лучшему, что все кончилось, если у них с самого начала не заладилось.
Мы посидели еще немного на веранде, и я поплелся к себе в комнату. Но разве можно уснуть после такой новости! Снова я лежу на кровати, снова смотрю в темноту и думаю, как помочь Малини. Сирисена нашел жениха для Суджаты через свата. Надо попросить соседа, чтобы свел меня с этим сватом. Есть несколько человек в нашей конторе, которые мне обязательно помогут. Правда, не очень-то хочется делиться с ними своими семейными неприятностями. Но ничего не поделаешь. Впрочем, все должно устроиться. Малини недурна собой. Хорошо сложена. Найдем ей жениха не хуже Виджесундары.
Мои мысли переключились на Нималя. Вот уже несколько месяцев, как он путается с девицей, которая живет на улице Каматаватта. Зовут ее Сома. Не по душе нам это увлечение. Но Нималь совершенно не считается с нашим мнением, и мы попросили Сирисену поговорить с ним. Но и это не помогло. Несколько раз в неделю Нималь бегает к ней. Бывает так, что уходит вечером, а приходит домой только на другой день. Родители девушки на все закрывают глаза. Им-то что? Такой парень, как Нималь, для них просто находка. Училась она в специальной школе в Марадане, куда переводят за неуспеваемость учеников из других школ. Около года тому назад ей пришлось оставить и эту школу, и теперь она учится на портниху в одной из мастерских на Кота-роуд. Выглядит она очень эффектно и легко может вскружить голову молодому человеку. Всегда носит одноцветные, плотно обтягивающие фигуру платья. Туфли того же цвета, что и платье. Перехваченные тонкой лентой у затылка волосы спадают на плечи. На лбу — красное пятнышко. Губы слегка подведены. По-английски не может сказать ни одного слова. В Вэликада про нее рассказывают всякие грязные истории. Однако по улице ходит всегда скромно, потупив взор, словно святая. Иногда она встречается мне на улице. Здоровается. Спрашивает о Нимале. Деваться мне некуда, и с вынужденной улыбкой я отвечаю ей первое, что придет в голову. Нималю она подарила собственноручно вышитую подушку. Среди затейливых цветов тут и там вкраплены надписи: «Гуд найт», «Свит дримс», «Гуд лак»[17]. Не знаю, как Нималя, а Суманавати она совершенно очаровала этим подарком. И каждый раз, когда я высказываю свое мнение о Соме, Суманавати неизменно возражает:
— Перестань придираться к девчонке. Руки у нее золотые. Посмотри, как вышивать умеет. Она ведь не вешалась нашему сыну на шею, это он за ней бегает. Нам дорог Нималь. А родители Сомы думают, будто их дочка — лучшая на свете.
— Не говори о том, чего не знаешь, — упорствовал я. — Выйди на улицу и послушай, что люди о ней говорят.
— А зачем мне слушать, что говорят люди? Они и о буддистском монахе такое скажут, что хоть уши затыкай. Да и ты сам прекрасно знаешь, что наш Нималь тоже не святой.
— Она-то и испортила Нималя.
— Ну ты уж совсем заговорился. Вспомни, каким был Нималь еще до того, как стал дружить с Сомой. Когда речь заходит о наших детях, ты совсем дуреешь.
Четверо женихов приходили знакомиться с Малини. Двоих она отвергла сразу, но двое других ей приглянулись. Один — мелкий предприниматель из Амбалангоды, другой — школьный учитель из Гамполя. Предприниматель из Амбалангоды был, как говорится, человек видный. Но мне он не понравился. Да и кому понравится жених, который приходит в дом, окутанный облаком паров арака? Сириманна, учитель из Гамполя, на вид был поскромнее и пришелся по душе всем нам, в том числе и Малини, которая на нем и остановила свой выбор. Меня и Суманавати он покорил своей стеснительностью и сдержанностью.
Хотя Нималь всегда ссорился с Малини, он взял на себя почти всю подготовку нашего дома к свадьбе. С помощью своих друзей побелил стены. Аккуратно подрезал и подровнял живую изгородь. Привел своего знакомого, который соорудил какой-то особенный, очень красивый, навес для свадьбы. Заказал в типографии пригласительные билеты и снял зал в небольшом ресторанчике в Борэлле. И ко всему еще договорился со знакомым владельцем закусочной, что тот бесплатно даст нам на день свадьбы свой новый «опель».
За несколько дней до свадьбы Малини взяла на работе отпуск и принялась шить свадебные наряды. Она сидела у себя в комнате и, весело напевая, крутила швейную машинку. Каждые десять — пятнадцать минут она бежала к Суманавати на кухню. «Мама, посмотри, как сидит кофточка. Может быть, подкоротить рукава?» Суманавати ухаживала за Малини, как за маленьким ребенком. То и дело заваривала свежий чай и подавала ей в комнату. Когда наступало время садиться за стол, первым делом накладывала полную тарелку риса для Малини, относила ей в комнату и смотрела, как та ест, поминутно приговаривая: «Ешь хорошенько. Ничего не оставляй». Я тоже нет-нет да и заглядывал к Малини. Комната ее выглядела словно пошивочная мастерская: кругом куски материи, катушки ниток, недошитые платья. Малини на минуту отрывалась от работы, улыбалась мне и снова склонялась над шитьем. Малини! Та самая Малини, которая в шесть-семь лет как угорелая носилась по двору и лазала по деревьям. Забияка и драчунья, которую побаивались даже ее сверстники-мальчишки. И вот она через два-три дня выходит замуж.
В день свадьбы на улице оказался такой затор, что весь путь до ресторанчика мы проделали со скоростью пешехода. Когда мы уже подъезжали к Борэлле, Суманавати показала мне Каролиса. Он стоял на краю тротуара и провожал взглядом нашу машину. Я позвал его и помахал рукой. Но он не узнал меня, а может быть, только сделал вид, что не узнал.
В банкетном зале, где был накрыт для нас стол, царило радостное оживление. Стены были украшены пальмовыми листьями. За столом сидели женщины в сари всех цветов радуги и нарядно одетые мужчины. Друзья Малини и ее жениха. Наши родственники и друзья. Все оживленно болтали, смеялись. Ненадолго заглянул и господин Ратнапала, мой бывший начальник.
— Радостный день для вас, мистер Нандасена.
— Да, сэр.
— Моя младшая дочь еще не вышла замуж. Хотелось бы пристроить ее, прежде чем уйду на пенсию.
— Мне тоже скоро на пенсию, сэр.
— А сколько вам лет, мистер Нандасена?
— Пятьдесят семь.
— Выглядите вы молодцом. Ну мне пора, мистер Нандасена. Примите мои наилучшие пожелания.
— Спасибо, сэр, что пришли. — Я сложил ладони вместе и поклонился господину Ратнапале.
Малини с мужем должны были уехать ровно в шесть, через четверть часа. Гости потихоньку расходились. Меня охватило странное чувство грусти и даже разочарования. Стоя у дверей, я провожал гостей. На улице хлопали дверцы машин. Зал опустел. Подошла Малини и опустилась передо мной на колени. Суманавати всхлипнула. Мы проводили Малини и Сириманну до машины и долго смотрели им вслед. Суманавати прижала скомканный платок к глазам, и мы медленно побрели домой.
10
Нималь ушел из дома. И не один — вместе с Сомой. Новость об этом мгновенно распространилась по всей округе, и теперь даже маленькие дети судачат: «Ты слышал? Нималь удрал с девушкой!» В последний раз я видел Нималя в день свадьбы Малини, около двух часов дня. Потом он куда-то запропастился, но в суматохе ни я, ни другие не обратили на это особого внимания. К ужину он не вернулся. На следующий день тоже. В этом не было ничего необычного — Нималь уже не раз пропадал на два-три дня. Лишь только когда я узнал, что в день свадьбы Малини Сома также ушла из дома, мне стало ясно, что на возвращение Нималя, по крайней мере в ближайшее время, рассчитывать не приходится. На улице все пристают ко мне с расспросами: «Что слышно о Нимале?», «Нималь еще не вернулся?», «Может, хоть письмо прислал?». «Ничего не слышно», «Не вернулся, и письма нет», — отвечаю я, а сам думаю, как бы прекратить тягостный для меня разговор. Суманавати проплакала все глаза. Я утешаю ее как могу, но что бы я ни говорил — все неубедительно. Несколько дней мы с Сирисеной — он пока так и не переехал к дочери — ходили по Коломбо, расспрашивая своих знакомых, но только и слышали в ответ: «Нималь убежал из дома? Подумать только! Сказал бы кто другой, так не поверил бы!» Обращался я и в полицию в Вэликада — там у меня знакомый чиновник. Ответ был неутешителен: «Ничего не можем сделать, господин Нандасена. И Нималь, и девушка, с которой он убежал, совершеннолетние».
Как и прежде, я каждый день хожу в контору. Там все по-прежнему. Вращаются потолочные вентиляторы. Звонят телефоны. Суетятся чиновники. Но вдруг словно глухая стена отдаляет меня от всей этой суеты. «Где Нималь? Что с ним? Как живется Малини?» — думаю я. На автобусной остановке я тоже иногда, задумавшись, стою в стороне, пропускаю два-три автобуса и только потом пристраиваюсь к очереди.
Мы с Суманавати глубоко огорчены уходом Нималя, Сарат же негодует:
— По улице не могу ходить. Все пальцами показывают.
— Не можешь ходить — летай, — обрывает его Суманавати. Она никому не позволяет осуждать Нималя.
— Только это и осталось, — ворчит Сарат. — Хоть перебирайся куда-нибудь подальше отсюда. То все глумились над тем, что Виджесундара удрал от Малини. Едва это забылось — так на тебе!
— Помолчи, Сарат! Хочешь уехать — уезжай.
— И уеду. Так и знай.
— Ну и катись. Работа у тебя есть. Человек ты самостоятельный. Мы для тебя сделали все, что могли, а теперь, конечно, мы не нужны! — не сдержалась Суманавати. Ее всю трясло.
— А что вы для меня такого особенного сделали? — фыркнул Сарат.
Я был ошеломлен, будто рухнула крыша нашего дома. Отчего это все бегут от нас? Мы с Суманавати теперь никому не нужны, словно старый хлам! Я спустился во двор. Ноги меня не держали, и я сел на скамейку под деревом лови. Ко мне, виляя хвостом, подошел Черныш. Он тоже постарел. На спине клоками вылезает шерсть. Почти все время он спит на ступеньках веранды. Если в калитку входит кто-нибудь посторонний, он уже не бросается навстречу ему с лаем, как прежде, а только поднимает голову, тявкает два-три раза и снова засыпает.
Напротив нашего дома остановилось такси. Приехал Родриго, наш сосед. Работает он на железной дороге, часто задерживается и возвращается домой поздно. Его старшая дочь путается — другого-то слова не подберешь — с молодым человеком из Нуггоды. Двое сыновей связались с каким-то хулиганьем, их выгнали из школы, и теперь они сидят дома. А ему и горя мало. Иногда он приходит домой изрядно навеселе. И тогда до нас доносятся крики и звон разбиваемой посуды. А на следующий день он и его жена, с умилением новобрачных глядя друг на друга, отправляются в кино или на вечеринку с танцами. «Слава богу, мы не такие. Мы для своих детей все сделали», — привычно думаю я и вдруг вздрагиваю, как от удара, вспоминая слова Сарата: «А что вы для меня такого особенного сделали?»
Суманавати права, когда говорит, что Нималь, несмотря на его грубость и строптивость, самый добрый из всех наших детей. Сарат совсем другой. Бережлив до скупости. Никому дома не говорит, сколько он получает. И палец о палец не ударит, чтобы помочь нам. Слово «наше» он не знает. Все только «я», «мой», «мое», «для меня».
Иногда я захожу в комнату Нималя или в комнату Малини. Суманавати их не убирает, по углам скопилась пыль и паутина. Потоптавшись, я выхожу и прикрываю за собой дверь. Вот уже три месяца, как Малини вышла замуж. Два раза я был у нее. Но мне как-то неуютно в ее новом доме, и я долго там не задерживался. И за все это время она не написала матери ни строчки.
Хиччи Махаттая повзрослел. Выражение лица у него неизменно серьезное и задумчивое. В волосы вплелись седые пряди. Средствами национальной медицины астму удалось почти вылечить. Чаще всех других он вспоминает о Нимале. Чудно получается. Нималь частенько обижал Хиччи Махаттаю — воровал, а то и в открытую брал деньги из его копилки, ломал поделки Хиччи Махаттаи, дразнил его. А сейчас Хиччи Махаттая скучает без него. Нималь, правда, по-своему любил Хиччи Махаттаю. Я очень хорошо помню, как однажды он хорошенько оттузил какого-то мальчишку, который обозвал Хиччи Махаттаю «обрубком». Как-то, разбирая книжки Нималя, Хиччи Махаттая нашел письмо. Написано оно было на розовой бумаге округлым женским почерком. Даже не взглянув на подпись, я сразу же догадался, от кого оно.
Нималь, жизнь моя!
Ты никак не можешь решиться уехать со мной. Не хочешь оставлять своих родителей, А для меня никого, кроме тебя, не существует. Твои родители никогда не согласятся на то, чтобы мы были вместе. Они больше думают о приличиях, чем о нас с тобой. Что же нам делать? Уедем отсюда. У меня припасено немного денег. Я буду работать. Как-нибудь проживем…
Я скомкал письмо, не дочитав его до конца.
Однажды, когда я в одиночестве пил чай перед работой, Суманавати подсела к столу, привычно упрекнула меня, что я так мало ем, и сказала:
— Сарат хочет поговорить с тобой.
— О чем же?
— Надумал в Англию ехать. Спрашивал, можем ли мы помочь ему деньгами.
— В Англию? — Я чуть не выронил чашку из рук.
— Да. Он говорит, что в Англии можно подучиться на механика. А с такой специальностью в любую компанию примут с распростертыми объятиями, — продолжала Суманавати со вздохом. — К тому времени, когда он вернется, на наших могилах уже деревья вырастут.
— Надо хорошенько все обдумать, — сказал я, вставая из-за стола.
— Не по душе мне его затея, — вздохнула Суманавати.
В полном смятении, не зная, то ли радоваться, то ли огорчаться, я отправился на работу. Утро было чудесное. Лазурное небо, лишь кое-где рассеченное тонкими белыми полосками облаков. Улица, залитая ласковыми лучами утреннего солнца. Мне вспомнился тот день, когда я впервые — после переезда в Коломбо — шел на работу и как тогда меня охватило чувство радостного ожидания.
Когда Сарат облачился в фирменную рубашку и шорты компании «Браун», у меня воскресли прежние надежды. Взять, к примеру, заместителя нашего начальника. Работник он никудышный. Но все перед ним лебезят и расписывают его мнимые достоинства. А почему? Да только потому, что он учился в Англии. То же самое и с пластмассовыми статуэтками Будды. Те, что сделаны на Цейлоне, продаются по семьдесят центов. А точно такие же, с заграничным клеймом, дешевле, чем за две рупии пятьдесят центов, не отдадут. Это преклонение перед всем заграничным просто въелось в душу некоторым людям.
Сын одного моего знакомого из Нуггоды два года проболтался в Японии, а теперь служит в государственной корпорации и загребает уйму денег. А у нас, на Цейлоне, не мог даже сдать экзамены за колледж… Я размечтался… Через две остановки я уже представлял себе, как Сарат возвращается из Англии и агенты самых солидных компаний делают ему заманчивые предложения. Еще остановка — и я вообразил себе, как Сарат разъезжает в шикарном автомобиле, а потом… потом мне нужно было выходить, и головокружительная карьера Сарата оборвалась.
В тот вечер мы наконец, после долгого перерыва, сели за стол все вместе. Все это время мы обычно ели поодиночке: я, Суманавати и Хиччи Махаттая — на кухне, а Сарату — он постоянно задерживался — оставляли тарелку с ужином в гостиной. Сарат хотел было отговориться тем, что поел уже у приятеля, но, увидев накрытый стол и огорченное лицо Суманавати, которая приготовила для нас всех рис и кари с курицей, понял, что мы его ждем, и, не говоря больше ни слова, сел рядом с нами. Мы с Суманавати принялись накладывать ему на тарелку рис, курицу, приправы.
— Когда же ты уезжаешь, Сарат?
— Если все будет в порядке, в мае.
— А сейчас уже апрель! — воскликнула Суманавати.
Мы с Саратом рассмеялись.
— Что ты, мама! Еще только февраль.
— У меня все в голове перепуталось.
— А сколько же тебе надо денег на дорогу? — спросил я.
— На дорогу туда две тысячи.
— Как же ты там будешь жить и учиться? — поинтересовался я, вспомнив наконец о практической стороне.
— Постараюсь устроиться на работу, как Вильсон, мой приятель. По вечерам он моет посуду в закусочной, а с утра ходит на занятия. Пишет, что такую работу довольно легко найти.
Я чуть не присвистнул — оказывается, все не так-то просто, как мне представлялось.
— И сколько же ты там рассчитываешь пробыть?
— Два года.
— А мы будем тут с отцом совсем одни?
— Ну, не совсем одни. Хиччи Махаттая остается с вами. Два года пролетят незаметно. Не успеете оглянуться — и я снова дома.
11
Мы все — и я, и Суманавати, и даже Хиччи Махаттая — поехали провожать Сарата в аэропорт. Всю дорогу Суманавати сидела в машине, прижавшись к Сарату, и не проронила ни слова.
В зале ожидания расхаживали важные господа и дамы. Некоторые были с детьми. Сарат в черном костюме изменился до неузнаваемости. Он стоял среди провожавших его друзей, что-то им растолковывая. Суманавати смотрела на него с таким отчаянием, будто видела его в последний раз. Меня же распирало от гордости. Я провожаю сына на учебу в Англию! Чем я хуже всех этих господ в пиджаках, галстуках и дорогих ботинках, начищенных так, что в них можно смотреться, как в зеркало!
Вернувшись обратно, я долго стоял во дворе. Мы остались втроем: я, Суманавати, Хиччи Махаттая — да еще Черныш. Пусто и тихо стало в доме, на сердце навалилось одиночество. Дни идут за днями. От Нималя и Малини нет никаких известий. Малини даже не удосужится прислать открытку. Мы с Суманавати почти смирились с тем, что все нас забыли, и только время от времени нас начинает терзать чувство беспокойства за них. Хоть бы зашел кто-нибудь из прежних друзей Нималя. Если они и попадаются нам на улице, то стараются побыстрее прошмыгнуть мимо. Суманавати упрашивает меня регулярно писать Малини. А писать не о чем. В нашей жизни нет ни забот, ни событий. И все письма получаются похожими друг на друга, словно их писали под копирку, — вначале расспросы о жизни Малини, а потом упреки в том, что она никак не соберется навестить нас и даже не пишет.
Мы с Суманавати в полной апатии. Дом и двор имеют теперь запущенный вид. Сохнут и зарастают сорняками цветы, за которыми ухаживала Малини. И в комнате Сарата, как и в комнатах Нималя и Малини, по углам — пыль и паутина, на полу — обрывки бумаги. Его книги и журналы я аккуратно сложил в картонные коробки. На столе лежит готовальня. В свое время я заплатил за нее сто двадцать рупий. Сарат почему-то не взял ее с собой, и это единственная вещь, с которой я стираю пыль каждый раз, когда захожу в его комнату. Суманавати редко берется за веник и тряпку, и весь дом постепенно приходит в запустение. На веранде потрескался цементный пол, протекает крыша, но у меня нет никакого желания заняться ремонтом. Вернувшись из конторы, я либо бесцельно слоняюсь по двору, либо сижу, как каменное изваяние, на веранде.
Теперь я со страхом думаю о том, что через шесть-семь месяцев мне на пенсию. Жизнь тогда станет совсем унылой и однообразной. Целые дни коротать дома. Тогда уж ничто не отвлечет меня от мыслей о Нимале, Малини, Сарате, который как в воду канул. Каждый раз, после прихода почтальона, бросаться к почтовому ящику и находить там газету или счет за электричество. Вот что меня ожидает. Иногда я хотя бы в мечтах пытаюсь убежать от действительности. Представляю себе, как вернется домой Нималь с Сомой, а может быть, с внуком или внучкой, приедет навестить нас Малини. На окнах снова появятся чистые занавески. В доме — радость и оживление. Но подобные видения быстро улетучиваются, оставляя после себя еще более острое чувство горечи и разочарования.
Как-то вечером около нашего дома остановился автомобиль, и во двор вошел молодой человек. Оглядевшись по сторонам, он направился к веранде.
— Простите, не вы мистер Нандасена? — спросил он, подойдя поближе.
— Да, я. А что вам угодно?
— Сарат просил меня передать вам посылку. — Он протянул сверток. — Приехал я на прошлой неделе, но было много всяких дел, и вот только сейчас к вам выбрался.
— Заходите, пожалуйста, в дом, — засуетился я.
— Извините, но я очень тороплюсь.
— Как там Сарат? Как у него дела? — спросил я, провожая его до калитки.
— У него все в порядке. В прошлом месяце женился.
— Женился?
— Да. Разве он не написал вам об этом?
Я оторопел. С невольной улыбкой молодой человек поклонился, сел в машину и уехал.
Я побрел на веранду. Подумать только! В жизни Сарата — такое событие, а он даже не написал об этом. Но может быть, письмо вложено в посылку. Я проворно спустился с веранды и бросился обратно к калитке: провожая гостя, я повесил сверток на забор. Развязав бечевку, я перерыл все содержимое свертка, но не нашел ничего, даже короткой записки. На что нам с Суманавати присланные им тряпки, если сын даже не счел нужным написать, как он живет? Мы ждем от него не посылок, а теплого слова, внимания. Я снова завернул рубашки и сари в бумагу, отнес все в комнату и спрятал под кроватью. Я решил ничего не говорить об этом Суманавати, а все вещи переслать Малини, приложив записочку, что это подарок ей и мужу от Сарата.
Тут Суманавати позвала меня пить чай. На столе стояла тарелка со сладкими пирожками.
— Откуда пирожки? — спросил я. — Ты же вроде ничего не пекла.
— Приехала Суджата погостить у родителей. Это она привезла.
Я машинально пожевал пирожок, выпил чашку чаю и встал. Мне вспомнилось старое предание о ястребе. В предыдущей своей жизни он не дал воды человеку, умиравшему от жажды. И теперь каждый раз, когда он хочет напиться, вода превращается в кровь. Он вынужден ловить клювом капли дождя. Почему-то и я тоже за какие-то дурные поступки в предыдущей жизни лишен внимания и заботы своих детей.
Я подошел к калитке. Из дома Сирисены доносились голоса. Суджата учила сына говорить «дедушка» и «бабушка». Ребенок лопотал что-то невразумительное, и все трое радостно смеялись. А у нас в доме горько, пусто, одиноко. Я подошел к двери кухни. Суманавати, подперев щеку рукой, сидела за неприбранным столом. На коленях у нее покоилась кошка, подобранная на улице, а у ног на полу спал Черныш.
Примечания
1
Желаю удачи (англ.).
(обратно)
2
Свамивахансэ — обращение к буддийскому монаху. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)
3
ОНП (Объединенная Национальная партия) — консервативная партия компрадорской буржуазии и крупных землевладельцев.
(обратно)
4
Олкот — американский теософ, один из основателей буддистского общества на Цейлоне.
(обратно)
5
Нанги — младшая сестра.
(обратно)
6
Касиппу — хмельной напиток, самогон.
(обратно)
7
Федеральная партия — партия тамильской буржуазии.
(обратно)
8
Бурияни — рис, приготовленный на топленом масле.
(обратно)
9
Анкал — вежливое обращение; дядя (от англ. uncle).
(обратно)
10
Весак — буддийский праздник, отмечающийся в мае.
(обратно)
11
Хэна — участок, на котором земледелие ведется подсечным способом.
(обратно)
12
Роти — лепешка, хлеб.
(обратно)
13
Кос — порода дерева.
(обратно)
14
Байла — национальный танец.
(обратно)
15
Орандж барли — прохладительный напиток.
(обратно)
16
Пирита — свадебный обряд.
(обратно)
17
«Гуд найт» — спокойной ночи, «Свит дримс» — прекрасных сновидений, «Гуд лак» — удачи (англ.).
(обратно)