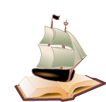| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Кремень и зеркало (fb2)
 - Кремень и зеркало [litres][Flint and Mirror] (пер. Анна Иосифовна Блейз) (Эгипет - 5) 2510K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Джон Краули
- Кремень и зеркало [litres][Flint and Mirror] (пер. Анна Иосифовна Блейз) (Эгипет - 5) 2510K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Джон КраулиДжон Краули
Кремень и зеркало
Однако я знаю: всем, что случается, мы обязаны не только случаю и стечению обстоятельств, но и замыслам разумных созданий – не вполне свободных, но все же обладающих собственной волей.
Fantasy World. Лучшая современная фэнтези

John Crowley
FLINT AND MIRROR
Copyright © 2022 by John Crowley
Перевод Анны Блейз Дизайн Елены Куликовой

© А. Блейз, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Пролог
Confiteor[1]
Все сходились на том, что в Риме стало холоднее.
Стылая зимняя сырость не отступала дольше, чем в былые годы, да и с приходом весны большие каменные дома и дворцы благородных риони[2] оставались холодными. Еще хуже было в церквях. Итальянские небеса по-прежнему полыхали жаркой синевой с бесчисленных картин, но картины уже не отражали действительности. На самом деле похолодало во всем мире, от Китая до Бразилии, но Хью О’Нил, граф Тирон[3], этого не знал; его родная страна, которую он не видел уже лет десять, оставалась в памяти все такой же зеленой, такой же теплой, как прежде. Англия – другое дело, да; там было холодно; мальчишкой, когда он жил там у Сиднеев, своих опекунов, ему доводилось ходить по льду замерзшей Темзы, твердому, как гранит, среди ледовых дворцов и аркад, что по ночам освещались свечами и коптилками; огоньки мигали, словно дрожа от холода; а мимо, как по широкой дороге, проносились сани, и лед рассыпался сверкающей крошкой из-под шипастых подков.
Как же давно это было.
В покоях палаццо Сальвиати[4], которые папа выделил графу, стояли угольные жаровни, но стекол в высоких окнах не было, а закрывать ставни на ночь граф не желал. Спал он, закутавшись в меха и подложив подушки под голову, полусидя, точно больной. И всегда держал меч под рукой. Любая ночь могла стать для него последней, думал он. Любая сила из тех, с которыми он когда-то боролся, любая держава, которую он предал или подвел, могла подослать убийц. Сын короля Испании. Английская корона. Его собственные кланники и вассалы. Наконец, Sanctissimus[5] собственной персоной, а не он, так его кардиналы: скоро они устанут от графа, от его бесконечных просьб о деньгах и оружии, потребных для возвращения в Ирландию, от заговоров, которые он строил in vino plenus[6] со своими товарищами по изгнанию (этот мечтает о мести, тот одержим правосудием), быть может, тоже втайне его ненавидевшими. Найдется кто-нибудь, кто прижмет к его лицу подушку, и больше он уже не проснется. Но те легионы земли и воздуха, те великие и прекрасные, которых он подвел сильнее, чем кого бы то ни было, а они, в свой черед, подвели его, – уж они-то его здесь не достанут. Здесь им не под силу покарать его или причинить хоть какой-то вред: за пределы Острова им хода нет – точно так же, как ему самому нет возврата.
Но сейчас было лето, благословенное лето. Пробудившись, граф ощутил, как ночь оборвалась, словно бы внезапно, – и начался новый долгий день. В двери спальни тихонько постучались. Затем дверь открылась: слуги внесли для него таз с водой и белые полотенца для рук и лица. Граф отбросил покрывала и встал, по-стариковски покряхтывая. Желает ли его светлость разговеться, спросили его, или сперва посетить мессу? Граф, так и стоявший голым, посмотрел вниз, на собственную грудь – на поседевшие завитки, когда-то ярко-рыжие, на рубцы и шрамы, так и не заросшие волосами вновь. Вот она, страна его жизни: вся история на виду. Вполне ли он здоров? Сразу и не понять. Сначала месса, сказал он. Ему помогли накинуть длинный стеганый халат, какой носили римляне по утрам, – весталью, robe de chambre[7]. Затем слуги встали от него по бокам; взяв их за руки и держась, чтобы не упасть, граф втиснул ноги – искореженные артритом, шишковатые и будто чужие – в бархатные туфли. Ему поднесли поссет[8] – он выпил. Подумал, не вернуться ли в постель. Потом все же завязал пояс халата, отпустил слуг (его всегда восхищало, как они пятятся до самой двери, кланяясь на каждом шагу), зевнул во весь рот и с этим щедрым глотком летнего утра проснулся окончательно.

Во дворце Сальвиати была маленькая часовня, где архиепископ каждое утро служил мессу, повинуясь каноническому закону и собственному своему желанию. Постоянных прихожан у него было немного: монахини, выполнявшие разные работы во дворце, да благородный пенсионер, которого архиепископ держал при себе секретарем. И, разумеется, граф Тирон, всегда занимавший позолоченное молитвенное кресло между двумя рядами простых скамей. Войдя в часовню в сопровождении служки, архиепископ мимоходом тронул О’Нила за плечо и улыбнулся. Глядел он перед собой – на алтарь, где уже стояли священные сосуды и лежало раскрытое евангелие.
Петр Ломбард, архиепископ Армы, что в Ольстере, ни разу в жизни не всходил на свою кафедру. Родился он в Мунстере; выказал блестящий ум, был отправлен на учебу в Оксфорд, а после – на континент; в Бельгии, в католическом университете Лувена, стал доктором богословия. Затем приехал в Рим и произвел на папу Климента VII такое впечатление, что вскоре поднялся до архиепископского сана, не задержавшись надолго на нескольких более скромных должностях. Выбор естественным образом пал на него, когда скончался предыдущий архиепископ Армы, и Петр получил перстень и посох, но путь на кафедру в Ольстере ему был заказан. Став помазанником, он так и не стал пастырем для вверенных ему прихожан; он не мог ни венчать, ни отпевать их, ни служить для них обедню по праздникам.
Католических священников в Ирландии бросали в темницы, ссылали, вешали и четвертовали. Петр все равно хотел поехать в Ирландию, но Его Святейшество запретил и назначил его своим почетным прелатом. Должность была доходная. К тому же Петру поручили заботиться об ирландских изгнанниках в Риме. Он понимал: как и его другу Хью О’Нилу, ему не суждено покинуть Рим, не суждено еще хоть раз ступить на землю Ирландии.
И подойду я к жертвеннику Божию, начал он, протягивая руки к стоявшему на алтаре распятию. Служка подхватил на плавной, ласкающей слух латыни, какая всегда звучала в итальянских церквях: к Богу радости и веселия моего[9]. И граф зашептал вместе со священником, но по-ирландски: для чего Ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага?[10] Сколько раз, подумал граф, повторялся этот вопрос за все века и сколько раз оставался без ответа. На глаза навернулись слезы, как теперь случалось нередко – даже по пустякам, без причин.
Месса шла своим чередом. Архиепископ поднял над головой просфору, уже пресуществленную, – хлеб, ставший плотью. Следом – вино, ставшее кровью. Монахини поднялись, словно строй серых призраков, и устремились к алтарной ограде за причастием. Panis angelicus[11]. Граф причащаться не стал. Сейчас было нельзя: он еще не исповедался, не исполнил своей епитимьи, не получил отпущения.


На церковную службу Хью О’Нил приходил почти каждое утро, а по вечерам (когда не предавался фантазиям о правосудии и мести с такими же старыми ирландцами, как он сам) проводил время с архиепископом в его покоях, ибо Петр Ломбард был автором гигантского De regno Hiberniæ sanctorum insula commentarius[12], трактата о святых и защитниках королевства Ирландия, а Хью О’Нил не понаслышке знал о том, как Ирландия поднялась на защиту от еретиков в последний раз. Архиепископ взял на себя роль историка при графе: он задавал вопросы и записывал ответы, когда Хью было что отвечать: имена и кланы давних соратников, события проигранных и выигранных сражений, годы, месяцы и дни, на которые те пришлись. Прошения и отказы, клятвы и клятвопреступления. Голос старой королевы… Хью не стал рассказывать архиепископу, как услышал этот голос впервые, и заговорил вместо этого о некоем чутье, которым он обладал в те времена, или, вернее, о чувствительности к ходу событий: порою граф угадывал, что происходит вдалеке от него и чему предстоит случиться в будущем.
По пятницам он превращался в кающегося грешника. Архиепископ становился исповедником: садился против него, колено к колену, отвернув лицо, и молча слушал, временами прикрывая глаза рукой и прерывая графа лишь тогда, когда услышанное нуждалось в пояснениях или требовало расспросов. В высоких клетках, украшавших покои архиепископа, ворковали и бесцельно порхали горлицы – подарки нового папы, Павла V. Здесь, как и в часовне, Хью дозволялось не преклонять колени, с которых (сообщил он архиепископу) он бы, верно, уже и не встал. Так он и исповедовался, сидя в кресле и покаянно склонив голову. Благослови меня, отче, ибо я согрешил: словом, делом и помышлением.
На грехи минувшей недели хватало десятой доли часа: старому графу теперь не часто выпадала «оказия согрешить», как называл это его исповедник. Хью О’Нил каялся не столько в нынешних своих peccata[13], сколько за всю прожитую жизнь, не столь уж отличавшуюся от исторической хроники, которую архиепископ за ним записывал, – разве только тем, что в хронику прегрешения графа не попадали, а в исповеди, напротив, подвергались пристальному анализу и учету. Ежевечерние экскурсы в историю граф начал со времен своего отрочества и мало-помалу продвигался к концу – к тем самым покоям архиепископа, где он излагал повесть своей жизни. Пятничные исповеди, наоборот, начались с конца – конца всем войнам и битвам, из которых складывались войны, и всему, что случается в битвах и после битв, – и продвигались вспять, к началу. Каждую неделю граф и его исповедник проникали еще чуть дальше в прошлое, выискивая все, о чем теперь надлежало рассказать откровенно: все, чего граф не сделал, хотя и должен был сделать, и все, чего делать не стоило, но он все-таки сделал. Хью О’Нил отродясь не был послушным сыном Церкви. Да, он мог посетить службу, когда это сулило какие-то выгоды, или вместе со своими капитанами преклонить колени перед каким-нибудь затравленным священником, скрывающимся в глуши, и попросить о благословении. Но все то, что ему довелось совершить как воину, как вождю, как О’Нилу, поборнику Ирландии и защитнику прав и свобод собственного клана, – все это граф в глубине души не считал грехами и порой стоял на своем даже теперь, перед лицом архиепископа с его кроткими наводящими вопросами. Когда он умолкал, переставая понимать самого себя и не зная, что сказать дальше, оба вставали и прощались до завтра, обменявшись братским поцелуем.
За годы, которые оба они, архиепископ и граф, провели на чужбине, эти две истории Хью О’Нила – история его деяний и история души – достигли того мгновения, в котором одна пересекалась с другой, подобно двум всадникам, выехавшим навстречу друг другу и разминувшимся на середине пути. Один двигался к концу, к тем делам, говорить о которых было труднее всего, к годам поражений и неудач; второй стремился к юности и детству, к тем давним временам, когда он еще ничего не знал о грехе и благодати, а учился лишь делать то да се: скакать верхом, бегать и метать копье, бороться и хвастаться победами, бодрствовать и почивать в этом мире, что был еще совсем юн и зелен.
Часть первая
Кремень и зеркало
Рат
Была весна, когда его опекуны, О’Хейганы, привезли Хью О’Нила в замок Данганнон. Мальчику их отряд представлялся грандиозной процессией: двадцать, а то и тридцать лошадей, позвякивавших медной сбруей, телеги с подарками для его дядьев, О’Нилов из Данганнона, фургон с мычащими коровами, вооруженные слуги, лучники и женщины в ярких шалях, О’Хейганы, и Макмагоны, и их вассалы. И он сам, сознававший: пусть ему всего десять лет, но самое главное в этой процессии – именно он, тощий мальчишка верхом на пятнистом пони, в новом плаще и с новеньким кольцом на пальце.
Ему все казалось, что уже подъезжают и будто бы он узнает окрестности. Он всматривался в горизонт, не покажется ли замок, и ежечасно донимал своего кузена Фелима, приехавшего забрать его в Данганнон: «Уже приехали?» – пока тот не рассердился и не сказал, чтобы Хью больше не спрашивал, пока не увидит замок своими глазами. А в тот миг, когда замок наконец предстал его глазам, шальное солнце как раз выглянуло из-за туч и так блеснуло на мокрых после дождя, выбеленных известкой кольях палисадов, что весь замок показался сверкающим и близким, но в то же время далеким, теряющимся в дымке, – и у Хью перехватило дух, потому что эта каменная башня с глинобитными, крытыми соломой пристройками увиделась ему всеми замками разом, о каких он только слыхал с самого детства в сказках и песнях. Он ударил пони пятками. Фелим что-то кричал, женщины смеялись, звали его и пытались удержать, но Хью уже скакал во весь опор по длинной раскисшей дороге, поднимавшейся на пригорок, куда как раз съезжались встречающие – всадники с высокими тонкими копьями, черневшими против солнца, его дядья и кузены, О’Нилы. Заметив мальчика на пони, они замахали ему и разразились приветственными криками.
Следующие несколько недель все с ним носились, и Хью это волновало и будоражило. Он невозбранно бегал повсюду и везде совал свой нос – эдакий малорослый рыжий бесенок с жилистыми, розовыми от холода ногами и тонким, пронзительным голоском. Дядья трепали его по голове своими большими ладонями, похлопывали по плечу и смеялись над его россказнями и сумасбродствами, а за подбитого кролика расхваливали так, словно он завалил два десятка оленей. Ночевал он вместе со всеми, свернувшись калачиком среди огромных потных волосатых тел в большом зале, где в самом центре горел открытый торфяной огонь. Подолгу лежа настороже, без сна, он смотрел на дым, поднимавшийся от очага и уходивший через отверстие в крыше, и слушал, как его кузены и дядья переговариваются в темноте, храпят и пускают пивные ветры.
Ведь не случайно же его ставили выше кузенов, хотя те были старше! Не случайно первому давали выбирать лучшие куски из густого жаркого, в котором таяли жирные комки масла, а когда он говорил, не отмахивались, но внимательно слушали. Наверняка была причина – и видимо, не слишком хорошая, иначе зачем было держать ее в тайне? Хью все это чувствовал, хотя высказать бы не смог. То и дело он ловил на себе задумчивые, печальные взгляды взрослых – такие, будто его было за что жалеть, – а когда в очередной раз начинал хвастаться своими подвигами, женщины, случалось, подходили и крепко его обнимали, не говоря ни слова. Он словно попал в какую-то чужую историю, не зная, о чем она, и от этого стал совсем неугомонным и взбалмошным.
Однажды, вбежав в большой зал, он застал дядю Турлоха Линьяха за каким-то спором с его женщиной: дядя кричал на нее – не лезь, мол, в мужские дела. Заметив Хью, женщина подошла, поправила на нем плащ, отряхнула от налипших листьев, разгладила складки, а затем бросила Турлоху через плечо:
– И что же, он так всю жизнь и проходит в английских костюмах?
Турлох Линьях, стоявший у огня, насупился, опрокинул в рот остатки пива и пробормотал себе в кружку
– У его деда Конна был английский костюм. Отличный костюм из черного бархата, как сейчас помню. С золотыми пуговицами. И шляпа, да-да! Из черного бархата! С белым пером!
Турлох перешел на крик, но Хью не понял, на кого дядя сердится: на него ли, на женщину или на себя самого. Женщина расплакалась, закрыла лицо шалью и выбежала вон. Турлох искоса глянул на Хью и сплюнул в огонь.
Вечерами они все сидели при свете очага и большой, чадной свечи из тростника, пропитанного маслом, пили данганнонское пиво и испанское вино и вели беседы. Все разговоры вращались вокруг одного – самих О’Нилов. Все остальное всплывало лишь между прочим, в рассказах или песнях, так или иначе связанных с их долгой историей. Речь могла зайти, например, о странности англичан (легковерием она объяснялась или глупостью – тут оставалось место для спора), или о набегах на соседние кланы и ответных налетах, или о каких-нибудь совсем уж давних делах. Хью не всегда различал – да, пожалуй, и взрослые не всегда могли сказать с уверенностью, что из этого случилось тысячу лет назад, а что происходило прямо сейчас. Герои ходили в походы, убивали врагов и уводили их скот и женщин; О’Нилы восседали на троне ard Rí[14], верховного короля, на холме Тары. Вспоминали их предка, Ньяла Девяти Заложников, и верховного короля по имени Юлий Цезарь; вспоминали Брайана Бору и Кухулина (тот уж, верно, жил давным-давно), а с ними – дочь короля испанского, которой покамест не дождались[15], и Шейна О’Нила (ныне живущего) с его свирепыми шотландскими «краснолапами»[16]. Конн, дедушка Хью, тоже был О’Нил – всем О’Нилам О’Нил, вождь клана и всех его септов[17], – да только отчего-то дал слабину и принял от англичан кличку графа Тирона. Век за веком О’Нилы всходили на коронационный камень в Туллахоге под звуки колокола святого Патрика[18], и только Конн О’Нил, граф Тирон, этим не удовольствовался: он преклонил колени перед Гарри, заморским королем, и поклялся сеять пшеницу и учить английский. А на смертном одре сказал, что надо быть дураком, чтобы довериться англичанам.
В хитросплетениях этих рассказов, где каждая нить оставалась на виду и сверкала своими незабываемыми эпизодами, но в то же время была неразрывно связана со всеми прочими, Хью различал и собственную историю: его дед так запутал дело с преемником по линии О’Нилов, что Шейн, дядя Хью, поднял мятеж и убил своего единокровного брата Мэтью, который был внебрачным сыном Конна и отцом самого Хью. И вот теперь Шейн называл себя главным О’Нилом, и считал весь Ольстер своим, и без зазрения совести разорял земли своих кузенов – да не в одиночку, а со своими шестью сыновьями, лютыми, как звери. Но Шейн был узурпатором, а настоящим наследником считался он, юный Хью. Иногда все это виделось ему четко, словно узор оголенных ветвей на фоне зимнего неба; иногда – нет. Англичане… с ними было что-то непонятное. Они туманили взгляд, как соринка в глазу.
Вот Турлох Линьях аж захлебывается от восторга:
– И тут приходят сэр Генри Сидней и вся его рать! И что же Шейн? Может он устоять против Сиднея? Да ни в жисть! Все, что он еще может, – это бежать! Сигануть в Блэкуотер и плыть, спасая свою шкуру, вот так-то![19] Выпьем же за здоровье лорда-наместника, ибо истинному наследнику Конна он – добрый друг!
А вот брегон, законник:
– Чего они хотят? Да всего-то самую малость: преклони колени перед королевой и отдай свои земли. Она их будто бы заберет, а взамен даст тебе графский титул – и тут же все твои земли вернет обратно. Surrender and regrant[20], – добавляет он по-английски. – И ты теперь ее уррах[21], хотя на деле все осталось по-старому…»
– И они дают клятву помогать тебе против твоих врагов, – говорит Турлох.
– Нет, – возражает другой, – это ты даешь такую клятву. И тут уж придется помогать им, хочешь не хочешь. Даже против собственного родича или клятвенника, коли они на него взъелись. Прав был Конн: дураком надо быть, чтобы им довериться.
– Граф Десмонд доверился, а теперь сидит в лондонской тюрьме.
– Граф Десмонд – ихнего племени. Нормандец он, не из О’Нилов.
– Fubún[22], – произносит слепой поэт О’Махон тихим, тонким голосом, от которого смолкают, как по команде.
– Fubún – на серые ружья чужаков.
– Fubún – на золотые цепи.
– Fubún – на придворную речь англичан.
– Fubún – на идущих против сына Марии.
Хью слушает, вертит головой, заглядывает в лица О’Нилам. Проклятие поэта очень сильное, и ему страшно. Он чувствует, что оказался в центре внимания, и не понимает, почему.

– Пять королевств в Ирландии, – сказал поэт О’Махон. – По одному – на каждую из пяти сторон. Когда-то в каждом королевстве были свой король, и двор, и королевский замок с белоснежными башнями. Крепкие стены копий, молодое, веселое войско.
– Тогда и верховный король был, – подхватил Хью, сидевший у ног О’Махона в траве, все еще зеленой, несмотря на канун Всех Святых.
С холма, где они сидели, виднелось вдалеке Большое озеро; в закатном свете серебро вод угасало, и на смену ему разгоралось золото. Кочующие стада – богатство Ольстера – брели через холмы и долины. Все это была земля О’Нилов – испокон веков.
– И впрямь, – сказал О’Махон. – Был когда-то верховный король. И будет снова.
Ветер взъерошил белые волосы поэта. О’Махон не видел своего кузена Хью, но мог видеть ветер – так он сам говорил.
– Ну так вот, кузен, – продолжал он. – Подумай только, как прекрасно устроен мир. Каждое королевство Ирландии славится чем-то своим: Коннахт, что на западе, – своей ученостью и магией, книгами, анналами и обителями святых. Ольстер, что на севере… – поэт простер руку над землей, что оставалась для него незримой, – своей отвагой, воинами и сражениями. Лейнстер, что на востоке, – гостеприимством, открытыми дверьми, пирами и котлами, что никогда не скудеют. Мунстер, что на юге, – своими трудами, крестьянами да пахарями, ткачами да скотогонами; славится он рождением и смертью.
Хью глядел в дальнюю даль, куда, петляя, убегала река и где понемногу сгущались тучи.
– А какое из них самое главное? – спросил он.
– Хм… – О’Махон сделал вид, будто задумался над вопросом. – А ты как думаешь, какое?
– Ольстер, – сказал Хью О’Нил из Ольстера. – Потому что у нас воины. Кухулин был из Ольстера, а он побивал всех, кого хошь.
– А-а.
– Мудрость и магия – это, конечно, хорошо, – снизошел Хью. – Щедрость – тоже хорошо. Но воины могут побить кого угодно.
О’Махон кивнул невпопад и заявил:
– Главное королевство – это Мунстер.
Хью не нашелся, что на это сказать. Рука О’Махона потянулась к нему, нащупала его плечо. Хью понял, что поэт сейчас все объяснит.
– В каждом королевстве, – начал он, – и в северном, и в южном, и в восточном, и в западном, тоже есть свой север и юг, свой восток и запад. Верно я говорю?
– Да, – сказал Хью.
Он даже мог показать, где что: слева, справа, впереди, позади. Ольстер – на севере, но в Ольстере тоже есть свой север, север севера; это там, где правит его злой дядя Шейн. А там, на этом севере, на севере Шейна, тоже есть свой север, и свой юг, и восток, и запад. И, опять же…
– Слушай меня, – сказал О’Махон. – В каждое королевство с запада приходит мудрость – знание о том, как устроен этот мир и как он таким стал. С севера приходит храбрость – чтобы защищать этот мир от всего, что может его погубить. С востока приходит щедрость – чтобы воздавать по заслугам мудрецам и храбрецам, чтобы вознаграждать королей, хранящих этот мир. Но прежде всего, о чем я сказал, должен быть сам этот мир: мир, который можно познавать, защищать, восхвалять и хранить. И этот мир приходит из Мунстера.
– О-о, – протянул Хью, ничегошеньки не понимая. – Но ты сказал, королевств было пять.
– Сказал. И все так говорят.
– Коннахт, Ольстер, Лейнстер, Мунстер. А пятое королевство – это какое?
– Ну же, кузен! Скажи мне, какое?
– Мид! – догадался Хью. – Там, где Тара! Где короновали королей!
– Славная это страна. Не север, не юг, не восток и не запад. Но она – в середине всего.
Больше он ничего не добавил, но Хью почувствовал, что это еще не все.
– Ну а где ж ей еще быть? – спросил он.
О’Махон лишь улыбнулся. Интересно, подумал Хью: он слепой, так откуда ему знать, что он улыбается и что другие это видят? По спине его пробежал странный холодок – верно, потому, что солнце уже почти село.
– Хотя, может статься, она где-то совсем далеко, – пробормотал он.
– Может статься, – откликнулся О’Махон. – Быть может, совсем далеко, а может, и близко. – Он снова умолк, пожевал губами и вдруг спросил: – Скажи-ка мне вот что, кузен: где центр всего мира?
То была старая загадка, и даже Хью в свои нежные годы знал на нее ответ – от брегона его дяди Фелима. В мире – пять сторон; четыре из них – север и юг, восток и запад, но какая же пятая? Он знал, как назвать ее, но именно сейчас, сидя в зарослях папоротника, скрестив голые ноги и глядя на высившуюся поодаль башню Данганнона, почему-то не хотел отвечать.

На Пасхальной неделе из серебристой утренней дымки на юго-востоке соткался медленно приближавшийся отряд конных и пеших. Даже если бы Хью, смотревший с башни, не заметил красного с золотом знамени лорда-наместника Ирландии, когда оно заплескалось на внезапно налетевшем сыром ветру, он все равно бы понял, что это англичане, а не ирландцы. Они двигались четким темным крестом и слаженно, как одно целое: за передовыми, в центре, – знаменосец; там же – лорд-наместник верхом на коне; по бокам от него – пешая охрана с длинными ружьями на плечах. В арьергарде тащилась повозка, запряженная волами.
Хью слез с башни, выкрикивая новости на ходу, но гостей и без него заметили. Фелим, О’Хейган и Турлох собирались выехать им навстречу и уже седлали коней на дворе. Хью крикнул конюхам, чтобы привели его пони.
– Ты не поедешь, – сказал Фелим, натягивая перчатки из английской кожи.
– Поеду! – возразил Хью и поторопил мальчишку-конюха: – Давай, шевелись!
Конь Фелима вдруг затряс головой и заплясал; сердито дергая за узду, Фелим попытался призвать Хью к порядку. Разрываясь между двумя строптивцами, он побагровел от натуги, а Хью уже вскочил на пони и рассмеялся, понимая, что ничего Фелим ему не сделает. До сих пор Турлох лишь молча смотрел, но теперь поднял руку, призывая Фелима умолкнуть, и притянул Хью к себе.
– Какая разница, сейчас они его увидят или потом? – сказал он и с какой-то странной нежностью потрепал Хью по голове.

Два отряда, английский и ирландский, встали друг против друга по берегам заболоченного ручья. Глашатаи сошлись посередине и обменялись торжественными приветствиями. Затем лорд-наместник, являя снисхождение, выехал вперед в сопровождении одного лишь знаменосца, разбрызгивая воду из-под копыт и помахивая Турлоху рукой в перчатке. Турлох двинулся ему навстречу. Они встретились на полпути; Турлох соскочил с седла и пожал лорду-наместнику руку, взявши его коня под уздцы.
Наблюдая за всеми этими церемониями, Хью поостыл и перестал рваться вперед. Он повернул своего пони и спрятался за всхрапывающим жеребцом Фелима. Сэр Генри Сидней оказался огромен: его рот, полный белых зубов, зиял просветом в черной бороде, доходившей почти до глаз – маленьких и тоже черных; на фоне мощных ляжек, обтянутых узкими штанами и голенищами высоких сапог, тонкий меч, свисавший с пояса, выглядел детской игрушкой. Необъятная грудь, закованная в кирасу, круглилась винным бочонком; Хью не знал, что по тогдашней моде брюхо нагрудника не прилегало вплотную к тулову, и решил, что в животе лорда-наместника он мог бы поместиться целиком. Сэр Генри поднял руку в рукаве такого сложного кроя, таком пышном и сборчатом, какого Хью отродясь не видывал; отряд у него за спиной пришел в движение, и в этот же самый миг сверкающие глаза лорда-наместника отыскали Хью.
Годы спустя Хью О’Нил пришел к выводу, что у него внутри – что-то вроде сундука с сокровищами, где некоторые мгновения его жизни хранятся в первозданной целости. Какие-то из них были грандиозны, другие – ужасны, третьи – до странности заурядны, но все оставались нетронутыми и совершенными, как и все сопутствующие им впечатления и чувства. И одним из самых ранних сокровищ в этом сундуке был тот самый миг, когда дядя Турлох подвел к нему коня лорда-наместника, а лорд наклонился с седла, ухватил Хью за руку – тонкую, словно прутик, и как только она не переломилась в этих могучих пальцах! – и заговорил с ним по-английски. Сохранилось все: и огромная хохочущая голова, и звяканье сбруи, и резкий запах свежих конских яблок, и даже влажный блеск росы, покрывавшей серебряный нагрудник сэра Генри. Во сне или наяву и в Лондоне, и в Риме этот миг, этот среброзеленый опал, временами выходил наружу и показывался ему, заставляя дивиться снова и снова.

Переговоры о том, чтобы сэр Генри забрал Хью О’Нила в Англию под свою опеку, тянулись несколько дней. Брегон О’Нилов, законодатель и знаток законов, переводил слова сэра Генри тем, кто не знал по-английски, а сэр Генри был терпелив и осторожен. Ему хватило терпения выслушать бесконечную историю обид, которые понесли данганнонские О’Нилы от Шейна. И хватило осторожности не брать на себя больше, чем он уже пообещал прямо: что он, Генри Сидней, будет добрым другом барону Данганнону, как он величал Хью. Но в то же время он намекал, что из этого могут выйти немалые почести и, самое главное, – титул графа Тирона, который после смерти Конна так и остался ждать, кому королева его подарит.
А сам лорд-наместник подарил Хью ножик в ножнах, с рукоятью слоновой кости, украшенной маленьким изумрудом необычного оттенка, и сказал, что самоцвет этот взяли с боем с испанского корабля, везшего сокровища из Перу, и случилось это по ту сторону света. Хью не допускали к переговорам; он сидел с женщинами, вертя ножик в руках и гадая, что это может значить: «по ту сторону света». Когда до него начало доходить, что он и впрямь отправится в Англию с сэром Генри, он стал застенчив и молчалив – не смел даже спросить, каково ему там придется. Он пытался представить себе Англию, но на ум приходила лишь необъятная каменная громада вроде собора в Арме, бог весть сколько раз помноженного сам на себя, – место, где никогда не светит солнце.
Заметив за ужином, что Хью торчит в дверях и подглядывает, сэр Генри поднял кубок и крикнул ему:
– Заходи, мой юный лорд! Ирландцы заулыбались и даже посмеялись, услышав такой комплимент, но Хью едва знал английский и не был уверен, что смеются не над ним. Кто-то подтолкнул его вперед, но Хью увернулся, желая идти сам. Он выпрямился во весь рост, положил руку на рукоять ножичка, висевшего на поясе, храбро прошествовал через зал и приблизился к сэру Генри, человеку-горе.
– Ну, мой лорд, поедешь со мной в Англию?
– Да, если дядья велят мне ехать.
– Так они и велят. Ты увидишь королеву.
На это Хью ничего не ответил: чтобы представить себе королеву, ему не хватало воображения. Рука сэра Генри легла ему на плечо каменной глыбой. – У меня есть сын, твой ровесник. Или нет, чуть помладше. Его зовут Филип[23].
– Фелим?
– Филип. Это английское имя. Ну что ж, раз ты не против, так не будем зря время тянуть. Завтра поутру и поедем! Сэр Генри с улыбкой обвел взглядом зал. На самом деле он дразнил Хью; все и так уже было сговорено на завтра.
– Завтра – слишком рано!
– Хью, попытался сказать это веским басом, как дядя Турлох, но ничего не вышло – зато ему вдруг стало очень страшно. Услышав смех за спиной, он резко обернулся – кто это над ним потешается? Стыд оказался куда как сильнее страха.
– Если ваша светлость того желает, значит, поедем! Завтра! В Англию!
Зал одобрительно загудел, а сэр Генри только кивнул в ответ – медленно, по-бычьи.
Хью поклонился, повернулся и сумел дойти до двери, не поддавшись порыву бежать со всех ног. Но, выйдя из зала, он тотчас бросился бегом вон из замка, по раскисшей дорожке между надворных построек, мимо О’Хейганов, скучающих в дозоре, и за стену, на волю, в серые вечерние поля, укрытые лениво колышущимися завесами тумана. Не сбавляя шагу, он промчался по утоптанной тропке среди мокрой травы, вверх по длинному пологому склону между Данганноном и высившимися поодаль древними курганами. И вот впереди показался дуб, разбитый молнией еще в незапамятные времена, – словно огромная напрягшая мышцы черная рука с узловатыми, скрюченными пальцами. Под этим дубом, едва заметные в траве, были выложены ровным квадратом старые замшелые камни, отмечавшие место, где когда-то стояла келья монаха; стены и крыша давно исчезли, и только на месте погреба остался неглубокий бугристый провал. Именно здесь Хью впервые убил кролика, почти случайно. Он тогда и не думал охотиться – хотел просто посидеть на камне, держа на коленях рогатину, запрокинув лицо к заходящему солнцу и ни о чем не думая. А когда он наконец открыл глаза, солнца уже не было. Небо сверкало звездами, кругом было темным-темно, а прямо перед ним, рукой подать, стоял кролик. С тех пор Хью считал, что это его счастливое место, хотя прийти туда ночью, пожалуй, не рискнул бы; но сейчас ноги сами принесли его к этому дубу – прежде чем он успел решиться, так быстро, что в ушах еще звенели голоса и смех из большого зала, а перед глазами словно мелькали знакомые лица. Уже почти добежав, он вдруг заметил, что на старых камнях кто-то сидит.
– Кто здесь? – спросил человек, не повернув головы, как сделал бы на его месте всякий. – Это ты, Хью О’Нил?
– Ага, – сказал Хью, удивляясь, как это слепому О’Махону почти всегда удается угадать, кто к нему подходит. Рядом, растянувшись на земле и пристроив голову на локоть, спал парнишка из О’Хейганов, приставленный к нему поводырем.
– Ну так иди сюда, Хью. – Все так же, не оборачиваясь (и от этого Хью стало как-то не по себе, хотя он и понимал, что слепцу оно незачем), О’Махон похлопал по соседнему камню. – Садись. Э, да у тебе при себе железо, кузен!
– Ну да, нож.
– Сними его, а? И убери подальше.
Хью снял ножик с пояса и воткнул его в шершавый пень, торчавший из земли в нескольких шагах от камня: поэт говорил мягко, но так, что и в голову бы не пришло возразить или ослушаться.
– Завтра, – сказал О’Махон, когда Хью снова уселся рядом, – ты едешь в Англию.
– Да.
Признаваться в этом здесь почему-то казалось стыдным, хотя все было решено за него. Неприятно было даже услышать, как поэт произнес это слово, «Англия».
– Тогда очень хорошо, что ты пришел сюда. Потому что есть… кое-кто есть, кто желает с тобой попрощаться. И дать тебе заповедь. И обещание.
Поэт не улыбался; светлая, реденькая, почти прозрачная бородка не скрывала выражения его лица – спокойного и сосредоточенного. Его белесые глаза, словно налитые молоком и водой, казались не столько незрячими, сколько ненужными – как будто О’Махон, подобно младенцу, просто не находил им применения.
– У тебя за спиной, – произнес он, и Хью быстро обернулся, – на месте старой кельи, где когда-то был погреб, кое-кто живет. Он сейчас выйдет, только тебе с ним говорить не след.
Было слишком темно, и Хью не мог разглядеть, что там есть, но ему почудилось, что просевшая бугристая земля на месте погреба тихонько шевелится. Любой бугорок мог на деле оказаться этим… кое-кем.
– А вон оттуда, из рата, – О’Махон вслепую, но совершенно точно указал рукой в сторону широко раскинувшегося древнего кургана, вздымавшего, точно кит, горбатую черную спину над белыми отмелями тумана, – сейчас выйдет некий князь, но и с ним тебе говорить не надо.
Сердце Хью отчаянно забилось и сжалось в крохотный, твердый комок. Он попытался спросить: «Ши?» – но так и не смог это выговорить. Он завертел головой, переводя взгляд с провала в земле на курган и обратно – и вдруг увидел, что один из бугорков, темнее прочих, уже отрастил руки и не спеша, терпеливо и упорно, принялся выкапываться из земли. И тут же откуда-то спереди донесся шум, словно топот огромного зверя, и Хью, резко повернувшись, увидел, что от темной, бесформенной глыбы кургана отделилось и уже летит к нему нечто странное: то ли гигантский плащ, раздуваемый ветром, то ли лодка под черным полощущимся парусом, то ли конь под черным чепраком, мчащий во весь опор. Волосы на загривке у Хью встали дыбом. За спиной раздался новый звук и, обернувшись, Хью увидел толстенького черного человечка: тот уже полностью выкопался и теперь, мрачно тараща на него горящие глаза (кроме них, на лице ничего было не разглядеть), ковылял в его сторону. Жилистыми руками, похожими на корешки, человечек прижимал к груди черный ларец и пошатывался, едва не падая под его тяжестью.
Внезапно ухнула сова, совсем рядом; Хью обернулся и увидел ее – белоснежную, величавую, бесшумно скользящую в ночи, – а за нею следовал Князь, но Хью до сих пор не мог рассмотреть толком ни его, ни коня, на котором он ехал. Было видно только, что они огромны и, быть может, составляют одно целое; впрочем, он разглядел серые руки – должно быть, держащие поводья, – и золотой обруч, сверкавший там, где полагалось находиться лбу. Белая сова пронеслась над головой Хью, едва его не задев, и с одним плавным, беззвучным взмахом крыльев опустилась на ветку расколотого дуба.
За спиной что-то грохотнуло: это черный человечек наконец поставил на землю свой ларец. Зыркнув горящими глазами на Князя, он медленно, с каким-то воинственным упрямством покачал головой. Хью только теперь заметил, что в его непомерно огромной шляпе, похожей на густой, спутанный пучок травы, покачивается белое перо, изящное и нежное, как снежинка. О’Махон все так же невозмутимо сидел рядом с Хью, сложив руки на коленях; но затем поднял голову, ибо Князь обнажил меч.
Меч этот был как яркая полоса лунного света, зажатая в невидимой руке, – без рукояти, без острия, но все же меч. И Князь, державший его, был в ярости: он повелительно направил этот меч на земляного человечка, а тот испустил скрипучий визг – так трутся друг о друга ветви, терзаемые ураганом, – и топнул ногой; но, как он ни противился, руки его словно сами собой потянулись к крышке ларца и распахнули ее настежь. Хью не увидел внутри ничего, кроме бездонный тьмы. Человечек запустил туда руку по плечо и что-то извлек, а затем, с величайшей неохотой, подошел – ни на волос не ближе необходимого – и протянул свою добычу Хью.
Хью взял ее; она была убийственно холодная. Снова раздался звук – будто хлопнула тяжелая пола плаща, но, когда Хью обернулся, Князь уже отступал, вбирая исполинскую тучу своей грозовой силы и словно бы растворяясь в темном воздухе. Сова поплыла за ним. Уже почти скрывшись из виду, она обронила белое перо; перо закружилось на ветру, медленно опускаясь к ногам Хью.
За спиной у него бугорок земли сердито сверкнул горящими глазами и погас.
Впереди, над полями, бурая сова метнулась за мышью и снова взмыла высоко над серебристыми травами.
В одной руке Хью держал грубо обточенный кремень, уже согревшийся от тепла его тела, а в другой – белое совиное перо.
– Кремень – это заповедь, – сообщил О’Махон, как будто и не случилось ничего необычного. – А перо – обещание.
– А что значит эта заповедь?
– Не знаю.
Они посидели молча. Между подолом туч, опушенным белым туманом, и серыми верхушками восточных холмов показалась Луна, янтарная, как старый виски. – Я когда-нибудь вернусь? – спросил Хью, хотя говорить было больно: в горле словно камень застрял.
– Да, – сказал О’Махон и поднялся.
Хью ударило в дрожь. Спавший все это время паренек из О’Хейганов вдруг подскочил, будто ему что приснилось, и завертел головой в поисках слепого поэта, а О’Махон взял Хью за руку и, палкой нащупывая перед собой, куда ставить ногу, двинулся к замку. Сэр Генри пришел бы в ужас, если бы прознал, как поздно Хью вернулся этой ночью под крышу: всем известно, что ночной воздух очень опасен для здоровья, особенно здесь, в Ирландии. – Ну, прощай, кузен, – сказал Хью, остановившись у ворот замка.
– Прощай, Хью О’Нил, – улыбнулся О’Махон. – Если в Англии тебе дадут бархатную шляпу, белое перо к ней подойдет в самый раз.

В своих депешах Тайному совету в Лондоне сэр Генри Сидней предельно ясно изложил причины, по которым он взял Хью О’Нила под опеку, – хотя ирландцам этих причин знать не следовало. Само собой, во всяком соперничестве между наследниками ирландских родов Англия всегда стремилась поддержать слабейшего, чтобы ни один из ее тамошних подданных не набрал слишком много силы. Но это было еще не все. Если взять молодого ирландского лорда из гнезда достаточно рано, как не оперившегося еще соколенка, то, полагал сэр Генри, впоследствии он куда охотнее станет садиться на английскую перчатку. Иными словами, он привез Хью в Англию, как детеныша дикого зверя привозят в светлый и благоустроенный зверинец – чтобы легче было его приручить.
Именно поэтому и, невзирая на сомнения, обуревавшие его супругу, сэр Генри приставил Хью О’Нила компаньоном к своему сыну Филипу и по той же самой причине попросил своего шурина, графа Лестера[24], присмотреть за Хью при дворе. «Мальчик привык довольствоваться малым, – написал он Лестеру, – и будет благодарен за малейшее проявление дружбы». Граф Лестер в беседе с Ее Величеством ввернул удачное сравнение, уподобив своего нового ирландского подопечного черенку вроде тех, что садовники графа прививали на плодовые деревья: мол, при должной заботе и плотной подвязке выносливая ирландская яблоня обретет английские корни, хоть и росла прежде на ирландской почве и, когда это случится, отделить ее от них станет уже невозможно.
– Тогда молитесь, сэр, – ответствовала королева с улыбкой, – чтобы она принесла добрые плоды.
– Под надзором доброго садовника, мадам, – заверил ее Лестер, – она даст плоды, достойные стола Вашего Величества.
С этим он и представил ей мальчика – десяти лет от роду, с великолепными густо-рыжими кудрями, почти под цвет сафьяновой обложки молитвенника, который королева держала в левой руке. Бледное лицо и курносый нос мальчика были совершенно ирландскими, а глаза – точно два изумруда. Королева обожала две вещи: рыжие волосы и драгоценные камни. Она протянула длинную унизанную перстнями руку и потрепала Хью по голове. – Наш ирландский кузен, – молвила она.
Исполнив требования этикета, в которых его тщательно наставил граф Лестер, Хью больше не смел поднять на королеву глаза, опушенные рыжими ресницами. Пока королева и граф переговаривались через его голову на изысканном и пока еще слишком сложном для него южном английском, он рассматривал платье Ее Величества. Или даже несколько платьев, которые она, похоже, носила одно поверх другого. Она была словно какая-то сказочная крепость, окруженная валами и кольцами стен, в которых то там, то сям зияли проломы и ходы подкопов: сквозь проемы и разрезы верхнего платья виднелось еще одно, в нем были свои разрезы, а за ними – еще одно, и сквозь него проглядывала шнуровка четвертого. Внешняя стена была вся усыпана самоцветами, сверкала крохотными зернами жемчуга, точно капельками росы, и сплошь была изукрашена и расшита узорами – виноградными лозами, листьями, цветами. Широкий распах верхней юбки открывал нижнюю; на ней резвились разные морские чудища: гиппокампы, встающие на дыбы, левиафаны, чьи зубастые пасти были точь-в-точь как решетки крепостных ворот. А по отворотам верхнего платья, выставлявшим напоказ изнанку, были разбросаны сотни глаз и ушей – казалось, они живут собственной жизнью, не нуждаясь в теле. Хью готов был поверить, что этими глазами и ушами королева может смотреть и слушать: пока он разглядывал ее одежду, одежда разглядывала его. Наконец он все-таки решился и украдкой взглянул на ее набеленное лицо, обрамленное жесткими кружевами, и на волосы, убранные в серебряную с жемчугом сетку.
Тут-то он и понял, что сила королевы – в ее платье. Она была закована в это платье той же магией, что когда-то заковала детей Лира в лебединые тела[25]. Стоило ей шевельнуться, как стройные, гибкие, длинноногие придворные, все как один с подвязками и узкими английскими мечами, тоже трогались с мест, и все ходили вокруг нее кругами и волнами, словно в танце. Больше Ее Величество не сказала Хью ни слова, но перед тем, как покинуть свои покои, на мгновение задержала на «ирландском кузене» свой цепкий, птичий взгляд; зашуршав юбками, фрейлины потянулись к выходу следом за нею, точно шлейф палой листвы. Позже граф поведал Хью, что таких платьев с огромными юбками у королевы не меньше тысячи, одно другого роскошней.
Комнатушку, в которой сидели лорд Берли[26], главный советник королевы, и доктор Джон Ди[27], ее придворный астролог и врач, отделяла от покоев ширма. Ширму украшала изысканная резьба – нимфы и сатиры, виноградные гроздья, причудливые геральдические фигуры, покрытые сусальным золотом. А еще в этой ширме имелись дырочки, сквозь которые можно было наблюдать и слушать.
– Этот мальчишка, – негромко сказал Берли. – Рыжий.
– Да, – отозвался доктор Ди. – Ирландский мальчик.
– Сэр Генри Сидней взял его под опеку. Привез сюда, чтобы приучить ко всему английскому. И он не один такой. Ее Величество милосердна: она полагает, что сможет завоевать их любовь и преданность. Они усваивают приличия и манеры, а потом уезжают обратно к себе на остров и возвращаются к своим дикарским обычаям. Я не вижу способа, как удержать их в подчинении, пока они сидят там по своим крепостям.
– Пока не могу сказать наверняка, – сказал доктор Ди, поглаживая окладистую бороду, – но, быть может, способы есть.
– Doctissime vir[28], – произнес Берли. – Если и впрямь такие способы есть, давайте же их используем.
Обсидиан
Дороги и крыши домов уже присыпал легкий снежок, когда Хью О’Нил и Филип Сидней, сын сэра Генри, выехали из Пенсхерста, кентского дома Сиднеев, с визитом к Джону Ди в Мортлейк. Можно было трястись в повозке под балдахином, набитой подушками и пледами, но мальчики предпочитали ехать верхом вместе со слугами, пока мороз не пробрал их до костей сквозь тонкие перчатки и узкие штаны. Хью, который теперь относился к вопросам гардероба очень внимательно, не сказал бы, что английская одежда так уж плохо спасает от холода даже в сравнении с меховым уотерфордским[29] плащом, но он все равно постоянно мерз и чувствовал себя будто голым во всех этих бриджах и коротких плащиках.
Филип, растирая руки и поджимая тощие ягодицы в синих штанах, спешился и бросил поводья слуге. Хью забрался в повозку следом за ним; поскорее задернув занавеси, они свернулись калачиком под пледами и прижались друг к другу, стараясь согреться. Оба дрожали, и обоих от этого разбирал смех. Мальчики поговорили о докторе, как они называли между собой Джона Ди; Филип уже учился у него латыни, греческому и математике, а Хью, хоть и был на два года старше, еще не брал уроков, хотя ему и обещали, что образование он получит. Потом разговор перешел на более увлекательные темы: чем они, Филип и Хью, будут заниматься, когда вырастут и станут рыцарями? Уже не в первый раз мальчики воображали себя героями легенд о короле Артуре, о Ги Уорике[30] и так далее. В Пенхерсте они частенько садились на пони и выезжали в поля поиграть в героев. Хью порой пытался задвинуть Филипа на вторые роли («Чур я буду странствующим рыцарем, а ты – моим оруженосцем!»), но тот не уступал. Филип Сидней знал легенды назубок, и чуть ли не первым, что он узнал в своей жизни, было простое правило: сын ирландского вождя не может быть главнее английского рыцаря, даже если это всего лишь игра.
Зато, когда Филип укладывал Хью на лопатки и приставлял к его горлу острие деревянного меча, Хью, извернувшись, вскакивал и испускал боевой клич – и тотчас из леса и с окрестных холмов на подмогу ему устремлялись чудесные союзники, разносившие в пух и прах всю Филипову рать – обычных жалких людишек. А в другой раз Хью мог показать пальцем на пролетавшую мимо ворону и заявить, что это не ворона вовсе, а великая королева, которой он когда-то очень помог; теперь он ухватит ее за лапы, и она унесет его далеко-далеко, к большому старому дубу, а дуб раскроется и спрячет его в своем волшебном нутре.
«Так нечестно!» – обижался Филип. Все эти нежданные помощники, которых Хью вызывал песнями на своем грубом, немузыкальном и непонятном наречии, – они были против правил. Ведь по правилам добрый рыцарь всегда должен побеждать злого, разве нет? И потом, отчего они всегда помогают только Хью?
– Оттого, что мой клан когда-то оказал им большую услугу, – сидя в тряской повозке, объяснил Филипу Хью. К этому вопросу они возвращались снова и снова, потому что ни один ответ Филипа не устраивал. – Давай играть, будто это был мой клан.
– У Ги Уорика никакого клана не было.
– А теперь будем играть, будто было.
– И вообще, в Англии нету… волшебного народа.
Хью теперь осторожничал, выбирая название, которое точно не повредит.
– Еще и как есть!
– Нет, нету, да и будь они тут, как бы ты их позвал? Думаешь, они понимают по-английски хоть слово?
– Я буду призывать их на латыни! Veni, venite, spiritus syl-vani, dives fluminarum…[31]
Хью захохотал и пихнул Филипа ногой под пледом. Латынь! Во дает!
Однажды они пристали с этим вопросом к самому умному человеку, которого знали (умнее был только доктор Ди, но к нему приставать было боязно), – к пенсхерстскому егерю Баклю.
– Раньше эльфы и тут водились, – сказал он. Его огромные скрюченные ручищи мерно возили по точильному камню длинный нож – туда и обратно, туда и обратно. – Но то было еще до короля Гарри, а я тогда был мальцом и твердил Авемарию[32].
– Слыхал? – обрадовался Филип.
– То было раньше, – сказал Хью.
– Бабка моя их видела, – продолжал Бакль. – Видела, как один такой вцепился в вымя козе, да и высосал насухо. Бабка пришла подоить, а молока-то – ни капли. Да нынче уж другие времена, и теперь их нету.
Бакль еще разок провел ножом туда-сюда и проверил лезвие подушечкой большого пальца, мозолистой и темной.
– А куда они подевались? – спросил Филип.
– Ушли, – сказал Бакль. – Туда же, куда ушли монахи, и месса, и святая кровь Хейлса[33].
– Ну и куда? – не унимался Хью.
Бакль улыбнулся, и глубокие морщины и складки на его лице сложились в новый узор.
– Нет уж, это ты мне скажи, барчонок: если ты растопыришь пальцы, куда денется горсть?

Джейн, жена доктора Ди, дала мальчикам горячего молока с элем, чтобы согреться, а пока они пили, доктор предложил на выбор или почитать любую книгу из его библиотеки, какую угодно, или поработать с математическими инструментами и рассмотреть географические карты, которые он уже расстелил на столе, придавив циркулем и наугольником. Филип выбрал книгу (какой-то роман в стихах, над которым доктор Ди только фыркнул), уютно устроился на подушках, прочитал пару страниц и уснул, как выразилась миссис Ди, точно мышка в ватном гнездышке. А Хью склонился над картами вместе с доктором, глаза которого казались странно огромными за стеклами круглых очков, а длинная белая борода чуть ли не мела по столу.
Первым делом Хью предстояло узнать, что на картах мир показан не таким, каким видит его человек, ходящий на земле, а сверху, как его видит высоко летящая птица. Очень-очень высоко! доктор Ди показал ему, сколько места занимает на карте Англии весь путь от Пенсхерста до Мортлейка – не больше сустава большого пальца! А потом и вся Англия с Ирландией стали крохотными и неважными, потому что доктор Ди раскатал перед ним карту всего огромного мира. Впрочем, нет – всего лишь полумира: мир, объяснил он мальчику, – круглый, как шар, и на карте нарисована только половина. Ну и ну! Шар! Вокруг него, добавил доктор, движутся по-особому, каждая в своей собственной сфере, великие звезды – планеты, подвешенные самим Господом Богом на серединных небесах, – а за ними вращается сфера звезд неподвижных. Оказалось, у мира и в самом деле есть «та сторона».
– Вот это, – продолжал доктор, – за проливом Святого Георга, – остров Ирландия. Отсюда дотуда птица долетит за полдня.
«Дети Лира», – подумал Хью.
– Все эти земли Ирландии, Уэльса и Шотландии, – длинный палец доктора указал на них поочередно, – принадлежат британской короне, нашей августейшей королеве, которой ты поклялся служить.
Он ласково улыбнулся, глядя на Хью сверху вниз.
– И я, – сказал Филип, который между тем проснулся и подошел к ним со спины.
– И ты, – подтвердил доктор и вернулся к картам. – Но смотрите: ей принадлежат не только все эти британские острова. По праву она должна владеть и этими землями к северу, землями датчан и норвежцев, ибо древние их короли – ее предки… хотя притязать на эти владения в наши дни было бы неблагоразумно. И вот эти далекие страны, за морем-океаном…
Он принялся рассказывать им о землях, лежащих далеко к западу, – об Эстотиланде и Грюнланде, об Атлантиде[34]. Он говорил о короле Малго[35] и короле Артуре, о лорде Мадоке[36] и святом Брендане Великом[37], о Себастьяно Кабото и Джованни Кабото, достигших берегов Атлантиды и лишь ненамного уступивших[38]первенство Колумбу[39]. Все они, а после них и другие, ступили в свое время на землю Нового Света и объявили, что она принадлежит королям, от которых вела свой род Елизавета; а значит, и на эту землю британская корона имеет полное право. И чтобы принять ее под свою руку, Ее Величество не обязана просить разрешения у каких-то там испанцев или у португалов.
– Я тоже разыщу новые земли для королевы! – сказал Филип. – И вы поедете со мной, доктор Ди! Будете давать мне советы и направлять. А Хью будет моим оруженосцем!
Хью О’Нил молчал и думал: короли Ирландии не уступали свои земель англичанам. Вовсе не англичане, а совсем другие народы владели ирландской землей испокон веков, и короли у них были свои. Значит, если в Таре будет коронован новый настоящий король, то Ирландия снова станет ирландской.

Настало время возвращаться в Кент. Слышно было, как на дворе слуги уже рассаживаются по седлам, звеня конской сбруей и шпорами.
– Передавай отцу мой сердечный привет и скажи, что я все так же верен долгу, – велел доктор Ди Филипу. – И прими от меня подарок: он будет подавать тебе советы и направлять тебя, когда ты вырастешь и отправишься навстречу приключениям.
Он взял со стола какую-то книжицу без переплета, сшитую суровой ниткой и не печатную, а написанную от руки, изящным почерком доктора. На титульной странице значилось: «Соображения общего и частного рода, относящиеся к совершенному искусству навигации»[40]. Филип принял книгу, и на лице его отразилась смесь почтения и растерянности: он понимал, какая это честь, но пока не видел от нее толку. Потом он сел и начал листать страницы.
– Что до моего нового друга из Гибернии…[41] – промолвил доктор. – Следуй за мной! Далеко идти не пришлось – всего-то до угла той же комнаты, под завязку набитой всякой всячиной. Доктор отодвинул подставку, на которой держался блестящий шар из какого-то светло-коричневого камня, переставил блюдо с самоцветами и воскликнул: «Ага!» Он нашел, что искал, только Хью не сразу разглядел, что это. – Вот мой подарок для тебя, – объявил доктор. – На память об этом дне. Но сперва ты должен кое-что пообещать мне. Поклянись, что будешь носить его на себе постоянно, никогда с ним не расстанешься и никому его не отдашь.
Хью не нашелся с ответом, но доктор продолжал без остановки – так, словно Хью уже все пообещал:
– Это, мой юный барон, вещь особая: другой такой нет во всем мире. А свойства ее откроются тебе сами, когда в них придет нужда.
С этими словами доктор вложил в руку Хью овал из черного стекла – такого черного, какого он сроду не видывал, чернее черного. Такого черного, что больно глазам, – и все же Хью увидел в нем отражение собственного лица: будто столкнулся в темноте с незнакомцем. Овал был оправлен в золото и подвешен на золотой цепочке. На оборотной стороне оправы был выгравирован символ, какого Хью тоже никогда не встречал. Он робко потрогал странный знак пальцем.
– Иероглифическая монада[42], – пояснил доктор Ди.
Взяв обсидиановое зеркальце за тонкую цепочку, он подвесил его на шею мальчику. Снова взглянув на эту блестящую каплю черного стекла, Хью уже не увидел ни собственного отражения, ни чего-либо еще; но зеркало будто обжигало кожу, и даже сердцу сделалось горячо. Он посмотрел на доктора, но тот лишь молча опустил ему подвеску за вырез дублета, с глаз долой.
По возвращении в Пенсхерст Хью уединился, хотя в доме Сиднеев это было непросто: день-деньской прибывали с визитами дамы и господа, приезжали посланники от королевы, сновали слуги, да еще у Филипа была красавица-сестра, которая обожала дразниться. Но наконец он смог расстегнуть рубашку и снова взять в руки подарок доктора. В уборной (где он засел, спрятавшись ото всех) было холодно; в крохотное окошко едва проникал свет. Хью провел пальцами по выпуклой фигуре на обороте – та походила на человечка в короне, но вряд ли ее следовало понимать именно так. Он перевернул медальон. В зеркале вновь показалось лицо, но уже не его собственное. Зеркало словно превратилось в потайной глазок, сквозь который Хью заглядывал в какое-то другое место, – а оттуда на него смотрел кто-то другой. Из глубины черного зеркала на него взирала королева Англии.

Заметки под названием «Об импрегнации зеркал» так и не стали книгой, трактатом или Сочинением в подлинном смысле слова; они не перенесли скитаний, на которые вскоре обрекла Джона Ди переменчивая воля небес. Всего несколько страниц, сложенных ввосьмеро и исписанных корявым почерком, излагали метод, который никто, кроме самого доктора, не смог бы применить на практике, ибо оставались еще кое-какие необходимые компоненты и операции, запечатленные лишь в тайнике его собственной души. Да и сам он вполне преуспел лишь с одним из всех зеркал, с которыми работал. Лишь однажды ему удалось так свести воедино линии времени и пространства, чтобы дух истинного владельца передавался взгляду обладателя.
Первым делом предстояло разрешить парадокс. Владельцем зеркала становился тот, кто посмотрит в него первым, а значит, никому другому нельзя было в него заглядывать. Но как посеребрить стекло, как отшлифовать сталь не глядя? Как отделить создателя от владельца? Джон Ди нашел решение. В самой природе имелись совершенные зеркала, не нуждавшиеся ни в серебрении, ни в шлифовке; нужно лишь отыскать подходящее, извлечь из-под земли и надежно укрыть от глаз прежде, чем нашедший бросит взгляд на его гладкую поверхность. Доктор повидал немало таких осколков с греческих или турецких лавовых полей, где их, по словам Плиния, впервые нашел путешественник по имени Обсий. Свое черное зеркало Джон Ди отыскал сам, на поле не столь обширном, в Шотландии. Ему запомнился холм, продуваемый ветром, и осколки, острые, как ножи; не отрывая глаз от облаков, несущих по небу, он перебирал и ощупывал эти осколки, пока не отыскал поистине безупречный и не спрятал его в карман, так и не взглянув ни разу.
В ладонь королевы он вложил его собственноручно: вытряхнул из лайкового кошелька не глядя, повернул гладкой стороной вверх, поднес к лицу Ее Величества и подержал так долго, как только осмелился, а затем торжественно вручил ей. Елизавету этот осколок изумил, даже ошеломил: она уже не раз видала обсидиан, но подобного этому не держала в руках ни разу. Доктор Ди загодя пробудил дремавшие в нем силы молитвой – и еще кое-какими средствами, которые подсказали ему помощники, чьих имен он не произнес бы здесь, при дворе, ни за что.
Лицо королевы запечатлелось в черном зеркале навсегда. И не только лицо, но сама ее сущность: ее мысли, ее повелительная сила, власть ее присутствия, так хорошо знакомая доктору. Больше всего он боялся, что Елизавета захочет оставить зеркало себе, но этого не случилось. Любезно кивнув, она вернула обсидиан доктору и обратилась к другим делам; она поняла, что это не подарок, но не догадалась, что ему эта вещь больше не принадлежит. Теперь, когда обсидиан вобрал в себя лицо и характер истинной владелицы, с ним стало можно работать; доктор отполировал его, оправил в золото и подарил ирландскому мальчишке – тому единственному, кому предназначалось то, что могла даровать только королева.
Как он и говорил, способы есть.
На исходе месяца доктор Ди добрался до побережья Уэльса. Он стоял на мысу, откуда в ясный день через пролив Святого Георга можно было увидеть берега Ирландии. За холмами дальнего острова садилось солнце: они казались огромными и сияли золотом. Там, в стране заката, Хью О’Нил однажды станет великим вождем; об этом доктору Ди поведали его помощники. Другие вожди, помельче, и главы древних ирландских родов потребуют, чтобы Хью объединил под властью одного короля этот остров, никогда не знавший единства, и выдворил англичан. Но Хью О’Нил – узнает он о том когда-нибудь или нет – теперь сидел на длинном поводке: один конец – вокруг шеи, другой – в руках Ее Величества, хотя она и сама, быть может, никогда об этом не узнает. Одним рывком – одним усилием мысли, воли и желания – королева сможет осадить этого ирландского выскочку. И обратиться к другим делам – ко всему огромному миру, тоже, впрочем, не лишенному опасностей.
И к самому доктору Ди, к его нуждам, к его замыслам.
Он отвернулся от моря. По ветру, на север, плыло одинокое облако, похожее на огромного зверя в потеках крови, но постепенно менявшее очертания.
Серый гусь
Англичанам очень не понравилось, что Шейн О’Нил решил величать себя «внуком Ньяла»[43]. Это не укладывалось в английскую иерархию рыцарей, баронов, лордов, герцогов и маркизов, распределенных по ступеням лестницы, на вершине которой стоял монарх. «Внуком Ньяла», на их взгляд, мог называться лишь вожак клана, варвар и хищник. На руках Шейна О’Нила и впрямь была кровь: его отец Баках, чье имя означало «Калека», предыдущий «внук Ньяла», поссорился с сыном и окончил свои дни в Шейновой темнице. Англичан это не смутило, как и то, что Шейн убил своего брата Мэтью, посмевшего притязать на титул, который он считал своим. Но затем Шейн собрал весь клан на скале в Туллахоге, где в стародавние времена короновались О’Нилы. Там он взял белый посох у О’Хейганов и провозгласил себя «внуком Ньяла», а все его керны и галлогласы[44] на радостях подняли гвалт, колотя мечами в щиты. Все покойные вожди О’Нилов тоже одобрили Шейна: в шуме ветра слышался их шепот, если верить молве.
От того-то англичане и взбеленились: Шейн собрал целую армию, Шейн притязал на власть над всем ирландским островом и утверждал, что его благословили древние боги и все еще не утратившие силы предки-короли.
Новый лорд-наместник Ирландии, преемник сэра Генри Сиднея, хорошо разбирался в том, как устроено общество, взрастившее Шейна, его соперников и союзников. Он повелел Шейну предстать перед ним и дать отчет о своих мятежных замыслах, а буде таковых не имеется, признать безраздельную власть королевы над собой и своими владениями. Шейн не явился на зов и не дал ответа. Началась охота: месяц за месяцем английские капитаны и солдаты пытались поставить Шейна на колени и научить его послушанию и манерам. Но всякий раз он давал им отпор, а Хью, сидя за обедом в доме сэра Генри Сиднея, выслушивал вести об очередной победе своего дяди и по большей части отмалчивался. Когда Шейн наконец сдался, Хью услышал об этом не от сэра Генри, а от Филипа. Тот поведал, как Шейн, больной и измученный бродячей жизнью, решил пойти на сделку: он приедет в Дублин, а оттуда – в Виндзор, где «преклонит колени перед королевой» (на этом месте своего рассказа Филип чуть не лопнул от важности)«и будет молить ее о прощении, и облобызает подол ее платья. И ты при этом будешь, Хью! Ты увидишь это своими глазами!»[45]

Драгоценные камни в ушах, и крохотные камешки, вплетенные в жесткую ткань дублетов, и огромные каменья на пальцах; бесчисленные самоцветы, отражающие самоцветный свет высоких витражных окон… На ступенях, ведущих к трону, и по всей зале выстроились придворные Ее Величества, соблюдая в общих чертах порядок старшинства или королевского фавора; руки в перчатках, левая – по шву, правая – на эфесе шпаги, тоже сверкающей самоцветами. На высоких сиденьях – послы из нескольких стран, каждый при полном параде. Генри Сидней и его сын Филип; а вот и Хью О’Нил – в черных узорчатых шелках, с белым рафом у шеи, в бархатной шляпе, в которую он сам воткнул белое перо. Миг – и все встрепенулись разом, словно ветерок пролетел по зале. Распахиваются створки дверей, гремят фанфары, и герольд со свитком возвещает о прибытии человека, которого англичане не знают, как называть. Именовать его внуком Ньяла язык не повернется, но и графом Тироном (милостью Божьей и королевской) он еще не стал. Наконец додумались представить его как «Великого О’Нила, кузена святого Патрика, друга королевы Елизаветы и врага всем тем, кто не с ней». По залу пробегает ропот – все обсуждают вполголоса этот образчик высочайшего снисхождения, не умолкая и после того, как новоприбывший переступает порог. Судачат только придворные; сама королева безмолвна и неподвижна, как идол.
В просторной шафрановой рубахе, ниспадающей складками, как тога, и в сапогах до бедра, Шейн шагает широко, но медленно, будто во сне, не отрывая глаз от королевы – единственной цели его путешествия. За ним в два ряда вышагивают подручные в старомодных чешуйчатых доспехах от шеи до колен, и каждый торжественно несет перед собой боевой топор в три фута длиною. Все выбриты начисто и налысо, только на глаза свисает длинный клок волос, а одежды на всех – из волчьих шкур.
Так об этом будут вспоминать в грядущие дни; такой рассказ Хью услышит от многих англичан, которые станут утверждать, что были тому свидетелями, что собственной персоной стояли в том самом зале, когда мимо прошествовало это невообразимое видение. Так или иначе, мимо самого Хью оно определенно прошествовало: Шейн не заметил его, да и все равно не узнал бы. Но волчьи шкуры, о которых станут толковать англичане, были обычными меховыми плащами, какие в Ирландии носят все. Вот в таких плащах, к тому же разномастных, и явились ко двору люди Шейна, да еще в шерстяных клетчатых штанах, подвязанных кожаными ремешками. И оружие у каждого было свое, у всех разное. Боевые топоры в три фута длиною! Ха!
Слушая эти россказни, Хью будет улыбаться, кивать и помалкивать.
Приблизившись к трону, Шейн остановился как вкопанный, взвыл во весь голос и рухнул на колени, а затем и вовсе распластался на полу, стукнувшись лбом о камень. Не поднимая головы, он взмолился по-английски о прощении и сразу затараторил по-ирландски, повторяя, что ни в чем не виноват: ни в смерти своего отца, Конна Бакаха, ни в убийстве своего брата Мэтью. И сам он – человек простой и не желает ничего, кроме как жить в покое и служить своей королеве как верный вассал. В зале послышались смешки: никто, кроме Хью, не разбирал, о чем там бубнит этот ирландец. Глядя на дядю, простершегося во весь рост на покрытых ковром ступенях, по которым однажды довелось взойти и ему, он гадал: неужто королева вложит свой образ и в душу Шейна, как поступила она с ним самим? И если он, Хью, когда-нибудь тоже станет внуком Ньяла, придется ли и ему пасть перед нею ниц и в слезах молить о прощении? Уж, верно, придется, коль скоро он всегда должен носить ее при себе!
Чего бы Шейн ни наобещал ее величеству и английским властям в Ирландии, сэр Генри не верил, что он сдержит слово. Не верил он и другим гаэльским пришельцам, их слезам и клятвам. Верил он только в то, что любой из них может в любую минуту ополчиться на другого, как раньше поступал и Шейн, и тем самым избавить английских командиров от лишних потерь. Подавлять мятеж не будет нужды: враждующие кланы сами друг друга перебьют – или, по крайней мере, обескровят настолько, что уже не будут представлять ни малейшей угрозы для англичан.
Точь-в-точь как Батлеры из южной части острова обескровили графа Десмонда. При мысли об этом сэр Генри улыбнулся. Королева со своими советниками уже покидала зал, оставив Шейна на растерзание законникам и судьям. Великий О’Нил! Такая же заноза в английской пятке, какой, быть может, станет с годами и этот мальчишка, Хью, – если только не усвоит урока, который ему сегодня наглядно представили. И еще одного, который последует чуть позже. Положив одну ладонь на плечо сыну, другую – своему подопечному, сэр Генри рассмеялся, а мальчики обернулись посмотреть, что это его так позабавило.
Десмонд!
– Сегодня, ребятки мои, мы нанесем кое-кому визит, – объявил он.

Итак, что же он натворил, этот граф Десмонд?
Хью ни разу не бывал на юге Ирландии, в Мунстере, откуда, по словам поэта О’Махона, начался мир и откуда пришло все на свете, не исключая и саму Смерть. Но он слыхал рассказы о великих южных кланах – Джеральдинах, Берках, Батлерах, – давным-давно пришедших в Ирландию вместе с английским королем. Они изгнали прежних властителей этих земель – великанов-фоморов и сыновей Миля или, быть может, каких-то других врагов, вставших у них на пути. Они начали строить замки, точь-в-точь как в Англии, – четырехугольные, с башнями по углам. Они выезжали на битву в доспехах, верхом на конях, закованных в броню; они брали в жены ирландок и называли себя графьями: граф Десмонд и граф Ормонд, граф Килдар, граф Томонд и граф Кланрикард. Со временем от англичан в них осталось лишь то, что они якобы помнили, да кровь, которой они похвалялись; многие едва могли говорить по-английски и держали секретарей, чтобы те читали и писали документы и представительствовали в английских судах. А когда пришли новые англичане, чтобы забрать их земли и насадить английские законы, эти графья воспротивились.
Хью О’Нил все это знал.
Когда королева покинула зал, Генри Сидней вывел мальчиков к реке через Потайную лестницу. Лодочники наперебой выкрикивали плату за проезд. Над темной водой уже сгустились ранние зимние сумерки; луна куталась в шаль облаков. Сэр Генри сначала усадил в лодку мальчиков, потом забрался сам, изрядно накренив легкое суденышко. «Саутварк, – велел он лодочнику. – Дом Сент-Леджеров, прямо к лестнице».
– Это там держат графа Десмонда, – шепнул Филип на ухо Хью.
Перевозчик, стоявший на носу лодки и длинным своим веслом будто ощупывавший черную воду, оглянулся на них и – бог весть почему – рассмеялся, покачав головой.
С отточенным изяществом лодка подошла вплотную к лестнице у дома Уорема Сент-Леджера[46]. Лодочник подмигнул мальчикам и принял монету от сэра Генри. Слуги с фонарями уже спешили из дома навстречу гостям.
Сэру Генри и сэру Уорему было о чем поговорить: оба они уже не первый год то в одной должности, то в другой вершили волю Ее Величества в Ирландии. Сэр Генри велел сыну присутствовать при беседе – в этом доме многому можно было научиться. Что до Хью, то сэр Уорем пожал ему руку, задал несколько вопросов и велел следовать за вооруженным слугой: мол, уже темно и ему понадобится провожатый. Как пояснил сэр Генри, Хью предстояло познакомиться с великим человеком и, быть может, поговорить с ним на родном языке. «Напомни обо мне его сиятельству», – добавил сэр Генри с волчьей ухмылкой, такой же самой, с какой когда-то приветствовал самого Хью на берегу ручья в Данганноне.
Вышли они через боковую дверь; Хью старался не отставать от слуги с фонарем – высоченного, закованного в доспех, громыхавшего тяжелыми сапогами, куда как лучше подходившими для прогулок по грязи, чем его собственные туфли на тонкой подошве. Миновав свечную лавку, уже закрывшуюся на ночь, и какую-то часовню, черневшую в темноте, они очутились на улице, застроенной тавернами, маленькими и большими, тесными, как хибарки ирландских бедняков, и просторными, как добротные дома. Та, у которой провожатый остановился, была средних размеров. Повесив фонарь на крючок у двери, он тяжело опустился на скамью и пристроил поудобнее свои короткий меч и дубинку.
– Заходите, молодой господин. – Голос у него оказался тихим и неожиданно мягким. – Вы своего узнаете. – Он бросил взгляд на темное, беззвездное небо. – И если не трудно, попросите хозяина, пускай вынесут хоть капелюшечку подогретого хереса, а то холодная нынче ночь.
Хью повернул дверное кольцо, толкнул дверь и вошел. Внутри пылал очаг, горели лампы; стоял шум, хотя посетителей было немного. Когда Хью вошел, все повернулись к нему. В центре, один-одинешенек за столом, сидел человек, который выглядел так, будто он здесь главный. Будто он один был ярко подсвечен, а остальные оставались в темноте. Но Хью заметил, как он изможден и слаб; волосы у него были редкие, тонкие, а глаза казались пустыми. Перед ним стояла бутылка. Хью О’Нил и сам не понимал, как набрался храбрости обратиться к этому человеку; однако же он снял шляпу, поклонился – не слишком низко, но почтительно – и проговорил подобающие приветствия, сперва по-английски, потом по-ирландски. Здравствуйте, милорд Десмонд. Как поживает ваша светлость? Человек, измученный недугом, внимательно посмотрел на Хью и улыбнулся: он тоже знал, кто перед ним стоит.

Поживал его светлость неважно.
В мае позапрошлого года[47], рано утром, неподалеку от брода Аффан на реке Блэкуотер, Джеральд Фицджеральд, граф Десмонд, и его сосед Томас Батлер, граф Ормонд, собрав своих союзников и вассалов, сошлись в бою. Распря между ними длилась много поколений, но этой битве за власть и господство над Мунстером суждено было стать последней.
Именно так граф Десмонд и сказал Хью О’Нилу в саутваркской таверне: «последней».
Батлер со своими приспешниками – О’Кеннеди, Килпатриками и Берками – загнал Десмонда (с его О’Салливанами, Маккарти и Макшихи) прямо в реку и покромсал на куски: в тот день погибло несколько сот Джеральдинов. Пока он, Десмонд, пытался ободрить и сплотить тех немногих, кто еще оставался в строю – так он объяснил Хью, – кто-то выстрелил в него из пистоля и попал в бедро. Десмонд упал с коня и остался лежать в грязи: бедренная кость треснула, так что подняться сам он не мог. «Я знаю, кто в меня стрелял», – сказал он Хью; но с таким же успехом Десмонд – от природы хилый, вечно болевший и неспособный даже сесть на коня без посторонней помощи – мог просто не удержаться в седле[48]. Так или иначе, Батлеры взвалили на плечи своего беспомощного врага, будто оленью тушу, и принялись над ним издеваться: «Ну и где теперь граф Десмонд со всей своей хваленой силой?» А Джеральд ответил (по крайней мере, так он поведал Хью, и при этом воспоминании лицо его перекосилось в жуткой ухмылке): «Там, где ему самое место, – на шее у Батлеров!» Ответил так, будто это он – победитель.
– Самое страшное, что мы совершили, – пояснил Десмонд своему юному собеседнику, – худшее наше преступление в глазах королевы заключалось в том, что и мы, и Батлеры вышли на битву под своими древними знаменами. Казалось бы, что тут такого? Однако же королева считала, да и теперь считает, что Мунстер – это часть Англии. А значит, ни один владетель или воитель в этих краях не вправе поднимать свое знамя или сражаться с другими за свои исконные права и земли. Оттого-то она и призвала к себе в Англию и Батлеров, и нас, Фицджеральдов, чтобы мы перед ней повинились.
Батлеры, торжествовавшие победу, подчинились охотно: главный из них, граф Ормонд по прозванию Черный Том, прибыл в Лондон со своими присными, а Десмонда Фицджеральда принесли на носилках, беспомощного, и положили к ногам королевы. Он был совсем без сил, еще слабее, чем после битвы: за раной никто не ухаживал, грязную одежду, что была на нем в день сражения, никто так и не переменил. О прощении он просил шепотом; королеве пришлось наклониться над ним со своего трона, чтобы расслышать слова.
– Тома Батлера она простила, – продолжал граф свой рассказ. – Потому что в детстве он был ее товарищем по играм, да и потом – кто знает, кем еще. А меня она всегда презирала. Его простили и отпустили домой. А меня бросили в Тауэр как изменника.
Рядом с Десмондом будто ниоткуда возник трактирщик. Забрал пустую бутылку, водрузил на ее место новую, обернутую соломой, и торжественно извлек пробку. Хью передал ему просьбу слуги сэра Уорема и удостоился холодного кивка. Десмонд поднял палец, и трактирщик поставил кубок перед Хью; граф сам наполнил его до краев.
– Впрочем, не только в этом дело, – добавил он, понизив голос. – Том Батлер – протестант и строгих убеждений притом, как ни странно. А я держусь старой веры. Истинной веры. Как и вы, мой юный ольстерский друг.
Это была правда. Все, кто жил к северу от Английского забора[49], держались истинной веры. Но и Хью почувствовал, что воздух в таверне словно сгущается, напряжение растет, сжимает его со всех сторон, словно угря, угодившего в сети, – и он, кажется, понял, почему. Рука его невольно потянулась к груди, где под толстым дублетом прятался подарок доктора.
– Но теперь-то она уже простила вас, милорд? Разрешила жить у сэра Уорема?
– Если это можно назвать жизнью, – проворчал граф Десмонд, осушил свой кубок и снова налил им обоим. – Об одном из моих предков рассказывают, что он влюбился в женщину из иного мира. Застал ее за купанием и влюбился. Только вот он не знал, что она такое. Думал, просто пригожая девица. Он украл у нее плащ, а без плаща она не могла сбежать или сменить обличье. Так он ее и заполучил, а она сказала ему, что, кабы не плащ, не видать бы ему ее как своих ушей. После того она родила ему сына и ушла к себе, в холм Нокайни, а на прощание сказала моему предку: если сын ему хоть немного дорог, то пусть никогда не удивляется, что бы тот ни натворил.
– Это был отец вашего отца? – спросил Хью.
Он отпил глоток вина и почувствовал, как сжимавшая его невидимая сеть ослабла, как сила, давившая на него, отпрянула, словно в страхе.
– О нет, то было куда как раньше, – покачал головой граф. – Давно, очень давно. Но штука вот в чем: сын этот стал великим прыгуном. Однажды на пиру его попросили показать свое искусство. Тут он как прыгнул… – граф взмахнул своей белой рукой, показывая, как было дело, – и прямиком в бутылку, что стояла перед ним столе. А потом таким же манером взял и выпрыгнул обратно.
Десмонд тяжело дышал, и с каждым вдохом его голос звучал все выше и тоньше.
– Но вот в чем штука, – повторил он. – Отец его увидел это и сказал, что и представить себе не мог, будто его сын на такое способен! Одним словом, удивился. И, ясное дело, тут же потерял сына навсегда, как и предупреждала его мать. Сын повернулся и вышел на двор, а все, кто был на пиру, пошли за ним – посмотреть, что он будет делать. Он вышел за ворота и спустился к реке. До тех пор он был человек человеком, но только коснулся ногой воды, как тотчас превратился в серого гуся и уплыл невесть куда. И больше уж не вернулся.
Граф поднял бутылку, словно собираясь налить еще, но передумал и поставил обратно.
– Я не такой хороший прыгун, – сказал он. – Запрыгнуть в бутылку я еще могу. Но вот выскочить обратно – это мне не под силу.
Хью еще раньше приметил двоих, сидевших на скамеечке у огня. Лишь только граф закончил свой рассказ, они вскочили разом, как по сигналу. Казалось, это близнецы или вообще один человек, раздвоившийся каким-то чудом: одинаковые плащи, одинаковые корявые посохи. Ни говоря ни слова, они встали по обе стороны от графа, а тот расставил руки, чтобы его подхватили под мышки. Отработанным движением эти двое вздернули графа на ноги и закутали в зимний плащ, все это время висевший на спинке его стула. Затем, тяжело опираясь на помощников, граф двинулся к выходу – или, точнее сказать, его понесли, а он только делал вид, что переставляет ноги.
Хью поднялся, отступил на шаг и низко склонил голову, но Десмонд потянул мальчика на себя и поднес губы чуть ли не вплотную к уху. «Она всегда меня видит», – прошептал он. Затем пальцы его разжались, и помощники куда-то поволокли его по улице, раскисшей в грязь, – то ли домой, на боковую, то ли в очередной кабак.
Слуга Сент-Леджера встал со скамьи, снял с крючка свой фонарь, горевший уже совсем тускло, и двинулся обратно той же дорогой, а Хью последовал за ним.
Ночевать они остались у сэра Уорема; Хью и Филипу дали одну кровать на двоих. Посреди ночи Хью проснулся и увидел прямо перед собой лицо королевы. Оно висело в темноте светлым пятном, мало-помалу теряя очертания, растворяясь в сияющей пустоте. «Она всегда меня видит». Хью лежал, не шевелясь, между сном и явью, и смотрел в окно – на черную гладь реки, по которой приплыл сюда накануне. Затем вода всколыхнулась и пошла рябью под гребками сильных птичьих лап: к дальнему берегу, где не было ни домов, ни причалов, а только каменная стенка набережной и заросли тростника, плыл серый гусь. Когда до берега оставалось уже немного, гусь взмахнул могучими крыльями и, снявшись прямо с воды, в облаке брызг устремился в ночное небо.
Тир-Оуэн[50]
Прошло семь лет, прежде чем Хью О’Нилу разрешили вернуться в Ольстер. Тихий мальчик вырос и превратился в тихого юношу, основательного и осторожного. За все это время он считаные разы говорил по-ирландски или хотя бы слышал ирландскую речь; он звучала лишь в его памяти. Он еще не стал ни верховным О’Нилом, ни графом Тироном, но не стал и никем другим. Пока они плыли через море, сэр Генри Сидней (по приказу королевы вновь принявший должность лорда-наместника и теперь возвращавшийся в Ирландию) сообщил Хью, что Брайана, его единокровного брата, убили и что убийц наверняка подослал Шейн. Двоюродный дядя Хью, Турлох Линьях, был теперь танистом – вероятным наследником Шейна, и англичане к нему благоволили, хотя какая из того польза выйдет Турлоху, неизвестно, потому что англичане никогда не обещали ничего заранее. Может, только титул без денег, может – богатство и власть, а может, и вовсе пшик. По английской системе пэрства сам Хью был всего лишь бароном Данганноном. И все, чего он хотел для себя, – оставаться под рукой Ее Величества, щедрой и справедливой, простертой так далеко и в то же время держащей его так близко.
На землю Ирландии он снова ступил с английскими солдатами за спиной и с английской подвеской на шее – загадочным устройством, всех возможностей которого он еще не знал. Одетый, точь-в-точь как одевались в том году и в том сезоне все молодые англичане, стремящиеся чего-то добиться в жизни, он въехал в Дублин – и никто не вышел приветствовать его, никто не встретил радостными криками. Кто же был на его стороне, на кого он мог рассчитывать? О’Хейганы – преданные, но бедные. О’Доннелы из Тирконнела, сыновья свирепой шотландки по прозвищу «Темная Дева», Инин Дув, – эти то дружили с О’Нилами, то враждовали, причем не реже. И англичане: само собой, Генри Сидней да еще люди королевы, Берли и Уолсингем, которые пожали Хью руку на прощание и улыбнулись, – наверняка они желали ему добра. Они видели, как Шейн О’Нил пресмыкался перед королевой; они знали отца Шейна, Конна Бакаха О’Нила; они обратили внимание на белое перо, которое Хью всегда носил воткнутым в шляпу. Его покровитель при дворе, граф Лестер, шепнул ему: «Что насчет графского титула? Все еще не решено?» У этих людей Хью научился не только придворной речи: он узнал немало и об их стране, и о своей собственной. И глаза у них были холоднее, чем руки.
Данганнонская крепость стояла на прежнем месте, но многие вожди кланов со своими людьми, когда-то пировавшие и ссорившиеся в ее стенах, рассеялись по всему острову. Одни теперь воевали друг с другом, другие отправились на юг, на помощь потомкам Десмондов, чтобы дать отпор англичанам, занимавшим их земли. Но, услышав, что барон Данганнон снова дома, они стали возвращаться, и с каждым днем их становилось все больше. От женщин, оставшихся в замке, Хью узнал, что его мать умерла под кровом О’Хейганов.
– Плохие времена, – сказал слепой О’Махон, тоже никуда не уехавший.
– Да.
О’Махон лежал в кровати, завернувшись в тяжелый плащ.
– Итак, ты вырос, кузен. И не только телом.
– Я такой же, как был, – сказал Хью.
– Тогда скажи-ка мне вот что. Недалеко отсюда, примерно в миле, если идти вверх по холму, в давние время стояла святая обитель…
– Я все помню, – сказал Хью.
– Тебе там дали подарок.
– Да.
Бывает так, что носишь какую-то вещь при себе, то в одном кошельке или кармане, то в другом, и забываешь о ней начисто; потом вспоминаешь и думаешь выкинуть, но всякий раз оставляешь. Не потому, что она какая-то особо ценная, а просто она твоя: кусочек тебя и память о прошлом. Так было и с этим маленьким кремнем: пока Хью рос, он оставался при нем, порою терялся, но всегда находился снова. Прежде он казался вместилищем какой-то могучей холодной силы, слишком тяжелым для своих размеров и как будто наделенным собственной волей. Но теперь это был просто старый камешек с выцарапанным на нем человечком – корявым, как детский рисунок.
Хью пошарил по карманам и быстро нашел его; было такое чувство, что кремню и самому не терпится прыгнуть ему в руку. Мелькнула глупая мысль показать камешек слепцу, но Хью опомнился.
– Он у меня, – подтвердил он. – Не сходишь ли со мной завтра еще раз на это место?
– Как пожелаешь, кузен.

На следующий вечер О’Махон взял О’Нила за руку, и они вдвоем пошли на конюшню выбрать лошадей для поездки. Хью подвел О’Махона к его старой лошадке, хорошо знавшей эту дорогу, – с ней ему не понадобится поводырь. Поехали медленным шагом и через час добрались до места, где в ту давнюю ночь разверзлась земля. Лошадей оставили возле дуба, разбитого молнией. О’Махон снова взял Хью за руку: он прекрасно знал, куда идти, но не хотел спотыкаться.
– Я ходил по этим тропам с тех пор, как родился, – сказал он. – Да и до того.
Они взобрались на пригорок, который Хью помнил с детства, еще с тех пор, как приехал в эти края со своими опекунами – О’Хейганами. Но тогда здесь росли высокие деревья, а теперь их срубили; за деревьями, по берегам реки, были пшеничные поля и луга, где паслись коровы. Теперь поля лежали под паром, а луга опустели.
– День уходит, – сказал поэт, словно мог это видеть. Один из холмов, круглившихся над равниной, поднимался выше прочих, и очертания ему придали не ветер и вода, а человеческие труды. Отличить его было несложно. В обхвате – перчей[51] шестьсот, но почему-то меньше на вид, чем тогда, когда Хью смотрел на него в детстве. – Этот час – граница дня и ночи, как эта река – граница между здесь и там. То, чего нельзя увидеть ни днем, ни ночью, показывается в сумерки.
– Но откуда ты про них знаешь? Ты ведь не видишь!
– Мои глаза – тоже граница, кузен. И я стою на ней все время.
После этого они ждали молча. Небо над головой стало черным, а на западе побледнело и расцветилось красными и зелеными полосами. В лощинах уже собирался туман. Позже Хью О’Нил так и не вспомнил, в какое мгновение (если и впрямь настал такой миг) воинство выступило (или нет?) из-под холма и явилось его глазам, пусть и едва заметно. Под его взглядом оно росло; прибывало и пеших, и конных.
– Эта чужацкая королева, которую ты любишь, которой служишь, – промолвил О’Махон. – Ей до тебя и дела нет. И нужно ей от тебя только одно: чтобы ты держал этот Остров в подчинении от ее имени, пока она не заполнит его своими голодными подданными да бедными родственниками, а те не примутся рвать нашу землю в клочья.
Призрачные воины проступали во мраке все четче. Хью почти уже различал шелест их шагов и звон доспехов. Вот они, Древние. Сиды.
– Они повелевают тебе сражаться, Хью О’Нил из О’Нилов. Вести других за собой. Ты станешь внуком Ньяла и кем только еще не станешь. Но не думай, что у тебя нет друзей.
Воины мерцали в темноте, то растворяясь, то возникая вновь; кони их кружили на месте, копья колыхались, как деревца на ветру. Казалось, они ждут не дождутся, чтобы Хью взмолился к ним о помощи, призвал их сразиться на его стороне. «Заповедь», – подумал Хью. Кремень у него в руке. Но он ничего не мог сказать им – ни на словах, ни в сердце. А затем граница между ночью и днем закрылась, и Хью перестал их видеть. Было такое чувство, словно могучий ветер сорвал с него всю одежду – весь этот бархат и шелка, и лайковые перчатки, и белый раф, и шляпу с пером; и он остался нагим, как дитя, и больше уже не знал, куда ему идти и что делать.

На острове Акилл у побережья Донегала, что на западе Ирландии, жила в те времена женщина по имени Гранья О’Малли; и была она госпожой над морскими разбойниками, ходившими в набеги на острова – и на север, в Шотландию, и на юг до самой Бретани. Гранья построила себе замок на Акилле и еще один – на острове Клэр; когда ее пираты отправлялись за добычей из залива Клю, она сама командовала флотилией, стоя на палубе самой большой галеры. В юности она была «стриженой девчонкой», одевалась в мужское и так донимала отца, водившего торговые суда в Испанию, что в конце концов он стал брать ее с собой, а сына оставлял дома. Гранья умела читать и писать, стрелять из пистоля и драться на саблях. Врали, будто ее отец и брат, да и сама она по молодости промышляли грабежами: зажигали ложные огни на мысу, а после подбирали все ценное с кораблей, потерпевших крушение. Всякий, кто повторял эти россказни, становился ее врагом, а жало у ее вражды было острым. Друзья, окружавшие Гранью, были подчас ничем не лучше врагов: дикие О’Флаэрти, способные убивать просто ради удовольствия; Макмахоны из внутренних земель; шотландцы Макдоннелы со своими полчищами шотландских краснолапов, поселившиеся в долине Антрима как у себя дома. Теперь ей было лет тридцать или сорок; она превратилась в грозную силу, с которой считалось все побережье Мейо. А Хью О’Нил уже и сам был взрослым мужчиной – двадцати лет от роду, с густой рыжей бородой, когда однажды, весенним утром, у ворот Данганнонского замка объявился посыльный и попросил о встрече. Он, дескать, привез весточку лорду танисту от госпожи Граньи. Его привели на кухню. Послали за Хью. Гонец терпеливо, молча ждал; наконец Хью сам вышел к нему и встал на пороге.
– Почему ты назвал меня танистом? Гонец встал, выпрямился во весь рост и сцепил руки за спиной.
– А что, господин? – ответил он вопросом на вопрос. – Разве нет?
– Наследник Шейна О’Нила – мой дядя, – сказал Хью. – Турлох Линьях. Он и есть танист, избранный как положено. – Гонец молча смотрел на него, даже не изменившись в лице. – Где твое послание?
– Письма я не привез. Передам все по памяти.
Хью сел за стол. Женщины и мальчишки, стряпавшие еду, вышли вон. Гонец тоже уселся обратно. – Я слыхал, что твоя хозяйка – женщина ученая, – заметил Хью. – Умеет писать и по-английски, и на латыни.
– Верно, – подтвердил гонец. – Но этот случай особый. Она сочла за благо не поверять своих мыслей бумаге. Кто знает, в какие руки может попасть письмо.
Хью окинул взглядом его поджарую, гибкую фигуру.
– О твоем коне позаботились? – спросил он.
– Я без коня. Бежал на своих двоих.
– Неблизкий путь, да еще в такую погоду.
– Зато не скучал в дороге. Навидался всякого-разного, да только хорошего мало.
Тишина словно уселась третьей между ними за стол, посидела и снова встала. – Что же хочет передать мне твоя госпожа? – спросил Хью.
– Что внук Ньяла, ваш дядя Шейн, сейчас воюет в Антриме с шотландцами Макдоннелами, союзниками моей госпожи. Этим летом Шейн напал на них, чтобы добавить Антрим к своим землям.
– Я слыхал про их вожака, – сказал Хью. – Сорли-Бой Макдоннел. Шотландец.
– Шейн захватил Сорли-Боя в плен и разгромил шотландцев. Он держит Сорли в башне и морит его голодом. Может заморить до смерти. Госпожа Гранья просит вашей помощи против Шейна. Просит, чтобы вы помогли ее друзьям, шотландцам Макдоннелам. «Что мне за дело до Макдоннелов?» – подумал Хью. Гонец все так же смотрел на него ничего не выражающим взглядом, а белые руки его все так же неподвижно лежали на коленях. Сэр Генри Сидней построил кольцо укреплений на границе западных земель, на которые притязал Шейн, – земель, которые на деле принадлежали графу Тирону. Шейн не был графом Тироном, но не был им и Хью: королева все еще не решила, кому даровать титул. Если кто-то – неважно, кто и как, – покончит с Шейном, Сидней очень обрадуется.
– Передай своей госпоже Гранье вот что, – промолвил он, тщательно выбирая слова. – Хоть она и занимается грабежами на море, я желаю ей свободы и долгой жизни. Дублину и англичанам до этого дела нет.
– Верно, – кивнул гонец.
– И если она найдет какой-то способ примирить Шейна с Макдоннелами и уладить вопрос с долинами Антрима, это будет хорошо.
Двое молодых людей (или, по крайней мере, один молодой годами, а другой – на вид, ибо определить истинный возраст гонца было бы затруднительно) снова умолкли, глядя друг на друга. Наконец Хью заерзал на стуле и подался вперед:
– Пусть они помирятся. Пусть Шейн отпустит старика Сорли-Боя, и Макдоннелам будет радость. А сэр Генри в Дублине простит Шейну его проступки и снесет эти укрепления, которые он понастроил вдоль границы. Шотландцы останутся жить в Антриме, и никто их больше не потревожит. Ты понимаешь?
Гонец не ответил.
– Я тоже его прощу, – продолжал Хью, и голова его словно вспыхнула от прилива какой-то могучей силы, которой он прежде за собой и не подозревал. – Даю слово. А в знак своей дружбы я велю раздать золото вождям Макдоннелов, лучшим из лучших, когда все они сойдутся на собрание в лагере Макдоннелов в Ольстере; а созовет это собрание Гранья О’Малли. Ты понимаешь? Привезем виски, откроем бочонки и выпьем все вместе за мир и дружбу. Выпьет даже Сорли-Бой – только сначала его накормят.
Гонец неподвижно ждал, не будет ли продолжения.
– Это и есть ответ, который я должен передать моей госпоже? – уточнил он наконец.
– Да.
Заметить легкую улыбку на губах гонца было непросто, но Хью все же заметил. Посланник Граньи как будто остался доволен… или это была насмешка? Все так же улыбаясь, он встал и – не поклонился, не кивнул, а лишь чуть-чуть наклонил голову. Затем, пятясь, отступил до двери, а там повернулся и вышел. «Его не накормили, – подумал Хью. – Не предложили ни питья, ни пищи». Это было неправильно. Впрочем, он сам ничего не попросил и не потребовал, хотя имел на это полное право. Хью поднялся и подошел к узкому оконцу, смотревшему на запад. Гонец уже почти скрылся из виду: легким, широким шагом он поднимался вверх по холму, растворяясь в ранних весенних сумерках.

Конн Баках О’Нил, первым из О’Нилов получивший право называться графом Тироном, любил женщину по имени Элисон – дочь или, может статься, жену кузнеца, которого звали Келли. Когда Конн добился своего, Элисон уже носила дитя; этого ребенка назвали Мэтью, он вырос и стал отцом Хью и его брата Брайана. Шейну, своему законному сыну, Конн предпочел незаконного, Мэтью (должно быть, он очень любил эту Элисон, раз на такое пошел), и для Шейна, Шона Гордого, стало делом чести отвоевать у сводного брата и графство, и титул главы О’Нилов. Он выбрал самый простой путь: следовало убить сначала Мэтью, а затем и его сыновей. Но сэр Генри Сидней успел забрать в Англию маленького Хью: он хорошо знал, на какие титулы тот может надеяться, если проживет достаточно долго. И теперь Хью О’Нилу оставалось только ждать.
Прошло меньше месяца – не больше, чем от первой четверти луны до следующего молодого серпа. Послание из Дублина, от сэра Генри Сиднея, привез английский гонец в красном мундире. Хью, выехавший тем утром на прогулку со своими кузенами, перехватил его по дороге. В пакете с печатью лорда-наместника содержалось предписание от имени королевы: она повелевала Хью О’Нилу и многим другим (в списке были и незнакомые имена) явиться в город Дублин, дабы там от чистого сердца сознаться в дурных делах, которые они совершили, и в своих преступлениях против короны и мира на землях Ее Величества. К этому прилагалась записка, написанная торопливым почерком самого сэра Генри: тот сообщал Хью, что замаринованную голову его дяди Шейна привезли в Дублин в глиняном горшке и что по его, лорда-наместника, приказу она теперь выставлена на пике над городскими воротами. Скалящаяся мертвая голова, которая на самом деле могла принадлежать кому угодно, была все еще там, когда Хью О’Нил со своим отрядом въехал в Дублинский замок. Тут-то и выяснилось, что ему и остальным, кто значился в списке, предстояло сесть на корабль вместе с сэром Генри и отправиться в Англию. Неужто он, Хью, сделал недостаточно? Собираясь в дорогу, сэр Генри поведал ему, как было дело.
– Королева пиратов, Грейс О’Малли, которая мне никогда не лгала и не имела на то причин, прислала известие, что Запад наконец-то может вздохнуть свободно: от Шейна больше не будет никакого беспокойства. Она рассказала, как это случилось. Насколько я понял, она устроила пир – или как там зовутся эти ваши ирландские попойки – в лагере Макдоннелов и пригласила туда Шейна, будто бы принять от шотландцев почести и изъявления покорности.
О’Малли привезли золото, продолжал он, да еще французское вино и большой бурдюк испанского хереса, наверняка из трофеев Граньи. Шейн воспарил духом, задрал нос – не обошлось без белого ирландского виски – и принялся оскорблять О’Малли и прочих и снова заявлять, что долины Антрима принадлежат ему одному. Ему позволили повеселиться до вечера. А потом Макдоннелы, то ли впятером, то ли всемером, обступили его и достали оружие, которое тайком пронесли на пир. Шейн был слишком пьян, чтобы отбиться, и с ним покончили, хотя и не так чтобы сразу.
Хью коротко поблагодарил лорда-наместника за рассказ и не обмолвился ни словом о собственной роли в этих событиях. Лорду-наместнику, добавил он, повезло с таким гостем, как Шейн: пить-есть не просит, на обхождение не жалуется, да еще и сторожит ворота днем и ночью. Сэр Генри прекрасно знал, что на молчаливого юношу, стоящего сейчас перед ним, этот его безумный дядя вел охоту, точно на кабана или оленя; но знал и то, что Хью не может себе позволить прилюдно выражать радость по поводу смерти родича, который при всех своих пороках все-таки оставался главой О’Нилов. Сэр Генри отнесся к этому с уважением и ничего не сказал. А Хью, в свой черед, не сказал лорду-наместнику, что наутро после того, как Шейн пал под клинками Макдоннелов, он внезапно проснулся на рассвете и вышел из замка, словно услышав зов. В смятении ума и чувств он стал подниматься по холму, на склоне которого в последний раз видел гонца Граньи, уходящего на запад. Вскоре он почувствовал, что рядом с ним кто-то идет, будто отделившаяся часть его самого, – девушка или женщина, но кто именно и какого возраста, непонятно; и, как ни странно, она тоже была в легких доспехах. Когда она повернулась к нему и улыбнулась, Хью снова вспомнил о том гонце, словно он и эта девушка были одно и то же.
Она как будто говорила, но Хью не слышал слов до тех пор, пока не пошарил в карманах и не нашел осколок кремня, который теперь носил с собой постоянно. Сжав кремень в кулаке, он стал ее слышать.
«Он был большой и тяжелый», – сказала она.
«Да», – согласился Хью.
«Они на это жаловались, – сказала она. – Те, кто пришел унести его душу. Они даже просили дать им перерыв, но им не разрешили: его душа могла сбежать и вернуться в свое смертное тело».
Затем она указала куда-то на запад, и Хью увидел тех двоих, о которых она говорила. Они пытались управиться с рослым мужчиной, в котором Хью тотчас же признал своего дядю; оба смеялись, словно это была игра, но в то же время старались изо всех сил. Один ухватил Шейна за щеку двумя пальцами и тянул его голову влево, а другой закинул правую руку Шейна себе на спину. Все трое брели по колено в земле, словно через болото.
«Видишь? – снова услышал он голос своей спутницы. – До сих пор с ним возятся».
Хью повернулся к ней, но ее уже не было; он снова посмотрел туда, где Шейна тащили под землю, но и там уже не было ничего.

Те гэльские и нормандские вожди, которые сочли за лучшее покориться и приехать в Дублин, а не отступить в свои горные крепости, чтобы дать англичанам отпор, тоже проехали через городские ворота, откуда на них сверху вниз скалилась голова Шейна. И они поняли: чтобы им самим сохранить головы, нужно плыть в Англию и преклонить колени перед королевой, испросить прощения за возложенные на них грехи и надеяться, что после этого им разрешат вернуться домой. Если повезет, то еще на год-другой они сохранят свои земли и доходы.
Погода стояла ненастная; дул сильный ветер, моросил ноябрьский дождь; среди призванных ко двору ирландцев были двое, которые сроду не плавали на корабле, хотя и прожили всю жизнь недалеко от моря, и теперь они корчились в немом страдании, цепляясь за поручни. Остальные переговаривались вполголоса, по-ирландски; Сидней проводил почти все время в капитанской каюте и писал письма, когда не было сильной качки. Когда корабль вошел в устье Темзы, никто не разразился радостными криками. Все исподлобья разглядывали город, проплывавший за бортом корабля. Хью с изумлением узнал ту лестницу, по которой его и Филипа Сиднея отвели в лодку, доставившую их в Саутварк: подумать только, это и вправду с ним было, на этом вот самом месте!
Делегацию провели под аркой Хэмптон-Корта и вверх по каменной дорожке к воротам, где оставили ждать под дождем, пока королева не соблаговолит принять их. Хью показалось, что он заметил ее в одном из высоких освинцованных окон: поглядев сверху вниз на просителей, Елизавета задумчиво коснулась своего жемчужного ожерелья. Мало того, он услышал ее голос: королева говорила с Берли или с кем-то еще, кто стоял у нее за плечом, словно тень. «Кто эти люди?» – спросила она. Тень зашептала ей на ухо – наверняка поясняя, что это ирландские заложники, которых привез лорд-наместник. «Хорошо, – снова услышал Хью голос королевы. – Он держит одну из двух лучших должностей во всем королевстве. Но вся эта ольстерская возня не заслуживает называться войной. Шейн О’Нил был изгоем и нищим».
Сердце Хью наполнилось гневом: от его политической победы презрительно отмахнулись, даже не признав, что это он подстроил гибель своего дяди, – сэр Генри Сидней присвоил всю честь себе. И стыдом: его и остальных заставляют стоять здесь, на холоде, среди палой листвы, и дожидаться решения своей участи. Но и теплом, произраставшим из твердой уверенности, что уж с ним-то обойдутся по-доброму: ведь он сдержал свое слово.
Наконец их впустили в зал. Придворные усмехались, разглядывая их, и перешептывались, прикрывая рот ладонью. Внезапно, лязгая доспехами, вошли двое стражников, выхватили из толпы двух ирландских баронов и вывели вон. Позже Хью выяснил, что их отвезли по реке в Тауэр; и еще много лет друзья и родные ничего не слыхали о дальнейшей их участи.
– Если есть что таить на сердце, то и язык не речет правды, – промолвила королева со своего высокого престола, обводя взглядом оставшихся ирландцев одного за другим. Упреки сыпались из ее уст на языке, который понимали не все. Но глаза ее на белом, как маска смерти, лице говорили понятнее. «Она всегда меня видит». Взгляд этих глаз проникал в самую душу одному только Хью, потому что на груди его по-прежнему висел черный камень.

О чем ему никто не сказал – ни в Пенсхерсте, у Сиднея, где Хью провел Рождество, ни в Ирландии, куда он возвратился уже на следующий год, – так это о том, что англичане решили даровать свою поддержку, причем не только скрытую, как обычно, но и более явную, не ему, барону Данганнону, только-только распробовавшему власть на вкус, а старому Турлоху. Турлоху Линьяху О’Нилу, другому его дяде, – честолюбивому, как покойный Шейн, но, в отличие от Шейна, ручному. Ольстерская знать убедила английских чиновников в Дублине провозгласить Турлоха главой О’Нилов. Хью помнил Турлоха с детства, по Данганнону; помнил, с каким презрением тот отзывался о Конне Бакахе О’Ниле, преклонившем колено перед королем Генрихом еще до рождения Хью, и о бархатном костюме Конна, и о шляпе с белым пером. В самом Хью теперь было больше от англичанина, чем от ирландца, а Турлох оставался ирландцем до мозга костей. И все же они предпочли Турлоха. Генри Сидней отправил Турлоху поздравления по случаю, как он выразился, «повышения в должности».
Теперь предстояло начинать все с начала: чтобы Хью смог заявить права на то, что и так принадлежало ему по праву, нужно было убрать с доски и самого Турлоха, и сыновей Турлоха, не говоря уже о сыновьях Шейна, засевших по своим ольстерским крепостям. «Кто же на моей стороне? – раздумывал он. – Кто меня поддержит?»
Часть вторая
Рабский удел
Пергамент и старые чернила
Настал год 1574-й, и Джеральд Фицджеральд, граф Десмонд, вернулся домой.
Он не умер в Лондоне – ни от пьянства, ни от других своих недугов; раны зажили, и он даже немного окреп. Окреп достаточно, чтобы задуматься о побеге. После долгих переговоров через посредников с обеих сторон он встретился со знаменитым капером Мартином Фробишером[52] (в том самом саутваркском трактире, где когда-то разговаривал с Хью) и шепотом обсудил с ним возможности. Десмонд просил тайно доставить его в один из мунстерских портов – в Смервик или в Корк; Фробишер знал ирландское побережье и мог управиться с любым кораблем, какой только удалось бы нанять за золото, которое Элеанора, жена Десмонда, собрала в Ирландии на освобождение мужа. Награда будет щедрой, пообещал граф. А про себя подумал: королева смягчилась; возможно, она и не дарует ему свободу тотчас же, но, быть может, не станет его преследовать. Быть может, даже посмеется, когда узнает, как они с этим старым морским волком ускользнули у нее из-под носа. «Можете на меня рассчитывать», – заявил Фробишер и поднял кубок. Они проговорили до рассвета, перебирая все помехи и препятствия, какие могут возникнуть, но не только: Джеральд все возвращался к тому, как он ненавидит английских колонистов, этих проклятых осквернителей мунстерской земли. Всех их надо выслать вон из Ирландии – кроме разве что тех, по ком давно уже плачут петля и топор. Фробишер лишь молча кивал. О времени и месте для побега они уговорились.
Назначенная ночь выдалась безлунной; ветер дул на запад, сильно и ровно. Переодевшись и вооружившись, граф тайком покинул дом Сент-Леджера и с фонарем в сопровождении нескольких слуг направился в доки. Стража схватила Десмонда еще до того, как он отыскал корабль, – это если допустить, что корабль и правда был. Настоящие наниматели Фробишера – те, что обитали в Уайтхолле[53], – и впрямь изрядно посмеялись, услышав его рассказ: тайная встреча в таверне, корабль, планы возмездия, побег под покровом ночи! Десмонда доставили к королевскому секретарю, допросили и без дальнейших проволочек обвинили в измене. Измене государству и королеве, которой он клялся в верности. Стоя на коленях между двумя вооруженными стражниками, поддерживавшими его с обеих сторон, чтобы он не рухнул, граф отрекся от всех своих земель, замков и домов, широко рассеянных по сотням тысяч акров, которые составляли владения Десмондов. Не поднимая головы, граф зачитывал подписанное отречение вслух, а королева слушала; когда он дочитал до конца и наконец встретился с королевой глазами, та не произнесла ни слова. Ее решение огласил какой-то законник, Фрэнсис Бэкон[54]: Десмонду предстояло вернуться в Саутварк и провести в стенах городской резиденции Уорема Сент-Леджера еще четыре года (услышав эту цифру, граф ахнул, а сэр Фрэнсис взял небольшую паузу в своей речи, словно желая насладиться моментом). Все то время, пока стражники поднимали графа и выводили его из зала, королева смотрела на него неотрывно – впрочем, как и всегда.

В те времена в Ирландии жил один англичанин, Питер Кэрью, заявлявший, будто бы у него есть какие-то старинные бумаги на владение немалой долей десмондовских земель. После битвы при Аффане графа Десмонда бросили в Тауэр, и Питер Кэрью, к тому времени уже сэр Питер, решил схватить удачу за хвост. Он подал иск в лондонский суд, и, хотя документы, которые он предоставил, оказались почти неудобочитаемыми – то ли неудачно подделанными, то ли просто обветшавшими за давностью лет, – королева увидела в них еще одну дверцу, за которой может открыться легкий путь в Ирландию. В Англии были семьи, тоже претендовавшие на ирландские владения, и все они теперь могли последовать примеру этого Кэрью: предъявить в ирландских судах свои доказательства – подлинные или свежеиспеченные, неважно. Корона их поддержит. Сэра Питера, ошарашенного неожиданной поддержкой, отослали основывать новую Англию на землях Западного острова. Как кошельковый невод, он потянул за собой многих других – не только Уорема Сент-Леджера (того самого, у кого отбывал заточение граф Десмонд), но и Хамфри Гилберта (знаменитого моряка)[55], Эдмунда Спенсера (мало кому известного поэта)[56] и целые полчища безземельных рыцарей и младших сыновей, отставных офицеров Короны, беглецов и банкротов. На все представленные ими иски Королевский суд в Дублине взирал с благосклонной улыбкой. Кэрью, возглавлявший эту процессию, стал кукушкой, подкинувшей яйцо в гнездо малиновки. Кукушечьи яйца крупнее, и вылупившийся подкидыш не только требует больше пищи, чем мелкие птенцы, которым гнездо принадлежит по праву, но и выбрасывает их из гнезда, обрекая на смерть, а ничего не подозревающие родители продолжают бросать еду в жадно разинутый клюв неродного птенца. Как правило, никаких старинных документов представить не удавалось, но это не мешало колонистам – исполненным, подобно сэру Питеру, больших надежд и глубочайшего, рокового невежества – занимать на юге острова участки земли, какие им приглянулись. Свои притязания и свои еще не построенные дома они гордо называли Плантациями, будто намереваясь собственными руками насадить сады на этой плодородной земле и усердно ухаживать за ними, покуда в один прекрасный день саженцы не окрепнут и не принесут плоды, принадлежащие этим переселенцам по праву. На деле же они мечтали – разумеется, не своими силами, а трудами местных жителей – превратить этот невозделанный и дикий край в еще одну сельскую Англию – с красивыми особняками на холмах, с покрытыми щебнем дорогами, ведущими от городка к городку, с глубокими гаванями, откуда широкоскулые рыболовецкие двухмачтовики будут выходить в Северное море и возвращаться с богатым уловом; и море это никогда не оскудеет, а налоги от продажи рыбы будут течь в казну Ее Величества полноводной рекой. Сделать хоть что-нибудь в этом роде сами для себя ирландцы так и не удосужились: они даже не нарезали свои холмистые поля на участки – просто пасли скот где придется и питались молоком и мясом. Поэтому колонисты имели полное право распоряжаться этой бесхозной землей и подавлять мятежи, если кто-то из местных надумает взбунтоваться. Каванахи – старинный род, хранивший верность Короне, – не смогли доказать в суде, что деревни и угодья, которые желал забрать сэр Питер, принадлежали им с незапамятных времен, и лишились своих владений.
Но тут на сцену вышел один из Десмондов, которого до сих пор не принимали в расчет, – Джеймс Фицморис Фицджеральд, двоюродный брат Джеральда. Он придумал себе титул и стал зваться «капитаном Десмондом». Своего кузена, «бледного графа», все еще томившегося в Лондоне, он презирал: тот целовал атласную туфлю королевы-еретички, а значит, уважать его было не за что. Сам капитан Десмонд не признавал над нормандской аристократией никакой власти, кроме папской, а свои бесстыдные послания Генри Сиднею и Питеру Кэрью неизменно завершал фразой: «Надежда наша – во Христе и Пресвятой Деве». С самоотверженной решимостью он заявил, что права, от которых отрекся Джеральд, принадлежат теперь ему, а через него – и всем тем знатным ирландцам и английским баронам, что жили на этой земле издревле. Прежде чем выступить во главе армии, собранной Десмондами, и обратить колонистов в бегство, он послал католического архиепископа Кашельского в Испанию, просить о военной помощи. Неистовый капитан командовал Ирландией, как галеоном, принуждая ее развернуться и лечь на новый курс: возродить старую веру и отвергнуть англиканскую церковь, заставить мунстерских графов забыть обо всех своих давних и бессмысленных междоусобицах и объединить их всех как братьев по оружию.
Страсть, с которой он взял за дело, передалась главам других древних родов. Все словно в одночасье уверовали в победу: старые добрые времена вернутся, а тела английских воров удобрят распаханные ими же поля, и урожай будет обильным еще многие годы. Джеральд Фицджеральд, граф Десмонд, поспешил написать королеве, что не имеет к затее Джеймса ни малейшего отношения, что сам он не бунтовщик и, если ему дадут денег и людей, он тотчас прогонит всех этих испанцев и монахов, приструнит свою родню и возьмет своего безумного кузена под стражу. Он принес ко двору письмо, которое тайком передали ему от Джеймса Фицмориса («избави нас Боже от того дня и часа, когда люди смогут сказать, будто граф Десмонд покинул на произвол судьбы своего родича, коий есть знамя милосердного Спасителя его и хранитель его благородного дома и потомства!»), и на глазах у всех разорвал его в клочья.
Королеве и ее советникам – ввиду жесточайшей нужды, уже кусавшей их за пятки, как бешеный пес, – ничего не оставалось, кроме как вернуть Десмонда в Аскитон, его любимый замок, величавый и древний, и дозволить ему воссоединиться с графиней Элеанорой, которую сама королева считала хорошей женой и мудрой женщиной. Десмонду было приказано подавить мятеж, обеспечить соблюдение английских законов, защищавших колонистов и их владения, и призвать ирландскую знать к повиновению Короне. Ему дали понять, что тем самым он лишь исполнит свой долг и не может рассчитывать на смягчение законных последствий измены, совершенной в прошлом; если же он потерпит неудачу, то никакое расстояние и безвестность не спасут его от последствий еще более суровых. Он повторно отрекся от наследственных прав на весь огромный палатинат, которым его предки владели веками: отныне эти владения принадлежали монархине, перед которой он склонился, – если, конечно, она сможет их удержать.
В Ольстере Хью потянул за ниточки шпионской сети, которую вот уже несколько лет старался раскинуть как можно шире. У него были агенты и в дублинских, и в лондонских чиновных кабинетах и судах. Один сообщил, что Десмонд признал над собой власть всех законов, статутов и уложений Короны. Другой – что Десмонд пообещал покончить с восстанием Фицмориса, хотя «как именно он собирается это сделать, не обсуждалось». Но куда более драгоценным для Хью был голос самой королевы, и не только потому, что он добавлял знаний о происходящем. Да, он звучал до сих пор, хотя и не так громко и внятно, как в прежние времена. Казалось, Елизавета устала, теряет силы, начала сомневаться в себе. «Граф Десмонд, – всего лишь ворох бумаг, – прошептала она из зеркала. – Кипа столетних страниц, погрызенных мышами. От него пахнет пергаментом и старыми чернилами».

Десмонда отправили домой на корабле Мартина Фробишера, и тот веселился всю дорогу, до самого Дублина. Граф Десмонд так и не понял, смеется ли капитан над ним или его просто забавляет, как повернулось дело. Корабельная шлюпка доставила графа в Уайтфрайарз; отряд гвардейцев Ее Величества, прибывший вместе с ним, сопроводил его, печатая шаг, до ворот Дублинского замка. Там его встретили братья, все при оружии, и по одним только их радостным приветствиям и широким улыбкам граф Десмонд понял: они думают, что он поведет их на битву. Но как раз этого-то он и не хотел, а если бы и хотел, все равно не смог бы. Они что, совсем ума лишились? Или это Фицморис с иезуитами заморочили им головы? Братья кричали и хлопали его по спине латными перчатками. Они привели ему коня, да не простого, а рожденного (так ему сказали) от того жеребца, на котором он когда-то выехал на битву при Аффане. Вот как много воды с тех пор утекло!
Сэр Генри Сидней, которого держали в курсе обо всех передвижениях графа, тоже вышел из замка – поприветствовать гостя, провести его внутрь и доставить в камеру, где ему предстояло обитать в ближайшие дни. Лорд-наместник был не дурак, чтобы предоставить Десмонду свободу действий, и графа это ничуть не удивило. За годы неволи он так и не научился терпению, но хорошо научился притворству. Ему разрешили выходить в город (спасибо доброму сэру Генри!); ему пообещали встречу с любимой женой. Умеренные упражнения на свежем воздухе тоже были дозволены – означало ли это, что ему можно присоединиться к охоте на оленя за городскими стенами? О да, но оружия ему не дадут; очень хорошо, он обойдется без оружия. Как только охотничий отряд выехал за ворота Дублина, Десмонд отделился от остальных и поскакал на юг, во владения своего родича, графа Килдара. Его не искали и не преследовали. Старые друзья и вожди повстанцев встретили его и провели безопасными тропами в глубь страны, к старинной островной крепости Десмондов на озере Лох-Гур. Слухи о том, что граф и графиня возвращаются домой, опередили их на несколько дней, и в замке уже собралась целая толпа: вожди со своими клятвенниками, пастухи и нищие. Женщины, стоявшие на крепостных стенах, поднимали своих малышей и показывали их Джеральду, а тот вскидывал руку, словно благословляя юную ирландскую поросль. От озера Лох-Гур графская чета направилась дальше, в другой свой островной замок – Аскитон на реке Дил; толпа двинулась следом, разрастаясь по пути. Когда они добрались до Аскитона, в свите Джеральда уже насчитывалось не меньше сотни бойцов – он, по правде сказать, сбился со счету. Его помощник Морис Макшихи и еще многие той же фамилии, и многие О’Флаэрти, и Максуини, и О’Краули, и многие из его септа Берков.
Элеанора долго думала и решила, что вину за бегство мужа ей лучше будет взять на себя; те оправдания, которые ей удалось придумать, казались шаткими, но теперь, когда Джеральд был дома, это уже не имело значения. Пусть напишет, сказала она, что он покинул Дублин и отправился в Аскитон, умирая от беспокойства за свою супругу. Пиши, сказала она: «Мысли о том, что она так долго оставалась без моей заботы и попечения, брошенная на произвол судьбы и без всяких средств к существованию, не давали мне покоя ни на миг и язвили до самой глубины души; оттого-то я и решился уехать, но не утратил намерения служить Вашему Величеству всеми силами как Ваш вернейший подданный». Затем Джеральду (а может, Элеаноре) пришло в голову дописать к этому: «Если бы я хоть на мгновение допустил в своих мыслях, что дальнейшее пребывание в Дублине поспособствует службе, которую я поклялся нести ради Вашего Величества, я с превеликой радостью остался бы в заключении до конца моих дней». Граф и графиня рассмеялись, радуясь собственной дерзости.
Победу – папе!
Захват южных земель отдавался эхом и на севере Ирландии: нити кровного родства и общей истории, семейных и клановых связей натянулись туже обычного. Да и что могло помешать англичанам, желающим бесплатных земель и понукаемым своей королевой и лордами, в конце концов прорваться в Ольстер и Тирконнел через Северный перевал у озера Лох-Ней или через западные озера на Эрне? И если так случится, то владетелям Севера не стоит повторять ошибки южан, а чтобы дать сассенахам решительный отпор, нужно объединить силы заранее. «Друзей надо приковывать к себе железными цепям», – сказал Турлох Линьях маленькому Хью когда-то давным-давно, когда мир еще был прежним. Гранья О’Малли и ее родичи перевезли на своих галерах не меньше тысячи шотландских наемников-«краснолапов» на остров Клэр, а оттуда – в Ольстер. «Держи их при себе, – сказала Гранья графу Тирконнелу. – Их время придет».
Хью О’Нил сговорил себе хорошую невесту, Шиван О’Доннел из тирконнеловских О’Доннелов; оставалось подождать лишь год, пока она войдет в возраст. Когда время пришло, закатили свадьбу – пышную и буйную, на несколько дней; священника, чтобы читать на латыни, не позвали, но брегон торжественно возвел молодых на первую из десяти возможных ступеней брака. На обручении и последовавшем за ним долгом пиру О’Доннелов было больше, чем О’Нилов; все знали, почему так, и смотрели на жениха и его длинноногую невесту с надеждой и верой в лучшее. Все еще обрученных – связанных лентой, обвивавшей запястья, – молодых отвели в брачные покои и затворили за ними дверь, хотя снизу, из пиршественного зала, все равно доносился праздничный шум. Они лежали рядом, до сих пор почти чужие друг другу, и рассказывали о своем детстве. У Шиван было много братьев, они научили ее ездить верхом и стрелять из арбалета.
– А у тебя не было, – с жалостью сказала она.
– У меня были братья, – возразил Хью, хотя и не хотел огорчать ее рассказом о том, что всех их убил дядя Шейн. – Сводные братья, О’Хейганы, старше меня.
– Но родных-то не было. – Шиван сделала вид, что обдумывает его слова; на самом деле она прекрасно знала, о чем он умолчал. – Значит, вместо них будут сыновья.
Свободной рукой она пробралась под его брачные одежды и нашла, что искала.

Хью боялся, что королева призовет его выступить на юг и сражаться с повстанцами Фицмориса, но этого не случилось. Так что выбросил из головы Десмонда и десмондовские войны и занимался молодой женой (вскоре понесшей дитя и растолстевшей) да еще охотой. Он привел в долины Антрима умелых стрелков («Fubún – на серые ружья чужаков», – говорил когда-то О’Махон, но это было тогда, давным-давно.) Он жил со своими охотниками под открытым небом; они спали на земле в любую погоду, завернувшись в плащи; они приносили домой волчьи шкуры и оленьи туши и раздавали мясо сторонникам О’Нилам или всем, кто попросит. Куда бы они ни пришли, Хью расспрашивал мужчин и мальчиков, какое они предпочитают оружие; ему называли дротик, лук или боевой топор, и тогда Хью показывал им ружье и звал своих охотников, чтобы те объяснили, как им пользоваться, а потом давал местным пострелять самим. Того, кто справлялся лучше всех, Хью награждал – давал монетку или что-нибудь еще в подарок, а бывало, что и само ружье. «Береги его», – добавлял он с улыбкой. Те, кто получил ружье, обычно знали, зачем оно им понадобится, а кто не знал, того быстро просвещали другие. Некоторые научились делать порох из селитры, серы и ивового угля и отливать дробь из расплавленного свинца. Этой науки зеркало ни за что бы ему не открыло, а кремень сам ничего об этом не знал. Когда настанет время повести своих людей на битву, ему не придется бросить толпу вопящих галлогласов под огонь вымуштрованной английской пехоты. Его войско тоже будет слушаться команд, маршировать в ногу и поливать врага огнем. Когда настанет время. Если настанет.

Как только прошли зимние дожди и поля зазеленели снова, а дороги снова стали проезжими, Дублин разослал вести О’Нилу и другим северным владетелям: из перехваченных писем следовало, что Джеймс Фицморис Фицджеральд взывает о поддержке к католикам, ищет помощи в Испании и во Франции и вскоре вернется в Ирландию. Высадится он, скорее всего, в заливе Дингл, и с ним будут папские и испанские отряды на больших испанских кораблях, и папское золото, чтобы заплатить им, и три тысячи ружей, и бочонки с порохом и свинцом. Как только власть в Мунстере возьмет испанское военное правительство (заявлял в своих писульках Фицморис), Джеральдины, Батлеры, Берки и все их вассалы тотчас вернут себе права на все свои старинные владения, а еретики, как теперь стали называть всех англичан в Ирландии без разбора, будут разбиты наголову. Ввиду этих сведений, достаточно надежных, Королевский совет в Лондоне ставит графа Тирона, лорда Тирконнела и вождей всех кланов в известность о том, что каждый верный вассал Ее Величества должен приготовиться дать отпор Испании и папе, их армиям и ассасинам, их обманам и коварным соблазнам. В записке Генри Сиднея (о, как хорошо Хью уже знал этот почерк!), приложенной к письму, Хью О’Нилу предписывалось как можно скорее прибыть в Дублин со всеми людьми, каких он только сможет собрать, а оттуда выступить на юг и встретить врага лицом к лицу. Его призывали в Мунстер – туда, откуда начался мир (по словам поэта О’Махона); в истерзанный Мунстер, зеленый и плодородный, в страну смерти. О’Нилы были кланом Севера, Leath Cuinn, Удела Конна, согласно тому изначальному делению острова между сыновьями Миля, о котором пел О’Махон; Юг же звался Рабским уделом, Половиной Муга, Leath Mogha[57]. Север был высшим уделом, половиной королей; Юг – уделом трудов и обильных урожаев, источником всех богатств. Говорили, что в Мунстере Добрый народ состоит из одних женщин; это там Аннан родила богов, а позже Анье родила одному из Десмондов прыгучего сына[58]. А Элеанора, золотая графиня, жена нынешнего Десмонда? Он ведь стала – вопреки всему – подругой самой королевы; она собирала деньги, чтобы освободить мужа, когда тот томился в лондонском заточении; а теперь она снова была хозяйкой огромного квадратного замка в Аскитоне, и каждый молодой оруженосец, приезжавший служить Десмонду, терял голову при виде ее красоты. Такие уж ходили слухи.
Нельзя сказать, что Хью О’Нил боялся женщин, но в свои двадцать пять он уже знал, что и сам может потерять голову. Первую жену он взял еще почти мальчишкой, сразу по возвращении из Англии. Но вскоре они разошлись: жена была дочерью Фелима, приходившегося Хью дядей, и брегон объявил, что такая близкая степень родства запретна для брака. Сам Хью не говорил об этом с Шиван, но был уверен, что ее родственники все ей рассказали. Первая жена осталась в его памяти улыбчивой, загорелой девочкой, почти ребенком; она собирала цветы теплыми весенними днями, ходила за ним повсюду, говорила о каких-то пустяках или вовсе молчала, пока наконец однажды они не упали друг другу в объятия в тени рябин. Даже теперь ее образ порою мелькал в его снах, и Хью, охваченный неутоленным желанием и чувством потери, просыпался рядом со своей дюжей Шиван из О’Доннелов, матерью крепких сыновей.
Он предпочел бы оставаться к северу от Полосы кряжей – той прерывистой цепи невысоких песчаных эскеров, что тянется от Дублина до Голуэя и делит Ирландию на две половины, Удел Конна и Рабский удел. Но обсидиановое зеркало взвесило его на весах и нашло очень легким. «Так-то ты платишь за доброту той, что любит тебя и скоро вручит тебе великий дар?» Королева смотрела на него, и белое лицо ее, обрамленное жестким рафом, проступало из зеркала яснее, чем когда-либо. Как же она далеко, если кажется такой близкой? И почему ему всегда делалось стыдно от ее слов – точно ребенку, который плохо старался или вовсе не сделал того, что ему поручили? Ведь он до сих пор делал все как надо. Неужто все ее вассалы, все эти богачи и гордецы, молодые и старые, испытывали такой же стыд? А если нет, то чем он от них отличается? Впервые в жизни Хью подумал: что бы там ни говорил доктор, никто ведь не мешает ему в любой момент просто снять с себя это зеркало, а с ним – и ее тяжкую длань. Подумал – и снова спрятал подвеску за ворот рубахи.
В тот же день он начал собирать своих наемников-боннахтов и галлогласов – самый маленький отряд, какой только мог себе позволить, не ослушавшись лорда-наместника.

– Я тебе расскажу кое-что об этом капитане Десмонде, Джеймсе Фицморисе, – сказал Генри Сидней Хью О’Нилу, когда они вдвоем, бок о бок, выехали верхом за ворота Дублина. – Хотя, наверное, ты уже слышал все, что тебе нужно знать.
Хью не ответил, потому что вопроса не прозвучало; в свое время он достаточно изучил сэра Генри, чтобы понимать, когда лучше придержать язык за зубами.
– Он – человечишка тощий и малорослый, – сказал Сидней задумчиво, словно сверяясь с какими-то записями у себя в голове. – Но храбрый. В глазах любого бедняка или керна – настоящий герой. Неутомимый; способен высидеть в седле целый день. – При этих словах сам лорд-наместник поерзал в седле, словно показывая, что уже староват для таких походов. – Помешан на своих убеждениях, как всякий папист. Однажды мы его поймали. Он стоял на коленях, под дождем, среди горелых развалин какой-то церквушки, которую я уж и не знаю, зачем сожгли; там еще воняло мокрой золой – ну и мерзкий же запах! Сэр Джон Перрот, лорд-президент Мунстера, – а это, надо тебе знать, тогда была совсем новая должность[59] – приставил шпагу к его голой груди и мог в одно мгновение покончить с его мятежом… я бы так не смог. А он решил, что не станет.
– Почему? – спросил Хью, имея в виду решение сэра Джона. Почему Сидней не смог бы, он понимал и сам: он уже хорошо изучил этого человека.
– Побоялся, что Ее Величество не одобрит. – Он повернулся к Хью, чтобы тот увидел его улыбку. – Как раз в ту пору ветер в Лондоне переменился. Пустили слух, что южных лордов простят, если они отрекутся от капитана Десмонда. А сам Фицморис там же, на месте, исповедался в своих грехах и преступлениях – и, заметь себе, на хорошем английском. И сэр Джон опустил свою шпагу. Фицмориса отправили в дублинскую тюрьму.
Тут сэр Генри засмеялся и покачал головой, словно припомнив что-то веселое.
– Ладно, расскажу тебе кое-что про сэра Джона, нашего лорда-президента Мунстера. – Он прочистил горло и сплюнул. – Говорят… точнее, он сам говорит всем и каждому по большому секрету, который, конечно, все уже успели всем разболтать, будто он – внебрачный сын старого короля Гарри.
– Наверно, такое много о ком говорят.
– Он уже тогда был очень толстый, а сейчас еще больше раздобрел, – продолжал сэр Генри. – Стал еще толще старого короля. Лошади под ним падают; когда приходилось ехать куда-нибудь далеко, он всегда брал много лошадей про запас и пересаживался с одной на другую, чтобы те не успели охрометь. А в последнее время, по-моему, перешел на мулов. – Ну так вот, – вернулся он к своему рассказу. – Приехали они в Дублин. Фицморис – в цепях, сэр Джон – надо думать, уставший от погони, – весь в раздумьях о том, как он чуть было не покончил с мятежом одним ударом. И как, по-твоему, Хью, что он надумал? Взял и вызвал Фицмориса на поединок! Давай, говорит, сразимся один на один! Как настоящие рыцари в старые добрые времена… или нынешние юнцы на потеху королеве и фрейлинам в Хэмптон-Корте.
– И что, Фицморис принял вызов? На самом деле Хью кое-что слышал об этом чуднóм происшествии, хотя и не знал, чем оно закончилось. В песнях этому места не нашлось.
– Да. Поднял, так сказать, перчатку, хотя полагаю, что брошена она была лишь на словах. А дальше… только ты имей в виду, что мне о том известно с чужих слов, а сказка эта с той поры разрослась зеленым лавром. Дальше – уговорились они, что сражаться будут верхом и в полном доспехе, на длинных копьях, что твой сэр Гавейн. На ирландских лошадях, заметь себе, а после копий возьмутся за ирландские палаши.
– Хм-м-м, – пробормотал Хью. – Ирландской лошадке пришлось бы нелегко под сыном короля Гарри.
Сидней пожал плечами:
– Ну, такой у них был уговор.
– И что же они, сразились?
– Условились, что Джеральдина выпустят из тюрьмы на один день. Выбрали место поединка – на каком-то голом холме. Сэр Джон – в добротных ирландских штанах – прибыл первым. И стал ждать капитана. Пошел дождь. Сэр Джон устал ждать и, надо думать, затосковал, что пропустит обед. И вот он уже почти решился бросить на месте этот чертов ирландский меч и ехать домой, как вдруг объявляется гонец. Без коня, пеший и без шляпы. И вручает лорду-президенту письмо от Фицмориса, который так и не вышел из своей камеры. «Если я его сегодня убью…» – да, кстати, я собственными ушами слышал, как сэр Джон потом читал вслух это письмо. Ну так вот: «Если я его сегодня убью, то королева английская пришлет на его место другого Перрота или кого-нибудь такого же. Но если он меня сегодня убьет, то во всей Ирландии не сыщется другого такого как я, кто сможет занять мое место или вести за собой людей, как я веду. А потому сражаться я с ним отказываюсь, так ему и передайте».
Хью, все еще не опомнившийся от того, что сейчас услышал (гонец! пеший! без шляпы!), не сумел ни посмеяться в ответ, ни изобразить должного удивления.
– Да, – только и промолвил он. – Странно.
Они как раз доехали до эскеров, протянувшихся длинной цепью по границе между Севером и Югом. Хью коснулся цепочки, на которой висело зеркало в золотой оправе, и подумал о кремне, упрятанном в кожаный кошелек. Он ожидал, что в этом месте ему станет по-настоящему страшно, но на деле ничего не почувствовал.
– Если хочешь знать, чем все закончилось, – сказал сэр Генри, – то не прошло и недели, как Фицморис выбрался из дублинской тюрьмы – никто не знает, как, – и сбежал во Францию. – А сейчас вернулся оттуда.
– И стал еще безумней, свирепей и кровожадней, чем был.
Некоторое время они ехали молча, лавируя со своими людьми и повозками между песчаных холмов. Затем объявили привал.
– А как поживает Филип, ваш сын? – спросил Хью, встав рядом с лошадью и закинув ногу на седло, чтобы растереть натруженную голень. – У него все хорошо?
Сидней осторожно кивнул, глядя куда-то вдаль, мимо Хью.
– Да. Королева послала его в Нидерланды – на помощь голландским протестантам, которые сейчас сражаются с Испанией. Молимся за него
– А стихи он все еще пишет?
Но сэр Генри Сидней, похоже, не услышал вопроса. Хью посмотрел на небо, затянутое тучами.
– Кажется, дождь начинается, – пробормотал он.

Десятью годами раньше лорды Мунстера под предводительством Десмонда впервые подняли бунт против Короны. Удел Муга – страна крестьян, свободных и подневольных, и именно они пострадали в ту войну больше всех, хотя только они и производили пищу для всех сословий. Если город или деревня, взятые Сиднеем в осаду, не сдавались на его милость, их предавали мечу; Сидней объявил, что любой ирландец, у которого найдут оружие, будет повешен, а вожакам будут рубить головы и насаживать их на колья по всей стране. В ответ графья со своими сторонниками выступили из крепостей и принялись жечь английские селения и дома, а заодно и посевы, уже почти созревшие для жатвы. Многие забивали домашний скот, чтобы он не достался англичанам. Затем настала весна, и английские солдаты, в свой черед, стали жечь молодые всходы на полях, чтобы те не достались ирландцам. Люди питались жерухой; если не оставалось и ее, то умирали с голоду, а кое-где доходило и людоедства. О том, как ирландские крестьяне поедали тела своих умерших младенцев, докладывал Ее Величеству землевладелец и поэт Эдмунд Спенсер, но королева ему не верила: души, вверенные ее попечению, полагала она, не способны на подобную низость.
Все это случилось еще до смерти Шейна, незадолго до того, как Хью О’Нил вернулся из Англии, из Пенсхерста, в Ольстер, в Ирландию. Но та земля, по которой он проезжал сейчас в обществе сэра Генри, – земля, из которой когда-то вышли все блага мира, до сих пор оставалась разоренной и пустой, не способной ни порождать живое, ни давать пропитание. Конь то и дело спотыкался о кости с присохшим тряпьем – останки детей, их матерей и отцов. Мертвое на мертвом. Хью и его люди – закаленные галлогласы и мальчишки, едва научившиеся управляться с тяжелыми мушкетами, – отстали от быстроходных сиднеевских пикинеров и тренированных стрелков. Впрочем, сэр Генри предупреждал его. Он рассказывал – бесстрастно и без сожалений, словно вспоминая какое-то давнее, полузабытое путешествие, – как разрушал замки и жег поля в Каслмайере и Гланмире на границах Корка, как забивал скот и оставлял туши гнить под открытым небом и как деревья по всей округе превращались в виселицы. Той ночью, лежа в палатке, О’Нил снова услышал голос королевы. Она попыталась снять камень с его сердца. «Не смотри на их страдания, – сказала она. – Смотри на меня».
Ведь все то же самое повторялось снова. Опять предстояло насаждать мир, ворочая валуны невежества и упрямства; опять предстояло защитить истинную веру и остановить ползучее наступление Римской церкви. Злосчастному графу Десмонду, засевшему в Аскитоне, поклонялись, как божеству; слухи о двух испанских терциях[60], уже вышедших в море из Ла-Коруньи, воспламеняли дух повстанцев и наводили ужас на колонистов: шутка ли, шесть тысяч конных аркебузиров и солдат, вооруженных пиками и алебардами! Фицморис, как и было предсказано, вернулся из Франции с огромным знаменем, которое благословил сам папа. То здесь, то там видели это полотнище с окровавленной головой Христа в терновом венце: его можно было развернуть и растянуть на шестах в любой момент – и так же быстро свернуть, прежде чем появятся шерифы или люди лорда-наместника. И оно всякий раз исчезало вовремя, а затем появлялось уже в другом месте; и всякий раз его встречали приветственными криками: Papa Abú! Победу – папе! Граф Десмонд, формально старший над Фицморисом, писал английскому наместнику Корка: «Мы с моими людьми готовы положить свои жизни на алтарь побед Ее Величества, дабы положить конец изменническим деяниям вышепоименованного Джеймса». Но какой слуга Короны в своем уме доверился бы графу Десмонду? Хью О’Нила с его отрядом направили в гавань Смервика, где ожидалась высадка испанских и папских войск. Люди О’Нила одолели дорогу за один переход, но граф Джеральд прибыл на место раньше – и, похоже, не сделал ничего, чтобы помешать повстанцам Фисмориса захватить город и возвышавшийся над ним Золотой форт, Дун-ан-Орь. Оставив своих бойцов и капитанов за городской стеной, Хью въехал в крепость и стал искать графа. форт кишел людьми Фицмориса, и эти люди, с которыми Хью О’Нилу было приказано разделаться, смотрели на него – ирландского лорда и сына Истинной Церкви – как на возможного союзника. Странное это было чувство: словно он лишился самой своей сути – или, наоборот, свелся весь к своей внутренней сути, лишившись всего остального.
Десмонд нашелся на крепостной стене. Он сидел на каменной скамье, скрестив ноги и подставив лицо тусклым солнечным лучам. На вид он нисколько не изменился.
– Что я могу для вас сделать, милорд? – спросил Хью.
Десмонд посмотрел на О’Нила с рассеянной улыбкой, как будто видел его впервые в жизни.
– Ничего, – проронил он.
– Ничего?
– Корабли уже пришли, – сказал Десмонд, – и ушли. Не привезли ни единого солдата. – Взмахом руки, знакомым Хью по той памятной ночной беседе в Саутварке, граф указал на гавань. – Ни пехотинцев, ни конных. А если и привезли, то увезли обратно: на берег сошли только священники и монахи, целая толпа. Кузен Джеймс поехал по городам и весям искать союзников, да и лошадей понадобится немало, и он заберет всех, сколько найдет. Крестьянам и возчикам придется отдать единственное свое достояние ради блага страны и ради истинной веры, о которой эти бедняки почти ничего не знают и до которой им, надо полагать, дела нет. Так мне, по крайней мере, сказали.
Хью О’Нилу оставалось только ждать; теряя терпение и раздражаясь все больше, он потратил остаток дня на поиски места, провианта и воды для своего отряда. Затем стало понятно, что всему предприятию вскоре придет конец и без его помощи. Какой-то возчик, у которого Фицморис конфисковал лошадь, пошел и пожаловался своему лорду – одному из Берков, протестанту. Тот собрал вооруженный отряд и нагнал Джеймса у какого-то брода; почему это всегда происходит у брода? «Верни лошадь моему парню!» – крикнул Берк через реку. «Papa Abú!» – крикнул в ответ Джеймс. На это Берк ответил: «Боже, храни королеву!» и «Черт бы побрал Джеймса Фицмориса!» Джеймс пустил коня через реку навстречу обидчику. Когда он был уже на середине потока, человек Берка выстрелил из мушкета и попал ему в грудь. По словам рассказчика, Джеймсу еще хватило сил добраться до дальнего берега, стоптать стрелка, перезаряжавшего мушкет, и всадить меч Берку в горло. После этого он рухнул с коня и умер. С его возвращения в Ирландию прошел сто и один день.
Таким образом, граф Десмонд оказался прав: делать тут было нечего, хотя Сидней и весь королевский двор непрестанно требовали от него сделать хоть что-то, а иначе, спрашивается, зачем его отпустили на волю? Люди Джеймса Фицмориса, расположившиеся в захваченном Золотом форте, продолжали ждать обещанное подкрепление из Испании – прошел слух, будто англичане пустили за испанцами свои корабли, но те вот-вот ускользнут от погони и прибудут в Смервик. А тем временем повстанцы опустошали город, выгребая из кладовых остатки провианта, да преклоняли колени, внимая напыщенным речам папских священников и иезуитов. «С меня хватит, – решил граф Десмонд. – Я сделал все, что мог». Собрав своих немногочисленных бойцов, он попрощался с Хью и отправился в Аскитон, к Элеаноре.
Позже, решив уподобиться странствующему рыцарю из древних легенд, Хью О’Нил взял с собой нескольких спутников и почти добрался до того самого брода, у которого убили Джеймса. Он потратил немало времени на поиски, но кругом были густые леса; подъехать к воде в нужном месте так и не удалось, и Хью повернул домой. А еще позже ему рассказали, что, согласно распоряжениям, которые Джеймс заранее отдал своим сторонникам, те отрезали его голову от тела и унесли. Куда – никто не знает. И где она теперь, тоже не знает никто.
На холме Нок-Анье
– Меня отозвали, – сообщил сэр Генри Сидней Хью О’Нилу. – Королева и Совет больше не нуждаются в моей службе.
Хью знал, что это произойдет – что после смерти Фицмориса сэр Генри получит письмо от королевы. Ему об этом сказали. И потому услышать от сэра Генри, что это и впрямь случилось, было больно.
– Трижды Ее Величество посылала меня в Ирландию своим наместником, – продолжал Сидней. – И всякий раз я возвращался на тысячу фунтов беднее, чем уезжал, и этот раз – не исключение.
Они распрощались в гавани Корка: Хью предстояло вернуться в Ольстер с остатками своего небольшого отряда, который он набрал, чтобы сражаться с католиками, врагами королевы; а сэра Генри уже ожидал корабль, идущий в Дублин. Уладив там все дела, лорд-наместник отправится в Лондон и отчитается перед Советом: признает свои ошибки, предъявит свои достижения и изложит им все, что может пригодиться следующему лорду-наместнику, надеясь про себя, что его преемник окажется достаточно богат, чтобы не вернуться в Англию нищим. Он примет от королевы непыльную должность правителя Валлийской марки и будет жить в замке Ладлоу, что в Уэльсе, пока не уйдет в отставку и с этого поста и не вернется в Пенсхерст; будет заботиться о своих владениях и читать книги; выдаст дочь замуж; будет ждать, когда же Филип наконец вернется из Голландии, и умрет незадолго до того, как его сын, друг детства Хью О’Нила, поэт и воин, будет смертельно ранен в битве при Зютфене, сражаясь за нидерландских протестантов[61].

В Мунстер Хью решил вернуться другой дорогой: у него уже входило в привычку всякий раз выбирать новый маршрут, чтобы посмотреть на то, чего еще не видел. Несмотря на все свои путешествия, Ирландию он еще почти не знал, а между тем твердо верил: какое бы место под солнцем ни было ему уготовано, он должен хорошо понимать, что за земля лежит у него под ногами – неважно, возьмет ли он ее сам или получит в дар. Большинство из оставшихся при нем бойцов – О’Хейганы и галлогласы с их вождями – предпочли ехать домой знакомым путем: в Дублин, а оттуда – в Дроэду, Дандолк и, наконец, в Ольстер через Северный перевал; на этом маршруте было легче пополнить припасы, чем на непривычном пути, которым поехал Хью. Взяв с собой меньше десятка человек, конных и пеших, он направился было к Лимерику, но затем свернул на другую дорогу, которая, казалось, вела на северо-запад вернее; но к концу дня она оборвалась, а наутро Хью и его спутники отыскали еще одну дорогу и двинулись по ней тесно сбитым отрядом, то и дело посматривая по сторонам. Ехали наугад: долгое время не попадалось ни одной деревни, где можно было бы найти проводника. Кругом царило запустение. Редкие встречные – и взрослые, и даже дети – спешили спрятаться, едва завидев отряд. Наконец подъехали двое мальчишек на одной лошади – рыжеголовые, с лисьими глазами, чем-то напомнившие Хью младшего брата Шиван. Не покажут ли они дорогу до границы Роскоммона? Но о таком месте они явно слышали впервые. «Это на севере», – пояснил Хью. «А-а, да, да!» Мальчишки заулыбались, кивая друг другу, а потом и самому Хью, и тот сообразил, что перед ним близнецы – существа удивительные и странные.
И отряд двинулся дальше – вслед за близнецами, так и ехавшими вдвоем на своей старой лошаденке без узды и седла. Казалось, этот день будет тянуться вечно: солнце окуталось облаками, но все никак не желало заходить. «Быть может, это знамение?» – спросил себя Хью и не нашел ответа. Он расспрашивал мальчишек, как называются места, мимо которых они проезжали, – древние разрушенные башни и стоячие камни, реки и броды; какие-то названия они знали, но вообще, похоже, не слишком интересовались именами. Когда наконец стало смеркаться – да и то казалось, что тьма не спускается с неба, а восходит, как пар, к небесам от темной дороги, – мальчишки вдруг замахали руками, указывая на запад и повторяя какое-то название на своем местном наречии. Хью вслушался и разобрал это слово – название озера, Лох-Гур. Там, на островке, стоял замок Десмонда. Хью захотелось взглянуть на него, и он спросил близнецов, далеко ли до туда, но не понял ответа. Граф Джеральд сейчас, скорее всего, в Аскитоне, но Лох-Гур – место куда более древнее. Размышляя об этом, Хью ехал и ехал за старой лошадкой, мелькавшей бледным пятном в темноте. Скоро придется встать на ночлег, но его люди предпочли бы продолжать путь. Им не нравились эти мунстерские земли: слишком много смертей они здесь повидали и сами сюда принесли.
Уже почти совсем стемнело. Близнецы далеко опередили отряд, но Хью чувствовал, что они их не бросили и все еще ведут за собой. Тропа повернула к востоку и повела в горку, к подножию холма, что вздымался черным горбом против неба, еще не совсем померкшего. Верно, то было зарево от восходящей Луны. Всадники приумолкли. А затем на склоне холма, вдалеке, вспыхнули огни. Поначалу их было немного, но стало больше; они пришли в движение и опоясали голую вершину холма сверкающей цепью, обвили его шею золотым ожерельем. А затем на вершине вспыхнул, рассыпая искры, целый костер, и от него, вливаясь в это сияющее кольцо, потянулась вниз вереница новых огней. Близнецы между тем повернули назад и уже подъезжали к отряду.
– Что это такое? – крикнул им Хью. – Что за огни? Кто их несет?
Мальчишки только рассмеялись, указывая на пляшущие огоньки, которые, казалось, плыли по склону холма сами собой, без всяких носильщиков. Кони забеспокоились: им не нравился запах дыма. Затем кто-то из отряда выкрикнул: «Эльфы!»
– Да нет, – снова засмеялись близнецы. – Просто люди! Сегодня же канун Иванова дня. Вы что, не знали?
И сразу же стало видно, что все эти огоньки, заполонившие склон холма, – просто соломенные факелы в руках крестьян, а миг спустя послышались голоса и пение. Близнецы тоже запели, но Хью не разбирал слов; полная Луна уже наполовину выкатилась из-за горизонта, а пение все лилось, перетекая, как огонь от факела к факелу: стоило умолкнуть одной песне, как тотчас кто-то заводил другую. Словно прозрев от всех этих огней и Луны, Хью крикнул мальчикам:
– Что это за место? Это холм Нокайни?
– Нок-Анье! – отозвались они. – Благословенная Анье! Всадники, сгрудившиеся вокруг Хью, уже посмеивались от облегчения, но кое-кто перекрестился и, согнув средний палец на правой руке, поцеловал костяшку: так отгоняют всякое зло. Луна подымалась все выше – Луна благословенной Анье, – и вот уже пение сменилось криками и улюлюканьем, а Хью живо припомнил рассказ графа Десмонда о его предке, Геройде Ярле, самом первом из Джеральдинов, – как тот похитил плащ богини Анье, пока она купалась, и как у нее родился сын-прыгун, тот самый, что потом превратился в серого гуся и исчез навсегда. Хью окликнул мальчишек, думая дать им монету и расспросить подробнее, но те лишь помахали ему и, двинувшись прямиком в толпу верхом на своей старой лошадке, затерялись среди парней и девиц, несущих огни святого Иоанна.

Много лет спустя, в покоях римского палаццо Сальвиати, Хью О’Нил снова мысленно странствовал по лесам и равнинам Мунстера в компании Петра Ломбарда – архиепископа и исповедника, что когда-то был мальчишкой из Уотерфорда и по-прежнему принадлежал Мунстеру душой и помыслами. Во дворце было холодно; сидя друг против друга, эти двое проводили этот вечер, как и многие другие вечера до него, в неспешной беседе. В основном говорил Хью, хотя теперь, когда они добрались до последних лет, вспоминать стало труднее. То, что интересовало духовника, для графа было как старая заноза в ладони.
– Десмонд, – сказал архиепископ. – Почему он все-таки пришел на выручку матери-церкви? Он же презирал Джеймса Фицмориса.
Хью возвел глаза к потолку, где витали тусклые ангелы.
– Понятия не имею. Он не стал мешать кузену Джеймсу, а значит, он был католиком. И тут уж неважно, что Берк, который, кстати сказать, был протестантом, убил Джеймса куда раньше, чем Десмонд вообще смог что-либо предпринять. Английский военачальник, Сидни, рыскал со своей солдатней по Мунстеру, как волк среди овец. Они вторгались в города и замки Десмонда и убивали всех, кого найдут, даже тех, кто хотел сдаться. Католические лорды и вожди кланов ехали в Англию просить о помиловании и отрекались от своей веры, лишь бы им сохранили жизнь.
– А его замок в Аскитоне разве не захватили? – спросил архиепископ. – И тамошнее аббатство? Я слыхал, его осквернили, похитили священные сосуды и разбили витражи.
– Все так, – кивнул граф. – А еще вломились в усыпальницу Фицджеральдов и выкинули останки из гробов. Гроб Джоанны Фицджеральд Батлер, жены старого графа, тоже вскрыли и разбросали ее кости.
– Нечестивцы, – сказал Ломбард.
Они немного помолчали, слушая тихий свист гуляющих по комнате сквозняков. Архиепископ заговорил первым:
– Я слыхал, потом начался голод.
– Так и было, а потом стало еще хуже. Еды хватало только солдатам, да и тех держали впроголодь.
– Говорят, по улицам Дублина бродили волки – искали, кого бы сожрать.
– Мне рассказывали, как граф Десмонд наконец решился выступить, – сказал Хью. – Стоял октябрь, прямо как сейчас. Англичане, а с ними, говорят, и Том Батлер, сделали Десмонду предложение: если он хочет избежать обвинения в измене – которое, да будет ему известно, уже лежит наготове и ждет только подписи, то пусть приезжает в Англию и остается там жить тихо-мирно. Представляете себе?
– В Англию, – повторил Петр. – В страну еретиков. Сотворивших столько католических святых своими кострами и топорами.
– Десмонд к тому времени был уже совсем слаб. Едва на ногах держался. Ему помогли сесть на белого коня и вложили в руку меч Десмондов. Так мне рассказывали.
– Интересно, – пробормотал Петр себе под нос. – Я вот думаю: а не могло ли случиться так, что с ним заговорили ангелы?
И снова Хью О’Нил закатил глаза к сумрачному небу на потолке и едва заметным ангелам, серым на сером.
– По-моему, ни один ангел в здравом уме не стал бы говорить с Джеральдом Фицджеральдом. А если бы и заговорил, его бы за это по головке не погладили.
– И все же, когда Десмонд наконец выступил, поднялся весь Запад.
Архиепископ знал об этом из писем и по рассказам беглецов. Страх, в котором с самого начала жили англичане-колонисты, охватил теперь и английских солдат, и этот страх, несомненно, был послан Богом.
– Все четверо всадников Судного дня проехались по стране, – добавил он вслух. – Виселицы ломились под тяжестью спелых плодов. Испанцы все-таки прислали корабли и людей, но слишком мало. О, этот вечно осторожный Филип, мир его праху!
Хью почувствовал на себе испытующий взгляд духовника. «Почему он, Хью О’Нил, не присоединился к борьбе?» – спрашивал этот взгляд. Что его остановило? Ведь по всему Мунстеру верили, что он поддержит повстанцев и вскоре примет корону в Таре, станет католическим королем и положит начало новому миру. Хью О’Нил знал, почему он этого не сделал, – да, теперь он знал, какие силы держали его в своих могучих руках, и прошло еще немало лет после восстания Десмонда, прежде чем он вырвался из этой хватки, но пытаться что-то изменить тогда уже стало слишком поздно: само Время уже развернулось против него, словно гигантский корабль, не способный противиться встречному ветру.
– Но под конец Десмонд остался один, – сказал граф. – Он прятался в Керри, в лесах Гланагинти. Там-то, в жалкой хижине, его и нашли люди из клана Мориарти, так и не вставшие на сторону Десмонда. Они связали его, выволокли на двор и попытались усадить на лошадь, но затем увидели, что он слишком слаб – не может ни идти, ни ехать верхом. Тогда они его обезглавили и увезли голову с собой, чтобы получить награду. Так я слышал от тех, кто знал, как все это было. Они ее видели своими глазами, эту голову.
Архиепископ осенил себя крестом.
– Значит, все было напрасно?
Граф поднялся, тяжело опираясь на подлокотники: он так долго просидел, не шевелясь, что теперь не чувствовал ног.
– Ничто не бывает напрасно, – промолвил он. – Если только не напрасно вообще все на свете.

На прощание обняв своего исповедника и получив благословение, Хью вернулся к себе – как всегда, в сопровождении двух молодых слуг, почти мальчишек (про себя он называл их близнецами). Они помогли ему переодеться в ночную рубаху и устроиться на ложе. Потом укрыли его старым меховым плащом и переглянулись – похоже, сдерживая смех. Хью сообщил, что ему уже вполне удобно; они отступили, пятясь и кланяясь, до самой двери и беззвучно закрыли ее за собой.
Под утро он проснулся – а может, продолжал спать, но ощутил, что находится где-то в другом месте. Там тоже было темно, но не так, как здесь и сейчас. Перед ним крутой стеною вздымался огромный черный холм – не тот, который он видел когда-то, не Нокайни, по сравнению с этим какой-то сонный и приземистый. И все же эта каменная громада была тем самым холмом: откуда-то Хью знал это совершенно точно. И пока его спящий дух разглядывал склон, он сам же и поднимался вверх по склону – проворно и легко, без усилий, прыгая с камня на камень. Он то ли видел это, то ли просто знал. Редкие седые волосы развевались у него за спиной, словно серое покрывало монашки; узкое, точеное лицо, запрокинутое к небу, белело во тьме, как старая кость. Хью узнал этого человека; это был он сам. Исцелившийся – или, быть может, никогда ничем не болевший, – он крепко сжимал в руке кремень, который вел его за собой, точно компас. Тот самый кремень, который его пальцы помнили до сих пор. До вершины он так и не добрался, потому что в холме отворились врата или дверь: две колонны и гранитная перемычка над ними, а внутри – темным-темно. И там, внутри, были они – Древние Силы, короли Мунстера, и Геройд Ярла, а из самой глубины, из сердца холма, уже спешила ему навстречу дочь и мать Луны, Анье Кли, Анье светоносная: скорей, иди к нам, мы ждем!
В водах озера Лох-Ней
Хью О’Нил едва заметил, как миновал тридцатилетний рубеж. Череда врагов, мнимых друзей и полоумных дураков, с которыми он сталкивался в борьбе за свое наследие, мало-помалу становилась короче: кого-то он подкупил, с кем-то договорился, кого-то отправили в изгнание, кого-то повесили. Сыновья Шейна. Его дядя Турлох Линьях. Какой бы ветер ни дул из Лондона, попутный или встречный, во всех этих битвах черное зеркало оставалось его верным советником и соглядатаем. Но если он пытался пойти против самого зеркала, оно могло отказать в руководстве, и позже об этом всегда приходилось пожалеть. Когда Хью заглядывал в него, оно могло сказать: «Действуй немедля или потеряешь все!» – а могло и просто молча посмотреть на него в ответ; иногда оно плакало или улыбалось, а иногда говорило: «Сила берет начало в уме и сердце». Никаких звуков при этом не раздавалось: слова будто сами собой приходили Хью на ум, но это не мешало им оставаться правдивыми и могущественными. Если ему удавалось понять, что кроется за советом, и последовать ему, то все обычно выходило так, как и было предсказано, и Хью побеждал. А весной 1587 года он снова – думая, что это будет в последний раз, – приехал в Лондон: королева наконец соблаговолила даровать ему титул графа Тирона. В том году ему исполнилось тридцать семь.
Лицо, которое Хью видел в черном зеркале, не менялось – или, по крайней мере, всегда виделось ему одинаковым: маленьким, белым, в оправе из драгоценных камней. Но женщина, которую он увидел во плоти, была уже немолода. Краскам не под силу было скрыть ни сеточки в уголках ее глаз, ни морщины, избороздившие высокий лоб. Хью встал перед ней на колени, снявши шляпу.
– Кузен, – промолвила королева, протягивая для поцелуя унизанную перстнями руку. Разрываясь между любовью и стыдом, Хью приблизил губы к этой руке, но так и не коснулся кожи, а когда он снова поднял глаза, Елизавета на мгновение снова показалась ему молодой и безмятежно прелестной. – Наш кузен. Милорд Тирон.
Члены Совета, бородатые, а многие уже и седовласые сановники, украдкой кивали друг другу и новоиспеченному графу. Королеве каким-то образом – Бог весть как! – удалось завоевать сердце этого неотесанного ирландца. Те, кто стоял к нему ближе всех, заметили в его глазах слезы. Хью и сам не знал, отчего плачет: он ведь не какой-нибудь рыцарь, вернувшийся домой с добычей и славой, да и возвращением домой это не назовешь. Ему просто отдали то, что когда-то было у него отнято, а какая в этом честь? К тому же он знал наверняка, что все эти аристократы, толпящиеся вокруг, никогда не примут его как равного.
Но потом Хью взаправду вернулся домой – на борту английского корабля, трюм которого ломился от подарков и покупок, едва уместившихся потом на два десятка телег, запряженных волами. На пристани его встречали всадники О’Нилов и О’Хейганов со своими брегонами и женами, и среди этой толпы, опираясь на посох, стоял поэт О’Махон, дряхлый, как увядший лист. Хью О’Нил подошел к нему, опустился на колени и поцеловал бледную руку, протянутую поэтом. О’Махон велел ему встать и ощупал его взрослое лицо, широкие плечи и узорчатый стальной нагрудник.
Годы назад, когда юный ирландец возвратился на родину с того же чужого острова, на который его тогда увезли без спросу, на улицах было пусто и тихо, но теперь все изменилось: от улицы к улице, от дома к дому летели вести о том, что Хью О’Нил снова дома. Люди обступали его со всех сторон, пытаясь поймать его взгляд или хотя бы коснуться сапога; женщины поднимали детей, чтобы те на него посмотрели. Хью то и дело приходилось кивать им с седла, приподнимая свою черную бархатную шляпу с заткнутым за ободок пером белой совы.
– Они исполнили обещание, – сказал О’Махон.
– Ты о чем, кузен?
– Ты станешь внуком Ньяла, ты взойдешь на камень в Туллахоге, как испокон веков всходили твои предки. А еще ты теперь, милостью англичан, граф Тирон: ты отдал им все свои земли, а они вернули их тебе обратно, словно имели на них какое-то право, и прибавили графский титул. – Но при чем тут обещание? – не понял О’Нил.
– Это уж их дело – знать, что к чему; а твое дело – действовать и учиться. – Он положил руку на плечо Хью. – Будешь объезжать свои земли этим летом, кузен? Их у тебя теперь много.
– Может быть. Кажется, лето будет погожим.
– Я бы поехал с тобой, если ты не против. Хотя бы до того длинного рата за Данганноном.
– Что ж, поезжай! Если хочешь, устроим для тебя носилки.
– Я пока что держусь в седле, – улыбнулся поэт. – И моя лошадка знает туда дорогу.
– И что мы там будем делать?
– Я – ничего. А вот ты… быть может, ты снова встретишь своих союзников, а нет, так гонца или вестника от них. Послушаешь, что они скажут тебе теперь – не мальчишке уже, а зрелому мужу. И, может статься, они расскажут тебе о тех других, что еще могущественней. О тех, что уже пробуждаются ото сна, и о бледных конях, на которых они поскачут.
Новоявленный граф вздрогнул – от страха ли, от восторга или от чего-то еще, чему не было названия. Но волна трепета схлынула, и Хью внезапно понял, что ничего этого не хочет – и не может объяснить, почему.

О’Махона все-таки понесли в паланкине: было ясно, что ему уже немного осталось и даже на лошадке, знающей дорогу, он может не усидеть. С юга, из Дублина, за новоиспеченным графом и его охраной двинулась целая толпа горожан. Они прошли пешком все девяносто миль до Данганнона. Спали на голой земле, а ели то, что подавали им по дороге местные крестьяне, которые тоже выходили посмотреть на великого графа Тир-Оуэна и разражались приветственными криками, когда он смотрел на них и вскидывал руку, да и когда не смотрел. На подступах к замку пошел дождь; старого поэта, замерзшего и уже не ворочавшего языком, перенесли из паланкина и положили на застланную скамью, с которой он прежде декламировал свои стихи – отточенные и мощные, хвалебные и насмешливые. Все знали, скольких предателей и ничтожеств молодой О’Махон сразил своими сатирами: кого настигала песнь поношения, тому не оставалось ничего, кроме как зачахнуть и испустить дух. Но теперь поэт едва мог шептать и безостановочно трясся, хотя его и закутали в теплый плащ. О’Нил принес ему подогретого вина с сахаром и еды, от которой старик молча отвернулся. Затем он пошевелил рукой, подзывая Хью поближе, чтобы тот расслышал его слова, шелестевшие не громче вздохов. Хью подложил ладонь поэту под затылок и помог ему чуть-чуть приподняться, чтобы легче было говорить. И поэт сказал:
– Умираю, кузен.
– Не смей! – сказал Хью. – Нам нужен поэт!
– Будет поэт, – прошептал О’Махон. – Придет бард из чужого клана и победит всех, кто захочет потягаться с ним в искусстве песен. Он поднимется выше всех и, быть может, станет последним, кого услышат септы О’Нилов.
Увидев, что на эту речь старик потратил последние силы, Хью осторожно опустил его обратно на скамью.
– Последним? – все же переспросил он.
– Может быть. – О’Махон снова шевельнул рукой и Хью наклонился, вдохнув сладковатый запах его дыхания. – Но кое-что я знаю точно. Слушай. Это будет женщина.
– Женщина?
Хью сроду не слыхал ни об одной женщине, ставшей поэтом или бардом в этой стране. Впрочем, женщины пели кин, плач по умершим, – споют и по О’Махону.
– Да. Когда-то и женщины бывали бардами, хоть и очень давно уже такого не случалось. Но они пели хвалы тем королям, которые их чтили, и высмеивали тех, кто говорил, будто у них нет права петь.
– И кто она будет? О чем будет петь?
– Будет петь о том, что знает. Может, будет свирепой насмешницей, как Лаберхам[62], что могла убивать словом. А может – вроде той, что пела над умирающим Диармайдом, пока он не погрузился в сон[63]. Долгой ли будет ее песнь или краткой, выберет ли она себе преемника или не сможет – этого я не знаю. Но ее никогда не забудут. Меня забудут. А ее – нет.
– Тебя не забудут.
Тут О’Махон улыбнулся так, словно ему и приятно было это услышать, и в то же время смешно. Он отпустил руку Хью, и веки его незрячих глаз сомкнулись. Больше он не произнес ни слова.

Женщины из замка омыли тело О’Махона и завернули его в белый лен. Затем собрались носильщики: сам Хью О’Нил и его дядя Фелим, сильно постаревший, брегон О’Нилов (с которым поэт частенько играл в шахматы, хотя и не мог видеть фигур на доске) и двое О’Хейганов. Носилки пронесли десять миль, с остановками у каждого мильного столба, до озера на равнине Магери Гринан, или Махери, как это место звали англичане. Впереди шел волынщик Хью О’Нила, позади – все обитатели Данганнона. Женщины причитали без остановки: стоило одним умолкнуть, как другие тут же подхватывали высокий, разрывающий сердце плач. На берегу уже стояла узкая лодочка, которую мужчины сплели из прочного ивняка. Пришел и священник клана – сказать слова, против которых О’Махон бы не возразил, но прекрасно бы без них обошелся: его боги были куда древнее того, о котором толковал священник. Носилки опустили на землю, тело подняли на руки и переложили в лодку – не вполне настоящую, но в настоящей и не было нужды. Совсем рядом река Блэкуотер, набирая ход, вливалась в большое озеро, Лох-Ней, и все понимали: течение подхватит лодчонку и будет нести за собой, пока она не пойдет ко дну – а уж этого не придется долго ждать. Тело последнего из О’Махонов обложили большими камнями, сухой растопкой и полыми тростинками, набитыми порохом. Хворост подожгли и тотчас оттолкнули лодку от берега; сколько-то она держалась молодцом, но затем стала набирать воду; вскоре огонь погас, а серая гладь озера расступилась, приняла в себя лодку и снова сомкнулась. Мужчины били мечами о щиты, а женщины причитали так пронзительно, словно каждая лишилась родного сына. Под вечер все они – и мужчины, и женщины, и священник, и конная охрана графа – двинулись обратно в Данганнон тем же путем. Хью ехал впереди; на перепутье дорог, еще далеко от замка, он остановился и подозвал своего волынщика, который был еще и начальником замковых кернов.
– Отведи людей домой, – велел он. – Мне тут надо кое-что сделать одному.
Волынщик заиграл, пятясь спиной вперед, чтобы люди могли его видеть, и все потянулись за ним по дороге к замку. А Хью свернул на едва заметную тропку, тянувшуюся от дороги вбок, через вересковую пустошь и дальше, по берегу тихого ручейка. Так он и ехал по ней почти дотемна, пока наконец не увидел с новой высоты тот самый рат, куда О’Махон приводил его дважды и откуда он получил тот подарок, который носил с собой и поныне. Подарок и обещание. Подарки дарят не просто так: в них есть особый смысл и для дарителя, и для одариваемого. Обещания могут сдержать или нарушить, а порою получаешь совсем не то, что тебе обещали. О’Махон сказал, что они исполнили обещание, но Хью не знал, как проверить, правда это или нет.
Бледная громада рата терялась в тумане и вечерней мгле. Хью подъехал к нему ближе, чем в те разы, с О’Махоном. На что он надеялся, придя сюда один, без толкователя? Склоны и вершина кургана поросли травой, но оттуда, где остановился Хью, было заметно, что строители постарались сделать земляные стены отвесными от подножия и до такой высоты, на какой те еще могли удержать на себе тяжесть свода. А еще он впервые увидел то, чего не замечал раньше: кое-где эти стены были укреплены огромными необтесанными глыбами. На ольстерской равнине такие камни встречались редко, и доставить их сюда, должно быть, стоило больших трудов. Тот конный князь, которого Хью видел в детстве, не стал бы так утруждаться, и его серебристая, сумеречная дружина не стала бы. А вот черный человечек из-под земли, который поднял камень, превратившийся в ларец, – тот бы мог. Там, в Англии, доктор Ди говорил, что ирландские друиды когда-то подняли в воздух и перенесли через море гигантские камни, стоявшие теперь на равнине Солсбери. Если они и впрямь были на такое способны, то им под силу было и построить такое убежище из земли и охранных камней, где могли бы в час нужды укрыться люди – тогдашние люди, не такие, как он и прочие ныне живущие. Быть может, они прятались там долго-долго, пока не изменилась сама их суть. И до сих пор прячутся – но выходят, когда захотят или если позвать их.
Подъехав так близко, насколько достало храбрости, Хью спешился. «Граница дня и ночи», – сказал когда-то О’Махон. Хью снова вспомнил те два раза, когда он приближался к кургану: в детстве и потом, после первого возвращения из Англии. Он сунул руку в карман плаща, и на мгновение ему показалось, что кремень пропал. Но нет. Как всегда, на месте. Прикоснувшись к кремню, Хью ощутил, как тому не терпится, чтобы его взяли и подержали в руке. В глубине души граф Тирон понимал, что с этим осколком камня можно вызвать воинство из-под холма, но никакая сила на свете не заставила бы его это сделать. Уж точно не сейчас – а может, и никогда. Если он пробудит остров ото сна (а как? и удастся ли? – на эти вопросы ответов не было) и призовет их, неужто и впрямь они бросят свои пиры и пляски и выйдут наверх? Неужто согласятся, чтобы он ими командовал? Все же он был из рода королей, которым, пусть и в сказках, этот народ когда-то подчинялся или, по крайней мере, сражался с ними бок о бок. Какое-то время, да. Королей и героев в те дни могла погубить любая ошибка, даже крохотная. Отшвырнешь ногой с дороги камень – а это и не камень; подстрелишь пролетающую птицу – а это не птица вовсе. В те времена живые по ночам сидели дома и теплили свои огни; никогда не выплескивали грязную воду за дверь, вымыв ноги; не срывали цветок, если знали, что его лучше не рвать, и не метали копий и камней в запретного зверя. Когда луна в небесах округлялась и загоралась золотом, они вставали на колени и молились ей, как потом молились Марии Приснодеве, и так продолжалось сотни, тысячи лет. Какую ошибку совершит граф Тирон? Обронит неверное слово? Выберет не ту жену?
Этот бард, которому суждено прийти… эта женщина… споет ли она о нем? И что это будет за песня? Убьет она его – или подарит жизнь? Может, еще сто лет пройдет, прежде чем она появится, и он уже давно будет с О’Махоном и со всеми своими родичами, чьи кости покоятся в водах озера Лох-Ней. Или останется лежать на какой-нибудь голой равнине, среди людей из плоти и крови, которых сам и приведет на смерть.
Хью стоял и ждал, пока не стемнело окончательно. Никто не пришел, никто ничего не сказал ему, никто ничего не потребовал. Ни заповеди, ни обещания. Он сел на коня и поехал домой.

За несколько тысяч лет до того дня (точнее не сказал бы никто) из Испании в Ирландию прибыли другие вожди и воины. Прозывались они гойделами, или гаэлами, потому что их предок, живший во дни Моисея, звался Гойдел Глас. Когда этот Гойдел был еще маленьким, Моисей исцелил его от укуса змеи – и, заметьте себе, предрек, что никакая змея или прочая ядовитая тварь не приживется на землях того зеленого Острова на западе, где в далеком будущем поселится его потомство.
Гаэлы скитались по свету сотни лет. Очередной их предводитель, звавшийся Миль или Милезий, привел их в Испанию, и там они прожили долго, пока наконец не услыхали о прекрасном острове, лежавшем от испанских берегов к северу. Это и был Обетованный Остров, предсказанный Моисеем. Сперва послали Ита, дядю Миля, чтобы он разведал там все, вернулся и рассказал. Но Племена богини Дану, великие чародеи, населявшие Остров, заподозрили неладное и убили Ита. И стал он первым из всех, кто пал в долгих войнах между сыновьями Миля и Племенами богини.
Миль же умер в Испании, и тогда восемь его сыновей и мать их, Скота, взявши с собою всех родных и всех, кто последовал за ними, вышли в море и поплыли на Остров Пророчества. Подошли они к Острову с юга и стали искать место для высадки, но Племена богини подняли ужасную бурю, и та отогнала корабли пришельцев прочь от берега. И так повторилось еще много раз. Тогда поэт сыновей Миля, Амергин, помолился за них, сказав так: «Пусть достигнут они страны Эрин – те, кто едет верхом на гребнях бескрайнего, щедрого моря! Да расселятся там повсюду: на равнинах, в горах и долах, и в лесах, где роняют деревья плоды и орехи, близ рек ее и водопадов, у озер и великих вод, на холмах, обильных ручьями; и родятся меж них короли, чтобы править народом в Таре!»
И достигли они берегов Эрин, и вступили в бой с Племенами богини Дану, и сражались с ними до тех пор, пока не заключили мир. И отошла к сыновьям Миля вся страна, что лежит под небом и звездами, а к Племенам богини – вся страна, что лежит под землей и в недрах полых холмов. И разделили сыновья Миля ту страну, что под небом, на четыре четверти: северную и восточную, западную и южную; пятую же часть носили в сердце своем везде и повсюду, как бы далеко ни ушли.
Это знают все. Отцы рассказывали эту сказку детям куда подробнее, повествуя о битвах и оружии, об испытаниях и загадках. Но у Хью О’Нила не было отца, и некому было рассказать ему об Иных Краях и научить его, как надо молиться, сражаться и умирать. Он не горевал о своем отце, но горевал, что отца не было рядом. Он был одинок и в то же время двойствен, разорван надвое. Но в этот день он ощутил себя фаханом[64], грустным одноглазым воином, которому приходится прыгать на одной ноге и сражаться одной-единственной иссохшей рукой, – получеловеком, который научился притворяться целым перед другими людьми, но сам-то знал о себе правду. И на тридцать седьмом году жизни Хью О’Нил, граф Тирон, оставался в душе все тем же испуганным мальчишкой, каким приехал в Англию. Он не видел снов, но внутри его, и перед ним, и за спиной всегда стояла ночь или некая зримая тьма; каждый день он просыпался – и она была тут как тут; и каждый вечер, отходя ко сну, он знал, что встретится с ней снова – чтобы когда-нибудь, в одну из грядущих ночей, встретиться с самим собой.
Стеганография
В том же году, когда Хью О’Нилу было даровано графство Тирон[65], доктор Джон Ди со своей женой Джейн и целым выводком детей покинул старый дом и остров Британию, направляясь на континент и увозя с собою сундуки, набитые книгами, и астрономические приборы, пузырьки с лекарствами на все случаи жизни, колыбель для младшенького и, в бархатном кошеле, шарик из горного хрусталя, внутри которого, чуть сбоку от центра, заблудившейся звездой темнел единственный крохотный изъян. В холодной комнате, в высокой башне, во граде золотом, что сиял в самом сердце императорских земель Богемии, он снова вставил этот камень в резную оправу, изукрашенную именами и печатями, которые открыли ему словоохотливые ангелы.
В небесах – война, сказали ему, а значит, и под землей. И скоро уже запылают все моря и земли всех царств человеческих.
Она охватит державы и империи Европы; даже султан, возможно, не останется в стороне. А коль скоро Испания победила португальского короля и присоединила его народ и его владения в Великой Атлантиде[66] к своим, то и Атлантида вступит в игру, а Фрэнсис Дрейк променяет свое каперское свидетельство на цепь, какую носят адмиралы Океан-Моря[67], и Уолтер Рэли получит такую же. Небесные силы, воинства ангелов, кои должны помогать поборникам истинного христианства, тоже вступят в битву, а против них подымутся силы иные, великие и малые. Обитатели срединного мира, земли и вод, холмов и деревьев, скрытные и пекущиеся лишь о себе, наверняка встанут под знамена старой веры – не потому, что так уж любят папу (о нем они и слыхом не слыхивали), а просто любые перемены им ненавистны. Большого вреда они не причинят – в этом доктор Ди не сомневался, но досаждать будут изрядно. Однако на беспокойном Ирландском острове, где испанцев готовы принять с распростертыми объятиями, все еще таились другие силы: воины, что появлялись ниоткуда, сеяли смерть своими блестящими мечами и копьями, не издав ни звука, и так же внезапно исчезали невесть куда. Были ли они когда-то людьми? И если да, остались ли людьми до сих пор? Или то лишь пустые шлемы и доспехи? Иногда удавалось схватить такого воина и даже посадить под замок (если находился кто-то, кто знал нужные заклятия), но удержать надолго не удавалось еще никому. «Вешать нас бесполезно, – говорили они своим тюремщикам. – Мы не можем умереть».
Гляди-ка! В кристалле закружился вихрь; почуялся небесный смех, не слышный уху; облака разошлись, и взору открылся океан, каким он видится с высоты, глазами морской птицы, а там, на море, – малые точки, в которых доктор Ди, наклонившись поближе, разглядел толстобрюхие корабли или фигурки, их обозначавшие; на парусах едва виднелись или, скорее, угадывались красные испанские кресты. Эти крохотные кораблики в кристалле покачивались на волнах, как игрушечные, – точь-в-точь бутафорские суденышки из какой-нибудь маски[68] или детского представления. Ангельский перст указал на них, и Джон Ди услышал шепот: «Теперь уже скоро».
Значит, флотилия пойдет через Северное море и пролив Святого Георга[69], чтобы свергнуть Елизавету и посадить на трон католичку Марию Стюарт с ее консортом-католиком. Известно было, что испанский герцог Пармы построил мост из кораблей, чтобы отрезать Антверпен с моря и покорить голландцев, а у короля Филиппа, разграбившего империи темноликих атлантийцев и разжиревшего на их серебре и золоте, хватало средств, чтобы взяться за новое дело, а если потерпит неудачу, то и начать сызнова. И то, что доктор Ди увидел в магическом кристалле, только подтверждало его собственные догадки: «Теперь уже скоро». Надо узнать больше, научиться большему; и, если получится, заглянуть в душу и сердце этого холодного, увечного короля.

Младшие воинства небес – те, что приставлены к земным делам, – собирают и переносят известия и послания; все, что они узнают здесь, внизу, передается чинам повыше, а оттуда – в высочайшие сферы, в обители суда и провидения. Из обителей этих никто никогда не вмешивается напрямую в дела людские: по воле Божьей от начала времен стало законом, что дети Адама и Евы должны быть вольны в своем выборе и принимать решения свободно, к каким бы то ни привело последствиям и для каждой отдельной души, и для всего живого на все времена. Люди набожные могут сколько угодно верить, что их молитвы и воззвания к святым, к Пресвятой Деве и Господу способны изменить ход вещей к лучшему или навлечь погибель на их врагов и на тех, кого они считали врагами Божьими, но на деле математика небес проста и ясна как день: всякое земное деяние, совершенное Человеком, есть в то же самое время и в той же мере деяние Божье; всякая мольба, обращенная к силам тьмы или света, исполняется деяниями человеческих душ и рук. Император Максимилиан как-то спросил одного святого аббата[70], почему нечестивые ведьмы и колдуны могут получать от бесов преисподней по договору все, что пожелают, а набожный человек не может получить от ангелов ничего полезного. Аббат прекрасно знал (хотя и не сказал императору), что ангелы дают знания и человек набожный может получать эти ангельские дары безо всяких договоров, безвозмездно. Мало того, он сам же изобрел – лет сто назад – особый способ добывать эти знания: ангелы открывали их любому, кто умел вопрошать. По книгам этого аббата, редким и драгоценным, запрещенным и осужденным церковью, но все-таки кое-где уцелевшим – по книгам, в которых смысла было вдвое больше, чем казалось на первый взгляд, – Джон Ди научился этому искусству вопрошания ангелов; да, он потратил на учебу много лет, но в конце концов был вознагражден сполна. При каждом дворе имелись книги, у всех разные, в которых за простыми фразами были закреплены тайные смыслы. Кто угодно может проделать простые арифметические действия – сосчитать строки и буквы, сличить шрифты – и обнаружить смысл. Но в общении с ангелами все уловки и хитрости, обычные для земных шифров, бесполезны. Можно написать послание на самом редком и малоизвестном языке, каким мы только владеем, – написать и надеяться, что это поставит в тупик человека, вознамерившегося разгадать шифр или изловить лазутчика. Но под поверхностью этого явного послания будет сокрыто другое, тайное и куда более важное. Оно будет обращено к ангелам, которые слетаются на человеческие письмена, как мотыльки на свет, и все никак не могут ими насытиться, потому что сами они такого создавать не умеют. Они, право слово, поглощают написанное – не так, как мы читаем, а скорее как едим или пьем. И то послание, которое могут перенести и доставить только они, послание, которому чернила и бумага служат лишь оболочкой, мы творим из собственного тела и души, как паук – свою ладную сеть, а письмоноши-ангелы вбирают его в себя не просто из букв, написанных красным и черным, но из надежды и нужды, что движут нашей рукой.
Джон Ди все это знал. И хотя это дело требовало немалых трудов и изнашивало душу, он сидел сейчас в Праге за своим столом искусства и старался породить (в глухую полночь, под затененной лампой, под тихое сопение жены и детей, спавших в соседней комнате) такое письмо, которое ангелы согласятся принять. Он чувствовал, как они украдкой выхватывают смыслы из-под пера, точно озорные школяры, что таскают бумаги со стола за спиной учителя. Не было ни малейшей уверенности, что в итоге он получит ответ – тот ответ, который ему так нужен, который поможет спасти его королеву и страну. Если ответ и придет, то не на бумаге, а через отворенное сердце: ангелы вложат его туда, где дух самого Джона Ди, подобно зеркалу, сможет отразить суть ответа и передать его уму и чувствам. Теперь доктор уже знал, что каждый ангельский вестник способен донести послание лишь до границы своих владений. Там он дождется другого, который подхватит весть и понесет дальше; доктору Ди воображалось, как первый читает письмо второму, а второй слушает и запоминает, чтобы передать следующему, – точь-в-точь гонцы, сменяющие друг дружку на подставах. Само собой, передаются не слова, а обрывки вероятностей, клочки настоящих и будущих времен, и ответы, приходящие обратно по ангельской эстафете, могут меняться, пока спускаются из горних эфиров на землю. Ответы всегда правдивы, и ангельские гонцы это знают; но истина, заключенная в таких посланиях, доступна лишь человеку. Она подвижна и переменчива; она несет в себе убежденность без опоры на доказательства; и ее всегда оттеняет некая другая – и противоположная – истина, соблазнительная или пугающая.
В ночь, когда доктор составил свое послание и почувствовал, что его забрали, луна круглилась, еще только приближаясь к полнолунию. Она успела истаять до последней четверти, когда стало понятно, что ответ пришел. Доктор выдержал суточный пост, а когда вновь наступило утро и жена разогнала детей работать по дому и делать уроки, преклонил колени перед складным аналоем, умоляя Бога и ангелов Его сделать так, чтобы в письме не оказалось ничего, что может повредить ему и его бессмертной душе. Уделив молитвам четверть часа, он встал и распечатал послание.

Длинный сводчатый коридор без окон, точно гигантский туннель, сплошь расписанный сценами сражений. На каждой из множества панелей, не только на стенах, но и на потолке, – сотни воинов. Доктору Ди, шагавшему по коридору, казалось, будто это они проходят мимо него чередой, а сам он лишь переставляет ноги, оставаясь на месте. На одних панелях военачальники почтительно склонялись перед священниками и епископами или опускались на колени перед победителями; на других теснились кони и люди, мечи и щиты, пушки, ядра и щетки вздыбленных пик, точно осиновые рощицы. Попадались в этом коридоре и живые люди – монахи-августинцы в черном, секретари с ларцами для писем; но доктору чудилось, что они не идут как положено, а появляются, исчезают, возникают снова – уже чуть подальше – и исчезают вновь. Многие переговаривались между собой, а солдатские сапоги с каждым шагом ударяли в каменный пол, но доктор не слышал ни звука. Впрочем, его это не удивляло. Удивительно было другое: как так выходит, что его – посланника и живое послание – увлекает вперед этот людской поток, текущий ему навстречу? Он был словно опавший лист, что мчится по реке против течения. И эта река донесла его до невысокой дверцы, которую караулил стражник в блестящем шлеме и пышно украшенном мундире, и на какое-то время оставила там. Затем в дверь постучали изнутри, и стражник открыл ее; наружу выплыли люди в темных одеждах с охапками бумаг и потекли по своим делам, огибая то место, где стоял доктор. А затем он сам очутился внутри, не сделав ни шагу.
Комната без малейших признаков роскоши, с низким потолком. Длинный деревянный стол, простой и безыскусный; ни ковра на каменном полу, ни занавесок на крохотных, глубоко посаженных окнах. Только широкие полки, ломящиеся под тяжестью папок с бумагами. Где-то папки стояли косо, опираясь друг на друга, где-то – уже упали и лежали плашмя, а другие громоздились на них штабелями. Такие же горы папок высились на обоих концах стола. Пока доктор Ди стоял у двери незамеченным, монах убрал папку, что лежала раскрытой перед человеком, сидевшим за столом. Монах у другого конца стола раскрыл точно такого же вида папку и положил ее перед сидящим человеком, с головы до ног облаченным в черное. В личности этого человека сомневаться не приходилось: о его привычках и манере одеваться был наслышан весь мир, половину которого он крепко держал в кулаке[71]. Ни венца, ни драгоценной цепи. Король обмакнул перо в чернила и принялся изучать поданные ему бумаги, делая какие-то заметки. Джону Ди припомнились сказки, в которых мудрое дитя или герой просит превратить его в муху, чтобы выведать, что замышляют враги. И хотя сам доктор не стал бы просить о подобном, в нынешнем своем состоянии он подумал, что одной только силой воли может претворить свое естество… нет, не в муху, но в мушиный глаз, которому откроется тайное. Незаметно, на миг-другой. Прямо сейчас.
И вот на бумагах, где король калякал свои приказы, стали проступать имена – не так, как рождаются слова под пером, а как набухают пузыри на водной глади. И были то имена кораблей и их капитанов: «Сан-Фелипе», «Флоренция», «Сан-Франческо», «Санта-Анна», «Гран Грифон», «Уркас»… галеоны, галеры, галеасы и так далее, вплоть до малых фрегатов, паташей и сабр. Вот они все выстроились перед королем и ждут, пока он черкнет пером против каждого имени: герцог Медина-Сидония, герцог Пармский, граф-герцог де Оливарес. А при них – имена ангельских воинств, с которыми его монахи связали каждую флотилию и эскадру и которые надлежит славить в гимнах и на мессах каждый день, чтобы обеспечить успех. Все уже решено; в записках, лежавших на королевском столе, Джон Ди углядел дату. В мае месяце весь этот огромный флот выйдет в море. Из Нижних Земель, из Голландии, придет пополнение – большие плоты или баржи, полные солдат; то будет вклад герцога Пармского. Ди почувствовал, что представлялось сейчас королю и чего так боялся он сам: королева английская низложена, брошена в темницу или убита; на престоле – католичка Мария, а в мужьях у нее – Филиппов сын. Он содрогнулся – или то затрепетала его освобожденная душа, наблюдавшая эти картины грядущего. Король тоже вздрогнул: рука его затряслась, перо выпало из пальцев, заливая страницу чернилами. Тотчас откуда-то возник врач (судя по одежде) и укутал плечи короля теплым платком; слуга поставил перед ним кубок подогретого вина. Доктор Ди не знал и не мог узнать ни у кого, доживет ли король до того дня, когда Англию завоюют, и впрямь ли завоевание неизбежно – или, напротив, невозможно. На этом письмо, которое он распечатал и развернул в своей груди, подошло к концу и само собой сложилось в маленький квадратик, а доктор Ди снова очутился в своем кабинете, в Праге. Здесь уже вечерело, а то, что он видел в Испании, было утром. Где-то в городе вызванивал – медленно, как по мертвецу, – церковный колокол; в доме ему вторил колокольчик, созывавший к ужину. Доктор сел писать письмо – обычное, на бумаге, пером и чернилами – Уолсингему, в Лондон, простым шифром, которым они пользовались между собой. «Этого не миновать, – прочтет Уолсингем, расшифровав буквы. – Вот имена, вот цифры. Теперь уже скоро».
Эй Руа
Страна О’Доннелов из Тирконнела раскинулась к северо-западу от ольстерских твердынь Хью О’Нила: от мыса Малин, что на крайнем севере Ирландии, и до самого залива Донегал. К югу от залива лежали земли О’Конноров из Слайго и О’Малли из залива Клю; до залива Голуэй тянулись обширные владения Берков, а еще дальше к югу – земли О’Брайенов, графов Томонда. Закрепленных границ между всеми этими уделами было немного, и притязания на каждый лоскуток пастбища или делянку леса приходилось подкреплять силой; бывало, что спорщики бодро тузили друг дружку годами и, даже заключив мировую, вскоре опять брались за старое.
Нынешним главой клана был Эй Дув О’Доннел, он же Черный Хью, – точнее, сэр Хью: рыцарем его сделала королева, которой он присягнул на верность. Славное было звание, да только настоящую власть давало не оно, а имя О’Доннела. Это же высокое имя носила и та единственная, кто сейчас была ровней Черному Хью в землях О’Доннелов, – Фионнула Макдоннел из шотландских Макдоннелов из-за моря, дочь шотландского лэрда и его жены из Кэмпбеллов; все прозывали ее Инин Дув, Темной Девой, и была она женой О’Доннела и матерью девяти его детей. Одних детей она любила, а других недолюбливала, и для последних или уже для их детей это могло плохо кончиться, если им приходила блажь потребовать почестей или званий, которые Инин Дув берегла для отпрыска другого сына или дочери. А из собственных детей самым ее любимым был Эй Руа, Красный Хью: красный – потому что ярко-рыжий, как полагалось шотландцу; красный – потому что широкое, открытое лицо его было сплошь усеяно веснушками; красный – потому что меч его попил вдоволь крови, как стали говорить потом, когда он встал на сторону графа Тирона в последней войне против английских захватчиков и королевских войск.
Ему было всего пятнадцать, когда Хью О’Нил (приехавший в Тирконнел по делу – сговорить жениха, укрепить союз) впервые его заметил. Трудно было не засмотреться, как рыжий паренек, один против четырех своих младших братьев, скачет на пятнистом пони без седла и стремян, шлепая то одного, то другого прутиком, изображавшим меч, и со смехом уклоняясь от их ударов, чтобы тотчас развернуться и с пронзительным воплем броситься в атаку вновь.
– Призрак, – сказал О’Нил. – Туман. Такого не ухватишь. Но при этом стальной.
– Будет вам славным сыном, – посулил О’Доннел, положив руку ему на плечо.
Они уже уговорились (и Темная Дева дала свое согласие), что этот Красный Хью женится на внебрачной дочери О’Нила, которую его, Красного Хью, старшая сестра – Шиван, жена графа, – растила вместе со своими сыновьями, пока еще маленькими. – Шиван, – вспомнил Хью О’Доннел. – Она с вами счастлива?
– Думаю, да.
– А здорова?
– Да, и опять ждет ребенка.
– Молитесь, чтобы родился сын, – поддразнил его О’Доннел. – Если вообще молитесь.
Хью О’Нил не считал, что об этом стоит молиться. Пусть его темноволосая Шиван решает сама, кого ей родить – сына, дочь, а то и двойню, – и будь что будет. Но если б он мог, то помолился бы о таком сыне, как этот рыжий паренек, которого братья сейчас поднимали на руки, словно короля, празднуя вместе с ним его победу.

Ни О’Доннелы, ни свежеиспеченный граф Тирон не подозревали, что об этом самом пареньке в этот самый миг размышляют в Дублине.
Сэру Джону Перроту, лорду-наместнику, задали вопрос на заседании совета: что он намерен делать со строптивыми О’Доннелами и их ольстерским союзником, новым графом Тироном? Придется ли послать против них английские войска? Сэр Джон возвел глаза к потолку, словно ожидая, пока в его мозгу созреет мысль, но на самом-то деле мысль давно уже созрела – просто он еще ни разу ее не высказывал.
– Возможно, есть другой способ, – начал он. – С вашего соизволения, досточтимые господа, я бы попробовал заманить их в ловушку. Если получится, клан О’Доннелов больше не причинит нам хлопот.
Совет пожелал узнать, что это будет за ловушка, но сэр Джон уклонился от ответа. Дайте мне попытаться, сказал он. А уж если дело не выгорит (что вполне вероятно), то можно и прибегнуть к военной силе «и посмотреть, что мы можем предпринять». Члены совета проголосовали отложить слушания sine die[72], и лорд-наместник улыбнулся им, сложив руки на своем объемистом животе.
В один из ближайших вечеров сэр Джон прошелся по дублинским верфям, задавая нужные вопросы, и вскоре подходящий исполнитель нашелся. Этого морского капитана, по фамилии Скиннер, сэр Джон посвятил в свои планы и с помощью туго набитого кошеля убедил взяться за дело. Скиннер должен был набрать человек пятьдесят солдат и пройти с ними вдоль побережья к западу, в Донегал. На борту будет груз – неподслащенный херес и белые вина из Испании, чтобы казалось, будто корабль идет прямиком оттуда.
Под добрым ветром и на попутной волне судно Скинера обогнуло мыс Малин за сутки и уже на следующий день вошло в воды Лох-Суилли – не озера, а длинного фьорда, где и бросило якорь под стенами Ратмаллана, крепости О’Доннелов. Сложись все иначе, Красный Хью мог бы отправиться в тот день на охоту или конную прогулку со своими кузенами из клана Максуини; но он остался дома, как и мальчишки Максуини, и помощник капитана крикнул им с палубы: пусть, мол, поднимаются на борт, если хотят посмотреть корабль. Они поднялись; в каюте капитана им дали попробовать хереса (надо сказать, превосходного) и по стаканчику испанского вина, а потом и еще по чуть-чуть, из другой бутылки. Норд-вест набирал силу, и гостеприимный капитан оставил мальчиков пить и отдыхать, сколько им будет угодно, а сам, извинившись, пошел раздавать приказы. К тому времени как гости уронили на стол пьяные головы, этот норд-вест уже подгонял корабль к выходу из Суили на скорости двенадцать узлов за склянку, а дверь каюты, когда они ее проверили, оказалась заперта.
Через два дня корабль вошел в гавань Дублина. Молодых людей вывели из каюты под стражей, доставили в Дублинский замок и заковали в цепи. Затем они предстали перед судьями и выслушали приговор на языке, который мало кто из них понимал. «Ваши отцы будут вести себя смирно и делать все, что им прикажут уполномоченные слуги короны, а если нет, то за это ответите вы». Их отвели в камеру, ту же самую, где когда-то сидел граф Десмонд (там даже остался его герб, выцарапанный осколком слюды на трехногом табурете), и заперли вместе с целой толпой других разновозрастных ребятишек. Все это были заложники, которых семьи предоставили как ручательство того, что будут хранить присягу, данную короне; и всех их держали в оковах, которые тюремщик проверял каждый день.
Весь Север ярился, горевал и дрожал от ужаса. Граф Тирон разослал прошения всем влиятельным людям, каких только сумел припомнить. Он предложил правительству в Дублине тысячу фунтов как выкуп за пленников, на что Перрот ответил, что и двух тысяч было бы мало. Мальчиков взяли не ради выкупа: они сами – своего рода выкуп и неужто граф Тирон до сих пор этого не понял? В конце концов Перрот отпустил ребят Максуини – после того как Инин Дув преклонила перед ним свои старые, едва гнущиеся колени и заплакала. Максуини ему были без надобности. Но мальчишке О’Доннелов не было цены. Перрот написал королеве, что «мастер О’Доннел сослужит вам добрую службу, памятуя о том, что он шотландского рода и сговорен с дочкой самого могущественного из ольстерских вождей».
С тяжелым сердцем Хью О’Нил выехал к О’Доннелам – утешить их и обсудить, что еще можно сделать. Но, едва добравшись до старого форта в Каслдерге[73], он остановился и задумался. Что толку ехать в Донегал? Он отослал охрану на поиски провианта и крова, а сам уселся на поваленные камни под тусклым солнцем, едва пробивавшимся сквозь облака. Он думал о Десмонде: как тот томился в Тауэре, а потом – в сыром, промозглом Саутварке. Сколько лет он промучился в плену?
Неужто Красному Хью суждено провести юность в оковах?
Был лишь один человек, который мог решить его судьбу.
В рассеянном свете обсидиановое зеркало казалось пустым; иногда Хью не мог разобрать, что он там видит: знакомое лицо или просто пятна света, скользящие по черной глади. Но, когда из зеркала с ним говорили, он понимал – хотя, возможно, он лишь подслушивал слова, с которыми обращались не к нему, к ней самой, к Елизавете. Жена О’Доннелла, черная ведьма Островов, – она меня ненавидит! Свистящий шепот над ухом, чуть слышный. Она всегда меня ненавидела! С тех самых пор как на острове Ратлин разгромили этого разбойника, Сорли-Боя Макдоннела, и перебили всех пиратских девок и их щенков. Они все были ей родня. И поделом им!
О том, что случилось на острове Ратлин, О’Нил знал лишь со слов Инин Дув.
Она! – опять послышался шепот королевы. – Она – чудовище, колдунья! И она больше никогда не увидит свое отродье, этого ублюдка! Я так решила, и кто посмеет спорить со мной?
Хью поднялся с нагретого солнцем камня. Его спутники уже возвращались – вот-вот подъедут. Он разжал пальцы, и зеркало на цепочке скользнуло в вырез рубахи и легло ему на грудь. Пусть она вознесла его своей рукой, и нарекла благородным именем, и держит на волшебной привязи, но что в этом проку, если у него над нею меньше власти, чем у той, кого она ненавидит? Нет! Этот мальчик и его братья не умрут в тюрьме. Быть может, она и могла заглянуть в мысли Хью О’Нила и даже в самое его сердце, но она не знала его до конца. Никто не знал. Он сел в седло, вскинул руку в перчатке и указал на восток – назад, к Данганнону.

А затем пришел конец всем делам и сделкам, большим и малым; конец прошениям, и торговле о выкупах, и всем неразрешимым спорам между враждующими кланами. Прекратили и возводить в рыцарское достоинство старших сыновей английских колонистов, как делали раньше с дозволения лорда-наместника. Из Португалии и Нидерландов пришли известия, что испанский флот вышел в море и уже через неделю или месяц, может статься, не будет больше никакой Англии. Замерла вся Ирландия – или, по крайней мере, сердца и мысли тех, кто знал, к чему все идет. Хью О’Нила вызвали в Дублин держать ответ перед судом: он, дескать плел какие-то интриги в Монахане, с Макмахонами. Хью даже не ответил. Кому нужны Макмахоны, когда сама история так быстро принимает новый оборот? Когда Испания победит, вернет ли она остров ирландским святым и королям? А Дублину стоило бы подождать и посмотреть, кто возьмет верх, прежде чем оскорблять графа Тирона подобными обвинениями.
Это и были те великие события, которые предвидел в Праге Джон Ди: те картины, которые показали ему ангельские собеседники, теперь разворачивались въяве. Веком раньше математик и астроном, называвший себя Региомонтаном[74], построил небесную карту на год 1588-й от Рождества Господня: расписал все соединения и оппозиции, отметил обитателей всех двенадцати домов на этот год. Два лунных затмения должны были случиться наверняка, и это грозный признак; одно будет в марте, другое – в августе[75]. Сатурн и Марс, соединяясь в знаке Льва, будут неделями отравлять дом Юпитера[76]. Post mille exactos a partu virginis, писал Региомонтан в пространных латинских стихах, сопровождавших карту. «Как тысяча пройдет от рóдов непорочных, а вслед – еще пятьсот и восемьдесят восемь…»[77] Почему этот немецкий математик выбрал именно 1588 год для своих исследований? Какой ангел нашептал ему на ухо, что именно в этом будущем году, который теперь обернулся нынешним, зашатаются престолы, низвергнутся горы и звезды сойдут с назначенных путей? Джон Ди изучил расчеты вековой давности, пересчитал все сызнова и сам начертил карты; в положениях звезд ни единой ошибки не нашлось. Но к каким последствиям на земле приведет такая небесная какофония, сказать было невозможно. Точнее, сказать-то легко – но невозможно узнать наверняка.
Доктор Ди служил двум августейшим хозяевам. Ни королева Английская, ни император Священной Римской империи не отвергали предупреждений от звезд и планет. Оба были уверены: если звезды и предсказывают что-то о будущем, то предмет этих предсказаний – судьбы владык. Оба предполагали, что у доктора Джона Ди есть некие способы проникнуть в грядущее, будь то путем ученых штудий или иными средствами. Из этих двоих храбрее была королева – и как раз ее-то судьбой управляла непостоянная Луна, второе затмение которой придется на первые градусы Девы, знака Ее Величества[78]. «Нас не страшат предвестия»[79], – как-то сказала она, и весь двор и Лондон повторяли это за ней годами. Все отлично знали, что предсказывать смерть монарха, даже из самых лучших побуждений, – это государственная измена. И когда зловещих знамений накопилось слишком много, королевский совет приставил к делу памфлетистов, способных ученым языком оспорить или отвергнуть всякий признак надвигающейся беды.

– Ты слыхал о камне в Англии, который вышел из-под земли? – спросил Джона Ди император Священной Римской империи Рудольф II.
Он все-таки послал за англичанином, у которого за душой было еще немало секретов – и их предстояло открыть. Император уже много недель не выходил из королевских покоев своего огромного дворца в Градчанах. Не заглядывал даже в кабинет, где его ожидали великие решения. Он решил, что не будет ничего решать. Учитывая то, что маячило в недалеком будущем, безопаснее всего было сидеть и не шевелиться. Не предпринимать вообще никаких сколько-нибудь важных шагов.
– До меня дошли эти известия, ваше императорское величество.
Император сжимал в руках бумаги с таким видом, что доктор понял: он все равно хочет прочитать новость вслух.
– Мраморная плита, – промолвил император. – Веками пролежавшая в основании какого-то древнего аббатства.
«Гластонбери», – хотел было сказать доктор Ди, но его никто не спрашивал.
– Земля вздыбилась, словно схваченная судорогой. И извергла из себя этот камень, выбросила его наверх.
Доктор кивнул.
– На этой мраморной плите, которой до тех пор никто никогда не видел, – продолжал император, – были слова, словно выжженные или вырезанные резцом: Post mille exactos a partu. В точности, как у Региомонтана. – Он выпучил глаза и стал похож на печального пса. – Точь-в-точь его слова.
Его императорское величество потряс бумагами, зажатыми в кулаке, и доктор расценил это как разрешение говорить. Он знал Гластонбери назубок, каждый квадратный ярд. Он не боялся какого-то там камня.
– Звезды говорят, – начал он. – Но мы не всегда их слышим. И язык, на котором они говорят, нам неведом. Подобно человеку, приехавшему в чужую страну и очутившемуся на рынке или при дворе, даже мудрейший из нас может лишь предполагать и строить догадки: что это значит? А это?
Миг-другой император молча таращился на него, а потом не выдержал:
– Ну? И что же это значит?
«Первый ветер принесет время, – с беспечной уверенностью сказало Джону Ди золотое ангельское дитя, – а второй унесет его обратно»[80].
– Ваше императорское величество! Всем известно, что вы и сами давно уже изучаете движения звезд. Если мне будет позволено, я возьму сейчас это пророчество, прогремевшее по всему миру, и, по милости вашей, покажу, в чем оно несомненно, а в чем – сомнительно.
Император отвернулся, выронив бумаги, и подошел к большому глобусу Меркатора, стоявшему на подставке. Палец его прочертил путь от Лиссабона и испанских портов до берегов Англии.
– Боевые корабли испанцев уже вышли в море. Так мне сказал испанский посол. Королева английская может пасть. Католичество может вернуться.
– Ею правит Луна, – сказал доктор Ди. – Луна может терпеть превратности судьбы, но умереть не может.
Император Рудольф был внуком императора Карла, чьи владения некогда простирались на полмира.
– Он говорит, империи падут. Это как – несомненно? Или сомнительно?
Джон Ди подумал об Англии, о своей королеве, которая могла встретить следующее полнолуние уже в оковах. Империи состоят из королевств, королевства – из областей, области – из герцогств, а те – из городов, деревень и домов. Империй на свете множество: больших и малых, видимых и невидимых.
– Сам Региомонтан, наш Мастер с Королевской горы, быть может, твердо верил в свое пророчество и не сомневался в нем ни на миг, – сказал он Рудольфу. – Но он не сказал, какие именно империи падут. И сколько их будет.
Часть третья
Берег Стридах
Покаяние
Отвернувшись от окон, что выходили на море, и выглянув в другое, за которым вниз по склону тянулась каменистая дорога в деревню, Инин Фицджеральд увидела, что кто-то приближается к дому. Несладко ему приходилось: временами налетал ветер с дождем и срывал с него плащ – казалось, еще немного, и унесет совсем. Но путник успевал ухватить его и снова накинуть на плечи, запахнув поплотнее, – и продолжал карабкаться по камням, тяжело переставляя ноги. Все ближе и ближе. Сквозь стеклянные ромбы в переплете окна, иссеченные дождем, казалось, будто фигурка, медленно ползущая по дороге, становится то больше, то меньше, непрерывно меняя очертания. Порою ветер задувал так, что вода била прямо в стекло, и тогда человек на дороге вовсе исчезал из виду, словно потонув в этих нескончаемых потоках.
Кормак, подумала она. Тащился вверх от берега целый день, чтобы рассказать ей то, что она и без него уже знает. Очень в его духе. Она всегда узнавала первой обо всем, что случалось в окрестностях и на море, потому что ее дом стоял над деревней и выходил окнами не только на сельскую дорогу, что огибала Бен-Балбен с востока, но и на дорогу к морю и длинную каменистую косу; а у нее только и было занятий, что смотреть в окошко. Но Кормак все равно каждый раз приходил к ней с остывшими новостями. Куррах, на котором ушли в море четверо братьев, вернулся с приливом пустой и разбитый, лежит теперь перевернутый на берегу. С востока движется отряд английской солдатни, да с пушками, а командир ихний закован в броню. «Да, Кормак», – терпеливо отвечала Инин: она заметила их еще на рассвете, сосчитала пушки и приметила, как блестят на солнце доспехи. Она знала, что Кормак любит ее, а не праздные сплетни. Он притворялся, что приносит ей важные новости, а она – что эти новости и впрямь ей важны. Оба понимали, что это лишь притворство, и она на него не злилась, но сегодня все же почувствовала легкий укол раздражения. Дурак он, что ли, карабкаться сюда без толку в такую бурю?
Через окна, выходящие на море, она давно уже наблюдала, как огромные корабли напрасно сражаются с ветром, подгоняющим их все ближе к берегу. Черные, опушенные пеной валы вздымались так высоко, что корабли то и дело исчезали из виду, но затем появлялись вновь. Один был далеко – виднелось только белое пятнышко паруса; второй, западнее первого, еще боролся, пытаясь отвернуть от берега, а третий, похоже, покорился своей ужасной судьбе. Он был ближе всех; Инин различала красные кресты на его парусах, как будто сорвавшихся с мачт и полоскавшихся на ветру – или то были просто потоки дождя, налетавшие с порывами бури? Волны, что несли этот корабль на прибрежные камни, поднимались немыслимо медленно – как те исполинские сокрушительные валы, что порою вставали перед нею во снах. Казалось, каждая такая стена черного стекла, увенчанная пенным гребнем, будет расти бесконечно – и каждая рушилась с неимоверной высоты в последний миг, когда уже можно было поверить, что она не остановится, пока не вырастет до небес и не затопит весь мир.
Инин смотрела на море каждый божий день почти всю свою жизнь, но ни разу не видала такой катастрофы, как эта, – чтобы море пыталось уничтожить столько жизней сразу. Бывали шторма и похуже, но всю свою ярость они выплескивали на землю, а земле это было нипочем. Бывало и так, что море только слегка капризничало, а рыбаки из деревни все равно гибли – по одному или по двое, а куррахи их шли на дно; никто из них не заслужил такой участи, и от бессильного гнева Инин всякий раз становилось тошно на душе. Но таких огромных кораблей, как эти галеоны, каждый размером с господский дом, она в жизни не видела. Там, на палубах, должно быть, десятки – нет, сотни! – человек, и третий корабль подошел уже так близко, что Инин, внутренне трепеща от ужаса, разглядела, как эти крохотные человечки цепляются за мачты и снасти и пытаются срезать плещущие на ветру паруса – огромные, как луговины. Внезапно море накренило корабль, и один из матросов полетел за борт.
Что она должна была чувствовать? Пожалеть этих людей? Не получалось. Пожалеть о гибели этих плавучих замков? И этого она не могла: гордость за них была сильнее всякой жалости даже сейчас, когда они гибли у нее на глазах. Инин только и могла, что завороженно смотреть на битву двух исполинов: моря и галеона.
Те же самые ветра, что несли эти корабли к берегу, терзали ее дом, завывали в трубе и дребезжали стеклами в оконных рамах. Другие ветра, послабее, но такие же мокрые и соленые, гуляли по комнатам: нет от них защиты! В те краткие мгновения тишины, когда ветер менял направление, до Инин доносились звуки с настила под потолком, где ее отец бормотал молитвы: Ave Maria gratia plena Dominus tecum[81]. Если отец умрет нынче ночью, это будет правильно: сейчас она так захвачена этой грандиозной и напрасной гибелью сотен душ, что не чувствует ничего, кроме какого-то свирепого безразличия. Ни жалости, ни потрясения – ничего. А значит, не почувствует и всей той горькой вины, которую давно уже ожидала испытать, когда могучий и безумный дух ее отца наконец-то покинет тело. Она почти что… да, сейчас, когда плечи ее окутал очередной порыв холодного ветра с моря, она почти что желала, чтобы так оно и случилось.
Ближний галеон уже налетел на скрытые под водой камни старой дамбы, тянувшейся в море дальше, чем стрелка косы. Второй корабль, все это время сражавшийся с бурей, проиграл свою битву: теперь он лишь помахивал обвисшим парусом с неторопливым изяществом, точно дама – платочком, и волны уже без помех несли его на скалы, вздымавшиеся дальше к югу. Третьего она больше не видела. Море зашвырнуло его бог весть куда.
Незапертая дверь на дальнем конце дома распахнулась и снова захлопнулась. Инин вздрогнула от налетевшего сквозняка.
– Запри дверь, Кормак! – крикнула она и, неохотно оторвавшись от окна, вышла навстречу гостю в тесную, забитую хламом прихожую. – Ну ты и дурак, Кормак Берк! – сказала она и вполовину не так нежно, как собиралась. – Тащиться в эдакую даль да в такую погоду, чтобы сказать мне про эти клятые корабли, – это кем надо быть, а?
И тут она захлопнула рот, потому что гость, заложив дверь засовом, повернулся к ней – и это был не Кормак Берк, а кто-то совершенно незнакомый. Вода ручьями текла с его плаща и шляпы; на полу уже собралась лужа, и когда он шагнул навстречу Инин, под сапогами чавкнуло.
Инин попятилась:
– Ты кто такой?
– Не тот, кем ты меня назвала. Кое-кто промокший до нитки.
На долгий миг они оба замерли, сверля друг друга глазами. В прихожей было темно, и Инин не могла толком разглядеть его лицо. Говорил он по-ирландски, но на шотландский манер, и даже голос у него был сырой, словно дождя нахлебался.
– Будет ли мне позволено, – произнес он наконец, – просить гостеприимства под этим кровом? И я бы не отказался посидеть у огня, если вы топите очаг. Я не причиню никаких хлопот.
Он медленно протянул к ней руки ладонями вверх, словно желая показать, что при нем нет оружия. Инин почудилось, что ладони его светятся в полутьме прихожей – тем слабым светом, каким мерцают во мраке серебряные вещицы и створки морских ракушек.
– Да, проходите! – опомнилась она. – Посидите, погрейтесь. Я бы и не подумала вас прогнать!
Гость стащил с себя плащ, отяжелевший от воды, и последовал за Инин в большую комнату, где было потеплее да и света побольше. Миг-другой он постоял, озираясь вокруг так, словно составлял опись вещей, имевшихся в комнате, или пытаясь припомнить, не бывал ли он здесь когда-нибудь раньше. Затем прошел в теплый угол у очага и повесил там на крючок плащ и шляпу.
– У нас редко бывают гости, – сказала Инин.
– Странно, – отозвался гость. Волосы у него оказались седые и редкие, а лицо – такое же белое, как ладони, которые по-прежнему будто светились даже теперь, в свете очага и лучин. Большие бледно-голубые глаза смотрели на Инин с какой-то насмешливой печалью, от которой ей стало не по себе.
– Что же тут странного? Мы далеко от проезжих дорог.
– Но это лучший дом во всей округе. И если путник не поленится сделать крюк, то, быть может, найдет здесь что-то получше глотка воды.
Ей бы возмутиться от такой расчетливости, но Инин не смогла, а потому просто сказала, что думала:
– Вы здесь чужой.
– О да.
– И откуда же вы?
Он проговорил какое-то шотландское название, едва помещавшееся во рту, и добавил, что зовут его Сорли.
– Как Сорли-Боя?
– Не из этого клана. Не этой фамилии, – сказал он с легкой улыбкой, от которой у Инин мелькнула мысль, не врет ли он, а потом еще одна – пусть даже и врет, ей-то какое дело?
– А вы, позвольте спросить, как прозываетесь?
– Инин, – сказала она, отводя взгляд.
– Спору нет, – снова улыбнулся он; и верно, ведь по-ирландски «инин» – это просто «девушка».
– Инин Фицджеральд, – уточнила она.
Другой бы на его месте отстал от нее. Но она уже понимала, что этот Сорли не успокоится, и действительно, он тут же спросил, отчего это люди с такой фамилией забрались так далеко на север.
– Долгая история. – Она пожала плечами и снова повернулась к окну. Ближний испанский корабль уже прочно сидел на мели, зияя пробоиной в борту и набирая воду. Волны прибоя раскачивали его, и казалось, корабль тяжело дышит, как умирающий бык. Кругом колыхались обломки, доски и бочки. Инин прищурилась, пытаясь разглядеть, не цепляются ли за них люди. Ей вдруг стало страшно: она поняла, что море может забрать не всех. Кто-то из этих десятков и сотен уцелеет. И они выберутся на берег. Испанцы. Испанские солдаты. Что же тогда будет?
– Это всего лишь люди, – заметил Сорли.
Весь день Инин не могла думать ни о чем, кроме как об этих кораблях. Голова была занята только ими, и ей даже не показалось странным, что гость словно прочел ее мысли.
– Так сейчас по всему побережью, – продолжал он, – от Донегала до Керри. Кораблей разбилось без счета. А из людей мало кому удается выплыть.
– Зачем они сюда приплыли? И почему так много?
– Не намеренно. Сюда они не собирались. Они плыли завоевывать Англию. Но море и ветер пригнали их сюда.
Инин обернулась к нему.
– А откуда вы столько знаете о них?
– В дороге я всегда держу глаза и уши нараспашку.
– Значит, вы пришли с юга.
На это он ничего не ответил. Ветер набрал силу и оглушительно свистнул; дождь свирепо хлестнул по соломенной крыше, а снаружи через двор что-то с грохотом пронеслось – то ли ведро, то ли грабли. Инин вздрогнула от внезапного шума, а отец на своей лежанке застонал и забормотал покаяние: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою…[82] Сорли вскинул голову и уставился наверх, в полумрак настила.
– Кто еще в доме?
– Мой отец. Он болен. – «Безумен и при смерти», вот как следовало бы сказать. – Еще служанка. Но она пошла к морю посмотреть на корабли.
– Когда испанцы выберутся на берег, – сказал Сорли, – их всех перебьют. Они будут без сил, нахлебаются воды. Легкая добыча. Кого-то забьют мотыгой или топором, кого-то забросают камнями или зарежут. Так что и тот, кто не утонет, долго не проживет. – Все это он произнес так спокойно, словно рассуждал о чем-то, что случилось давным-давно, много лет назад. – Надо же так влипнуть! Уцелеть в море, но, как на грех, не уметь связать двух слов по-ирландски.
– Не может быть… они не… Она все-таки была из Джеральдинов, из норманнов, пусть и павших так низко, а потому не питала иллюзий по поводу тех, кто жил внизу, в деревне. Но перебить испанцев, своих верных друзей, только из-за то, что они чужаки, – это даже ей казалось немыслимым дикарством. А Сорли только улыбнулся своей тонкой улыбкой, словно приклеенной к губам, и Инин подумалось, что он улыбается так же, как хмурятся ястребы, – не по настроению, а в силу какого-то свойства натуры.
– У вас не найдется чего-нибудь поесть? – спросил он. – Я, по правде сказать, уже ужинал, но это было вчера.
Инин вспыхнула от стыда – за долгие годы изгнания она совсем забыла, как принимать гостей! – и пошла искать, что можно подать на стол. Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, она вскрыла одну из немногих оставшихся бочек и нацедила кувшин красного вина, прихватила селедки и хлеба и вернулась к Сорли. Тот уже сидел на скамеечке у огня, разглядывая свои бледные, длиннопалые руки.
– Видите, сколько сегодня нанесло с моря? – сказал он, и только теперь Инин поняла, что руки его припорошены какой-то белой поблескивающей пудрой. – Это соль, – пояснил он.
Такой же белый налет покрывал и лицо гостя. Инин приняла его слова на веру, не задумавшись о том, что камни и плавник, долгое время проведшие в морской воде, и впрямь могут покрыться белой коркой, но с ее-то лицом и руками ничего такого не происходило, хотя она частенько целыми днями гуляла по берегу. Она принесла миску воды, и Сорли сполоснул руки, но, когда вынул их, мокрая кожа по-прежнему блестела, как перламутр.
– Теперь в этой миске – морская вода, – сказал он. – Посмотри в нее, Инин Фицджеральд.
Инин послушалась, хотя ей почему-то стало страшно. Миска была старая, с толстыми стенками, из темной потрескавшейся глины. На какой-то странный миг Инин увидела в ней море целиком – словно превратилась в чайку или самого Господа Бога, глядящего вниз с высоты; зыбь, расходившаяся по воде от рук Сорли, плескалась о края миски, как приливы – о края земли. Потом она увидела, как что-то движется по поверхности – что-то неясное и многоликое, будто морские твари всплывают из глубин посмотреть на нее, пока сама она смотрит на них; но уже миг спустя Инин поняла, что это ее собственное лицо отражается в миске. Она рассмеялась и перевела взгляд на Сорли; улыбка его стала шире, и страх ушел. Появилось такое чувство, что она играет с ним в какую-то детскую игру, и это их как будто сблизило, а от чувства близости пришел восторг – почти такой же свирепый и равнодушный восторг, с которым она наблюдала за тонущими кораблями. Инин уже понимала, что ее околдовывают и она вот-вот поддастся этим чарам – чарам, что сродни стремительным морским ветрам и штормовым тучам; чарам, которые дадут ей свободу. «Прекрати это сейчас же, сумасшедшая девчонка! – сказала она себе. – Совсем сдурела от одиночества! Прекрати немедленно!» Она запахнула шаль поплотнее. Сорли ел селедку с хлебом – не спеша, понемножку, словно и не был голоден. Потом плеснул вина из кружки в щербатую чашку и слегка пригубил.
– Канарское, – заметил он. – И превосходное.
Не соображая, что делает, Инин налила и себе полную чашку.
– Что ты делаешь так далеко от дома, Сорли? – спросила она.
– Ищу себе жену, Инин Фицджеральд.

Внизу, на берегу, Кормак Берк беспомощно смотрел, как волны наискось накатывают на камни и, сложившись пополам, разбиваются в прах; непрестанный шум их был точно рокот грома, что набирал силу снова и снова, но так и не срывался в раскат. Кормак сорвал себе горло, пока пытался перекричать прибой. Несколько обломков еще колыхалось на волнах: оконная рама, доска от бочки. Вдоль всего берега, сбившись кучками – по одиночке было небезопасно, – носились селяне; натыкаясь то на одно, то на другое сокровище, они разражались радостными воплями. Кормак хотел было организовать отряд: впереди поставить вооруженных мужчин, за ними – остальных; женщин отправить на сбор добычи, священника – на помощь умирающим. Да какое там! Безнадежно. Он пытался объяснить им, что нужно сделать три вещи: подать помощь раненым, собрать и аккуратно сложить все полезное, а солдат разоружить и на какое-то время взять под стражу, потому что англичане наверняка объявят их захватчиками, а ирландцев, которые решатся помочь им, – бунтовщиками. Оружие, какое при них найдется, нужно отобрать и спрятать; а потом, позже… Но все было напрасно. Море сходило с ума, и вся деревня тоже как будто обезумела. На берегу, уже полузасыпанные песком, лежало три… нет, четыре тела. Если бы Кормак не знал, что это испанцы, то теперь, когда стемнело, он бы, верно, даже не признал в них людей. Но он знал; он был с остальными селянами, когда море выбросило этих четверых на берег. Они поползли прочь от воды и, шатаясь, поднялись на ноги; они тянули к нему руки: Auxilio. Succoro, Señores[83]. Но ирландцы, накинулись на них, рыча, как звери, пуча глаза и раздувая щеки; Кормак едва узнавал знакомые лица. Не успел он опомниться, как они перебили всех, – даже самого Кормака чуть не убили, когда он попытался остановить их. И теперь он просто стоял в стороне, с ужасом ожидая продолжения: если на берег выберутся еще испанцы, ему опять придется вмешаться и пойти в одиночку против безумия, охватившего селян. Просто взять и уйти он не мог. Но и остановить их не было способа.
Вот если бы у него было ружье…
Кормак отвернулся от моря и посмотрел наверх – туда, где над самым гребнем дамбы виднелась крыша Фицджеральдов. Горит ли у них свет? Похоже, да. «Ну и что же ты сделал, когда они выбрались на берег, а, Кормак?» – «Ничего нельзя было сделать, Инин. Всех испанцев убили». Пока он стоял, ноги глубоко увязли в мокром песке; он с усилием вытащил их и побрел по гальке вдоль полосы прибоя, поглядывая то на море, то на кучки людей, рассыпанные по берегу, то на маячивший вдалеке последний корабль, чьи мачты уже не вздымались над волнами, а кренились все ниже и ниже с каждой минутой.

Дело было не в вине – ну, или не совсем в нем, хотя, стоя у бочки и набирая второй кувшин, Инин заметила, что губы и нос у нее слегка зудят и вот-вот онемеют, а руки плохо слушаются. Тогда она упрекнула себя вслух – не надо было столько всего рассказывать этому чужаку, и тут же сама над собой рассмеялась.
Она рассказала ему об отце: тот когда-то был священником и приходился кузеном Фицджеральду, графу Килдару. Англичане уговорили его перейти в новую веру, пообещали, что королева скоро сделает его епископом, – и он поддался, хотя вся родня сочла это позором. Он отрекся от своих обетов и от Истинной Церкви и женился на изнеженной дочке какого-то английского полковника. Семья отреклась от него; жена его презирала и ненавидела ирландцев и все ирландское. В конце концов она вернулась в родительский дом – вскоре после того, как их служанка, гэльская девушка, произвела на свет ее саму, Инин. Что же до обещаний, то отец отправил в Лондон сотни писем и ездил в Дублин раз двадцать, но англичане так и не сделали его епископом – да и с чего бы им, когда одних обещаний хватило, чтобы переманить его в свою церковь? В конце концов он лишился даже того безлюдного англиканского прихода, в котором слушать проповеди было почитай что некому: Десмонд, тоже из его дальних кузенов, поднял восстание против англичан с их ересью, и отцу Инин пришлось спасаться бегством на корабле, а не то его повесили бы собственные прихожане. Отчего он сошел с ума? От всех этих злоключений? Или то сам Господь покарал его за отступничество? Англичане вышвырнули его сюда, в западную глушь, дали ему долю в торговле вином – вином! которое он когда-то своим дыханием пресуществлял в кровь Христову! – и предоставили жить на выручку, как никчемному перекупщику. Неужто всего этого мало, чтобы сойти с ума? Или все-таки не обошлось без Господней кары?
– Но ты-то не сошла с ума, Инин, – сказал Сорли, и она увидела, что с него все как с гуся вода: ничто в его лице даже не дрогнуло от ее рассказа. – А капитан Десмонд, который сражался за Матушку-Церковь, погиб. И чья это кара, скажи на милость?
Инин подняла кувшин и наполнила чашки; две капли брызнули ей на льняной рукав и расплылись кровавыми пятнышками. Макнув рукав в миску с водой, она принялась рассеянно замывать их.
– Не хотела бы я утонуть, – пробормотала она. – Это хуже всего.
– Держись подальше от моря.
– Говорят, когда люди утопают, они видят сокровища, погибшие в море, – затонувшие корабли, золото, самоцветы.
– Да неужели? У них, должно быть, при себе есть свечки, чтобы разогнать темноту.
Инин рассмеялась и отерла рот. Ее отец вскрикнул во сне и захрапел, будто кто-то душил его подушкой. Затем снова вскрикнул, громче прежнего. Он звал ее по имени; он проснулся. Инин подождала немного, виновато надеясь, что он снова уснет. Но нет, отец окликнул ее снова – и по голосу она поняла, что он вот-вот ударится в панику, которая ей всякий раз была как ножом по сердцу.
– Да, отец, – кротко сказала она и, подойдя к шкафчику в углу, взяла кувшинчик с порошком. Всыпала немного в чашку с вином, зажгла от очага лучину и осторожно поднялась наверх, держа в одной руке лекарство, а в другой – свет. Отец выглядывал из-за занавесок; в белом ночном колпаке и с расширенными от страха, покрасневшими глазами на бледном лице он походил на перепуганного кролика, высунувшегося из норы.
– Кто это там в доме? – спросил он громким шепотом. – Кормак?
– Да, – сказала Инин. – Всего лишь Кормак.
Она помогла отцу выпить вино, поцеловала его и прочла над ним молитву; отец снова застонал; тогда она заставила его лечь, говоря спокойно, но властно, как с ребенком. Он откинулся на подушки; глаза его, пронизанные красными жилками, все еще испуганно всматривались в ее лицо. Инин улыбнулась и задернула занавески.
Сорли все так же сидел у огня, вертел в руках чашку.
Почему она солгала отцу?
– А еще говорят, – сказала Инин, отхлебнув вина, – будто на дне морском тоже есть епископ. Рыбий епископ.
Она как-то видела его на картинке в отцовском бестиарии.
– Конечно, – кивнул Сорли. – Кто-то же должен женить и хоронить.
– Интересно, по какому обряду он служит?
– И рыбья сваха тоже есть, называется скумбрия. Ох, люди! – Он улыбнулся и покачал головой. – Думают, даже рыбы живут по их законам. Жалкая горстка существ, теснящаяся на суше, которой на свете раз в десять меньше, чем морей, – а поди ж ты, выдумывают рыбьих епископов.
– А как там на самом деле? Ну, в море? – спросила она, почему-то не сомневаясь, что он это знает.
– Пойдем со мной, и увидишь, – сказал он.

И они пошли, но не к морю. Руки у него были холодные, но сильные: Инин не смогла бы отбиться, даже если бы захотела, – но она не хотела. Она думала, что придется зажать ему рот рукой, чтобы он не вскрикнул, но если кто и кричал той ночью, то не он. Когда все кончилось, она заснула как убитая, а когда проснулась, его уже не было рядом. Отец тоже проснулся и звал ее, но она сделала вид, что не слышит. Поднявшись, она почувствовала, как между бедер стекает что-то липкое; должно быть, кровь, подумала она, но нет, крови не было.
Он не мог уйти далеко. Откуда она это знала? Просто знала, и все. Закутавшись в большую черную шаль, Инин вышла на двор; ночь сменилась днем, но буря по-прежнему терзала небо и море. Корабль, за которым она наблюдала вчера, еще виднелся у берега: он лишился мачт и беспомощно трепыхался, колотясь о скалы, точно недоеденный кусок в зубах мастифа. Инин стала спускаться к морю и действительно вскоре увидела Сорли: он шагал той же дорогой, но далеко впереди и придерживал шляпу, чтобы ее не унесло ветром. Инин дошла до того места, где ночью выбрались на берег люди с испанского корабля; тела их, темные и бесформенные, точно тюленьи туши, были наполовину присыпаны песком, и было ясно, что никакая душа не найдет посмертный покой в таком месте. Что бы там ни было, а их надо похоронить по-христиански. Надо будет попросить Кормака Берка, он поможет.
А он, Сорли, прошел мимо трупов, даже не повернув головы, и продолжал шагать к большим камням – туда, где бухта вдавалась в сушу глубже всего. Еще по дороге он сбросил шляпу, за ней и плащ, а когда добрался до скал, был уже совершенно наг – как этой ночью в ее постели. И когда он наклонился, нашарил что-то в расселине, набитой сухими водорослями и осколками камней, и стал надевать на себя то, что нашел, Инин уже знала, с кем провела ночь. Впрочем, она в каком-то смысле знала это все время, но теперь увидела своими глазами, и теперь ей было о чем подумать. Подумать, что из этого выйдет сейчас и потом, в грядущие месяцы и годы.
«Гран-Грин»
Еще за несколько дней до того в Данганнон дошли известия, что англичане оттеснили испанский флот в Северное море и идут следом; похоже, испанцы хотели обогнуть Шотландию и выйти в открытый океан, чтобы вернуться домой таким путем. Но шторм, настигший их по дороге, пригнал корабли к западным берегам Ирландии и сокрушил о скалы Донегала. О’Нил и старый Хью О’Доннел послали на побережье столько людей, сколько смогли, и выехали сами с отрядом галлогласов, хотя и понимали, что не успеют добраться вовремя, чтобы предотвратить резню. «Спасти тех, кого можно спасти! – приказали они передовым отрядам. – Если найдется оружие, спрятать его; если нет, то всеми силами постараться задержать англичан, которые придут убивать испанцев». Но вскоре несколько человек вернулись и донесли, что Гранья О’Малли со своими матросами прошлась вдоль берегов острова Клэр и собрала полумертвых испанцев с разбившегося корабля «Гран-Грин», а потом – О’Нил ума не мог приложить, почему, – ее люди забили их насмерть палками; «как тюленей», – добавили гонцы. – Их не спасти! – крикнул на ветру О’Доннел, – Слишком поздно!
– Некоторых еще можно, – возразил О’Нил. – Мы должны!
Они поскакали дальше на запад; через некоторое время О’Доннел отстал. Хью повернул обратно, за ним.
– Милорд, – сказал О’Доннел. – Если нам удастся собрать хоть скольких-то там… я бы хотел предложить из них человек тридцать или больше лорду-наместнику Перроту. Отправить их в Дублин. – Как заложников в обмен на свободу вашего сына?
– Да.
– Но вы же знаете, если лорд-наместник согласится, он возьмет твоих заложников и просто перебьет их. Это если он согласится. Или сделает вид, что согласен.
– Нет, нет! – жалобно воскликнул О’Доннел.
О’Нил подъехал ближе и взял его коня под уздцы.
– Эти испанцы… А если и нам однажды, как им теперь, доведется искать убежища в чужой стране? Если мы выдадим их англичанам, Бингему и Перроту, чтобы те повесили их или вышибли им мозги, то и мы сами навеки уйдем во тьму.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом О’Доннел повернул коня, и они поехали дальше бок о бок. Буря стихала; кони осторожно ступали по раскисшей дороге; факелы в руках галлогласов, ушедших далеко вперед, шипели и рассыпали искры под моросящим дождем. Все это было безнадежно. Скоро объявили привал и послали за передовыми, чтобы те поворачивали назад: ничего уже не поделаешь, они опоздали. Сердце О’Нила переполнилось гневом – и на англичан, и на собратьев-ирландцев. Если он решит отвоевать для них землю, если он поведет за собой таких людей, чем все это кончится? Англичане убивали в политических целях; они плевать хотели на тех, кого убивают, но, по крайней мере, знали, зачем это делают. А он сам – кто он такой? Один из англичан? Один из своего народа? Или просто один, сам по себе? Кролик или охотник, преследователь или беглец? «Не смотри на их страдания. Смотри на меня». Быть может, в юности его и впрямь сделали одним из них, англичан, и ему следует поступить с этими испанцами как с законной добычей и получить за их головы столько, сколько удастся. И все-таки он не мог.
– Мы освободим вашего сына! – крикнул он. – И его, и всех остальных! Жизнью своей клянусь, так и будет! То, что началось сейчас, уже не закончится – ни после нашей смерти, ни потом, никогда. Оставайтесь со мной, сэр, и мы пойдем этой дорогой вместе!
Пока они так стояли, из тьмы вынырнули факелы. Пешие факелоносцы, которых выслали вперед, возвращались с криками: «Они идут сюда! Испанцы!» Рассвет еще только занимался, тучи так и не разошлись, но, проехав немного вперед, О’Нил и О’Доннел сами увидели испанских моряков и солдат, ковылявших по дороге им навстречу: одни поддерживали своих товарищей, другие размахивали руками, призывая на помощь или моля о милосердии. На что они могли надеяться? Чего ожидали? Хью О’Нил вскинул руку, чтобы его спутники не спешили и не пугали испанцев.
– Откуда они взялись? – спросил сам себя О’Доннел. – Не из Донегала, это уж точно. Там всех перебили.
– Эти, однако, живы, – сказал О’Нил и сделал то, что делал очень редко: поднял руку и перекрестился. Что, если они все-таки мертвы и будут так брести лишь до тех пор, пока не рассветет? Но нет; он узнал того, кто вел за собой этих солдат и моряков, широко и твердо шагая во главе отряда. Гонец Граньи, тот самый, который много лет назад отвез Гранье от Хью О’Нила тайный план, как разделаться с Шейном: – Эй, скороход! – крикнул он погромче. – Кто эти люди?
Гонец подошел к лошади, на которой ехал Хью, и остановился вровень с ее мордой. Уперев руку в бок, он задрал голову, посмотрел графу Тирону в глаза и улыбнулся чуть заметной, ничего не выдающей улыбкой.
– Это все, кому удалось спастись с корабля «Гран-Грин», – сказал он. – Моя госпожа отправила галеры. Разослала людей по всему побережью от Киллибегса до залива Клю, чтобы они собрали всех, кому удалось выплыть.
О’Доннел наклонился к нему с седла:
– Мы слыхали другое. Что О’Малли их всех перебили. Зарезали и побросали в море, забили палками, как тюленей.
Гонец услышал О’Доннела и кивнул, словно соглашаясь со сказанным:
– Да. Именно так говорят – и будут так говорить и впредь. Скорее всего, никто не станет искать их в песках или водах залива. Если и станут, найдут лишь немногих. А это – те, кто остался, и их куда больше.
– Она схитрила! – рассмеялся Хью О’Нил. – Королева Гранья всех обвела вокруг пальца!
– Она пожелала известить вас, что этих людей надобно спрятать от любопытных ушей и глаз. Не говорить о них никому, даже своим, насколько возможно. Обставить дело так, как будто этих людей нет и не было.
– Она хочет, чтобы мы помогли им вернуться в Испанию?
Гонец лишь качнул головой, словно на этот вопрос у него ответа не было, но потом добавил:
– Всех их, сколько ни есть, я вверяю вашему попечению, милорд.
Он легонько склонил голову набок – с той же упрямой непочтительностью, которую Хью О’Нил хорошо за ним помнил, – отступил на несколько шагов, соблюдая учтивость, и только потом повернулся и зашагал обратно той же дорогой, которой пришел. Миг-другой – и он скрылся из виду.
– Откуда он знал, какой дорогой вести их через Ольстер? – удивился О’Доннел. – Лучший путь – не самый короткий.
Хью О’Нил, граф Тирон, ощутил маленький осколок кремня, надежно спрятанный в кармане, – почувствовал его, даже не касаясь пальцами.
– Возможно, его проводили. Или подсказали, куда идти.
– Проводили? Подсказали? Но кто?
– Смотрите-ка, день настал! – со смехом воскликнул Хью и повернул коня.

О’Нил говорил людям правду: ведь из тех испанцев, которые спаслись с тонущих кораблей и попали в руки англичан, посланных прочесать побережье, пощадили только благородных, чтобы взять за них выкуп. Прочих отправляли в Дублин на казнь или убивали прямо на месте. О тех, кого спас граф Тирон, стало известно позже; говорили, их было не меньше двух тысяч, но в историях о войне число победителей, как и побежденных, всегда растет с каждым очередным пересказом. Большую часть спасенных он переправил в Шотландию, а некоторых поселил на северном полуострове Иниш-оуэн, пригнав туда огромное стадо коров, чтобы им не пришлось голодать. Он мог себе это позволить. Некоторые же растворились в холмах и горах Ольстера: пасли овец, ловили рыбу в озерах, перегоняли коров. А один, не моряк и не солдат, прослужил Хью О’Нилу верой и правдой много лет: тренировал солдат, работал секретарем, переводчиком и советником. Звали его Педро Бланко[84].
То, что испанцы были смуглее местных, а некоторые и вовсе казались черными маврами, не вызывало ни особых насмешек, ни страха; постепенно, лет за десять, к ним привыкли настолько, что вообще перестали обращать внимание. Эти солдаты, оставшиеся без оружия, и моряки, которым больше не суждено было выйти в море, выучили новый язык; многие нашли себе жен; многие, в том числе и те, кто остался холост, настрогали детишек. На мессах они молились на прежнем своем языке, и латынь их звучала не так, как у соседей, но те языки, что росли у них во рту, годились не хуже прочих, чтобы ирландский священник положил на них пасхальную облатку. И лишь когда их наконец призвали на войну, выдали оружие и доспехи из потайных кладовых графа Ольстерского и лорда Тирконнела и повели на юг сразиться в последней битве, они снова стали внушать страх: одетые в белое, как в те времена, когда были моряками, и дахата дув, темноликие, они казались выходцами из того черного племени О’Донахью, что не отбрасывают тени. Но они шли на бой так, будто снова всходили на старые свои корабли, покидая Испанию ради Ирландии; они шли сражаться против англичан за Ирландию и за тех, кто их спас.
Чудовище
Он взбирался на складчатые скалы – туда, где она, высокая и заметная издалека, любила подолгу стоять, распустив рыжие волосы и плотно закутавшись в черную шаль.
– Инин! – позвал он. Она не обернулась. Подойдя ближе, чтобы ветер не уносил слова, он повторил: – Инин!
– Кормак, – сказала она, но так, будто его здесь не было. Он к этому привык, и все же сегодня не готов был смириться с ее обычным пренебрежением.
– Инин, не надо бы тебе так разгуливать. В таком виде.
– В каком это виде, Кормак?
– Ты знаешь, о чем я. Ты ведь носишь дитя.
– Другие женщины ходят повсюду даже на сносях и гуляют по берегу.
– Ты не такая, как они. Не из простых.
– Ты не знаешь, Кормак, но я ведь из гэлов. Мой отец полюбил гэльскую девушку. Она родила меня – и умерла в родах. Так что я тоже из простых. Такая, как все.
Оба теперь смотрели на море, туда, где когда-то сели на мель и разбились испанские корабли, – потому что она не хотела смотреть на Кормака, а он решил, что, коли так, то и он не станет на нее смотреть. Сейчас море не ярилось. Над головой наперегонки неслись белые облака.
Говорили они по-английски.
– Да и потом, что мне еще делать, Кормак? Предлагаешь мне засесть дома со старым сумасшедшим отцом и заколотить ставни?
Кормак сцепил руки за спиной, словно стараясь не дать им сделать что-то, о чем пожалел бы.
– Скажи мне наконец, Инин. Кто это был? Кто сделал тебе ребенка? Ты должна мне сказать!
– Я ничего тебе не должна.
– Кто?
– Никто. – Тут он все же повернулся к ней, и она волей-неволей на него посмотрела. – Ты все равно его не знаешь, и его имя тебе ничего не скажет. – Мизинцем она отбросила с губ прядь волос, растрепавшихся на ветру. – Шотландец, – добавила она и засмеялась над тем, как его ошарашила эта новость. – Почему тебя это так волнует?
– Во-первых, если бы я был знаком с ним или знал, где его найти, я бы за тебя отомстил. Клянусь. А во‑вторых… – Он резко отвернулся и теперь уже сам заговорил так, будто ее здесь не было. – До того, как это случилось… Я хотел просить твоей руки. Ты и сама это знаешь, Инин. И до сих пор хочу.
Она опустила голову; насмешливая улыбка, в которой кривились ее губы, исчезла.
– Ты всегда был мне хорошим другом, Кормак Берк.
– Мог бы быть и получше. Мог бы стать отцом этого ребенка.
– Нет.
– Шотландского ребенка.
Она протянула руку, как будто хотела коснуться его рукава, но так и не коснулась.
– Кормак! Ты был мне другом, а потому я прошу тебя: не спрашивай меня больше никогда об этом ребенке. Я не отвечу. Ответа нет.

Отец умер незадолго до начала зимы. Кутаясь в плащи и сражаясь со встречным ветром, мужчины и женщины из деревни отнесли его в старую церковь. То, что он перешел в новую веру, для них ничего не значило. Для них он был настоящий священник, а значит, лежа здесь, под плитами пола, он будет помогать, если задобрить его как следует – и сами похороны стали первым шагом к тому, чтобы снискать его милость.
После этого Инин осталась совсем одна. И она знала, что должна сделать. Он хотел, чтобы все случилось в часовне маленького монастыря, где ему дали кров и работу, когда он только-только сюда приехал, но Инин не согласилась. Она предпочла старую церковь, которая показалась бы прохожему ветхими развалинами. В этой церкви, под небом, видневшимся сквозь проломы в крыше, безо всякого священника, без свидетелей (не считая деревенских женщин, которые с недавних пор стали приглядывать за Инин, почуяв на ней печать неблагого), она принесла обеты, связавшие ее с Кормаком Берком, отверженным сыном графа Кланрикарда[85]. Он надел ей на палец кольцо своей покойной матери. Она вручила ему крохотный псалтырь, запирающийся на ключик, – ее отец любил и берег эту книжицу. Той ночью в доме на холме она заявила Кормаку, что не пустит его в свою постель ни сейчас – в ее-то положении, ни потом, никогда. Их брак, если это можно назвать браком, останется целомудренным. «Я – чудовище, – сказала она Кормаку, глядя на него огромными, горящими глазами. – И то, что растет во мне, – тоже чудовище, еще страшнее. И если оно не пожрет меня изнутри, то наверняка прикончит при родах».

На шестом месяце она гуляла по берегу босиком, плотно закутав шалью себя и будущего ребенка. В часы отлива каменистая отмель вдалеке обнажалась, и тюлени целым стадом выходили на солнышко погреть свои холодные тела, хлопали ластами, поднимались, задирали головы и снова укладывались. Рыбаки говорили: когда они начинают вот так собираться, это значит, что самки ждут детенышей и опростаются к зиме.
И она тоже.
Тюлени пели; так называли это рыбаки. Порою один из них или несколько выбирались на берег и принимались жутко хрипеть или кряхтеть; такие звуки издает пьяный, если не может удержать вино в желудке. Но когда они собирались на своем каменном ложе вдали от берега и заводили песню все вместе или по очереди, отвечая друг другу, то было совсем другое дело. Звучало приятно. Инин это выводило из себя. Она возненавидела эту их песню – словно льнущую к ней, чарующую, подчиняющую. «Fubún!» – кричала она, перебарывая ветер. Fubún – на вероломных безногих тварей, на пятнистые морды, на бесстыдные случки, fubún – на тех, кто вылезает на берег и ходит на двух ногах, притворяясь людьми! Fubún – на все, что они берут, fubún – на все, что они дают. Святую Киву[86] вскормила волчица, и на большом пальце ее левой руки рос длинный черный ноготь – память о родстве с кормилицей. А чем она, Инин, наградит своего выкормыша – если, конечно, сможет выкормить то существо, что растет у нее внутри? Fubún. Чувствовать, как сходишь с ума, было по-своему занятно.
На восьмом месяце Кормак Берк ушел. Он ходил за ней следом много дней, когда она спускалась на берег и гуляла, глядя на море, но всегда держался поодаль, не хотел подходить близко, и ее это устраивало. Так он не мог слышать проклятия, которые она выкрикивала на ветер, – слышал только, что она что-то кричит. По ночам она засыпала одна на своей старой кровати; женщины из деревни, взявшиеся приглядывать за ней, по очереди ночевали рядом, на полу или на пороге. Случались дни, когда она могла терпеть общество Кормака, и тогда они вдвоем сидели в большой комнате, но почти все время молчали; Инин ткала на ручном станке, а Кормак читал учебник латыни, который когда-то дали ему братья из монастыря. Когда она ложилась спать, он устраивался на настиле, где умер ее отец, но не всякую ночь: само это место, и витавшие в нем воспоминания, и холодное упрямство Инин приводили его в отчаяние; он чувствовал себя так, словно его освежевали, выпотрошили и разделали. И когда сносить это уже не хватало сил, Кормак вставал посреди ночи и до утра где-то бродил или шел в монастырь и звонил в колокольчик у двери, чтобы его впустили. И в конце концов сердце его иссохло.
Когда тюленихи дали приплод, рыбаки вышли в море за щенками – ловить их сетью или разбивать им мягкие головы длинными дубинками. Это была опасная работа – большой самец мог запросто перевернуть легкую кожаную лодку. Инин смотрела на битву тюленей, лодок и моря; в тот день она ни разу не обернулась на Кормака и не увидела, как он ушел.

На холме над морем, в доме священника, трудилась ведунья, которую позвали принять дитя – если то будет дитя, а не что-то другое. У нее при себе были масла, которыми она умастила Инин; были и травы, которые она сожгла, а пеплом помазала Инин живот и грудь, втирая его большим пальцем; она знала слова мессы не хуже священника, но знала и другие слова, в которых для Инин не было никакого смысла, кроме одного: они не давали ей утонуть во тьме, и она цеплялась за них как утопающий за соломинку, в безнадежной надежде. Другие женщины, по большей части родившие уже много детей, сидели с ней по очереди. Они ни о чем не беспокоились; они болтали и пели; они знали все на свете – и ничего не знали. Инин уже сто раз видела во сне свои роды; от одних снов она просыпалась в омерзении и ужасе, в других, нестрашных, рожать не приходилось вовсе, а ребенок просто появлялся каким-то образом на свет; были и такие, в которых дитя превращалось – быстро или постепенно – в нечто чудовищное. Во что угодно, но не в детеныша тюленя – и на том спасибо. Женщины рассказывали про селки: в море они – тюлени, а на суше – люди; они выходят на берег соблазнять девушек. Инин слушала, и от этих рассказов ей становилось легче: и сама она, и ребенок, и Сорли, и все его тюленье племя словно уходили в сказку, покидая этот мир и растворяясь в воздухе, как слова, сошедшие с языка.
А потом пришли боль и труд – обычные муки родов, как у всякой матери. Как у ее собственной матери, которая от этого умерла. Инин тоже надеялась умереть в этот день, в эту ночь, тянувшуюся бесконечно; а женщины все трещали о чем-то своем, сменяя друг дружку, делились знаниями, наседали на нее с советами, тянулись поддержать окровавленную головку новорожденного, уже показавшуюся на свет. Инин думала, они сразу удавят то, что у нее родится, и крепко зажмурилась. Мальчик, сказали они, обычный мальчик. Они обмыли его, завернули в мягкую пеленку и положили ей на грудь. И он сразу же перестал быть каким-то непонятным существом, стал человечком, хоть и странным: синеватым, пятнистым, слепым… о да, сказали женщины, это всегда так. Скоро он начнет сосать грудь и от молока уже станет совсем настоящим. Тут-то Инин и поняла, что эти женщины сами не верили в свои сказки. Если бы верили, не стали бы рассказывать.

Минул год, прежде чем он снова пришел к ней. И пришел вовсе не из моря, а по-людски: по каменистой дороге из деревни и вдоль залива – к берегу. Инин не замечала его, пока он не подошел совсем близко; только тогда она почуяла и обернулась, ничуть не удивившись. На нем была все та же потрепанная шляпа или ее наследница; длинный плащ; грубая льняная рубаха. Шерстяные штаны, подвязанные плетеным поясом. Он стоял и молчал, сцепив руки перед собой, и лицо его не выражало никаких чувств.
Мальчик, все еще безымянный и до сих пор некрещеный, открыл глаза. В первые несколько месяцев они были водянисто-голубые; Инин поначалу думала, что он и правда слепой, потому что зрачки не бегали вслед за пальцем, которым она водила у него перед носом. Это казалось странным. Но женщины сказали – нет, так бывает. Позже глазки оформятся, и эта бледная голубизна сменится настоящим цветом. И действительно, со временем они начали меняться и стали зелеными, как у нее самой; Инин замечала, как они движутся, когда малыш смотрит то по сторонам, то на ее лицо – просто смотрит, безо всякого интереса.
Другое дело – руки: они так и остались странными. Таких ручек не может быть у ребенка, рожденного женщиной. Инин взяла малыша за запястье и показала эту ручку Сорли.
– Между пальцами растет перепонка, – сказала она. – Когда она отрастает и становится плотной, я срезаю ее самым острым ножом, какой у меня есть.
Он посмотрел на нее, на ребенка, на ручку.
– Зачем ты это делаешь?
– Чтобы он не вырос чудовищем, – сказала она. – Чтобы смог жить на земле.
На неподвижном лице Сорли не отразилось никаких чувств. Как будто между тем рассветным утром, когда он покинул ее постель, и этим мгновением не прошло и часа; как будто за все это время вообще ничего не случилось.
– Ему не больно, – добавила она. – Не больнее, чем состричь ноготь.
Малыш смотрел на Сорли – это было ясно. Инин раздвинула его пальчики, чтобы показать, где она срезает перепонку; вдоль пальчиков тянулись темные следы.
– Она вырастает снова. Каждый раз.
– Не трогай ее, – мягко сказал Сорли. – Когда станет взрослым, они ему понадобятся в море. А на суше их не будет видно. – Улыбнувшись, он поднял собственную руку и растопырил пальцы. – Но все эти перемены придут не сразу. Если вообще придут.
В ночь испанских кораблей он не сказал ничего такого, что позволяло бы надеяться, что он к ней еще вернется. Он и не возвращался, хотя Инин знала, что рано или поздно он все равно придет. Но придет не для того, чтобы забрать ее с собой в море, как говорилось в сказках. Нет, не за ней он придет.
Он придвинулся ближе; Инин хотела отступить, но не могла. Когда он подошел на расстояние вытянутой руки, малыш потянулся к нему и ухватил Сорли за длинный, костлявый палец.
– Крепкий, – отметил он. – Растолстел на молоке.
– У него уже и зубы есть, – сказала Инин. – Острые.
– Дай мне подержать его. Хочу с ним познакомиться.
Ребенок был закутан так, чтобы ничей любопытный взгляд не приметил мягкого серого меха, который начал расти у него на спине только теперь, не больше месяца назад. Но таиться от Сорли не имело смысла. Инин стянула с малыша покрывальце; оно упало ей под ноги, ветер поволок его по камням. Сорли взял ребенка на руки и осмотрел с головы до ног, будто снимая мерки. – Ты молодец. Все правильно сделала.
– А что, по-твоему, я должна была сделать? Удавить его при рождении?
Сорли не ответил. Какое-то время они с малышом просто смотрели друг на друга – изучая, знакомясь. Потом он положил ребенка на сгиб левой руки, а правой потянул полу тяжелого плаща, прикрывая малыша от ветра. Отвязал от пояса кошелек и протянул его Инин.
– Возьми. За все то добро, которое ты совершила вместо этого.
Инин не пошевелилась. Тогда он наклонился и положил кошелек на камни, легонько подтолкнув к ее ногам.
– Золото, – пояснил он. – Такому, как я, нелегко собирать его. Здесь все, что мне удалось добыть.
– Это недостаточно, – сказала она, выдерживая его взгляд, не опуская глаз. Пока он смотрит, она скорее сожмет в кулаке терновую ветку, чем прикоснется к этому кошельку. Она сама почувствовала, как на лице ее проступает ярость, как больно жалят ее слова. – Что ты с ним будешь делать, Сорли?
– Заберу к себе домой. Буду учить.
Инин и представить себе не могла, что когда-нибудь услышит что-то настолько холодное и жестокое, как эти несколько слов.
– Я сама его всему научу, – сказала она.
– Научишь его плавать? – все так же мягко, не повышая голоса, спросил Сорли. – Ловить рыбу в темной воде? Научишь его петь? Сторониться людей?
На минуту-другую все трое замерли, не шевелясь; ее сын, в отличие от всех известных ей младенцев, умел надолго застывать в неподвижности. Она ничему не сможет его научить.
– Он будет такой же, как ты? – наконец спросила она. – Как он выживет там, под водой?
Сорли долго медлил с ответом.
– Он – мой сын. Может статься, Инин, я долго не проживу. Так мне было сказано. Но, может, хотя бы успею его вырастить.
Казалось, он хочет сказать что-то еще: Инин видела, как движется его кадык, словно пытаясь выдавить слова из горла.
– Было сказано?
– Ну… может, это и неправда. Но мы все равно долго не живем. Когда меня не станет, он уже вырастет. Может статься, со мной ты больше не встретишься, но его еще увидишь когда-нибудь.
– Я буду молиться, – сказала она, – чтобы мне никогда не пришлось с ним увидеться. И с тобой тоже.
Они постояли еще – не долго, не коротко. Быть может, время тоже стояло на месте, пока они молчали, глядя друг на друга. А потом он отвернулся и пошел – но не к морю, а прочь от берега; Инин увидела лицо своего сына, а он посмотрел на нее и сразу отвел взгляд. Было такое чувство, словно все тело ее превратилось в стекло или во что-то такое же хрупкое; и она словно держала саму себя на руках – осторожно, бережно, чтобы ни в коем случае не окликнуть их и не броситься вдогонку. И только когда Сорли с ребенком скрылись за грудой камней, она выпустила себя из рук и разбилась вдребезги. Беззвучно разинув рот, она рухнула на четвереньки, как животное. Все, из чего она была сделана, как будто валилось наружу, словно ее разорвали пополам или вскрыли, как коровью тушу, подвешенную для разделки. В уши ей ударил высокий, тонкий вопль – она не сразу поняла, что это кричит она сама. Вдалеке показался куррах; рыбаки тащили его через полосу прибоя, приподняв над водой, чтобы не порвать кожаные борта о камни. Услышать ее крик они не могли – но все-таки остановились, не опуская лодку, и посмотрели туда, где, свернувшись клубком, лежала Инин.
Пушечные ангелы
Он ушел налегке, захватив лишь то немногое, с чем когда-то пришел, да то немногое, чем успел здесь разжиться. Маленький псалтырь, который она ему подарила, тоже взял. Идти можно было куда угодно, только не на юг и не запад, где его братья враждовали за наследство отца, графа Ричарда, – графа Сассенаха, как его прозвали за услуги, оказанные англичанам, сассенахам-чужакам, во времена десмондовских войн. У отца были три жены и без счета наложниц; все нарожали сыновей и дочерей, а те, почти все, ненавидели графа Ричарда; из законных сыновей трое старших встали на сторону Фицмориса, иезуитов и католической Испании, а сам граф – на сторону англичан, королевы и новой веры.
Кормак презирал бы отца, если бы ему достало на это храбрости. Он был тщедушным и малорослым, сомневался в своей отваге и в те несколько раз, когда оставался с графом один на один, не мог связать и двух слов. Отец казался ему суровым, жестким и закаленным, как стоячий камень, – и таким же холодным. И как только ему тогда в голову взбрело, что ему под силу убить такого бойца? Возможно, братья боялись отца не меньше – по крайней мере, те из них, которые объединились, чтобы дать ему бой: Джон из Шемрока, Ричард, Улик. Кормак был самым младшим, да еще и бастардом. Отец о нем едва помнил. Вырос он среди женщин и в бунте не участвовал. Но потом братья дали ему оружие и расхвалили за те достоинства, которых он в себе не находил, – за упорство, за храбрость. Кормак проглотил эту лесть, как подслащенное вино, и обрадовался, что его заметили; но еще больше его восхитило оружие. Научись из него стрелять, братец. Ему доводилось видеть, как стреляют из ручных пищалей; доводилось слышать, как на стенах Голуэйского замка в день рождения королевы грохочут бронзовые кулеврины; он помнил дрожь восторга и ужаса, пробиравшую его от этих звуков. В этом пистолете, как назвал его брат Ричард, механизм был колесцовый, и братья спорили, как с ним лучше обращаться, но Кормак живо сообразил, что к чему: если нажать на спусковой крючок, колесико с насечкой проворачивалось и высекало искру из кусочка кремня, а от искры воспламенялся порох. Он погладил длинный ствол с серебряной чеканкой; подержался за изогнутую рукоять, на конце которой красовался набалдашник слоновой кости. Только он один может это сделать, сказали братья. От него отец такого не ожидает. Только он может прийти к отцу с этим оружием и застрелить его насмерть. И все будут очень рады. Кормак понимал, что попадет в ад, если это сделает, но так и не нашел в себе сил отказать братьям; к тому же душа его отца низвергнется во тьму куда глубже, чем его собственная, да и куда раньше, а у него будет еще время покаяться – годы и годы, чтобы искупить свой грех. Может, он подастся в монахи, и тогда вообще все будет хорошо.
Он осваивал пистолет втайне; брат Джон приносил ему порох и свинец; отец уехал в Голуэй, где у него были какие-то дела с английским шерифом, и никак не мог услышать выстрелы, гремевшие во дворе, хотя Кормаку чудилось, что все-таки мог бы – даже оттуда, издалека. Пистолет казался ему чем-то вроде маленького зверька, невероятно сильного, но не наделенного собственной волей; волей обладал лишь он сам, Кормак, а пистолет был единственной опасной вещью, которую ему удалось приручить за всю свою жизнь. Когда пришли вести, что отец уже подъезжает к дому, Кормак вышел во двор с заряженным и взведенным пистолетом и стал ждать, вне себя от предвкушения, от ужаса, от непомерной значимости того, что ему предстояло сделать. У ворот собралась толпа, графа приветствовали криками; храпели кони, люди спрыгивали с седел, разоружались, требовали воды. Кормак поднял пистолет, вцепившись в него обеими руками.
Отец со своими капитанами шел через двор, смеясь. Потом он увидел Кормака, вскинул руки, останавливая тех, кто был рядом, и в ту же секунду двинулся навстречу сыну – ровным, спокойным шагом, словно к обеденному столу. Без единого слова он схватил пистолет за ствол и вырвал его – нет, просто-напросто вынул – у сына из рук. А потом сказал: «Дурак! Пошел вон из моего дома! Убирайся к женщинам. И никогда больше не смей ко мне приближаться».

В тот день он решил, что пойдет на север, подальше от владений Берков; но почему именно на север, он и сам не знал. У него был кошелек с деньгами, который братья швырнули ему, не скрывая отвращения; была сумка с одеждой, четки и кольцо, когда-то принадлежавшее его матери. Миновав деревушку Мам-Кросс, он повернул к морю, а дальше двинулся так, чтобы оно оставалось по левую руку, – вокруг залива Клю и острова Акилл, через земли Слайго; и так через год он добрался до Бен-Балбена и монастыря, где его приютили и откуда уже рукой подать было до берега Стридах. Но теперь он ушел и оттуда; он забудет имя и дом Инин Фицджеральд и не вернется к ней никогда.
Теперь, когда кошелек опустел (Кормак трясся над ним, как скупец, и денег хватило надолго, но рано или поздно они все же закончились), придется клянчить подаяние или подрабатывать по дороге за еду и ночлег; псалтырь и учебник латыни послужат своего рода пропуском в монастыри, и там, куда его пустят, он постарается остаться, на сколько сможет.
Так оно и шло; а с приходом зимы Кормак набрался храбрости, постучался в двери августинского монастыря в Морриске и попросил принять его в орден послушником. Ему отказали не сразу – по крайней мере, пустили ухаживать за козами, резать торф, таскать воду в кожаных ведрах и отмывать плиты церковного пола. Он молился вместе с братьями по-ирландски и на латыни; слушал их тихие монотонные песнопения; иногда плакал.
Новоиспеченные ирландские протестанты из Мейо жаловались на августинцев – те, мол, шпионы и бунтовщики, от них одно беспокойство, надо от них избавиться. Но корона поступила проще: аббатство и земли продали какому-то дельцу, выложившему за них круглую сумму. Монахам разрешили остаться, только тихо, и брать новых послушников они опасались. Под конец зимы Кормак упал на колени перед престарелым настоятелем и стал умолять, чтобы тот сделал для него исключение; он рыдал и твердил, что у него ничего нет и больше ему некуда податься. Слово за слово настоятель вытянул из него всю историю: Кормак рассказал, как братья подначили его убить отца и он согласился, но не сумел; как он женился, но без церковного благословения, и как они с женой остались друг другу чужими; как он не смог спасти испанцев на берегу Стридаха и вынужден был смотреть, как перебили всех до одного. Он рассказывал все как есть, но даже сам себе не верил, таким это все казалось далеким и немыслимым. Настоятель поднял его, поцеловал в обе щеки, благословил. И сказал: «Когда ты вернешься в дом своего отца и вымолишь у него прощение; когда ты утешишь жену, которую бросил одну-одинешеньку; когда покаешься в содеянном и исполнишь подобающую епитимью, – вот тогда приходи, и мы с тобой поговорим о послушничестве».

И он снова пустился в путь по иззубренному берегу моря, раздумывая, пусть и не всерьез, что бы случилось, если бы он и впрямь возвратился в отцовский дом или повернул обратно и разыскал Инин Фицджеральд с ее проклятым ребенком. Он едва замечал, куда бредет, и в конце концов ноги сами вынесли его обратно, к заливу Клю. Весна уже сменялась летом; по крайней мере, хоть это он заметил. Даже эта каменистая земля расцвела – да так, что Соломон во всей своей славе не потягался бы с нею пышностью убора. Кормак сел на молодую травку, отвернувшись от огромной горы на востоке (он не знал, как она называется, но один лишь вид ее действовал так же гнетуще, как тень Бел-Балбена), и стал смотреть на воды залива, сиявшие блаженной синевой. Он не ел два дня. Наверное, в такой чудесный день и умирать будет нестрашно.
И тут во влажном воздухе над заливом возникло нечто, чему он тоже не знал названия, – огромное, похожее на дракона, оно словно поднялось прямо из-под воды. Когда оно подошло ближе и стало еще больше, Кормак понял, что это не подводное чудище, а творение рук человеческих – морской корабль, галеон. Длинные весла поднимались и опускались снова, погружались в воду мощным гребком и толкали корабль вперед – и все это в совершенном согласии друг с другом, как будто всеми правил один человек. Порывы ветра раздували квадратный парус, на котором Кормак вскоре разглядел красного вепря – тот шевелился, как живой, когда парус слегка обвисал или натягивался снова. Корабль лавировал среди островков на мелководье; высокая мачта клонилась то в одну сторону, то в другую, словно меняя партнеров в танце. «Какое же тут надобно искусство!» – подумал Кормак. До берега оставалось уже совсем немного, когда корабль сделал крутой разворот: казалось, он сейчас пустится в обратный путь, но нет, он по-прежнему двигался в сторону суши, только теперь – кормой вперед. Внезапно на берегу показались люди – они бежали туда, где должен был причалить корабль, а матросы на высокой палубе уже тащили к борту тяжелые бухты просмоленных канатов. Кормак с интересом смотрел, как со стороны кормы выдвинули и с превеликими усилиями и осторожностью опустили какую-то большую, странного вида доску; люди на берегу между тем забежали в воду, подхватили концы канатов и, забросив их себе на плечи, повернули обратно. Кормак не поверил своим глазам, но они и впрямь потащили корабль за собой; матросы с палубы подбадривали их громкими криками, а им вторил парус, хлопающий на ветру. Сидя поодаль на лугу, Кормак все равно услышал, как днище корабля скребет по песку. Вот уже убрали весла и начали сворачивать парус; выбросили веревочные лестницы; несколько моряков спустились по ним с уверенным проворством, спрыгнули в воду и побрели к берегу сквозь прибой. Наблюдать за всеми этими трудами и подвигами моряцкого искусства было так увлекательно, что Кормак не сразу заметил, как прямо на него ползут через заросли пырея какие-то повозки, запряженные волами. Большие, скрипучие и неповоротливые, они упорно продвигались к берегу и едва ли смогли бы остановиться, так что Кормак вскочил, чтобы его не стоптали, и затесался среди мужчин и женщин, подгонявших волов. Завидев повозки, люди с корабля радостно закричали и замахали руками.
Потом один из моряков указал на Кормака. Недолго посовещавшись, к нему выслали двоих. «Может, сбежать?» – мелькнуло у него в голове. Вдруг его схватят или убьют? Кормак не представлял себе, зачем бы им его убивать, но все-таки повернулся и двинулся прочь от берега. Когда двое, направлявшиеся к нему, перешли на бег, он тоже припустил бегом, но через несколько шагов упал от слабости. Пока он пытался отдышаться и встать, его уже схватили за руки и стали поднимать силой.
– Ты кто такой, парень?
– Никто.
– Как тебя звать? Чьих ты?
– Никак.
Может, надо было сказать им правду – что он теперь попросту не знает, кто он такой?
– А чего ты здесь сидел и смотрел на гавань? И чего побежал?
– А что, нельзя было? А чего побежал – ну, так вы меня напугали!
– Шпион?
Кормак промолчал, прекрасно понимая: будь он шпионом, первым делом стал бы все отрицать. Его подтолкнули вперед – туда, где стоял корабль, где погонщики уже остановились и начали разгружать повозки. Что они привезли? Какие-то большие бурдюки, завязанные, но слегка протекавшие – кожа у горловин темнела от влаги.
Вода. Они доставили воду на корабль. На корабль, который плавал по воде, жил в воде, среди воды, раскинувшейся кругом на бессчетные мили. С трудом волоча ноги по песку, Кормак рассмеялся. Один из тех, что его схватили, съездил ему по уху. Его затолкали в воду – та оказалась холодней, чем он рассчитывал, – и заставили взяться за веревочную лестницу, свисавшую за борт, который отсюда, снизу, казался высоченным, как замковая стена. Кормак понял, что от него требуют забраться наверх, но он не мог: старая, с обтрепанным подолом сутана, слишком большая для него, но оставшаяся чуть ли не единственной его одеждой, промокла и стала тяжелой, как камень. Люди, толкавшие его в спину, крикнули что-то на языке, которого Кормак не знал; кто-то выглянул за борт, исчез, тут же вернулся и бросил им веревку. Кормака споро обвязали подмышками и снова крикнули на палубу – мол, поднимайте. Так он и поднялся – то обвисая на веревке, за которую его тянули наверх, то отчаянно цепляясь за веревочную лестницу и пытаясь перебирать ногами. Наконец его втащили на борт и швырнули на палубу. Он поднял голову, увидел вокруг одни сплошные бороды – рыжие, каштановые, черные – и подумал: наверно, меня потому схватили, что я на них не похож. И впрямь, он привык бриться пока работал на монахов, и стричься коротко.
А потом все исчезло.

Гранья О’Малли в своей крошечной каюте на корме (скорее даже палатке, чем каюте: полукруглый деревянный каркас, покрытый шкурами) перебирала жалкие пожитки из тканой сумы, которую матросы забрали у юноши, доставленного на борт. Две рубахи: одна из грубого льна, другая – из тонкого. Две книги: псалтырь и учебник латыни. Бдительная команда Граньи заподозрила в этом молодом человеке шпиона; но если это и шпион, то очень бедный. Где, скажите на милость, его отмычки, нож и пистоль? Где его шифрованные бумаги и шифровальные инструменты?
Гранья медленно встала. В последнее время кости бедер постоянно ныли. Сидя, она забывала о боли, но стоило подняться, как та снова давала о себе знать. Она крикнула, чтобы парня привели к ней (голос, как всегда, был слышен на весь корабль), снова села и принялась набивать длинную глиняную трубку. Когда полог палатки откинули и парня втолкнули внутрь, Гранью почему-то пробрала дрожь. Черт его знает, почему: юноша был совсем один, тощий и наверняка перепуганный. Она подала ему знак подойти ближе. Он подошел на пару шагов. Полог за его спиной упал, и парень вздрогнул.
– Садись, – велела Гранья и указала ему на табурет. Странное дело, но парень еще ни разу не моргнул с той секунды, как показался в проеме палатки. И все же было такое чувство, что на самом деле он не боится. – Ты знаешь, кто я? – спросила она. – Знаю. Ваше имя знают все, по всему побережью.
– А вот я твоего не знаю. Просветишь меня?
– Я – Кормак.
Гранья помолчала, но продолжения не дождалась.
– Кормаков много, – заметила она, с интересом наблюдая, как юноша вертит головой и зыркает по сторонам, точно ждет подмоги или ищет, как бы половчее сбежать. Маленькими щипчиками она выхватила из жаровни уголек и зажгла трубку. Кормак так уставился на нее, что Гранья не выдержала и рассмеялась. Глубоко затянувшись, она выпустила облачко сизого дыма.
– Этот захватчик земель, Рэли, думает, будто он первым начал курить трубку с американским листом. Но турки давно уже этому научились – от португальцев, побывавших в Бразилии.
– Я из голуэйских Берков, – сказал Кормак. – Кормак Берк, так меня звать.
– Ну и ну! Значит, Берк? А из какой семьи, какого септа?
От этого вопроса – на который, по мнению сидящей перед ним женщины, наверняка было очень легко ответить, – у Кормака перехватило горло.
– Из Кланрикардов, – с трудом выдавил он.
– Неужто графский сынок? – Гранья вытаращила глаза и отложила трубку.
Кормак понял, что не сможет ничего скрыть.
– Да, – подтвердил он. – Сын графа Ричарда, но не от его законной жены.
На это Гранья ничего не сказала, но выражение лица ее изменилось. Она окинула Кормака взглядом с головы до пят. – Судя по одежке, ты – священник, – заметила она. – И знаешь грамоту.
– Не священник. Я только прислуживал в аббатстве.
– В каком именно?
– В августинском. В Морриске, или Мурраске, не знаю точно, как называлась та деревня. Мне это было без разницы.
Услыхав это, королева пиратов внезапно подобрела, хлопнула в ладоши и расцвела улыбкой:
– Да что ты говоришь! Наша семья всегда поддерживала это аббатство! – воскликнула она. – Много веков! Она встала и оказалась выше его ростом, а из-за огромных, тяжелых юбок – еще и куда шире. То ли тихий вскрик, то ли жалобный стон сорвался с ее губ. Она шагнула к юноше, все еще сидевшему на табуретке, подняла его на ноги, обхватила длинными руками и крепко прижала к своей пышной груди. Сквозь эти удушающие объятия Кормак расслышал: «Ты – нашего рода, ныне и присно!» Объявив это, Гранья отступила на полшага, но по-прежнему держала его за плечи. – Ты разве не знаешь, что и мой муж, и мой сын от него – тоже из Берков? – Она вынула из-за пазухи медальон на цепочке и поднесла к его лицу: миниатюрный мужской портрет, на котором мало что можно было разглядеть. – Ричард, – сообщила она. – Мой возлюбленный супруг. Ричард ан-Иран Берк. А вот, на обороте, наш сын, Тиббот-не-Лонг. Берки из Мейо, не хуже любых других Берков.
Она повернулась и снова села – Кормаку показалось, у нее что-то болит. То, что он стоял здесь, перед этой сказочной особой, казалось невозможным: кто угодно сказал бы, что этого не может быть, это просто сон. Но нет, Кормак не спал; скорее всему миру снился сон, а он, Кормак, просто угодил в него и застрял в этом сне.
Он заметил, что глаза королевы пиратов – такие глубокие, переменчивые, голодные – влажны от слез.
– Твой отец, – сказала она, помолчав. – Бедный твой отец. Он умер. Ты знаешь?
Кормак не мог ответить. Он снова, как наяву, переживал те мгновения, когда отец вернулся домой и увидел, как его бастард поднимает на него пистолет. – Я… – выдавил он. – я…
– Вот уже несколько лет, как умер. Бедный, бедный.
Кормак не понял, кого она сейчас жалеет – его самого, отца или их обоих.
– А кто теперь граф? – спросил он.
– Его сыновья целый год сражались за фамилию и титул, – сказала Гранья. – Победил Улик. Как же так вышло, что ты ничего не слыхал?
И тогда он наконец заплакал – от голода и стыда, от собственного невежества и обделенности. Не по отцу, как, верно, подумала Гранья, а по себе самому. Ничего-то он не знал, ничего-то у него не было. Он был никем; он столько лет прожил в этом чужом скверном сне и никак не мог проснуться. Королева пиратов сложила руки на коленях и терпеливо ждала, пока он выплачется.

Такие галеоны, как у О’Малли, были рассчитаны на тридцать-пятьдесят гребцов (не чета тем огромным, на сотню весел и больше, на каких плавали венецианцы и турки). Команда была вооружена до зубов; когда в море им попадалось торговое судно или другой мирный парусник, они подходили впритирку, забрасывали абордажные крючья и живо расправлялись с экипажем и охраной.
Гребцам, трудившимся день-деньской, требовались две вещи в больших количествах: хлеб и вода. Хлеб заменяли галеты – твердые, сухие и (если только море до них не доберется и не промочит) не подверженные порче: храни их хоть целый год – хуже не станут. Гребцы питались этими галетами и всякой всячиной, которую тоже можно было хранить подолгу: соленой селедкой, хеком и треской, зелеными яблоками и луком. Из рыбы ели еще морского налима, палтуса, копченого лосося… но селедка все равно была главным блюдом. Что до воды, то ее давали гребцам не жалея, вдоволь и по первому требованию.
– Зачем возить с собой всю эту воду? – спросил Кормак, когда королева Гранья вывела его из палатки и встала с ним рядом на верхней палубе. – Ведь кругом и так полно воды!
– А ты не знаешь? – изумилась Гранья. – Ты что же, никогда не был в море? А?
Он счел за благо не отвечать.
– Морскую воду пить нельзя. Она соленая. Если выпить ее слишком много, умрешь – и скверная это будет смерть.
Мимо них сновали матросы; весла все еще были подняты, и гребцы отдыхали, сидя под палубой на своих длинных скамьях. Начался прилив; капитан и штурман смотрели, как прибывающая вода плавно снимает «Ричарда» с песчаной отмели. Латинский парус, украшенный красным вепрем – геральдическим зверем Берков, снова развернулся и наполнился ветром, дувшим в сторону моря. Кормовое весло – та странная доска, которую Кормак приметил еще на берегу, – погрузилось под воду. Благодаря неглубокой осадке и тонкому килю корабль заскользил по волнам залива будто сам собою, не нуждаясь в помощи гребцов. Но когда он отошел от берега, капитан крикнул: «Весла на воду!» – и под грохот огромного барабана и вопли волынки «Ричард» устремился в открытое море, ловко обогнув остров Клэр – эту прекрасную даму, стерегущую вход в залив. Рыбаки-островитяне махали им со своих лодок и что-то кричали, но расслышать было невозможно. Кормак Берк, исполненный восторга и ужаса, стоял у перил; морской ветер продувал его душу насквозь, унося все лишнее. В какой-то момент он чуть было не схватил Гранью О’Малли за руку и только чудом сдержался. На нем была старая одежда ее сына. Его накормили тем же, чем кормили матросов. Теперь он не умрет.

Чтобы защищаться и внушать страх защитникам гаваней и каракк, «Ричард» был оснащен небольшой артиллерийской батареей, размещавшейся на носу (на высоких кораблях пушки можно было установить на нижней палубе, но на галеоне для них не хватило бы места). Орудий было всего четыре: чугунное вертлюжное, черное, окованное железными обручами; две испанские мортиры из литой бронзы, короткоствольные, стрелявшие малым калибром; и длинноствольная полупушка, тоже бронзовая, самая большая из четырех и стоявшая в центре, точно великан среди ребятишек. Все они крепились на шарнирах, чтобы можно было поднимать и опускать стволы и поворачивать по мере надобности вправо или влево. Бронзовую полупушку украшали рельефные узоры: свивающиеся драконы и морские чудовища, гербы и звезды. Кормак, которого Гранья приставила выполнять мелкие поручения, носился по проходу между гребными скамьями, но всякий раз останавливался посмотреть на пушки. Они спали, дожидаясь, когда настанет время проснуться. Главный канонир и другие пушкари заботились о них, как о любимых детках: протирали масляными тряпками от соляного налета, пересчитывали каменные и чугунные ядра, разложенные по разным штабелям. Бочонки с порохом, который вдохнет в них жизнь, хранились отдельно: наверх их выносили только перед боем.
Пушкари разрешали Кормаку смотреть, сколько влезет: они понимали, что парня так и тянет к пушкам. Он и смотрел, сцепив руки за спиной, считая себя недостойным прикоснуться к этим чудесным творениям. И внимательно слушал, стараясь разобрать, о чем толкуют пушкари на своем непонятном языке, – вылавливал отдельные словечки, приглядывался к жестам. Он уже знал – от королевы Граньи, – что эти пушки служат в основном для устрашения: за все время «Ричарду» довелось стрелять по другим кораблям лишь пару раз. Ну, или три-четыре, но точно не больше, и только тогда, когда какая-нибудь каракка, которую собирались взять на абордаж и принудить к сдаче, решала постоять за себя и, распахнув бортовые порты, ощетинивалась черными свиными рылами собственных пушек. Тогда «Ричард» сбавлял ход и отставал, пропуская добычу вперед, но ненамного: как только незащищенная корма каракки оказывалась на виду, гребцы вновь налегали на весла, а канонир отдавал приказ. Одиночный выстрел, двойной, еще двойной – и, наконец, бронзовый великан выплевывал огромное ядро, ломавшее шпангоуты. После этого добыча смирялась со своей судьбой, не желая рисковать, что ее потопят. «Ричард» снова подходил борт к борту и забрасывал крючья; вооруженные пираты сыпались горохом на палубу каракки; затем королеву Гранью с парой пистолей за поясом торжественно переносили на руках на мостик захваченного судна, и она растолковывала капитану, что нужно сделать, чтобы предотвратить резню.
До чего же Кормаку хотелось увидеть все это своими глазами!
«Ричард», как и другие галеоны О’Малли, почти никогда не уходил далеко от побережья: на открытых просторах Атлантики лютовали шторма, а с большим грузом припасов такие корабли становились неповоротливыми и неустойчивыми. Капитанам и штурманам хватало знаний и мастерства для плавания в прибрежных водах, но никто из них не смог бы довести галеон до Индии или Атлантиды на крайнем западе и вернуться обратно. Они знали часы приливов и отливов, умели определять возраст луны, могли без ошибки рассчитать течения в знакомой гавани. Но, в отличие от широкого, гладкого, почти не подверженного приливам Средиземного моря, где было приволье большим венецианским и османским галеонам, Атлантика заставляла корабли жаться к берегам: весь их тесный мирок состоял из Ла-Манша и островов, Ирландского моря, Бискайского залива и побережья Бретани.
Любое судно, вышедшее в Ла-Манш, О’Малли считали своей законной добычей, как если бы у них имелось каперское свидетельство или грамота сборщиков налогов – те имели право опечатывать груз и взимать плату, после чего отпускали корабль подобру-поздорову. Правда, с большими кораблями Ганзейского союза, возившими в Лондон зерно и лес, О’Малли благоразумно не связывались, но мелкие торговые суда непременно останавливали или преследовали, вынуждая сдаться. Почти все торговцы исправно платили, понимая, что произойдет, если они заупрямятся; и все прекрасно знали, что при переговорах не должно звучать слово «пират» ни на каком языке, потому что для О’Малли честь была на вес золота, если не дороже.
Но два корабля, которые попались «Ричарду» этой весной, не относились ни к одной из категорий, известных О’Малли. То были галеоны, как и сам «Ричард», но кое-чем от него отличались: пока тот со своим обычным изяществом огибал один из этих кораблей, Гранья по обыкновению стояла на носу, чтобы внимательно рассмотреть его и отсалютовать капитану, если сочтет увиденное достойным. Но тут над носовой частью второго судна поднялось белое облачко, затем донесся звук выстрела и над головой королевы пиратов просвистело ядро. Было понятно, что их только предупреждают, не желая навредить, и обозначают расстояние, на котором следует держаться. Но Гранья взъярилась, и не ответить было нельзя. Пушкари крикнули, чтобы им несли каменные ядра, те, что по тридцать фунтов, и тащили порох и каморы; последние (на взгляд Кормака, походившие больше всего на пивные кружки) наполнили порохом загодя, и теперь пушкари аккуратно привинчивали их к стволам всех пяти орудий. Кормак, сам не свой от возбуждения, помогал поднести снаряды и смотрел, как их загружают через дула. Под могучими взмахами весел «Ричард» развернулся на месте, пока чужой корабль тоже производил маневр – то ли чтобы выстрелить еще, то ли уклоняясь от огня. Когда палуба накренилась, Кормака изрядно качнуло, и он пропустил тот момент, когда первая из пушек, вертлюжная, выплюнула ядро, но звук его оглушил и ошарашил. Каменный шар полетел по длинной дуге и плюхнулся в воду: это орудие стреляло лишь на тысячу ярдов, не дальше. Чужие корабли пошли на сближение; солнце уже садилось. Второй галеон тоже пустил ядро в «Ричарда», и Кормак застыл, вцепившись в перила и глядя, как оно приближается, не в силах оторвать глаз. Потому что на него летела не черная луна, не дырка в небе, не его безвременная смерть, а нечто совсем иное.
Лицо. В ореоле седых волос, с вытаращенными глазами, с разинутым в беззвучном крике ртом. Женское лицо. И когда оно пронеслось у Кормака над головой, он заметил – или подумал, что заметил, но ни на миг не усомнился, что свирепая ярость, написанная на этом лице, сменилась такой же свирепой радостью: лицо уже не кричало, а заливалось смехом.
Пушкари тоже это видели. Они завопили и вскинули руки, словно пытаясь прикрыться от этого небывалого снаряда, хотя тот лишь пробил в парусе дыру и, перелетев через палубу, шлепнулся в воду.
Более поворотливый из чужих галеонов между тем подошел так близко, что стали видны лица матросов. «Мавры! – закричал канонир. – Берберы! Что они тут делают?» Камору приладили к полупушке – бронзовому великану; запал зашипел, порох воспламенился, и ядро вырвалось из ствола с таким оглушительным звуком, что Кормаку показалось, будто он разлетается на куски, – но нет, он по-прежнему стоял на своих двоих и цеплялся за перила. Видно было, как берберийские пираты с ближнего корабля – темнолицые, белозубые – тычут пальцами в летящее ядро. Неужто и они увидели то же, что и пушкари с «Ричарда»? Ядро ударило в середину палубы; золоченые деревяшки и вооруженные люди взлетели на воздух; кто-то из гребцов бросил весла, и те, оставшись торчать из уключин, не давали грести остальным.
Второй, дальний галеон развернулся так быстро, что, казалось, не опрокинулся только чудом, и понесся прочь. Первый, пострадавший от ядра, какое-то время стоял на месте, но потом собрался с силами и двинулся вслед за товарищем. Капитан поинтересовался, идти ли в погоню. Королева подняла руку, показывая, что нет, погони не будет. Потом она повернулась к матросам, так и сияя изумленным восторгом.
– Вы это видели? – крикнула она.
Пушкари и капитан вскинули руки: да, они все видели. Гранья оперлась на плечо Кормака, и тот помог ей спуститься по мостику на корму, где стояла палатка.
– Что это было? – спросил он. – Ну, то, что мы видели.
– Пушечный ангел, – ответила Гранья. – На том корабле сегодня тоже такого увидели. И тот, которого увидели они, оказался сильнее.

– Они ездят на пушечных ядрах, – пояснила она Кормаку, усевшемуся рядом с ней на табурет. – Или, может, они-то их и толкают. Никто не знает.
– А зачем это им?
– А этого уж тем более никто не знает. Матросы судачат, будто они наводят ядра на корабли безбожников. Но их порою видят и те, кто ходит под христианским крестом. Может, они просто катаются, как дети. Видал, как дети съезжают с горки на тележках, наперегонки? А потом еще хохочут, если тележка опрокинется? – Гранья взяла свою глиняную трубку с подставки и улыбнулась. – Вот так и они веселятся – детки Божьи, Его первенцы.
«Демоны», – подумал Кормак. Впервые за много недель он вспомнил лицо Инин Фицджеральд, ее горящие глаза и голос. «Чудовище», – сказала она.
– На каменных ядрах они, конечно, тоже ездят, – задумчиво добавила королева. – Но чугунные им больше по нраву. Уж и не знаю, почему.
Часть четвертая
Те, кто не спит
Рулон шелка
Богоявленским утром в Дублине тюремный надзиратель совершал обход: нужно было заглянуть в каждую камеру, где сидели преступники и заложники, и проверить цепи. Особо почетных и самых ценных узников накануне освободили от оков, чтобы дать им отдохнуть и вознести молитвы в этот праздничный день, который по-гаэльски зовется Ноттлак Стелл, Звездное Рождество. Тюремщик отпер камеру, где сидел мальчишка О’Доннелов, Красный Хью, и с ним – двое сыновей Шейна О’Нила, Генри и Арт, которых держали здесь, чтобы люди Шейна не безобразничали.
Камера опустела. С решетки на окне свисала толстая веревка из скрученного шелка, но сама решетка была целехонька. Другой конец веревки оказался спущен в отхожую дыру; озадаченный надзиратель встал на колени и заглянул туда. Рассвет только-только занялся, и он ничего не увидел, но наконец сообразил, что произошло. Он встал, выбежал из камеры – насколько способен бежать такой старик, – прошаркал вниз по лестнице в караульную и оповестил стражу.
Несколько стражников помчались наверх, в камеру, где по-прежнему было пусто; другие вышли наружу и добрались по стенам до того места, откуда можно было разглядеть, высоко вверху, окошко покинутой камеры и отхожую трубу, крепившуюся к стене замка. Строители сделали между трубой и стеной достаточно широкий зазор, чтобы стена не пачкалась, но это не помогло: труба оставалась все тем же ночным горшком, только здоровенным и без дна, а нижняя часть стены была безнадежно измазана. К тому времени рассвело, и стражники увидели шелковую веревку, которая тянулась из трубы в сухой ров, окружавший замок. И на этом все.
Неделей раньше, на третий день по Рождеству, в замок приезжал секретарь графа Тирона. Он привез еды и вина для родичей графа, томившихся в тюрьме, и умолял, чтобы им передали это праздничное угощение. Его просьбу исполнили. Стражники и надзиратель припомнили, что среди подарков был рулон белого шелка, и хотя все прекрасно знали, что шелк очень легкий и крепкий, тогда об этом не подумали. Но теперь было поздно клясть графа Тирона, самих себя или узников: начальник тюрьмы, белобородый красномундирник, самолично разрешил порадовать заключенных на Рождество.
Сейчас заключенные были уже за много миль от замка. За воротами города, оставленными нараспашку в эту святую ночь, ожидали в снегу люди из септа О’Хейганов, воспитанником которого когда-то был Хью О’Нил. Они подобрали беглецов и поскакали, по двое на одной лошади, в горы Уиклоу. Поскакали, смеясь. Только Арт О’Нил не смеялся: этот вечно голодный паренек умудрился так растолстеть на тюремных хлебах, что застрял в отхожей трубе. Его товарищи, уже спустившиеся вниз, кричали отчаянным шепотом, чтобы он пошевеливался, но Арт возился в этой мерзкой дыре целую вечность, а когда наконец протиснулся наружу и попытался слезть по веревке, не удержал собственного веса и свалился в ров, повредив ногу. Остальным пришлось помогать: до ворот его тащили чуть ли не на руках. А когда они встретились с О’Хейганами, его брат Генри поцеловал Арта, попрощался с Красным Хью, вскочил на коня и поехал своей дорогой.
Лучшим другом Хью О’Нила среди англичан, живших в то время в Ольстере, был сэр Гаррет Мур, виконт Мур, человек мудрый и честный. Крепость Мура – древнее аббатство Меллифонт, за стенами которого можно было укрыться в безопасности, – стояла милях в сорока от Дублина. Дороги в горах замело снегом – ни козьих троп, ни обходных путей. Они уже почти добрались до места, но одолеть крутой спуск в ущелье Гленмалюр в такую погоду нечего было и надеяться. И тащить хнычущего Арта дальше в гору им было не под силу. Мальчики легли прямо на снег; двое О’Хейганов улеглись рядом, закутав их полами собственных плащей, а третий пошел за подмогой. Помощь пришла на рассвете, и к тому времени беглецы в своих тонких тюремных рубахах совсем окоченели. Арта трясли, пытались разбудить, напоить горячим пивом, но все было напрасно. Однако парень О’Доннелов – призрак и сталь – отогрелся и выжил. Когда дороги снова станут проезжими, его переправят в Ольстер, а до тех пор поживет в Меллифонте: сыщикам, которых разошлют из Дублина, и в голову не придет туда сунуться. Так решил Хью О’Нил; он лично приехал из Данганнона повидаться с мальчишкой, привез теплую одежду и врача. Красный Хью все еще не вставал с постели, но ухмылялся до ушей: он победил! Граф провел с ним целый день и крепко обнимал его, когда врач начал готовиться к ампутации. Парень отморозил оба больших пальца на ногах, и они уже почернели. «В седле они тебе не понадобятся», – сказал граф; мальчик зарылся лицом в его дублет и не издал ни звука, пока доктор резал.

Юный О’Доннел хоть и был от природы силен, но страшно ослаб. Граф не повез его дальше своего замка в Данганноне, рассчитывая, что Шиван его откормит и приободрит: та была старшей из сестер Хью и почти годилась ему в матери. Шиван обняла их обоих, и в ее руках Хью почувствовал ту немочь, которая чуть было не убила ее осенью, когда Шиван родила дочку. Повитухи только головами качали: что-то пошло не так, и вылечить это они не могли. Усадив мужчин за стол и поставив перед ними еду и питье, она тут же ушла спать.
– Она болеет, – прошептал Красный Хью.
– Да. И никто не знает, как избавить ее от этой слабости. И от этой печали.
Мальчик посмотрел на дверь, за которой скрылась Шиван.
– Она умрет? О’Нил накрыл ладонью его руку.
– Мы все умрем, – сказал он. – Это не утешение. Но сыновья и дочери – они утешают.
О’Нил полагал, что мальчик уже знает о его планах, одобренных старым О’Доннелом (и, что еще важнее, женой О’Доннела), – женить Хью на Роуз, внебрачной дочери О’Нила, которая осталась без матери, но была всеобщей любимицей и росла под опекой Шиван. Такой брак укрепит давние узы между двумя семьями. Старому Хью нездоровилось; полагали, что вскоре он уступит место сыну, и тот, как бы ни был юн, станет верховным О’Доннелом. Все О’Доннелы слыхали пророчество, которое гласило: когда во главе их дома встанут один за другим двое мужей по имени Хью, второй из них явит божественное величие; он будет править девять лет, а после уйдет в Иные Земли, прославившись как спаситель своего народа и страны. Хью О’Нил не верил в пророчество (а если и верил, то не признавался в этом даже себе), но трудно было не надеяться, что хоть какая-то доля правды в этом есть. Красный Хью задремал, и какое-то время О’Нил задумчиво его разглядывал. Глаза паренька бегали под веками (какие сны он смотрел, пока О’Нил смотрел на него?), а руки то и дело подрагивали. Нет ему покоя даже во сне. О’Нил нащупал под кожаным дублетом золотую цепочку и достал медальон. Она была на месте.
Мне рассказали глупую сказку про рулон шелка, услышал он. Дурной спектакль для дураков, никто в это не поверил. Ответить было нечего; у Хью никогда не было для нее ответов – и не будет, пока все это не кончится. Думаешь, я не знаю, что дело решили подкупом? Думаешь, не знаю о драгоценном камне за пять сотен фунтов, который достался лорду-наместнику, возлюбившему маммону превыше своей королевы? Забирай своего мальчишку куда хочешь, ему все равно недолго осталось! Едва ли королева сама не понимала, о чем толкует. Но королева могла умереть; и она умрет, да и сам он мог умереть, это запросто. Мы все умрем, как сказал он Красному Хью. Но почему-то ему начинало казаться, что Красный Хью не умрет никогда.
И тут в дальних покоях заголосили, завыли женщины, заводя погребальный плач.

Многие знали, что Хью О’Нил горазд поплакать. Слезы, ни на миг не прерывавшие потока слов, могли брызнуть у него из глаз от малейшей обиды, непонимания или несправедливости. Он плакал, когда заявлял о своих правах и наследных привилегиях, когда просил за своих родных и союзников, которым грозил арест или петля, а те, с кем он вел переговоры, смущались или смотрели на него с презрением. Он плакал, когда был прав, и точно так же плакал, когда ошибался. В детстве было иначе: тогда жизнь являла ему такие чудеса, которые оставалось только принять, и такие угрозы, на которые нельзя было ответить ничем, кроме свирепой отваги. Известия о чьей-либо смерти тоже не вызывали у него слез – ни в юные годы, ни позже. Он понимал, что слезы не властны над смертью и не смягчат ее приговор. И все же у смертного одра Шиван он заплакал, потому что привык считать, что уж ее-то ничто не одолеет.
Пока Шиван еще могла говорить, она вымолила у Хью обещание, что он не возьмет другую жену; он пообещал – а что было делать? Она взяла его за руки, зарылась лицом в его ладони; он почувствовал, что она вся горит. Целыми днями он сидел рядом и смотрел. Когда Шиван плакала или пыталась заплакать, он тоже не сдерживал слез. И пока она угасала, в сердце его разрасталась боль – не только из-за того, что она умрет и что он дал ей слово, но и потому, что он знал: когда Шиван ляжет в могилу и отойдет в края своих предков, он это слово нарушит, и очень скоро. Он уже знал, кого возьмет в жены, если, конечно, сможет завоевать ее. Но это знал только он; Шиван не должна узнать. Иначе дух ее вернется и будет мучить его, упрекая в неверности.

В мае старый О’Доннел с одобрения Инин Дув наконец-то отрекся от титула в пользу сына. К тому времени сын уже достаточно твердо держался на своих искалеченных ногах, хотя и тогда, и впоследствии куда как уверенней чувствовал себя в седле, верхом на одном из своих прекрасных коней, чалом или вороном, которые, похоже, любили парня не меньше, чем его младшие родичи. Походка у него навсегда стала как у пьяного, но в этом не было ничего смешного. Никто и не смеялся. Кто бы мог подумать, что большие пальцы ног так много значат?
Еще до того, как его провозгласили верховным О’Доннелом по всем правилам, Красный Хью от собственного имени разослал гонцов ко всем семействам Тирконнелов, созывая собрание. Тирконнелы съехались и без лишних слов (потому что любые разговоры сейчас были только во вред) избрали Красного Хью своим вождем, как прежде – его отца. На этом юноша не успокоился. Он собрал своих братьев, как только достаточно окреп, и повел вооруженный отряд на английский гарнизон в Донегале; убивать англичан он не стал, но велел им убираться в Коннахт – мол, там им самое место. То ли на офицеров произвела впечатление самоуверенность, с которой предстал перед ними Красный Хью, то ли они поняли, что драться с этими юнцами себе дороже, но довольно скоро они и впрямь покинули гарнизон, чему несказанно обрадовался весь город. Затем Красный Хью выплатил долг благодарности, приняв участие в походе, который его дядя О’Нил затеял против старого Турлоха Линьяха О’Нила. Они разорили несколько деревень, захватили ветхий форт Турлоха в Страбане и предали его огню. Этого хватило, чтобы старик перепугался до полусмерти и написал в Дублин, что он отрекается от всех притязаний на титул верховного О’Нила и намеревается удалиться в обитель Божью в поисках утешения и исцеления души. Никуда он, конечно, не удалился, но теперь графу Тирону ничто не мешало наречься внуком Ньяла на Камне Королей в Туллахоге. Вот такой подарок сделал Красный Хью человеку, который вытащил его из тюрьмы и не дал умереть там от отчаяния. Было решено, что церемония совершится в день, который наступит вслед за самой короткой ночью года.
От Данганнона до Туллахога можно было доскакать до полудня, выехав утром, но Хью О’Нил заранее велел поставить ему шатер среди множества других палаток, разбитых в полях вокруг этого великого камня, почти ушедшего в землю кургана, на котором он стоял (или, можно сказать, сидел) в центре расходящихся кругами кольцевых укреплений-ратов. В этом шатре Хью пролежал без сна всю короткую ночь. Когда в зеленом небе засияла утренняя звезда, он сжал в кулаке осколок кремня – так крепко, что на ладони остался отпечаток. Примет ли его Добрый народ, не зашумят ли души древних ольстерских героев, возмущенные его дерзостью? Хью подумал о Шейне, взявшем силой этот титул и права, и о том, как он умер. Где-то теперь те галлогласы, что в урочный час обступили его кольцом и навсегда лишили этого высокого звания, добытого неправдой? Тут он вскинулся и потянулся за оружием, потому что полог шатра тихо приоткрылся. Но это был всего лишь Красный Хью. Он вошел, не здороваясь, и сел в ногах у дяди. Телохранители, спавшие рядом, даже не шелохнулись. Красный Хью положил руку на дядин кулак, в котором тот все сжимал кремень.
– Скажи мне, – начал он, – сколько лет уже в Ирландии не было верховного короля?
О’Нил отложил короткий меч, который успел схватить.
– Точно не знаю. А сколько уже Англией правят норманны? Полтысячи лет? Но и за это время бывали такие, что называли себя королями.
– И все-таки ни один не назвался ard Rí.
– Потому что не было ни одного такого, которому подчинялись бы все остальные. Не было верховного.
Хью сказал это и сам задумался, так ли это. Сказки, которые ему рассказывали в детстве, песни бардов и родословия брегонов осели где-то в глубинах памяти; Хью не мог извлечь их оттуда по собственной воле, но время от времени они всплывали как бы сами собой.
Красный Хью отпустил его руку.
– Я рад, что мне доведется быть рядом с тобой в этот важный день, – сказал он, сверкнув широкой улыбкой. – И рад, что буду с тобой в другие дни, еще важнее этого.
Затем он поднялся и, пятясь с поклонами, как слуга, покинул отсыревший от утренний росы шатер. Где-то снаружи запели волынки, загремели барабаны.
О’Нил выпил вина с пряными травами; ближайшие родичи облачили его в шафрановую мантию с широким кушаком. Подпоясавшись древним мечом О’Нилов, он вышел из шатра под приветственные кличи О’Хейганов и звон мечей, бьющих в щиты. Он знал, что этот звон не стихнет всю дорогу, пока он будет идти к Камню. Кое-кто был уже навеселе. Сейчас его окружали те самые люди – или сыновья тех людей, которые когда-то приняли его как воспитанника, а теперь воспитывали двоих его сыновей. В стародавние времена все брегоны, толковавшие законы для О’Нилов, были из О’Хейганов, и сегодня людям этого клана предстояло исполнить то, что по праву могли сделать – и всегда делали – только они, когда приходил час объявить нового внука Ньяла. Под стоны волынок и голоса старейшин, наперебой выкрикивавших родословные, которые они помнили наизусть, слово в слово, Хью взошел на каменный престол и обернулся к толпе. Он увидел лица, знакомые с детства, – те, кто был тогда молод, уже поседели, отпустили длинные бороды. Плакать Хью не хотел, а засмеяться не мог – такая огромная любовь к этим людям переполнила его сердце. Сказав все, что полагалось сказать, старший из этих старейшин О’Хейганов встал перед ним, подняв тонкую белую руку, скрывавшую в самой своей хрупкости и слабости великую мощь О’Нилов; и рука эта сжимала тот самый жезл, который до него был вручен дяде Хью О’Нила, Шейну, а перед тем – деду Хью О’Нила, Конну. Сам Хью О’Нил, потомок Ньяла Девяти Заложников, принял жезл и вознес его над головой, и вся толпа вздохнула, как один человек, изумляясь чуду и принимая своего короля. И, щурясь от солнца, Хью О’Нил увидел, что за спинами его родичей и верных бойцов колышутся в полуденном мареве другие, незнакомые лица; были среди них и старцы, увенчанные коронами, и юноши с длинными копьями, точно сотканными из солнечного серебра; и беловолосые дети, то ли нагие, то ли облаченные в бледную пустоту; и все они смотрели на него спокойно, оценивая, но не судя.
Белый и черный
Граф Тирон был человеком, разделенным надвое. Он желал быть цельным и простым и считал себя таковым хотя бы в некотором смысле, но чаще все же чувствовал, что это не так. Он ощущал этот раскол или двойственность, какую-то излишнюю сложность, во всем из чего состоял: в своих мыслях и духе, в своем языке, в своих надеждах, страхах и устремлениях, в своей любви и ненависти. Он знал, из-за кого – или из-за чего – возник этот раскол, и искал в себе то цельное «я», которым себя считал; но, подобно кораблю в поисках гавани, пытающемуся избежать по одному борту рифов, а по другому – отмелей, продолжал лавировать между двумя своими половинами.
Когда-то в юности, еще до того, как он стал графом или, тем паче, внуком Ньяла, Хью наблюдал на лондонском рынке за схваткой двух борцов: оба были сильны, и ни один не уступал другому. Один был бледный и безволосый, другой – чернокожий, из Атлантиды или Африки; у второго кожа блестела, а мускулы под ней бугрились, как у коня; у первого на коже оставались красные пятна от захватов. Хью ощущал, как его собственные мышцы невольно напрягаются, когда кто-то из борцов напрягал свои или притопывал босой ногой по опилкам, забрызганным кровью. Они сцепились так крепко, что, казалось, на арене стоит одно существо о двух головах. Но в конце концов один бросил другого наземь и не дал ему подняться, пока не окончился отсчет, а потом вскочил и, ликуя, поднял руки над головой. Зрители радостно зашумели и стали кидать ему монеты. Хью помнил все это до сих пор. Но, странное дело, забыл, кто из двоих вышел победителем – бело-красный или черный, с конскими мускулами.
Английские рыцари, когда-то прибывшие на остров Ирландия с королем Генрихом II и положившие начало Беркам и Десмондам, Томондам и Килдарам, так и не заселили север и не переделали его по своему хотению, как юг; в Ольстере не было староанглийских графов, предки которых пришли бы, по выражению Джона Ди, с островов Британника. Не из таких графов был и сам Хью, несмотря на свой английский титул: все его предки родились на той земле, которой он ныне владел. Но в каком-то смысле он был англичанином в большей мере, чем все эти южные потомки англичан. Лишь немногие из хорошо знакомых ему ирландцев могли говорить или хотя бы понимали по-английски, и женщин среди них почти не было; сам же и говорил по-английски хорошо, и читал сносно; письма для него писал Педро Бланко, но с его слов, под диктовку. Друг его детства, Филип Сидней, считал его англичанином, таким же галантным рыцарем, как он сам; отец Филипа, сэр Генри, приписывал мятежные порывы Хью древнему ирландскому Адаму, дремлющему в его душе и временами пытающемуся выйти на свет. Хью любил их обоих, но понимал, что ни тот ни другой не знает его по-настоящему.
На исходе лета – того же лета, когда он стал внуком Ньяла с благословения народа, к которому принадлежал, – и прекрасно сознавая, что совершает тяжкий грех против духа своей покойной жены, Хью начал готовиться к новому браку. Женщина, завладевшая его сердцем, была дочерью бывшего английского маршала, Николаса Багенала, который не один десяток лет возглавлял королевскую армию в Ирландии. Нынешний маршал, Генри, сын Николаса, приходился родным братом женщине, которую Хью вознамерился завоевать. Генри Багенал презирал ирландцев вообще и О’Нилов в особенности. Незадолго до того к этой женщине посватался старый Турлох Линьях О’Нил, все еще не вернувшийся в Ирландию и притязавший на титулы, на которые не имел никаких прав. По слухам, юный маршал заявил, что предпочел бы смотреть, как она горит на костре, чем отдать ее за О’Нила.
Ее звали Мейбл. В этом году ей сравнялось двадцать – по гаэльским меркам старовата для брака, но не по английским. Четырех ее старших сестер Генри Багенал пристроил за англичан-колонистов: двух – за Планкеттов, одну – за Лофтаса, одну – за Барнуолла. Хью О’Нилу было сорок два; в его рыжей бороде уже пробивалась проседь. Дело казалось безнадежным.
Впервые он увидел ее в Дублинском замке, на собрании королевского совета, куда его пригласили в очередной раз; приглашения рассылал Генри Багенал, и Хью нередко отклонял их. Но на сей раз он все же приехал; опасаясь, что его могут заковать в цепи (его спьялы, дублинские информаторы, предупредили, что такое может случиться – слишком уж долго он испытывал терпение англичан), он привел с собой отряд вооруженных всадников, копейщиков и мушкетеров. Людей было достаточно, чтобы к нему отнеслись с опаской, но не так много, чтобы англичане обеспокоились всерьез.
В тот день, проходя по двору замка, он поднял голову и увидел женщину, выглядывавшую из окна. Она опиралась на подоконник; длинные распущенные волосы сверкали красным золотом, и кожа ее в лучах вечернего солнца тоже казалась золотой. Ее как будто что-то развеселило, отметил Хью; а может, заинтересовало. Он приподнял шляпу, как было положено, и она улыбнулась – ну, может быть. Он отвернулся к своим людям, отдал приказы, а когда снова посмотрел на окно, ее уже не было.
Позже он узнал, что обычно она не приезжала с братом в Дублин, а останавливалась в Ньюри, в одном из домов, принадлежавших Багеналам – прочных, но изысканных, в английском стиле, обставленных и украшенных по-лондонски, – или у своих сестер, чаще всего у Мэри Барнуолл, с которой была дружна ближе, чем с остальными. Все это Хью выяснил урывками, из разговоров с помощниками Генри, и собрал в одну картину, насколько смог, во время визитов к Багеналам в Ньюри, куда его иногда приглашали заодно с другими гостями (правда, нечасто). На этих собраниях она обычно появлялась с матерью; она приносила брату новости или советовалась с ним по хозяйству; и только здесь Хью начал узнавать о ней хоть что-то. Здесь он впервые услышал, как она говорит. И заговорил с ней сам: поднялся из-за круглого маршальского стола, поклонился ее матери, приложился к ее руке, повернулся к дочери, отвесил еще один поклон, не такой глубокий, и, наконец, спросил, как ее зовут. Мейбл.
– Мой брат упоминал о вас, ваше сиятельство. – Таковы были ее первые слова, обращенные к нему одному. Генри сидел в своем высоком кресле неподвижно и смотрел на Хью без улыбки.
– Не сомневаюсь, – сказал Хью. – Надеюсь только, что не в таких выражениях, чтобы вы сочли меня врагом.
– Я никого не считаю врагом, – ответила она, глядя ему в глаза. – Кроме тех, кто считает врагом меня.
– Я – не из них.
Она присела в легком реверансе, отвернулась от него – сперва всем телом и только в последнюю очередь глазами (как ему подумалось) – и вышла из комнаты; ему хватило осторожности не провожать ее взглядом; он тотчас подхватил нить разговора, шедшего за столом до того, как появились женщины, и никто ничего не заметил. Но как же ему заговорить с ней еще раз и наедине?
Вышло так, что в следующий раз не он заговорил с ней, а она – с ним. И она сама сумела встретиться наедине.
Сэра Патрика Барнуолла, мужа ее сестры Мэри, Хью хорошо знал. Тот был католиком, в отличие от Багеналов, но англичане закрывали глаза на подобные мелочи: лишь бы человек был надежный и оставался на их стороне. У Барнуоллов Мейбл чувствовала себя куда свободнее, чем дома. Когда Хью приехал к ним (заранее выспросив у сэра Патрика, когда они ждут ее в гости), спешился и встал у двери, Мейбл сама ему открыла.
– Вы хорошо держитесь в седле, сэр, – сказала она. – Я заметила вас на дороге, вон из того окна.
Она вышла за порог, встала рядом с Хью, указывая наверх, и добавила:
– Сэр Патрик обедает.
– А вы – нет?
– Я питаюсь воздухом и ароматом роз, – со спокойной уверенностью заявила она и тут же тихонько рассмеялась – очень уж забавно он удивился ее словам. – Ладно, ладно. На самом деле я поздно встала и обедать тоже буду поздно. Такая уж у меня привычка.
Все еще улыбаясь – особенной, дразнящей улыбкой, она двинулась прочь от дома по дорожке, усыпанной гравием. По обе руки от нее выстроились, как на параде, маленькие деревца, очищенные от боковых веток и остриженные так, что кроны превратились в идеальные шары. Хью пошел следом, держась немного позади. Когда она остановилась и наклонилась над клумбой, усаженной, должно быть, розами какого-то странного сорта, Хью подошел к ней.
– Как так вышло, что до сих пор никто еще не попросил вашей руки?
– Отчего же никто, – сказала она. – Просили. Но я отказывала.
Хью поднял глаза, обвел взглядом стену розового кирпича, прищурился от солнца, блестевшего в оконных стеклах.
– Славный у сэра Патрика дом.
– Но у него нет имени, – сказала она. – Это большой недостаток. – Она посмотрела ему прямо в глаза, не поднимая головы, и Хью осознал, что они с ней одного роста. – А вы, я знаю, живете в замке. И я знаю, как он зовется.
Теперь они стояли лицом к лицу, очень близко, и Хью не находил слов. Два борца, вспомнил он, белый и черный. Но их уже звали в дом: на крыльце стояла леди Мэри, а из-за спины у нее выглядывали детишки, прибежавшие посмотреть на ирландского графа.
– Замок Данганнон, – сказала Мейбл.

До конца дня они с ней больше не увиделись, Мейбл не вышла даже к ужину. Но одного этого разговора на садовой дорожке хватило, чтобы Хью предстал перед Генри Багеналом как смиренный проситель. Он прекрасно знал, какой ответ сэр Генри дал Турлоху Линьяху, когда тот посватался к Мейбл; об этом судачили все кому не лень. Но с Хью О’Нилом, как было хорошо известно Генри Багеналу, приходилось считаться: этот граф, получивший титул от самой королевы, был могучим вождем у себя на севере; он без труда ставил палки в колеса английским планам, а королевские посланники подчас возвращались от него в Дублин вне себя от страха, благодаря Господа, что ушли живыми. Так что сэру Генри волей-неволей пришлось выслушать его, и кивнуть, и назвать хоть какой-нибудь срок, за который будет принято решение, – срок, который он, само собой, намеревался пропустить. Он знал то же самое, что знали – или думали, что знают, – все англичане: что графа легко рассердить, а рассердившись, он может стать опасен. О том, какая участь постигла Шейна, помнили все. Возведя глаза к потолку, чтобы показалось, будто он размышляет или что-то прикидывает, маршал ответил графу, что для брака между дочерью колониста и гаэлом требуется королевское разрешение, поэтому сам он не может ничего обещать наверняка, но непременно изложит дело перед Тайным советом. На этом они распрощались, обменявшись холодными комплиментами.

Сэр Генри решил, что надежнее будет держать сестру в доме Барнуоллов. Он не знал, что О’Нил уже побывал там и успел побеседовать с Мейбл в саду. И уж тем более не знал, что ночью Мейбл пробралась в комнату, где спал граф, и разбудила его. Они долго сидели рядом и шептались друг с другом: граф – в длинной льняной сорочке, она – в несказанно роскошном шлафроке, о цене которого граф мог только гадать; но и он не ударил лицом в грязь; он вынул из кошеля сверкающую золотую змею (которой знал точную цену) – длинную цепь из звериных голов, державших друг друга зубами по кругу. Мейбл не сказала ничего, когда увидела ее, промолчала и тогда, когда он вручил ей эту цепь, но принялась играть ею, завороженно глядя, как та перетекает из ладони в ладонь и как морды зверей, одна за другой, оживают в свете свечи.
– Она ваша, – сказал он.
Мейбл уронила цепь ему на колени.
– Я могу представить себе только одну причину для такого подарка.
– Так и есть, – сказал он. – Та самая причина.
Она встала и опустилась на колени перед его кроватью.
– Мой брат презирает вас и никогда не даст согласия.
– Если согласитесь вы, то его согласие ничего не значит. Если вы захотите, чтобы я стал вашим, то вы меня получите – каким угодно способом – и сэр Генри не сможет вам отказать.
Она поднялась и отошла к очагу, где под покровом серой золы едва теплились угли. Хью подумал было, что она обиделась; возможно, решила, что он ни во что не ставит ее любовь к брату. Но, когда она снова повернулась к нему, на лице ее играла лукавая улыбка.
– Это невозможно, – сказала она.
– Возможно.
– Но как? Вы что, меня похитите?
– А вы не против, чтобы вас похитили? Я могу.
Она притворилась испуганной, и это было очень мило.
– Но вы же не отнимете меня у моих родных и близких! Вы же не поступите со мной так против моей воли!
– Ни за что, – заверил он. – Против вашей воли – никогда.
– В прошлом, – сказала она, – ирландцы часто добывали себе жен таким образом. Так мне рассказывали.
– Прошлое прошло.
Она вернулась к нему в три больших шага и снова встала на колени перед ложем, на котором он сидел, свесив ноги; она сложила руки, словно в мольбе, и опустила их на колени Хью, где все еще лежала золотая цепь. Она больше не пыталась его дразнить.
– Найдите способ, чтобы я смогла уехать с вами, и он не посмеет вернуть меня обратно, – сказала она. – Он наверняка возненавидит вас, но он всегда соблюдает правила. Он живет по правилам всю свою жизнь. Если вы женитесь на мне как положено, он ничего не сможет поделать.

И вот как это случилось: несколько недель спустя граф снова наведался к сэру Патрику Барнуоллу и привез с собой нескольких давних друзей-англичан, способных развлекать хозяев за обедом, чем они исправно и занялись. Мейбл ушла из-за стола рано, сославшись на головную боль, и отправилась в свои покои – или сделала вид. Снаружи, в темноте, ожидал сэр Уильям Уоррен, один из немногих (наряду с Гарретом Муром) англичан, которым О’Нил привык доверять еще с юных лет, с тех пор как вернулся в Ирландию и нащупал почву под ногами в стремительном потоке событий того времени. Сэр Уильям вычистил скребницей доброго коня, на котором сюда приехал и прошелся по его блестящей шкуре жесткой щеткой. Конюхи предложили свою помощь, но он отослал их прочь – резко, чуть ли не со злостью – и продолжал обихаживать коня, пока не услыхал, как открылась и тихонько притворилась дверь дома. Тогда он убрал щетки в седельную суму.
На ней был теплый плащ с капюшоном, перчатки и крепкие сапожки – в самый раз для путешествия. Из вещей она взяла лишь небольшую сумку, с какой обычно выезжала на прогулки. Пара слов, улыбка, кивок в темноте – и сэр Уильям вскочил в седло, наклонился и подал ей руку; она устроилась у него за спиной, всхлипнула еле слышно (но он услышал) и ухватилась за его пояс обеими руками. Сэр Уильям шагом вывел коня на проезжую дорогу и ударил шпорами. Конь понесся галопом, а Мейбл в последний раз оглянулась на светящиеся окошки.
Там, за окошками, гости распивали вино и бренди – подарки Хью, травили байки, подшучивали друг над другом. «Я как будто снова сижу за английским столом», – сказала Мэри, и хотя муж глазами показывал ей, что пора бы и честь знать, она сделала вид, будто не замечает, и продолжала сидеть, так что и ему пришлось остаться. Наконец граф поднялся и объяснил, что эту ночь должен провести дома, а ехать домой ему дольше, чем остальным. Он поблагодарил гостей, своих друзей и леди Мэри, а затем спокойно, без всякой спешки, направился на конюшню за собственным конем – рослым чалым жеребцом, способным часами скакать без устали. Выехав на дорогу, ведущую к северо-западу, пришпорив коня и помчавшись к воротам города Дрохеда, где была назначена встреча, Хью О’Нил почувствовал, что этой ночью он – не два человека в одном, а один, простой и цельный. Пройдет еще много лет, прежде чем его вновь посетит это чувство.

Когда они приехали в Данганнон, Хью не дал воли страстям. Он понимал: если он разделит с ней ложе – а она остроумными обиняками дала понять, что именно этого и хочет, причем немедленно, – то обречет ее на позор: в доме Багеналов от нее отрекутся. Нет, сказал он, сперва нужно сыграть свадьбу – открыто и так, чтобы никто не смог подкопаться; как она сама говорила, по всем правилам.
Он проводил с ней вечера, играл с ней в шахматы, выезжал на прогулки, целовал и обнимал ее – но не больше. Он рассказывал ей о знаменитых похищениях невест, по мере сил перелагая ирландские слова, звучавшие у него в голове, на английский. Он поведал ей о короле Конхобаре, который преследовал своей ревностью прекрасную Дейрдре и ее возлюбленного Найси, потому что Дейрдре с детства готовили стать женой Конхобара. Поведал о Диармайде и Грайне, которые сбежали от короля Кормака и скрывались в лесу, ночь за ночь проводя бок о бок, но положив меж собою меч, чтобы не поддаться греху[87].
– Не нравятся мне эти ваши короли, – сказала Мейбл, склонив голову ему на плечо.
Именно Мейбл придумала, как доказать, что она не поддалась греху, хоть и сбежала с возлюбленным, точно Грайне – со своим Диармайдом, и как им пожениться по всем правилам, но чтобы Генри ничего не узнал, пока не станет слишком поздно. Она расхаживала взад-вперед по комнате и, постукивая указательным пальцем одной руки по ладони другой, объясняла ему, как все устроить. Дослушав до конца, Хью пришел в восторг и от души рассмеялся. Она придумала отличный план – и он сказал ей, что когда-нибудь историю их женитьбы будут вспоминать и пересказывать не реже, чем повесть о Дейрдре и Найси. А коль скоро она сама выказала желание покинуть ради него свой дом и семью и просила его поторопиться, а в ту ночь сама перебралась из-за спины Уильяма Уоррена за спину Хью О’Нила и крепко обхватила его руками, прижалась к нему щекой и поддернула юбки, чтобы ехать верхом по-мужски, – коль скоро она все это проделала сама, по доброй воле, то, быть может, он и не нарушил клятвы, которую дал Шиван. Он не искал себе новую жену, а лишь принял женщину, которая сама пожелала взять его в мужья, – уступил ей, как женщина уступает мужчине. Годы спустя, уже в Риме, когда его долгая исповедь Петру Ломбардскому дошла до этих событий, архиепископ назвал его рассуждения казуистикой: дескать, Хью просто убедил себя, что в его дурном поступке не было ничего дурного. «Но, как бы то ни было, – добавил Петр, – вы женились; и хотя это и впрямь было нарушением прежней клятвы, но сама по себе женитьба – не грех». Правда, грехом или беззаконием в глазах Господа могло считаться другое, а именно, что Мейбл и Хью сочетал браком протестантский епископ из Мита. Этот человек, Джонс, с которым Хью О’Нил был и прежде знаком и которого хорошо знали и любили Мейбл и ее сестры, совершил над ними обряд у себя в Драмкондре, в епископском дворце. Однако епископ был человеком мудрым и позже объяснил Генри Багеналу (в ярости вопрошавшему, почему он, епископ, на это пошел), что он со всем тщанием расспросил Мейбл и убедился, что она все еще целомудренна и желает вступить в брак по доброй воле. «Она сказала мне, что граф Тирон никогда бы не посмел ее похитить, если бы она сама на это не согласилась и сама не придумала, как ей спастись (да, именно так она и сказала!)». Конечно, протестантский обряд был неканоническим и, в сущности, недействительным, но Мейбл шепнула на ухо Хью – как великую тайну, которую надлежит хранить вечно, – что она католичка с самого детства; никто из родных об этом не знал, а знала только ее любимая служанка, ирландская девушка, которая научила ее молитвам и молилась вместе с ней. Лежа рядом с Мейбл, подложив руку под щеку, Хью О’Нил смотрел на нее и улыбался: это было еще одно чудо.
Наутро после свадьбы Мейбл заметила на груди у мужа какую-то странную вещицу на цепочке, которую не разглядела ночью, в темноте. Она попыталась снять ее, но Хью не позволил – лишь повернул подвеску к ней и спросил, что она видит. За все время то была лишь третья живая душа, заглянувшая в черное зеркало. Мейбл долго вглядывалась, наморщив лоб, и наконец сказала, что видит только себя, но смутно.
Хью О’Нил никогда не видел в этом зеркале себя – ни единого разу с тех пор, как посмотрел в него впервые.
– Это подарок, – сказал он. – От одного мудрого человека из Англии. Он сказал, этот камень будет меня защищать.
Мейбл посмотрела мужу в лицо; ей показалось, будто он ищет в черном зеркале собственное отражение, но она ошибалась.
– Дай Бог, чтобы так оно и было, – сказала она.

Той зимой Хью О’Нил перестроил весь замок – комнату за комнатой, этаж за этажом, и в Данганноне не осталось ничего от того места, куда его привезли ребенком. Дерево заменили камнем, очаги – каминами кирпичной кладки, с настоящими трубами, чтобы выводить дым. Холодные плиты на полу застелили коврами, привезенными из дальних стран, но так и не попавшими на английские рынки – благодаря королеве пиратов, Гранье О’Малли; у нее же Хью купил дорогие гобелены на стены и не пожалел ни об одной монете из уплаченного. Теперь у него был прекрасный дом в английском стиле, о каком он давно мечтал, – и такой, по его мнению, в каком нуждалась и какого была достойна его жена. Дом, где в платяных шкафах из лакированного дерева хранились его бархатные английские костюмы и шляпы рядом с плащами и платьями Мейбл; дом, где вместо сосновых факелов сияли восковые свечи, где из стеклянных и серебряных кубков пили отборное вино, а из позолоченных рам, словно из-за штор на окнах, за жизнью Мейбл подглядывали давно умершие люди, почти что родные ей по крови. Когда обнаружилось, что негде достать свинца, чтобы заменить протекающую деревянную кровлю, Хью обратился к своим друзьям при лондонском дворе; лорд Берли распорядился отправить ему несколько тонн свинцового листа – подарок на свадьбу; Данганнон обзавелся новой кровлей, а остатки свинца пролежали много лет в сосновом лесу близ замка, пока им не нашлось иное применение, в ином, опять изменившемся мире. Каждое утро, пока его новая жена еще спала, Хью приходил на могилу Шиван и какое-то время сидел с ней рядом. Он не разу не услышал ни слова, не почувствовал упрека, но по-прежнему (хотя все реже и реже) приходил к ней, выщипывал траву, проросшую в изножье, и делился своими заботами, рассказывал о ее сыновьях, о лошадях и людях Данганнона.
Хью надеялся, что Мейбл вскоре понесет, и Мейбл тоже думала, что ждать придется недолго; но зима шла, а признаки так и не появлялись. Ночи были полны страсти и радости, но не приносили плодов, и это огорчало обоих. Хью хотел сыновей; его сыновья от Шиван вырастут и станут мужчинами, но наступали такие времена, когда сыновей понадобится как можно больше. Мейбл читала положенные молитвы, применяла средства, которые советовала ей сестра Мэри и даже (тайком от мужа) обращалась за советами к женщинам из замка, но все было напрасно. Когда из темного лона зимы вышла весна, весь мир начал плодиться и размножаться: женщины, лошади, коровы, собаки, даже трава и деревья. Мейбл смотрела на расцветшую землю и думала с грустью, что только она одна по-прежнему ходит порожней.
Она сказала мужу, что должна съездить в Ньюри, к матери и сестрам, – рассказать им, как она счастлива в браке. Хью отпустил ее, хотя и неохотно – дал ей добрую лошадь и спутника. И Мейбл действительно направилась в Ньюри, но, не доехав до дома Багеналов, свернула на короткую тропу, которая вела к Старым Церквам Киллеви – двум древним каменным постройкам, соединенным когда-то в одну длинную; посещали их так редко, что никто не удосужился восстановить разоренные алтари, но сами церкви не закрыли. Мейбл заранее послала весточку своей любимой служанке Ниав, чтобы та ждала ее здесь, на кладбище, где уже все цвело и благоухало запахами мая. Здесь Мейбл спешилась, поцеловала служанку и вошла в высокие, никогда не запиравшиеся двери. Просторный коридор вел во второе здание, где Мейбл надеялась отыскать Деву Марию, Богоматерь с Младенцем. Она опасалась, что протестантские фанатики убрали статую с глаз долой или разбили. Но нет, Матерь Божья была на месте и ничуть не изменилась с тех пор, как они с Ниав впервые пришли сюда еще в детстве – тайно, кутаясь в черное, как лазутчики.
Она преклонила колени. Ave Maria gratia plena…[88] Как будет дальше на латыни, она не знала и продолжила по-английски: …благословен плод чрева твоего. Благослови меня, Матерь Божья, дабы я не осталась бесплодной… Она взялась за четки, которые так и не нашел в свое время отец, обыскавший ее комнату и одежду, чтобы заставить дочку выкинуть из головы эту вредную блажь. Как она могла предпочесть старую веру новой? «Почему ты это выбрала?» – кричал он. Но она ничего не выбирала; старая вера сама выбрала ее.
Какое-то время она молчала; слова приходили изнутри, но так и не срывались с губ, а по щекам катились слезы. Затем Мейбл поднялась с каменного пола. Младенец на руках у Богоматери оказался прямо на уровне глаз; он тянулся ручками к любому, кто захочет подойти ближе, и ему как будто не терпелось выйти в мир, а мать смотрела только на него и улыбалась ему сверху вниз. И мать, и дитя пострадали задолго до того, как Мейбл увидела их впервые: гипс кое-где осыпался, синяя и белая краска потрескалась и сходила хлопьями; пальчик Иисуса, воздетый в жесте то ли благословения, то ли прощения, был отломан посередине. Но все это не имело значения. Из этих вещей изливались сила и любовь, хоть они были сотворены руками человека. В детстве Мейбл ни о чем таком не задумывалась: гипсовое дитя было Младенцем, и, осмелившись дотронуться до Него, она просто ощущала ответное прикосновение, вот и все.
Когда она сказала родным – спокойно, но твердо, – что хочет уйти в августинский монастырь, в то время еще действовавший при церкви Киллеви, на нее обрушился шквал негодования и насмешек. Или она не знает, что ирландцы, приверженные этой вере, пытались погубить ее родных или изгнать их со своей земли? А известно ли ей, что монахиням нельзя выходить замуж и рожать детей? И что они ходят в каких-то нелепых балахонах, так что обо всех ее любимых хорошеньких платьицах придется забыть? «И чтобы ноги твоей там больше не было! – разорялся отец. – Не то тебя там схватит сам сатана – или кое-кто из рода человеческого, но немногим лучше». Мейбл невозмутимо противостояла буре: она к тому времени уже знала легенды о мучениках и только радовалась, когда брат задавал ей трепку. Сладость той просфоры, которая впервые легла ей на язык, была так сильна, что в сравнении с этим семья уже ничего не значила, хотя она и молилась за них каждый день, называя каждого по имени, и вместе с ними – за Ниав. Сейчас, этим майским днем, поплотнее закутав плечи в легкую шаль и заметив в проеме двери лицо служанки, она вдруг подумала: в те давние времена, чудесные и страшные, им обеим было лет по одиннадцать или двенадцать. Она перекрестилась, склонила колени у разбитого алтаря и подумала: вот бы можно было помолиться за того ребенка, которым она когда-то была! Она больше не хотела уйти в монастырь; с этой мечтой она рассталась много лет назад и давно уже о ней не вспоминала. Теперь она хотела скакать верхом и смеяться, миловаться с мужем и стать матерью; об этом она и помолилась.
Лис и Пес
Католическим примасом Ирландии в том году, тысяча пятьсот девяносто третьем, был Эдмунд Магавран, архиепископ Армы. В Ирландии он не жил: учился за границей, большей частью в Испании; затем папа даровал ему кафедру, а испанские вельможи дали денег, чтобы Магавран смог вернуться в Ирландию и подготовить местных вождей к новому вторжению испанцев. Плыть на испанском корабле было опасно: корсары королевы английской могли перехватить его. Поэтому король Филипп взял Магаврана с собой во Францию, где его дочери Изабелле предстояло сочетаться браком с молодым герцогом де Гизом.
Дочь короля испанского! В ней словно слились воедино все дочери всех испанских королей, ибо Дочь Короля Испанского была героиней гаэльских легенд – девой ангельской красоты из земель чужедальних, невинной спасительницей и богиней; ее непрестанно ждали; то и дело доносились слухи, что она уже на пути, уже плывет из-за моря и вот-вот прибудет, чтобы осчастливить какого-нибудь ирландского короля или героя, и вдвоем они станут править кротко и справедливо, и на острове воцарится мир. Надежды не сбывались, дочь короля испанского так и оставалась недостижимой мечтой, но одно то, что архиепископ Магавран путешествовал в ее обществе, бросило на него отблеск ее святого сияния. Вправду ли ему мнилось, что он каким-то чудом сумеет привезти Изабеллу в Ирландию и увидеть, как ее коронуют, а графы и вожди склонятся к ее ногам? Никто никогда не слышал, чтобы он говорил это прямо. А из крохотного обсидианового тайника, где королева английская сидела будто бы за ткацким станом, до ушей Хью О’Нила доносился шепот об основе и уткé континентальных династических сплетений: Изабелла, мол, уродливая девка с конским лицом и ростом выше любого мужчины, какого ей только могут предложить в мужья. Не иначе как умрет монашкой. И не может быть на свете никакой королевы ирландской – никакой другой королевы.
Магавран добрался до Ольстера обычными тайными путями и был радушно принят в доме юного Магуайра, графа Ферманы и верного католика. «Добрые ангелы направляли меня в странствиях, храня от беды», – сказал он, хотя на самом деле не знал никаких ангелов и уж точно не мог услышать, что они советуют. Чего он хотел от Магуайра и всей его родни? Чтобы они положили начало священной войне. Разумеется, им не выиграть в одиночку; но если хотя бы начать, положившись на милость Божью и доверившись обещаниям, что испанские солдаты непременно придут на помощь, то остальные потянутся к Магуайру и его товарищам, как железные опилки – к магниту.
Хью О’Нил не желал иметь с ним ничего общего. Он сделал все возможное, чтобы удержать этого пламенного Магуайра и его бойцов на Севере и чтобы Красный Хью О’Доннел не поддался чарам Магуайра, столь соблазнительным для всякого юноши, который ищет приключений и друга. Но Хью стоял в самом центре коромысла весов – между старыми кланами вроде Магуайров и дублинскими властями, накрепко связанными с Лондоном, – и не мог сделать даже крошечного шажка ни одну, ни в другую сторону. Дублин хотел, чтобы Магуайр перестал укрывать у себя иезуитов и разорять английские поля. Дублин хотел, чтобы молодой О’Доннел перестал нападать на гарнизоны и распугивать английских солдат, как голубей из голубятни. Хью написал в Дублин, заступаясь за них обоих: он, дескать, возьмет этих славных юношей под крыло и будет учить их, пока они не усвоят, как себя вести.
В день середины зимы он приволок их обоих, точно непослушных школяров, – рыжего Хью О’Доннела и черноволосого Магуайра – в церковь Дандолка, чтобы они преклонили колени и присягнули на верность королеве. Маршал Генри Багенал, ныне шурин Хью, дал гарантии, что молодых людей не арестуют и не бросят в темницы, как бы ему этого ни хотелось. Лорд-наместник, который был чином выше маршала, отозвал Хью О’Нила в сторонку и шепотом спросил, искренне ли поклялись эти молодые вожди. О’Нил заверил его: да, несомненно. Он заставил их клятвенно – и притом на коленях – обещать, что они не нарушат мир. Это не доставило ему удовольствия: Хью чувствовал себя испачканным и сомневался, правильно ли он поступил, хотя дублинские чиновники пожали ему руку и одобрительно покивали головами в шляпах. Затем лорд-наместник потребовал, чтобы О’Нил прислал в Дублин как заложника этих клятв своего старшего сына и тезку. Нет, развел руками Хью, он не пришлет ни первенца, ни его брата Генри – просто потому, что не может: мальчиков отдали на воспитание О’Хейганам, а те увезли их бог весть куда, ищи ветра в поле. Маршал и лорд-наместник ответили на эти слова лишь холодным взглядом, хотя лицо у Хью было честное-пречестное.
Трое ирландцев вышли из дандолкской церкви и поскакали на север. Ветра не было, но холодное солнце, вылинявшее, как старый ястреб, пряталось в облаках. По дороге они объехали с запада длинный курган, который звался Ньюгрейндж, похожий на огромную буханку черного хлеба. Они не заметили, как тусклые пальцы солнца пробрались внутрь через одно-единственное отверстие, не засыпанное древним щебнем[89], и разыскали тех, кто проспал там тысячу лет, и разбудили тех, кого смогли добудиться.
Магуайр,[90]крайне раздраженный тем, что ему пришлось сделать в Дандолке, тихо бесился всю дорогу. В конце концов он попрощался со спутниками и, пришпорив коня, умчался вперед: мол, его люди уже заждались его в Данганноне.
– Магуайр – дикарь, – задумчиво сказал О’Нил Красному Хью. – Hи черта не смыслит в дипломатии. Не понимает, что надо приспосабливаться.
Хью отдал Магуайру в жены свою дочь от Шиван, ее последнее дитя. Он согласился на этот брак, но Магуайр ему все равно не нравился. Похож на невоспитанного пса, да еще зачем-то выбривает бородку клинышком, а усы, дай ему волю, отрастил бы до колен.
– Он – человек прошлого, – продолжал Хью, – и нет у него ничего за душой. Он не принимает решений сам – только откликается на то, что говорят другие. Он не способен остановиться и задуматься. Сразу кусает, и все тут. Ему нельзя доверять.
– Конечно, он дикарь, – бодро согласился Красный Хью. – Но он – наш дикарь.
Еще где-то с милю они проехали в дружеском молчании. Ветер понемногу крепчал.
– Они хотят рассорить меня с Магуайром, – сказал Хью. – Лорд-наместник и прочие. Хотят, чтобы я начал с ним воевать. А мне это без пользы.
– Тогда объединись с ним, дядя, – предложил Красный Хью.
Красный Хью проспал ночь в Данганноне, поднялся рано и оделся в дорогу. Когда О’Нил вышел во двор, тот уже стоял у ворот замка в лучах бледного солнца и смотрел, как Магуайр седлает коня. Магуайр между тем ухватил коня за челюсть и уставился ему в глаза, словно бросая вызов. Пес – он и есть пес; черный пес. Хотя наездник отменный, в этом ему не откажешь.
Красный Хью стоял, скрестив руки, словно не чувствуя холода, с обычной своей веселой заносчивостью на лице. О’Нил разглядывал и его. Если Магуйар – черный пес, то Красный Хью – лис: златоусый, рыжий, темноглазый, пронырливый и проворный. Граф надеялся удержать их обоих при себе, но не был уверен, что у него над ними столько же власти, сколько у них – друг над другом. Пес и Лис: не должны они дружить, это против самой природы! И все же дружба их была не слабее той, о которой поется в песнях. Хью наблюдал, как Магуайр садится в седло: тот подошел к коню сначала слева, затем – справа, а после дернул за поводья, не видные графу издалека, и огромный серый жеребец вдруг попятился и задрожал крупом, оробев, точно девица на сельских танцах.

Комедия, которую разыгрывали между собой Дублин и Ольстер, продолжалась. Двоедушник Хью О’Нил был как актер, взявший две роли в одном представлении и наловчившийся за минуту переменять одежду, бороду и голос. То он требовал от маршала, сэра Генри Багенала, своего шурина, тысячу фунтов, что были обещаны за Мейбл в приданое, то, не пройдет и недели, заявлял, что ему до этих денег дела нет. Разумеется, ему не доверяли – и на то имелись веские причины; но он почему-то считал, что ему все равно должны доверять, а не изводить его постоянными подозрениями и проверками. Еженедельно, а то и по два раза в неделю приезжал английский герольд с очередными приказами, пока Хью наконец не возопил по-ирландски, что, мол, Сыном Божьим клянусь, лучше мне подохнуть, чем ты будешь мозолить мне глаза через два дня на третий этой своей кургузой курточкой, да еще и красной! О’Доннел и Магуайр не могли взять в толк, почему О’Нил лезет из кожи вон, лишь бы задобрить лорда-наместника с его сворой. По одному его слову на севере поднимется целое королевство, но вместо этого он все строчит свои бесконечные письма, просит прощения, клянется в верности, снова и снова рассказывает всем подряд, как верно он служил королеве, как воевал против ее врагов и страдал от ран, полученных в этих битвах (несколько раз его и правда ранили, хотя совсем несерьезно). Чего он боится, хотели бы они знать. Быть может, он околдован? Эта старая английская ведьма оседлала графа, что твоего жеребца, и теперь гоняет его в хвост и в гриву? Пес и Лис посмеялись над этим вместе, но оба не были до конца уверены, что это не так.
– Поехали со мной, – сказал Пес Лису. – Пока они нас не раздавили. Пока Тирон не передумал и не заделался англичанином.
– Он спас мне жизнь.
– Так не растрать ее по-глупому. Время пришло.
Погода была отличная. С отрядом налетчиков они промчались по полям Слайго и угнали на север соседских коров, как с незапамятных времен поступали их предки, – отчасти стыдясь содеянного, отчасти гордясь. В Дублине никто и слова не скажет против: какое дело англичанам до того, что одни ирландцы грабят других? Да и все равно они скоро вернут этих коров хозяевам, сказали они себе – и возможно, даже вернули.
С приходом весны, воодушевленные мыслью о том, что наконец-то они сделали хоть что-то, Лис и Пес повели самых проверенных своих бойцов на юг, в Коннахт: там английские власти в лице сэра Ричарда Бингема, которого недавно поставили губернатором Коннахта, жестоко притесняли большой клан О’Рурков. Граф Тирон предостерег их, напомнил о клятвах, недавно принесенных в Дандолке, и строго спросил, что они надеются выгадать, нарушив слово. Но они все равно поехали, и графу ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы Педро Бланко – графский мажордом, как он называл себя на собственном языке, – отправил следом за ними, на подмогу, отборных бойцов О’Нилов.
– Этот О’Рурк, – сказал Магуайр Красному Хью по дороге на юг, – который у них сейчас во главе клана, – сын того О’Рурка, который ездил в Шотландию просить помощи у короля Якова. Привез ему в подарок ирландских волкодавов, каких в Шотландии прежде не видывали. Король принял его ласково и обещал помочь…
– Но только до тех пор, пока не вмешалась королева.
– Да. Шотландцы изо всех сил старались его спасти, да что толку! Его привезли в Лондон в цепях и там повесили. Заметь себе, за преступление, которое он совершил в Ирландии, хотя в английском праве прецедентов, разрешающих за такое казнить, еще не было.
– Давние дела, – отмахнулся Красный Хью.
Лис начисто был лишен чувства прошлого – необъятные бездны времени, стоявшие за каждым нынешним днем, для него ничего не значили. Он знал обрывки истории, но и те – лишь по легендам и сказкам; а большего ему и не было нужно. Вечер да утро – вот и вся Лисья память.
– Нет, – проворчал Пес. – Не такие уж и давние. И сейчас – все, как тогда. Если О’Рурки не выстоят, то и мы все тоже, считай, пропали.

Они разбили лагерь среди пологих холмов и стали ждать, когда подойдут юный Брайан О’Рурк с бойцами его клана и Ричард Бингем со своим английским войском. Всадники, которых послали на восток разведать, где сейчас англичане, вернулись ни с чем. Но мальчишки, пешком пришедшие из Роскоммона, с юга, донесли, что Бингем повернул в сторону и что большие силы англичан собираются сейчас на равнине Махери, у ворот Талска, докуда от лагеря было меньше дня верхом. Магуайр отправил своих капитанов обойти лагерь, чтобы велели людям вооружаться и седлать коней: он не хотел ждать, пока на них нападут.
– А это кто к нам едет? – спросил Красный Хью.
Магуайр посмотрел, куда он указывал.
– А-а! Это мой архиепископ. Не иначе как спешит благословить нас.
Титулярный архиепископ Армы – в неполной броне и шлеме с чужой головы, верхом на длинношеем вороном мерине – прокладывал себе путь между всадниками. Еще в Фермане он предложил Магуйару сопровождать его войско в качестве капеллана – и вот он, тут как тут.
– Вы ездите, как испанец, милорд епископ, – заметил Магуайр.
– Для легкого седока скакун в самый раз, – отозвался священник. – Не волнуйтесь, я от вас не отстану.
Красный Хью усмехнулся, приподнялся в седле и поправил перевязь меча.
– Тогда поехали.
Как же прекрасно было мчаться с грохотом по волнам земли, укрытым июньской зеленью! На равнину Махери в Роскоммоне они выехали уже под луной; войско-призрак раскинулось крыльями по обе стороны от своих предводителей и тянулось за ними длинным шлейфом. Какая это была радость – предвкушать, что наконец-то они нанесут ответный удар!
Наутро оба лагеря утонули в густом белом тумане. Слышно было, как англичане шумят, гремят оружием, как перекликаются часовые и тихонько ржут лошади. Но разглядеть ничего было нельзя. Словно исполинское, бледное тело какого-то великана простерлось на равнине. Красный Хью и Магуайр поехали отыскать местечко повыше – и нашли такое, но и оттуда не разглядели ничего, кроме сэра Ричарда Бингема верхом на коне, стоявшего на другом пригорке. У ног его коня клубилась молочная дымка. Было понятно, что Бингем тоже ничего не видит.
Положившись на чутье своих лошадей, Лис и Пес вернулись туда, где их люди собирались на битву. Некоторые приветствовали своих командиров криками – наугад, вслепую. Епископ Магавран, захвативший с собой кожаную суму с серебряными священными сосудами, служил мессу за походным столом. Люди подходили к нему и преклоняли колени прямо на мокрой траве; епископ давал каждому освященную гостию и над каждым бормотал Corpus Dei[91]. Лис и Пес тоже встали на колени перед священником, и тонкие пресные облатки растаяли у них на языках. Когда поток причастников иссяк, а всадники и пехота пришли в движение под звуки волынок и барабанов (хотя никто по-прежнему не видел дальше вытянутой руки), архиепископ тоже вскочил в седло и выкрикнул не своим голосом: «Он смеется над опасностью и не отворачивается от меча!»[92] – а после пустил своего мерина шагом.
– Чьи это слова, отче? – обернулся к нему Магуайр.
– Божьи! – крикнул в ответ епископ. – Это Бог рассказывал Иову о Своих чудесных творениях! – Он ударил коня пятками и почти поравнялся с Магуайром. – «При трубном звуке он издает голос: гу! гу! и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик».
Тут прелат рассмеялся, и Магуайр – вместе с ним. И в тот же миг они столкнулись с врагом, и это было ужасно, потому что совершенно внезапно. Несметные полчища призраков неслись на них с воплями из белого, ослепительно сияющего под солнцем тумана.

Туман только-только начал расползаться клочьями, когда сэр Ричард дал приказ отступать. Англичане ничего не добились. Ирландские керны и галлогласы стояли твердо, и теперь, когда друга стало возможно отличить от врага, может, и стоило бы попытаться проредить их ряды основательнее. Но Бингем все же отвел войска. Ирландцы остались на поле собирать убитых и раненых. Хью Магуайра и Красного Хью подозвали взглянуть на одного из мертвецов – удостовериться и подтвердить, что это и впрямь Эдмунд Магавран, примас Ирландии. Красный Хью встал на колени и перекрестился. У ног коня лежал меч с окровавленной рукоятью; казалось, он выпал из руки епископа. Где же Магавран его взял? Или то был английский клинок, нанесший ему удар? In Paradisum deducant te Angeli[93], если, конечно, ангелы заметят одного помазанника среди множества мертвых, каждый из которых тоже нуждался в провожатых на ту сторону. Поднимаясь, Красный Хью заметил, что к ним приближается какой-то человек. Тот появился внезапно – словно сгустился из прядей подымающегося от земли тумана. Спокойно пройдя между мертвыми телами и лошадьми – так, будто едва замечал их, – он остановился перед Красным Хью и Магуайром. Он не поклонился, не снял шляпы (впрочем, шляпы на нем и не было), а просто посмотрел на предводителей прямым и открытым взглядом, как на равных, хотя губы его кривились в улыбке, подобающей скорее слугам.
– Я несу весть вашим милостям, – промолвил он и дождался кивка, разрешающего продолжать. – Вас ждут неподалеку отсюда, в месте под названием Круахан. Те, что ожидают там, приглашают вас на встречу.
– А ты кто таков, чтобы мы тебя послушали? – спросил Красный Хью.
– Тот, кто знает, – ответил гонец. – Знает, что нужно.
– Я слыхал об этом месте, – сказал Магуайр. – Это там похоронены предки древних королей Запада. Там же они и правили, пока были живы.
– Давным-давно. И сейчас – как тогда.
Архиепископа уже завернули в плащ. Несколько человек взвалили тело на плечи и ждали приказа, куда его нести.
– Имей в виду, что я – католик, – сказал Магуайр гонцу. – И я не из тех, кто станет якшаться с душами мертвых королей.
– Ничего такого в Круахане вы не встретите. – Гонец сцепил руки за спиной. – Если нужен проводник, я могу пойти с вами.
– Не нужно.
Вместо того чтобы поклониться как положено, гонец лишь едва кивнул, отступил на пару шагов, отвернулся от вождей, кернов и мертвого архиепископа и двинулся прочь.
– С чего бы нам туда ехать? – проворчал Лис.
– Не поедем – не узнаем, – сказал Пес.

Сперва нужно было исполнить долг: похоронить павших или погрузить тела на телеги, чтобы их отвезли домой для погребения; воздать почести тем, кто достойно проявил себя и продержался до победы; позаботиться о раненых; утешить тех, кому теперь суждено было умереть без священника; выслать разведчиков, чтобы удостовериться, что враг и впрямь отступает, а не просто отошел собраться с силами для новой битвы. Но, когда они вдвоем выехали из лагеря, солнце было еще высоко, и хватило часа, чтобы добраться до места, указанного гонцом, – к северо-западу от ближней деревни, которая прозывалась Талском. Они не знали наверняка, где это место и как оно выглядит, но, когда подъехали, сразу поняли, что это оно. Гребень широкого пологого холма венчала корона – если можно себе представить холм, увенчанный такой вещью, которую способен выковать и носить лишь человек. На месте стен и башен форта, замка или высокого дома, когда-то стоявшего здесь, остались лишь земля да трава. Ньюгрейндж был куда больше этого холма, но их двоих призвали именно сюда; сюда они и приехали.
Склон холма был облеплен крестьянскими домишками, словно искавшими защиты, которой здесь давно уже не было; между домами бродили собаки и тощие коровы; завидев двух всадников, матери подняли крик, созывая детей домой. Лис и Пес выбрали тропу, ведшую наверх, и ехали по ней, пока та не оборвалась, но это было неважно: они и так уже поняли, как добраться до этого венца, опоясывавшего вершину, будь то остатки укреплений или стен, большие камни или просто память о камнях и стенах. Возможно, поначалу они отнеслись ко всему этому слишком легко, как свойственно молодым, ни перед чем не испытывающим душевного трепета. Но вскоре они приумолкли и стали оглядываться в поисках хоть чего-то, что откроет им смысл происходящего, если, конечно, таковой имелся. Продвигаясь вдоль венца по кругу, противосолонь (дурные приметы их не смущали), они вскоре заметили человека, сидящего на камне; тот был закутан в плащ, а поверх плаща – в одеяло. Когда они подъехали ближе, человек встал, опираясь на длинный посох, но не обернулся к ним.
– Кто идет? – выкрикнул он в воздух.
– Двое, которым хочется узнать об этом месте, – ответил Красный Хью. – Мы посланы сюда, чтобы нас научили.
Они спешились, набросив поводья на узкий стоячий камень, который, быть может, именно для этого и был здесь поставлен. Человек с посохом заговорил, но он стоял слишком далеко, и слова не долетали до пришельцев, только теперь сообразивших, что он еще и слепой.
– Отец, – сказал Магуайр, – покажи нам то, что нам нужно здесь увидеть.
– Идите за мной, – сказал старик и двинулся вперед широким шагом, на каждом шагу ударяя посохом в землю. – Это дворец королевы Медб! – крикнул он, то ли не понимая, то ли не обращая внимания, что Лис и Пес уже подошли ближе. – Королевы-воительницы, которую чужаки зовут Мэв. Все, что вокруг, – Рат Круахан, ее город, величайший в Ирландии.
Он остановился, а Пес и Лис озадаченно завертели головами, выискивая то, что видел или знал, не видя, этот слепой старик.
– Из сосновых бревен был дом, – пропел он. – Не шестнадцать ли было в нем окон, и каждое – с бронзовой рамой? И не бронзой ли был окован высокий дымник? Четыре столба из бронзы окружали покои, где Медб возлежала с Айлилем; были покои те изукрашены бронзой; были они в центре дома.

Там, где они стояли, ничего подобного не было. Но был какой-то лаз, вроде входа в звериное логово, такой низкий, что, казалось, человеку туда не пройти. Подначивая друг друга, Лис и Пес немного поспорили, кто полезет первым в этот темный проход, но внутри оказалось чуть посветлее, чем они рассчитывали. Тусклые косые лучи послеполуденного солнца выхватили из темноты старые, растрескавшиеся ступени – спуск под землю. Комната, в которую те вели, была огромной: кто мог подумать, что здесь окажется так просторно? Щебень, кости животных. Холодная тишина. На стене был выбит знак спирали, и пришельцы скорее ощутили, чем разглядели вход в коридор ведущий дальше, вглубь. Но лезть туда дураков не было: всем известно, как опасны спиральные пути.
Лис и Пес сели и долго ждали, пока наконец не снизошел дух – на обоих одновременно. Говорить об этом они не могли, ни тогда, ни после, но было это так, словно кто-то из древних положил легкую руку, то ли по-дружески, то ли повелительно, на плечо Красному Хью, а затем и Магуайру, и тотчас же отпустил обоих. Они бросились к выходу наперегонки; выбираясь наружу, каждый думал, что случившееся в подземелье почувствовал только он, и ни один не хотел обсуждать это с другом, чтобы не оказалось, что теперь один из них другому неровня.
Неугомонный слепец продолжал разглагольствовать:
– Двойные перила вокруг, из серебра с позолотой, – тянул он нараспев, поводя рукою так, словно вся эта древняя роскошь стояла перед ним целой и невредимой. – Впереди – серебряный столб, высотою до средних стропил, и такие же точно еще – от двери до двери, по кругу.
– Как-то это трудно себе представить, – вздохнул Магуайр.
– Наверно, слепому проще, – усмехнулся Красный Хью.
– Странно, что у ваших милостей нет глаз, чтобы увидеть все самим, – пробормотал старик.
– Мы увидели, что здесь ничего нет. И никого.
Обогнув груду развалин, друзья вернулись к камню, где, нетерпеливо помахивая хвостами, стояли кони.
– И все же они ждут, – мягко возразил старик из рата. – Они здесь.
– Даже если так, – сказал Красный Хью, – друзья ли они нам?
Старик пожевал губами, помолчал.
– Они и сильны, и бессильны, – промолвил он наконец. – Они наводят ужас на смельчаков и даруют отвагу робким. Они непобедимы, но и победить никого не могут.
– Но они – за нас?
– Они – не единый народ. Много их, разных и повсюду, и не все из них – за вас или вообще хоть за кого-то.
С легким смехом Магуайр запустил руку в сумку и выудил несколько монет, а слепец тотчас потянулся за ними, хотя стоял лицом в другую сторону. Затем он ощупал монеты, будто пересчитывая, и сунул куда-то в недра плаща. Лис и Пес молча сели на коней и повернули прочь. Пока они ехали вниз по склону, слепец улыбался.

Те, кто ждал, ощутили, что живые подходили к ним близко, но снова ушли. Они даже коснулись этих живых в темноте, но остались неузнанными; да и как их могли узнать эти молодые господа, эти верные католики, отказавшиеся смотреть и видеть, эти воители, не доверявшие никому и ничему, кроме своего меча, коня и друга?
Те, кто ждал, пытались поговорить с ними – на тихом языке ветвей, шуршащих на ветру, и листьев, облетающих под ветром. Но их не услышали. Они знали, что прольется кровь, и говорили об этом как могли: вместо слов у них были цветы ползучей мари, блонаган дерг, уже пятнавшие траву алыми звездами. Речи их, безустальные и беззвучные, были о тех героях, которые не подвели, и о тех, кто еще ступает по этой земле, и о Верховном Короле, которому суждено вернуться. Со следующим оборотом солнца, которого они уже не увидят, развалины Круахана снова покроются марью, алой, как кровь захватчиков. Они все говорили и говорили, но никто их не услышал, и они вновь погрузились в сон.
Двое живых вернулись на поле битвы, к мертвым лошадям и сломанным копьям, уже на закате, а с началом нового дня выступили на север, ведя за собой уцелевших бойцов.
Шалаш на реке Банн
Этот год, последний перед тем, как мир перевернулся вверх тормашками, выдался нестерпимо прекрасным. Хью и прежде каждое лето объезжал свои владения, отдыхал в шатре или шалаше, сплетенном из ветвей и цветов, помаленьку охотился, понемногу рыбачил, но большею частью принимал союзников и мужчин, мальчиков и женщин из своих септов, неизменно возлагая руки на головы детей. То же самое было и в этом году, но вся природа, вся жизнь как будто застыла в неподвижности: над всеми островами, от Шотландии и Уэльса до Мунстера и Северной Франции, царило глубокое, сухое, пламенеющее золотом лето – даже на севере Ирландии, где так часто идут дожди. С мая до октября люди проводили дни и ночи под открытым небом, спали под деревьями и в траве; парни искали любви девиц, а порой и девицы добивались парней; казалось, весь мир вернулся во времена Верховных Королей, великих героев и влюбленных.
Хью ехал вместе с Мейбл и ее верной Ниав. Вдоль сверкающих на солнце притоков реки Банн он проезжал те места, что были памятны ему с юных лет, еще с тех времен, когда процессию возглавлял Турлох Линьях. Он помнил, что одни тогда ехали верхом, в коронах из цветов и листьев; другие вели дойных коров, чтобы в дороге не переводилось молоко. Вол тащил повозку с припасами и малыми детьми, а за повозкой брели две мясные коровы; потом их забивали и жарили мясо на костре.
Хью захватил с собой пару старых самострелов, решив, что Мейбл они позабавят. Длинные палки, к которым луки крепились бечевой, были не стальные, а из прочного дерева. На одном самостреле имелся ворот; тетиву другого – толстую, из просоленной кожи – приходилось натягивать до зацепа вручную, и Хью взял его себе. Пока керны разбивали лагерь, они с Мейбл развлекались, стреляя по мишеням и смеясь над промахами. Хью смотрел ей в глаза и видел в них летнюю радость: казалось, прежний, старый и холодный дом в Ньюри забыт навсегда. Хью знал, что это не так; Мейбл часто печалилась, погружаясь в угрюмое молчание, которое, в свой черед, глубоко огорчало его самого. Но здесь, среди арфистов и прыгающих лососей, не было места печалям.
Когда они доехали до старого форта в Каслроу, Хью решил там и заночевать: Мейбл, рассудил он, соскучилась по настоящей кровати. Правда, еще неизвестно, на чем приятнее было спать: на той ветхой рухляди, что сыскалась в старом замке, или по-простому, на травке. Зато наутро они отстояли мессу в часовне, а затем во дворе накрыли столы на кóзлах и устроили воскресное пиршество.
– Что это за печальный человек на тебя таращится? – шепотом спросила Мейбл.
– Какой-то кузен, – обронил он, едва взглянув, и продолжал жевать.
Позже Мейбл заметила, что Хью и человек, который был у него брегоном, стоят рядом с этим печальным кузеном, а тот им что-то втолковывает – пылко и даже, пожалуй, с отчаянием. Потом все трое ушли в замок, а двое мужчин из клана О’Хейганов – то ли телохранителей, то ли ратников (сколько Хью ни объяснял ей, Мейбл никак не могла запомнить, кто из них какую службу несет) – встали у двери.
Она подозвала Ниав, и остаток утра они провели среди женщин, любуясь младенцами и детишками постарше. Мейбл гладила чужих малышей, улыбаясь и в то же время едва не плача; опускалась на колени, чтобы посмотреть, как женщины ткут на маленьких ручных станках, которые нетрудно было нести с собой; Ниав переводила ей, о чем они говорят. Одна из женщин пела и наигрывала на инструменте, какого Мейбл раньше не видела, – вроде маленькой лиры. «Омываю лицо мое девятью лучами солнца, – пела она, – как Мария омыла Сына своего густым молоком»[94]. Все опускали глаза перед Мейбл – правда, лишь на мгновение; улыбались ей тоже мельком. Одна старуха, сидевшая на корточках, схватила ее за юбку и поцеловала подол, а после подняла длинную, сухую руку, коснулась ее живота и что-то пробормотала. «Я останусь с ними», – сказала ей Ниав по-ирландски. Мейбл погладила ее по щеке и пошла дальше.
Когда миновал полдень, она вернулась к той двери, твердо намереваясь войти и вызволить мужа. Но Хью вышел сам, и с ним – брегон и тот печальный человек, хотя теперь уже не столько печальный, сколько вконец отчаявшийся. Она услышала, как он сказал по-ирландски: «Что ж, милорд, Господь с вами». Хью мрачно посмотрел на него и буркнул: «Господь еще до вечера покажет, что Он не с тобой». Те же О’Хейганы, которые сторожили дверь, встали от него по бокам, и было видно, что человек перепуган до смерти. Хью пошел от них прочь, а потом заметил Мейбл и остановился, нахмурив брови. Он явно не ожидал встретить ее здесь, и был от этой встречи не в восторге.
Однако он взял ее за руку, и лицо его тут же просветлело.
– Дальше поплывем на лодке вверх по реке, – сказал он. – Может статься, встретим речную жену. Если повезет, она выйдет из дома и мы ее увидим.
– Кто это? И где ее дом?
– Дом у нее в реке, под водой. И в этой реке, и во всех остальных. Показывается она нечасто. Но приносит радость тому, кому все-таки покажется.
Мейбл понимала, что он просто шутит: ведь она давно уже не дитя, чтобы верить в сказки.
– Это дух плодородия, – добавил Хью. – Благодаря ей плодоносит земля и рождаются дети. Будем надеяться, что она тебя коснется.
Мейбл отпрянула в ужасе, но Хью лишь рассмеялся и обнял ее.
– Лучше уж она, чем Морриган, ее сестрица, – прошептал он ей на ухо. – Великая ворона, матерь войны и убийств.
И опять рассмеялся.
Эту большую деревянную лодку Мейбл заметила еще раньше – та стояла на причале у ступеней, ведущих к воде. Старик-лодочник и молодой парень – должно быть, его сын – при виде графа с женой замахали руками: мол, забирайтесь, садитесь. У Хью был с собой самострел; усевшись в лодку, он положил его на колени; лодочники взялись за весла, а следом за ними тронулась другая лодка, поменьше. Разморенная жарой и убаюканная мягким плеском весел, Мейбл ненадолго задремала, а когда вновь открыла глаза, то увидела, как Хью достает из колчана болт со стальным наконечником. Оттуда же он вынул уголек и написал им на одной стороне лопасти имя Мейбл, а на другой нарисовал раскрытую ладонь – знак О’Нилов и Ольстера.
– Она должна быть красной, – сказал он, – но краски нет.
– Проколи палец, – посоветовала Мейбл, – и окрась кровью.
Несколько секунд Хью молча смотрел на нее; на лице его отразилось какое-то чувство, но Мейбл так и не поняла, какое. Все еще глядя ей в глаза, он промолвил:
– Вот уж чего-чего, а крови скоро будет предостаточно. Хватит раскрасить весь мир.
Он натянул сыромятную тетиву, зацепил ее за крюк, приладил болт и поднял самострел, озираясь в поисках достойной мишени. На берегу виднелась рощица; казалось, будто стройные деревца движутся и пляшут, меняясь местами, хотя на самом деле, конечно же, двигалась лодка. В ветвях порхали две птахи – яркая и серая, самец и самка; издалека было не понять, что это за птицы. Хью поднял самострел на уровень глаз, прицелился, как из мушкета, и дернул за рычаг, спуская тетиву. Щелчок рычага и звон тетивы слились в один причудливый звук со свистом болта, устремившегося к цели; Хью и Мейбл следили за его полетом, но болт просто исчез между деревьями. Птицы спрятались.
– Объявляю награду любому, кто вернет мне этот болт, – будь то мужчина, ребенок или женщина! – крикнул Хью.

В Портгленоне, в пяти милях от Каслроу, для них уже сложили шалаш; в сухом, душном воздухе пахло костровым дымом и мясом, зажаренным до угольков. Когда Мейбл и Хью сошли на берег, люди расступились, отодвинулись от шалаша подальше, как будто догадываясь, что графа и его жену лучше оставить одних.
– Наш друг мистер Спенсер тоже знает сказки о феях, – сказала Мейбл. – Не такие злые, как ваши, ирландские.
Но Хью опять замолчал, замкнулся в себе и больше не отзывался на попытки жены развеселить его. Солнце уже садилось, когда один из людей графа, некто Галлахер, принес им ужин. История сохранила те несколько фраз, которыми Хью перекинулся с Галлахером; скорее всего, Галлахер сам об этом кому-то рассказал, но кому – неизвестно. Так или иначе, их недолгий разговор остался в хрониках тех времен вместе со всем остальным, что вскоре раскрасило мир именно так, как и предчувствовал Хью.
Где это ты пропадал? (спросил граф, если верить молве).
Смотрел, как люди делают одно дело, дело недоброе. И что же они такое делали?
Убивали Фелима Мак-Турлоха.
И как, убили?
Ага.
А сына его, Донала Ога, тоже убили? Ага, обоих убили и трупы в воду.
Должно быть, на этом месте Хью обернулся и посмотрел на Мейбл – видать, хотел выяснить, что из этого она поняла, – а потом снова повернулся к Галлахеру и спросил уже совсем другим тоном:
– А что, так и не сыскался болт, который я пустил с лодки? Мейбл вскрикнула. Мейбл вскинула руки и зажала себе рот, словно сдерживая новые крики, рвущиеся из горла. Мейбл, судя по всему, очень расстроилась.
О дальнейшем хроники молчат: из разговора между графом и его женой Галлахер не понял ни слова, потому что говорили они по-английски. Хью О’Нил встал и подошел к Мейбл, потирая большими пальцами указательные, и на какой-то миг ей почудилось, что он сейчас убьет и ее.
– Жаль, что ты здесь, – сказал он. – Не стоило тебе это слышать.
Мейбл знала лишь крохи ирландского: переняла их от нянек и слуг, когда еще малышкой носилась по дому, бегала на кухню, в сад и прачечную или на псарню посмотреть на щенков. (Всякий ребенок понемногу учит язык, когда слышит, как на нем говорят; точно так же и Хью впитывал, будто из воздуха, язык англичан, когда жил у сэра Генри Сиднея.) И этих крох ей хватило. Она поняла, что было сделано, и поняла, что это сделали по приказу Хью.
– Он был шпионом и предателем, – сказал он, незаметно подавая Галлахеру знак, чтобы тот проваливал, но Галлахер не послушался.
– Значит, они убили его? Твои О’Хейганы? Этого перепуганного человечка? И его сына? Я все поняла, и не надо мне лгать.
– Не дело тебе спрашивать о таких вещах и требовать ответа. Плохо, что ты вообще об этом услышала. Больше ты не будешь задавать никаких вопросов о моих поступках и решениях. Это для твоего же блага: я хочу, чтобы ты жила в мире и покое.
– Ты чудовище!
– Ты ничего не знаешь.
– Скольких ты уже приказал убить этим своим О’Хейганам или еще кому? Многих, да? Сколько сотен?
Так они проговорили дотемна и высказали друг другу немало. Хью был в ярости, а Мейбл с трудом сдерживала слезы гнева. Разговор был странный: даже если Галлахер или кто-то еще подслушивал, он все равно ничего бы не понял. Брат и отец были правы, воскликнула Мейбл, все ирландцы – убийцы, и теперь она сама убедилась. А знаешь ли ты, прошипел Хью, скольких гаэлов ее брат и отец послали на смерть? Скольких они повесили, колесовали, зарезали, как скотину? Да, и детей – тоже, как на острове Ратлин, где ее дражайший папочка, сэр Николас Багенал, командовал арьергардом. Его офицеры не щадили ни стариков, ни женщин, а младенцев отрывали от материнской груди и разбивали им головы о камни.
Это неправда! – закричала она. – Это просто еще одна злая сказка, вроде тех, что он часто рассказывал ей, – о битвах, убийствах и зверствах, которые творились в былые времена, так давно, что теперь уже можно говорить что угодно, и никто не проверит, так ли это было на деле. Но сегодня Мейбл собственными ушами слышала, как он приказал убить человека – мало того, родного человека, кузена! И отдал этот приказ так же спокойно и равнодушно, как если бы распоряжался подать коня или накрыть на стол. Мейбл уже изучила его недостатки и быстро с ними свыклась; так, она не возражала, что он оказывает знаки внимания другим женщинам – будь то у себя дома или в чужих домах. Она принимала его как есть, и ее влекло именно то, что в нем было. Но теперь оказалось, что в нем было и то, чего она не могла вынести. Мейбл вышла из шалаша в вечернюю тишину. Пение уже смолкло; матери больше не кричали, созывая детей; не мычали волы. Великий покой сошел на землю, и лишь ветви ив бесшумно колыхались на вечернем ветру. До чего же она все это любила! Ее возлюбленный привел ее в новый мир, о котором она прежде и не догадывалась, и к этому миру она прикипела всей душой. И как, убили? А сына его тоже убили? Хотелось плакать, но слезы так и не пришли; вечер сменился ночью, а Мейбл все стояла на берегу реки и дрожала от гнева и страха, не находивших выхода.
К концу лета она вернулась в родительский дом и с тех пор уже почти никуда не выезжала. Родным она сказала, что граф унижал и позорил ее, развлекаясь с другими женщинами; брат чувствовал, что это не единственная причина, но Мейбл казалась такой больной и слабой, что донимать ее расспросами он не решился. Когда Хью О’Нил приехал и стал молить о встрече, Ниав послала за сэром Генри, а тот указал ему на дверь; холодное удовлетворение, с которым он поведал Мейбл, как выпроводил графа, ранило ее чуть ли не глубже, чем все, что натворил Хью. Ведь Хью даже не попытался настаивать – просто повернулся и уехал. Мейбл больше не находила в себе сил вставать по утрам с постели, а по ночам лежала без сна; глядя на сестру или служанку, она почти не различала их лиц; солнце жгло ей глаза. Целыми днями она молилась шепотом, перебирая четки или пересчитывая головы животных на золотой цепи. Она хотела, чтобы муж отвоевал ее, исцелил, забрал отсюда и снова увез с собой; но он этого не сделал, да и не смог бы: последняя кровавая война, в которой ему суждено было сразиться, война длиною в девять лет, уже постучалась в ворота Севера. Эта война прокатится валом по ирландским графствам, ровняя с землей дома и истребляя людей, как царь Давид из Библии, которую Генри, брат Мейбл, ежедневно читал ей вслух: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч[95].
Вон отсюда!
Во внутренние земли Ольстера вели две дороги: узкая, восточная, проходила через лесистую, крутосклонную теснину – Северный перевал, или, как его еще называли, перевал Мойри. От Дандолка она забирала вверх и тянулась вдоль Черного берега до самой Армы, мимо Белого Дозорного Камня, у которого некогда стояли (а кое-кто скажет – стоят до сих пор) часовые древнего Улада, сторожившие королевство от врагов с юга. Вторая дорога шла с запада, через Слайго и Баллишаннон, вдоль юго-западного побережья озер на Эрне. На длинном острове Эннискиллен, близ протока, соединявшего два озера между собой, кто-то из Магуайров былых времен выстроил замок, который никому еще не удавалось захватить или принудить к сдаче (во всяком случае, так утверждали Магуайры). Война англичан против Магуайров и Севера ширилась, набирая размах с того самого дня, когда Бингем потерпел неудачи при Талске, и перед английской армией, надвигавшейся со стороны Слайго, Эннискиллен мог и не устоять.
О’Нилу, вернувшемуся в Данганнон, принесли вести: англичане отправили к Эннискиллену через западное озеро баржу, укрытую шкурами и плетеными щитами для защиты от ирландских снарядов и копий и такую огромную, что в ней поместилась добрая сотня английских колонистов, мужчин и женщин. Баржа шла медленно: то и дело приходилось останавливаться, чтобы расчистить проход среди топких островков, густо поросших зеленью. Между тем офицеры со сторожевыми отрядами ехали и шли пешком вдоль берега, переходя вброд бесчисленные ручейки, разбегавшиеся от озера во все стороны, точно ветви – от древесного ствола. Затем они прошли прямо под стенами замка – высокого, о двух башнях – и остановились там, где ирландцы вкопали в речное дно колья для защиты от лодок. В замке все было тихо; понаблюдав несколько дней, англичане послали саперов проделать брешь в барбикане.
Гаэлы не ведали страха под открытым небом, будь то в полях или лесах, на горных склонах или в болотной грязи. Но они страшно боялись застрять в ловушке, пусть даже в хорошо укрепленном замке. Если их брали в осаду, они сдавались или пытались бежать: все было лучше, чем сидеть в четырех стенах и ждать, пока тебя расстреляют или взорвут. Прорвавшись в барбикан, английские солдаты обнаружили внутри не более шести десятков защитников и быстро их перебили. Неприступная крепость Магуайров перешла в руки англичан.
Еще до конца июля Магуайр, владетель Ферманы, набрал большое войско из бойцов своего клана и вассалов и повел их тайными путями, известными только жителям Ольстера, отвоевывать замок. Красный Хью во весь опор помчался в Донегал и созвал под свои знамена сотни шотландцев из тех краснолапов Макдоннела, которых Гранья О’Малли когда-то переправила в Ольстер – и посоветовала старому О’Доннелу придержать их, пока не придет время; и теперь, по мнению сына О’Доннела, Красного Хью, время пришло. Граф Тирон поспешил отписать в Дублин, что не имеет никакого отношения к тому, что вытворяют Красный Хью и Магуайр: он, мол, знать об этом не знал и во всем этом не замешан. В нем по-прежнему боролись двое, Белый и Черный; Черный пообещал прислать своих людей на помощь его светлости, королевскому лорду-наместнику, но Белый не смог бы так поступить да и не собирался. Между тем Черный послал на помощь Магуайру стрелков и пехоту.
Держать строй на марше, как привыкла английская армия (впереди – барабаны и трубы, тут – пехота, там – кавалерия, посредине, прикрытые со всех сторон, – повозки с припасами, обозники и фуражиры, а позади – длинный хвост маркитантов, жен и детей), на узких ирландских дорогах было невозможно: то были скорее колеи, глубоко утоптанные пешеходами и скотом. На протяжении всего нелегкого пути на север ирландцы шли за ними по пятам: появлялись словно ниоткуда, набрасывались с мечами и копьями на отряды, отставшие от передовых, и снова исчезали. На подступах к Эннискиллену английские командиры решили, что проведут свое войско узкой тропой через топи и бурелом к месту брода через Эрн, где Верхнее озеро переливалось в Нижнее.
В каждом хорошем сказании должен быть брод.
Кавалеристам приказали спешиться и вести лошадей в поводу – а от пеших кавалеристов не было никакого проку. Когда передовые отряды подошли к броду, навстречу им, из-за деревьев, выступило несметное воинство (у страха глаза велики, а потому оно и впрямь казалось несметным). Все разом, как по команде, ирландские стрелки вскинули фитильные ружья и дали залп. Эти девятифунтовые мушкеты с фитильным замком стреляли свинцовыми пулями весом в унцию, летевшими на три сотни футов, а хорошему стрелку хватало минуты, чтобы перезарядить свое оружие для нового выстрела. Пока английские мушкетеры палили по деревьям вслепую, за громом выстрелов послышался какой-то странный крик. Он несся откуда-то сзади и длился, ширился, набирая силу, – так кричат демоны, баньши… но нет! То вопили шотландские краснолапы, которых Хью О’Доннел все-таки привел вовремя, – и с этим криком они катились на врага неостановимой лавиной. На одних были старинные, еще дедовские кольчуги; у других – клейморы, доставшиеся от отцов; все с тем же оглушительным визгом они ворвались в ряды англичан с тыла, круша на своем пути и солдат, и маркитантов. Магуайр, верхом на коне наблюдавший за схваткой с пригорка, испустил торжествующий возглас и вскинул меч; по этому знаку в бой вступила ирландская конница.
Из англичан спаслись только те, кто догадался бросить оружие и доспехи, забыть о лошадях и повозках и перебраться вброд на дальний берег, а там отыскать другую переправу, выше по реке. Те, кому это удалось, бежали на север без оглядки. Возможно, кое-кто и пустился за ними в погоню, добивая отставших, но краснолапов куда больше интересовал обоз, оставшийся у брода. Они, пожалуй, и передрались бы за трофеи, но добычи хватило на всех. Английские солдаты, офицеры и маркитанты везли все свое имущество – кошельки с деньгами, одежду, ценные вещи – в обозных повозках, предполагая, что так оно будет целее: обоз ведь охраняли солдаты… те самые солдаты, которые сейчас улепетывали в Слайго наперегонки с маркитантами и батраками, женами, детьми и ранеными. Капитаны Магуайра пытались уберечь повозки с припасами, но ошалевшие краснолапы перевернули все вверх дном, опрокидывая и разбрасывая бочонки с пресными галетами, которыми в те времена кормили не только матросов, но и солдат. Кто-то вытряхнул бочонок-другой прямо в реку, и вода покрылась коркой галет; они еще долго плавали, пока не раскисли. Магуайр и О’Доннел, Пес и Лис, встретились у брода и обнялись, счастливо смеясь.
– Наконец-то мир меняется! – воскликнул Магуайр. – Видишь, он двинулся обратно, к своим истокам – туда, откуда все начнется с начала!
Эту битву у истоков нового, грядущего мира они окрестили Béal Átha na mBriosgadh, Битвой у Галетного брода; под таким забавным прозванием она и вошла в историю. Замок Эннискиллен снова – до поры до времени – вернулся под власть Магуайра.
Ирландцы и краснолапы согнали в кучу пленных, обезоруженных англичан и перебили их безо всякой жалости, всех до единого. А те, кто ждал – в Раткрогане и на Черном мысу острова Клэр, в спиральных глубинах Ньюгрейнджа и в Грианан Эйлиг, что в Донегале, – все они очень скоро об этом узнали, испустили довольный вздох и снова затихли.
Часть пятая
Победители
Клонтибрет
Делать порох нетрудно. Трудно наделать столько пороха, чтобы хватило на большую войну.
Первым делом рубят и пережигают дерево – лучшими для этого дела считались ива и ольха, и в Англии они исчезали целыми рощами по мере того, как возрастал спрос на порох, но в Ирландии ивы росли повсюду, и от пороховых мельниц их спасала только известная привычка вытаскивать свои неглубокие корни из земли и шататься по дорогам, настигая заблудившихся путников или полуночных разбойников и накрепко спеленывая их по рукам и ногам длинными тонкими ветвями. Впрочем, днем ива не представляла опасности, и ее можно было спокойно срубить. Ивовые и ольховые стволы и ветви пережигали под слоем золы или песка, защищавшим от воздуха; под этим покрывалом они должны были долго спать, сохраняя форму тех деревьев, которыми были прежде, но постепенно превращаясь в черный уголь.
Затем наступал черед серы. В аду этой смрадной субстанции хоть отбавляй, но в мире земном ее раздобыть труднее. Воду из серных источников таскали в больших горшках; мало-помалу она испарялась, и на дне оставались кристаллы.
И наконец, требовался еще один компонент, самый редкий и необычный: селитра, она же нитр. В природе она скапливалась на стенах пещер, где ее можно было приметить по тусклому желтоватому блеску; можно было извлекать ее из экскрементов животных и собирать в отхожих местах и клоаках. Сборщиков селитры (что за отвратное занятие!) нанимали королевские подрядчики, вручая им особые грамоты; с такими грамотами они ходили по городам и весям, соскребая свою добычу со стен уборных и каменных сараев, а затем кипятили и очищали то, что удалось собрать.
Пороховые мельницы строились особым образом: поверх высоких толстых стен клали древесный настил, тонкий и легкий. Если порох по недосмотру взрывался (а такое случалось постоянно), крышу сносило, но каменные стены оставались целы и невредимы. Такие мельницы уже работали на западе Ольстера, в горах Блустек, куда не было хода английским чиновникам, да еще в холмах Антрима. Когда-то граф дарил мальчишкам охотничьи ружья; теперь эти мальчишки выросли и научились не только стрелять, но и делать низкосортный порох из угля, серы и селитры, которую собирали по всему Ольстеру со стен пещер и свинарников. Они стали настоящими мастерами и уже учили других. Клубы дыма, поднимавшиеся вечерами из долин, шли не только от домашних очагов, а грохот, порой отдававшийся эхом в окрестных скалах, никто уже не объяснял развлечениями мертвых героев, играющих в мяч под землей.
Но сырых пещер и вонючих уборных было недостаточно: Хью О’Нил закупал селитру бочками. Доставляли ее на галеонах пиратской королевы Граньи О’Малли; дон Педро Бланко вел переговоры и платил серебром О’Нилов. Загружали товар на Мальте или в Триполи – скрытно или маскируя под какой-нибудь безобидный груз. И в конце концов «Ричард» или «Луна» с бочонками селитры в трюме входили в какую-нибудь укромную бухту на побережье Донегала или острова Ратлин, где дон Педро со своими подручными приступал к разгрузке. С порохом все обстояло точь-в-точь, как с людьми: непрерывные поставки и постоянный расход.

– Это – Клонтибретская церковь и дорога из Ньюри. Вот это все – город Монаган. Тут – крепкий форт, в нем-то и стоит гарнизон. Припасов туда не подвозили уже много недель. Англичанам скоро придется бросить этот форт, иначе солдаты перемрут с голоду.
Три человека – сам О’Нил, Магуайр и Красный Хью – разглядывали карту, которую О’Нил расстелил на столе. Все было прорисовано и ярко раскрашено: и дома, и заборы, и большая церковь, и городские ворота. Крохотные солдатики в цветных мундирах, всадники со вздыбленными копьями, не по масштабу огромная пушка и даже работники, копающие рвы. На мгновение у графа закружилась голова, как давным-давно в Мортлейке, когда он увидел с высоты птичьего полета весь мир, изображенный на карте доктора Ди.
Магуайр, который, как и Лис, стал прекрасным кавалерийским вождем, но не уважал ружья, выступил на восток из Эннискиллена и взял город Монаган. Он вел свою собственную войну с англичанами и Бингемом, втайне отрекшись от клятв, которые принес перед чиновниками королевы и епископами, но не сообщив об этом ни графу Тирону, ни Красному Хью О’Доннелу (который, впрочем, и без того все понимал).
Разведка О’Нила донесла, что отряды, которые все это время собирали на подмогу злосчастному гарнизону, наконец-то выступают из Ньюри под предводительством сэра Генри Багенала. О’Нилу живо представилось, как они движутся колоннами по раскрашенной карте: красные мундиры, барабанный бой.
– Наши всадники из Ферманы возьмут этот гарнизон в два счета! – заявил Магуайр и взмахнул рукой, словно сметая нарисованную крепостцу с карты прочь.
– И верхом до нее – от силы три часа. – Что толку брать гарнизон? – пожал плечами Хью О’Нил. – Англичане, которые сейчас сидят в этом форте, беспомощны, как дети. И у них там ничего нет. Ни припасов, ни стволов, ни пороха, ни пуль.
– Так ведь Дублин на марше, и ведет их сам маршал, – возразил Красный Хью. – Ты сам это сказал, дядя.
– Так и есть. Но не всякое трудное дело решается толпой людей верхом на лошадях.

Наступил май, и деревья стояли в цвету, словно укрывшись снегом. На лугах уже пробивалась красная марь – «стелющаяся», как называют ее садовники: она жалась к земле, но расползалась стремительно, будто задавая темп отрядам, марширующим на Монаган. Подойдя к городу, сэр Генри Багенал заметил, что силы графа Тирона, его зятя, движутся в одну сторону с его войском, но держатся поодаль. И в тот самый миг, когда ирландские стрелки и конники развернулись по сигналу и обрушились на англичан, Багенал увидел среди ирландцев его самого, мужа своей сестры, на высоком черном коне и в черных чеканных латах, в которых его ни с кем было не перепутать.
На самом деле граф Тирон не сражался в битве за монаганский гарнизон. Маршал принял за него какого-то другого человека или вовсе не человека, а лишь видение, тень. Граф в тот день оставался дома – сидел в центре паутины, дергал за призрачные нити, крепкие или не очень. Холодную одинокую зиму он провел в Данганноне: писал бесконечные письма дублинским советникам, маршалу и в королевский Тайный совет; рано отходил ко сну (кровать, которую он когда-то делил с Мейбл, была завешена дорогими гобеленами, но никогда не согревалась толком) или играл сам с собою в шахматы у камина.
– С меня хватит, – сообщил он длиннолицему Педро Бланко. – Скажи мне, что я неправ.
– Кто я такой, чтобы указывать его светлости, прав он или нет, – ответил дон Педро. – Это вам подскажут собственные сердце и рука. А я здесь – лишь для того, чтобы поддерживать то и другое.
На его скорбном лице, казалось, были написаны все обещания, которые граф раздал за многие годы стольким людям – королеве, лорду маршалу, дублинскому Совету. Вправе ли человек просто взять и разбить свои клятвы, как глиняный горшок, и смести осколки в мусор? Люди, ожидавшие во дворе, встретили его радостными криками. Выглянув за ворота, Хью заметил пару молодых всадников, несшихся к замку во весь опор; подъехав к стенам, они спрыгнули с седел еще на скаку. Люди, дожидавшиеся под стенами, когда взойдет солнце, указали им на ворота и приняли взмыленных лошадей.
На следующее утро англичане – под гром барабанов и труб, как они это любят, – оставят монаганский гарнизон, который только что отвоевали (сообщили гонцы). Но вот что интересно: они собираются вернуться в Ньюри другим путем, не тем, что пришли…
Слушая, как молодые гонцы перебивают друг дружку, выкладывая новости, О’Нил ясно понял, что англичане пойдут старой дорогой, мимо церкви в Клонтибрете. Если поторопиться, то он как раз успеет поставить вдоль этой дороги на Ньюри, по обе стороны, ирландских стрелков и пикинеров. Из такой западни англичане смогут спастись разве что бегством. Хью послал Педро Бланко разбудить О’Хейганов, спавших во дворе: пусть поднимут своих бойцов и соберут по деревням всех, кто готов сражаться за О’Нила; пусть раздадут оружие тем, у кого его нет, и велят идти туда, где О’Нил задумал устроить засаду. Времени было в обрез, но дело того стоило. Хью пошел в оружейную и, уже отпирая двери, сказал двум юным гонцам, чтобы один из них вернулся в Монаган и передал Магуайру и О’Доннелу то-то и то-то; и вот им знамена с красной десницей Ольстера: кто выступает под таким, тому ничего не страшно. Ну, с Богом!

Ольстерские конники и стрелки выступили еще до полудня – это значило, что в Клонтибрет они доберутся, когда солнце будет еще высоко, и наверняка опередят неповоротливое английское войско. В полумраке оружейной Хью отыскал шитую бригандину – свадебный подарок от сэра Кристофера Хаттона, «танцующего советника» королевы[96] (вот уж от кого граф Тирон не чаял получить что-то в подарок!). На подкладку этого дублета из плотного холста были нашиты стальные пластины – внахлест, точно рыбья чешуя. Когда Хью протянул руку к деревянной колодке – безголовому тулову, на которое был натянут дублет, – в голове у него раздался голос: «Наденешь подарок сэра Кристофера и станцуешь на моей могиле?» Он так и замер, положив руку на бригандину и гадая, что это было: предупреждение или насмешка. Здесь его в конце концов и нашли телохранители, разыскивавшие своего господина по всему замку. Молча сняв дублет с колодки, они помогли графу облачиться. О могилах поговорим позже, – мысленно ответил голосу Хью О’Нил, – когда этот день закончится.

Сэра Генри Багенала, ехавшего во главе своей армии, больше всего поразили не сами ирландцы, засевшие по обе стороны дороги у Клонбитретской церкви, и даже не то, какими ровными рядами они выстроились (словно под началом хорошего английского командира), а то, как много среди них было красных курток. Красный! Личный цвет Ее Величества! Кони поднимали головы, кивали, изъявляя готовность; и над каждым отрядом реяло знамя: красная рука Ольстера. На одно безумное мгновению сэру Генри почудилось, что эти красные куртки – бойцы королевы, ирландские или даже английские, пришедшие пополнить его армию; но тут они всколыхнулись и пришли в движение: стрелки подняли ружья, запели волынки, пикинеры шагнули вперед, копыта коней ударили в землю, и маршал осознал, что он окружен и отступать некуда.
Солнце уже зашло, а битва все длилась; Хью О’Нил, опоздавший к ее началу, принял командование и метался между позициями, одних бойцов подбадривая, других – осыпая бранью, одних подгоняя вперед, другим приказывая отступить. Храбрый английский корнет, различив графа среди дыма и грохота, пришпорил коня и поскакал прямо на него. Хью попытался увернуться, но не вышло: оба рухнули наземь, сцепившись в рукопашной. С криками «Предатель! Предатель!» корнет бил графа в грудь коротким мечом и удивлялся, что никак не может пустить кровь. На помощь графу поспешили двое О’Кейнов; они набросились на корнета и отрубили руку с мечом, а Хью О’Нил вогнал ему нож в пах.
Когда совсем стемнело, граф отвел своих уставших бойцов, и Багеналу удалось разбить лагерь. Сам он так и не увидел в гуще сражения ни настоящего графа, ни того человека в черных чеканных латах. Но он увидел, что ирландцы сражаются организованно, слушаются команд и не знают недостатка в порохе и пулях. Маршал был не дурак. Он отлично понимал, что здесь, у Клонтибретской церкви, он потерпел поражение, и не видел причин, по которым подобное не могло бы повториться вновь. Не дожидаясь утра, он отдал приказ уходить в Ньюри; О’Нил послал ему вдогонку малые отряды, донимавшие англичан всю дорогу. Вернувшись наконец домой, маршал узнал: пока он сражался у Клонтибрета, его сестра Мейбл, графиня Тирон, умерла. Она умирала с того самого дня, как покинула мужа и возвратилась в Ньюри. И теперь, неподвижная и холодная, она лежала, дожидаясь брата, а руки ее были обвиты стеклянными четками – точно скованы цепью. Рядом с нею молча плакала Ниав. Сэр Генри отослал девушку, улегся рядом с сестрой – как был с дороги, в грязной одежде, – и рыдал, пока не провалился в сон. Еще много дней и ночей налетчики О’Нила разоряли и жгли его земли в окрестностях Ньюри. Арендаторы-ирландцы разбежались; многие из них встали под знамена О’Нила, откликнувшись на призыв к оружию.

Под бригандиной (которую слуги снимали с графа очень осторожно и останавливаясь всякий раз, когда он не мог сдержать стона) вся грудь и живот Хью О’Нила оказались пурпурно-черными: меч англичанина не ранил его до крови, но повсюду, где стальные пластины впечатались в кожу под ударами, расцвели синяки. Граф едва держался на ногах; слуги помогли ему дойти до постели, но он не хотел, чтобы его укладывали, как больного, и отослал их прочь. На стене у кровати висело прекрасное большое зеркало; Мейбл накупила немало таких зеркал заодно с другими дорогими вещами, которые так ее радовали, что Хью и сам приходил в восторг. Увидев себя в таком неожиданно жутком виде, он рассмеялся и тут же испустил стон: смеяться было больно. Затем он вспомнил о другом, меньшем – или большем? – зеркале, с которым не расставался с тех самых пор, как доктор Ди повесил этот подарок ему на шею. Уж не потерял ли он его у Клонтибрета? Нет, оно было здесь, пряталось в густых волосах на его измочаленной груди.
И она была здесь, в зеркале. Обсидиановая подвеска превратилась в бесконечную черную дыру, но из нее по-прежнему слышался голос. Ты перешел мне дорогу столько раз, что и не сосчитать, – услышал он. – И потому больше не жди от меня милостей. Твои мятежные выходки обошлись мне слишком дорого. Я орошала земли этого острова золотом, как струями мочи, а взамен не получила ничего, кроме измены. Ты своеволен, милорд граф, ты непокорен, хотя, видит Бог, у тебя нет никаких причин бунтовать! Склонись, жестоковыйный, или сломаешь выю!
До чего же ему хотелось ответить ей! Рассказать, как обращались с ним ее советники и чиновники, как они обходились с его семьей, с его людьми и союзниками. Рассказать обо всех, кого уже не вернуть; о ни в чем не повинных мальчишках – Красном Хью О’Доннеле и Арте О’Ниле, которых годами держали в цепях в дублинской тюрьме. Она ведь ни о чем этом не знала – и, верно, не желала знать. Дева и мать, она никогда ему не помогала, если только это не было в ее интересах; она никогда не слышала его – только он ее слышал. Он поклялся Дублину, Тайному совету в Лондоне и самой королеве: если бы ему отдали власть над Ольстером, он служил бы ей верой и правдой, всем своим сердцем и всеми своими силами; он свято хранил бы мир на Севере ради нее. Но она отвергла его клятвы с холодным презрением, взирая на него из зеркала безмолвно и неподвижно, словно кобра из-под своего капюшона. И в этом взгляде он прочел, что власти над Ольстером ему не видать. Королевский Совет только требовал, ничего не обещая взамен, и уже подавая первое прошение (а затем и второе), Хью прекрасно знал, что это кончится. В высоком посеребренном зеркале на стене, за собственным лицом, гротескно искаженным болью, он увидел другое лицо – смутное, тающее лицо своей графини Мейбл, разодетой в атлас, с диадемой на голове, – и понял, что сегодня она умерла. Тогда он внезапно сделал то, на что, казалось, не отважится никогда: зажал в кулаке обсидиан, оправленный в золото, и сорвал его с цепочки одним рывком. А потом закричал во весь голос, швырнул черное зеркало об стену и услышал, как оно звякнуло, словно испустив еле слышный ответный крик. И отвернулся, пытаясь унять сердце, бешено колотившееся в груди.
Все. Граф Тирон отделался от королевы. Больше не о чем было просить, больше некого было слушаться. Теперь те двое, что в нем боролись, Белый Человек и Черный, наконец-то станут одним. А единственными настоящими союзниками этого единого человека всегда были те незримые, которых он знал еще с детства. Теперь нужно верить только в них – и надеяться, что этого хватит. Все равно у него больше ничего не осталось.
Только я сам, совсем один. И что бы ни случилось дальше, с меня хватит.
Блэкуотер
Генерал-лейтенантом королевской армии в том году был Томас Батлер, граф Ормонд, друг королевы еще с детских лет, прозванный Черным Томом[97], хотя волосы и бороду ему теперь приходилось тщательно красить, чтобы соответствовать прозвищу. Нового лорда-наместника так и не назначили. Армия, с которой Ормонд прибыл в Ирландию, представляла собой жалкий сброд: он даже стеснялся ехать во главе такого войска и оставил большую его часть в Дандолке, когда в июле поехал на переговоры с Хью О’Нилом.
Переговоры! Все до единого с обеих сторон прекрасно знали, что переговоры, сделки, письма и приказы, которые продолжали слать Тирону месяц за месяцем, только помогают графу протянуть время в ожидании испанцев. Испанцев тоже ожидали все: ирландцы – с отчаянной надеждой, англичане – с ненавистью и страхом. Но Совет настоял: О’Нилу следует дать еще одну, последнюю возможность одуматься.
Встретились у ручья, что-то шептавшего и пофыркивавшего, пока люди вели свои бесполезные разговоры. Ормонд привез с собой Томаса Джонса, англиканского епископа Мита, того самого, который когда-то сочетал браком Хью и Мейбл. Епископ, в свой черед, привез двух секретарей – записывать все, что будет сказано. Для начала Ормонд и епископ потребовали, чтобы Хью передал своих сыновей, детей Шиван, в заложники короне: такова была, как выражались англичане, мера предосторожности, призванная окоротить буйных ирландцев.
– Нет, – сказал Хью.
– Но всякий ирландский джентльмен только и мечтает отослать своих сыновей из этой варварской страны, – мягко возразил епископ. – Чтобы они получили хорошее воспитание, как и вы сами…
– Вы заблуждаетесь, сэр епископ, – сказал Тирон. – Вы совершенно не знаете Севера. Хорошее воспитание! Если мои сыновья покинут страну, чтобы учиться у англичан, люди будут презирать их.
– Меня никто не презирал! – возмутился Том Батлер. Он был глуховат и кое-что из сказанного от него ускользало. – Когда я вернулся домой, меня приняли как дóлжно…
– Я не хочу, чтобы с моими сыновьями обошлись так, как со мной обошелся сэр Генри Сидней, – продолжал Хью, не обращая внимания на Ормонда. – Когда убили моего отца, главой О’Нилов сделали Турлоха Линьяха, и сэр Генри поддержал его, а не меня. И все последующие лорды-наместники тоже поддерживали Турлоха, пока он не приказал долго жить.
Таких речей от Хью О’Нила до сих пор не слыхал ни один англичанин. Такие речи он до сих пор вел только сам с собой. И теперь никто не знал, что ему ответить.
– Заклинаю вас, сэр, – наконец промолвил Ормонд, учтиво, но твердо, – вспомните, как добра была к вам Ее Величество королева! Она вытащила вас из грязи, назначила вам содержание, хранила вас своим материнским попечением…Рука Хью сама собой потянулась к груди; подавляя желание схватиться за медальон, он рванул поводья и яростнее, чем хотел бы, – потому что конь под ним беспокойно заплясал от этого рывка, – закричал на Ормонда
– Материнское попечение?! Королева не дала мне ничего! Мне пришлось своими силами добывать все то, что принадлежало мне по праву! – Он почувствовал, как на глаза наворачиваются гневные слезы, но и не подумал остановиться: еще чего не хватало – отступить перед этими людьми! – Разве я не проливал ради нее кровь? Разве не хранил ради нее мир тридцать долгих лет? А теперь она хочет моих сыновей? Вы их не получите! Сыновья были здесь же, рядом с ним: верхом на пони, в легких доспехах. Одному исполнилось двенадцать, другому – тринадцать; как и самого О’Нила, их воспитывали О’Хейганы. Они же привезли мальчиков в Данганнон и на эти переговоры: пусть учатся. Бойцы О’Хейганов с пиками на изготовку стояли на пригорке за спиной Хью и терпеливо ждали. – И видит Бог, – продолжал граф, – что даже если бы эти мальчики с самого начала оказались у вас в руках, заложниками – да что там, пленниками! – я бы все равно сделал все то же самое, что сделал и так! Епископ наклонился к Ормонду и что-то прошептал ему на ухо, а затем повернулся к О’Нилу и подъехал ближе к разделявшему их ручью.
– Давайте все как следует обдумаем, а потом встретимся еще раз.
– Обдумывать тут больше нечего, – отрезал О’Нил, разворачивая коня. – А на сегодня я все сказал.
На восходе луны Красный Хью приехал в Данганнон. Некоторое время он стоял молча, похлопывая перчаткой по второй руке, с которой словно забыл снять перчатку, и наблюдая, как мальчики играют в шахматы; их отец тоже наблюдал и время от времени давал советы.
– Весь мир толкует о том, как ты выложил Тому Батлеру все начистоту, – сказал Красный Хью.
Граф ответил, не поднимая глаз:
– Этот весь мир, о котором ты говоришь, куда меньше, чем тебе кажется.
Одним слитным движением Красный Хью пододвинул табурет к столу и сел на него. Даже такой незначительный жест был исполнен изящества и уверенности, присущих ему словно от рождения. Сэр Лис!
– Возьмешь меня завтра с собой, когда снова поедешь на встречу с епископом и Томом Батлером? – спросил Красный Хью. – Я бы тоже с ними поделился парочкой мыслей.
О’Нил захохотал, и то был первый раз за много месяцев, когда он рассмеялся от души.
– Ну, коли так, поедем вместе и выскажем свои мысли этим высоким господам.
– Ты будешь главным, как и всегда, – добавил Красный Хью. – Я буду держаться сзади.
– Быть главным над тобой я не желаю. Но по давним обычаям тот, кто старше, должен держаться по правую руку от младшего, когда они вместе куда-то едут или идут пешком.
– Тогда держись от меня по правую руку, дядя, – улыбнулся Красный Хью. – И вместе мы оставим их с носом.
Повторные переговоры принесли не больше пользы, чем первые, и закончились еще быстрее: в присутствии молодого лорда Тирконнела, который много улыбался, но почти ничего не говорил, Том Батлер почему-то чувствовал себя неуютно. Почему – он не понимал, но понял, что договориться с графом не выйдет, и утвердился в мысли, что вести дела с гаэлами невозможно: они никогда не говорят того, что думают, а действуют только по своему разумению. На следующий день он сел за стол в своем дублинском кабинете, взял перо и чернила и составил для Тайного совета в Лондоне полный отчет: изложил все, что ему было известно, что сказал граф и на чем настаивал он сам, Томас Батлер. Государственный секретарь Елизаветы, лорд Берли, пробежал глазами встречное предложение графа Тирона (он снова требовал верховную власть над Ольстером) и отбросил его, припечатав одним-единственным словом: Эвтопия! Граф был не в том положении, чтобы перекраивать мир, сколь бы дурно, без сомнения, тот ни был устроен. Ознакомившись с посланием от епископа (единожды предав, предаст не раз, писал тот), Берли набросал черновик королевского манифеста, в котором Хью О’Нил объявлялся мятежником и пособником измены, а всякому верному подданному короны предписывалось при малейшей возможности лишить его жизни, не опасаясь наказания и твердо рассчитывая на достойную награду. Вечером того же дня чистовую копию принесли королеве; эти жесткие пергаментные листы она изучала несколько минут, как будто пытаясь отыскать хоть малейший изъян. Затем обмакнула перо в чернильницу, вывела аккуратную подпись и вдавила королевскую печать в разогретый красный воск, словно клеймя ненавистное лицо.

Отребье, которое Том Батлер привел в Дублин под видом армии, вконец оскотинилось: солдаты терроризировали горожан и выменивали оружие на выпивку и еду, которыми Батлер не мог или не хотел их обеспечить. Но он понимал, что должен как можно скорее выступить против О’Нила, чтобы не остаться в дураках.
Что же произошло? Как так вышло, что сыны Англии – ладно, допустим, бедняки, отчаявшиеся, обездоленные, но все-таки сыновья английских йоменов – потеряли человеческий облик? Что на них так повлияло? Должно быть, погода, предположил Батлер. Но погода, пускай и впрямь ужасная, была ни при чем. Ни граф Ормонд, ни его английские офицеры понятия не имели о тех существах, которые обычно остаются невидимыми, но, когда нужно, все-таки показываются.
Вызвали их те, кто ждал. Сами они грезили в неподвижном покое, погрузившись в древние сны, но нужно было как-то действовать, и способ имелся. Они вызвали лепреконов – добрый народец, в котором не было ни крохи добра, – чтобы те являлись людям на дорогах, в тавернах и даже в казармах: ухмыляющиеся тролльчата не крупнее поросенка или малого дитяти, но на лицо – дряхлые старички, морщинистые, бурые и все как один с длинной козлиной бородкой. Всем известно, что они без устали латают башмаки, воруют пиво и пьют его, а еще – копят золото. Но на деле ничего этого они не умеют – ни латать, ни воровать, ни пить, ни копить. Умеют они только одно: морочить людям голову. И делают именно это – как раз потому, что не умеют ничего из того, чем будто бы все время заняты. За всю жизнь человек может увидеть лишь одного лепрекона, но этот единственный может предстать в обличье дюжин и дюжин своих сородичей, если понадобится хорошенько напакостить. Английские солдаты и ирландские рекруты уходили с постов, почуяв лепреконье золото, ввязывались в торг, чтобы продать пику или мушкет, который давно уже пропили, или сбивались с дороги, заплутав в трех соснах. Одним казалось, будто у них украли штаны; другие ни с того ни с сего воображали себя пьяными, хотя не брали в рот ни капли; третьих выворачивало от поганой еды, которой им никто не давал. И вскоре во всем Дублине уже не сыскать было ни одного христианского бойца в здравом уме.

Между тем у О’Нила на полях подрастали всходы, жеребята превращались в боевых коней, пороховые мельницы мололи без остановки, а пикинеры под руководством Педро Бланко учились маршировать и выполнять строевые команды по-испански. Кто-то – кое-кто из этих – нашептал Ормонду, что для победы над Тироном надо поставить гарнизон на острове в заливе Лох-Фойл, что омывает Ольстер на крайнем севере. Оттуда имелся выход в Северный пролив, а значит, припасы можно было подвозить морем. Скупердяйка-королева обдумала предложение Ормонда, подсчитала (две тысячи человек, корабли и припасы, и все это – на два года, по меньшей мере) и не набралась духу одобрить.
Хью О’Нил, которого известили об этом дублинские друзья, не стал дожидаться, пока англичане примут решение. Он взял в осаду новый английский форт, построенный южнее, на реке Блэкуотер, – кинжал, нацеленный в самое сердце Ольстера. Когда ратники его окружили, саперы начали возводить укрепления и вкапывать в землю заостренные колья, чтобы помешать подвозу припасов. Ирландские рекруты из форта (а некоторая доля кернов имелась в составе каждого английского гарнизона или войска) молились Пресвятой Деве, чтобы Она привела им на помощь сэра Генри Багенала. И Дева вняла их молитвам – по крайней мере, так они решили, когда однажды в сумерках на подступах к форту показался отряд красных мундиров. То были английские разведчики; да, сказали они, да, лорд-генерал Батлер уже идет с огромным войском, с ружьями и кавалерией; он будет тут совсем уже скоро, через неделю, в крайнем случае к августу, ко дню Успения Богоматери. Все будет хорошо. А покамест не найдется у них чего-нибудь попить и поесть? Защитники форта, умиравшие от голода, не знали, что на это ответить.

– Около этого форта течет речушка, что впадает в реку Блэкуотер, – сказал Хью О’Нил. – Но, наверно, эти места на севере вам незнакомы. Хотя там-то и находится ваш незримый престол в Арме и собор Святого Патрика.
Вечерняя мгла уже сгустилась над огражденным садиком в стенах палаццо Сальвиати в Риме. Зажгли свечи; слуга налил из серебряного кувшина два кубка вина и удалился. – Мне известно лишь то, что присылали в отчетах, – сказал архиепископ, легонько сжимавший своими длинными пальцами гусиное перо. – Без сомнения, в отчеты вошло не все.
– Записывать уже не получится, – мягко заметил О’Нил. – День уходит.
– Тогда просто расскажите, – попросил архиепископ.
Граф сделал глубокий вдох, словно отхлебнув из чаши воспоминаний.
– Итак, приток Каллан. Чтобы снять осаду с форта – в чем и заключались их цель и намерение, – нужно было форсировать этот Каллан, а место переправы прозывалось Желтым бродом, по цвету воды в этом месте.
– Странно, что такое нелепое именование останется жить в веках, – пробормотал архиепископ.
– Вдоль дальнего берега этой речушки тянулась длинная полоса кустов и деревьев. Наступавшие с того берега англичане ничего не могли разглядеть за этими зарослями, а я приказал выкопать между деревьями и речкой ямы-ловушки и прикрыть их ивняком и травой. И перед этими ямами, и за ними прятались наши мушкетеры, не уступавшие лучшим английским стрелкам. Вдоль дороги и на пути движения английского войска мы тоже устроили западни.
– Такая предусмотрительность совсем не вяжется с тем, как обычно воют ирландцы.
– Потому-то мы и проиграли столько битв.
Граф запрокинул голову к небу над стенами садика. Синий атлас, усыпанный звездами – милосердными, как ему подумалось. Гордился ли он той битвой у брода? Пожалуй, гордиться было глупо – в свете того, что из этого вышло в итоге. Ведь за этой победоносной битвой последовали другие, в которых он уже не смог победить. Но он все равно гордился. И грех гордыни, за который небеса так часто карали его со всей суровостью, до сих пор оставался в его глазах не столь уж тяжким. Хью О’Нил гордился своей гордыней. Он уже просил за это прощения – и вот наконец звезды его простили.
– То был день Успения Пресвятой Девы, – тихо промолвил он. – Августовский день[98].

Капитаны прозывали маршала Генри Багенала «Генри-с-Топорами», а почему – никто уже не помнил. Из Дублина выступили на рассвете, шестью полками; барабанщики выбивали «Диану», утреннюю песню. Сэр Генри ехал впереди, полагая, что так у него больше надежды заметить О’Нила первым и, если повезет, расправиться с ним собственноручно. До чего же он его ненавидел! Нынче утром сэр Генри был вооружен до зубов и закован с головы до ног в сверкающую сталь. Шлем, нагрудник и наспинник, кираса с латной юбкой и бедренными щитками, латные перчатки, наручи, налокотники и сабатоны – вот как он все предусмотрел! И конь его был облачен в доспех: голову защищал шанфрон, бока были прикрыты фланшардами. Одного только маршал не учел: вся эта броня делала его слишком уж приметным, и не только для глаз человека.

– Они притащили фальконеты – огромные такие пушки. Волы тянули их волоком всю дорогу, от самого Ньюри, – поведал Хью Петру Ломбарду. – Но артиллерия им не пригодилась. Они не успели даже расставить и зарядить орудия: одних волов перебили наши копейщики и стрелки, а другие угодили в ямы и утащили пушки за собой. Похоже, маршал не смог примириться с такой потерей и послал погонщиков и солдат вытаскивать пушки из ям. И вот представьте себе: волы ревут, раненые солдаты орут и зовут на помощь, капитаны сходят с ума от страха и ярости, а наши наездники вьются вокруг них, точно осы. До сих пор в ушах стоит! А ведь маршал тогда еще не знал, что арьергард его армии уже рассеян – спасибо конникам Красного Хью и Магуайра. Это благодаря им англичанам оказалось некуда отступать, когда им только и осталось, что спасаться бегством. Ирландские солдаты (а их среди англичан было немало) просто побросали оружие и как сквозь землю провалились – так мне потом рассказывал со смехом Красный Хью. Из всех великих бойцов, которых я знал, он был единственным, кто смеялся в бою. И когда побеждал, и когда проигрывал.

Позже в тот день один английский капитан прорвался сквозь заросли со своим полком. Его увидели со стен осажденного форта и подняли крик: защитники крепости видели, что сейчас случится, и пытались предостеречь своих спасителей. Но было слишком поздно: мушкетеры, которых О’Нил спрятал в траншее, уже поднялись во весь рост, словно соткавшись из клубов ружейного дыма, и открыли огонь. За мушкетерами стройными рядами выступили пикинеры, накрепко затвердившие науку Педро Бланко. Под их натиском англичане попятились обратно, торопясь укрыться за деревьями. Уворачиваясь от пик, кое-кто из них заметил странную вещь: прямо по земле тянулся длинный фитиль. Затем капитан увидел человека с горшком углей; тот подбежал к фитилю, поджег его и бросился наутек с криками: «Берегись!» Отступление завело англичан в очередную ловушку. Треща и рассыпая искры, фитиль догорел; огонь добрался до бочки с ольстерским порохом, прятавшейся в подлеске, и тот рванул с оглушительным грохотом, разметав тела и части тел на много ярдов вокруг.
Генри Багенал услышал взрыв и, обернувшись, увидел, как его перепуганные солдаты разбегаются во все стороны, торопясь убраться подальше от деревьев: где одна бочка, там и другая. Что же это было, что там стряслось? Багенал приподнял блестящее забрало шлема, чтобы лучше видеть – или вообще разглядеть хоть что-то в пороховом дыму, – и в ту же секунду его ударило в лоб. Он рухнул навзничь с коня, загрохотав сталью, а конь, гремя фланшардами, поскакал прочь, сквозь толпу. Англичане бежали в таком беспорядке, что не смогли даже перетащить в укрытие тело своего полководца.

– Мы так и не узнали, кто выпустил эту пулю, – сказал О’Нил Петру Ломбардскому.
– Может, то была и не пуля. Есть такие создания, что пускают особые стрелы метче самого искусного стрелка.
– И то правда, отче. И то правда.
Через несколько дней после сражения, когда все уцелевшие английские солдаты сдались О’Нилу, из Дублина пришло письмо: коль скоро ваш заклятый враг Багенал погиб, не отпустите ли вы остатки его армии? И О’Нил отпустил их.
– Очень это было странно, друг мой: как будто не маршал пошел на меня войной, а я – на него. Но что я терял? Лорд Тирконнел и другие вожди хотели вернуться домой с победой и собрать урожай, уже созревший на полях; так пусть же бедные проигравшие англичане и их союзники идут себе с Богом.
– В победе великодушен, – заметил Петр. – Господь и ангелы Его ведают, что ваше дело было правое и разум ваш не омрачился гневом.
О’Нил признательно кивнул.
– Но, – мягко добавил архиепископ, – не лучше ли было в тот миг триумфа двинуться на Дублин и одним огненным взмахом меча покончить…
– Возможно, – признал граф. – Многие так считали. Будь я уверен во всех своих союзниках; будь я уверен, что испанцы вот-вот придут на помощь; усомнись я хоть немного в том, что побежденные вспомнят мою милость, когда настанет время и мне просить о милости…
Петр накрыл ладонью руку Хью, лежавшую на мраморном столе. Дальше они сидели в молчании, в мерцании свечей; оба размышляли о днях и годах, которые последовали за той единственной в своем роде, несравненной победой; обо всех тех годах, за которые Господь не счел уместным прийти на помощь О’Нилу и ирландским лордам, сколько ни служили месс в Мадриде и Риме, сколько ни возносили молитв. Поражение следовало за поражением; граф словно спускался по широким ступеням мраморной лестницы Времен, пока наконец не ступил на борт корабля, который отчалил от берегов Ирландии и привез его сюда, в Рим, в этот сад, погружающийся во тьму.

Вести о великой победе дошли до короля Филиппа II; ему нашептывали на ухо подробности, а он сидел, не поднимая век, недвижный и безмолвный, как изваяние. Хью О’Нил сразился и победил, сообщили ему; небывалый, неповторимый случай; он выиграл великую битву в каком-то никому не известном месте под названием Желтый брод.
Брод есть всегда: люди сражаются, чтобы узнать, кому из них суждено пересечь реку, а кому – нет.
Вскоре после той битвы, единственной и неповторимой, Джон Ди у себя в Праге получил известие – при помощи все той же стеганографической процедуры, медленной и мучительной, – что Филип Испанский оставил сей бренный мир. Послание, которое он извлек из тысяч и тысяч одинаковых ангельских букв, переложенных на десятки алфавитов, гласило, что великая победа ирландского полководца на реке Блэкуотер стала большим утешением для умирающего. Ангел-посланник забрал последний вздох короля – вздох, что претворился в слова, которые ему предстояло доставить по назначению. Быть может, он немало подивился такому заданию, если смерть хоть что-то значит для таких существ. Джон Ди счел достойным удивления другое: что последние мысли католичнейшего из королей были обращены к Тирону, ирландскому зверю, сорвавшемуся с цепи. Когда-то он, Джон Ди, решил приковать этого зверя к королеве своим тайным искусством; но, быть может, не стоило этого делать?
Часть шестая
Слуа Ши
Захватчики
Человеку не дано услышать, как смеются те, кто ждет в темноте под холмами и в замках на дне озер. Но внук Ньяла все же услышал этот смех, когда после битвы у Желтого брода к нему привели пленных английских капитанов и развязали им руки. Капитаны рассказали, как над их солдатами и рекрутами шутили шутки какие-то воображаемые существа – или, быть может, черти; уж те-то вполне настоящие, это известно каждому. Как можно сражаться с врагом, когда другие, невидимые враги уже выпили из тебя всю отвагу и веру?
Слушая эти рассказы, Хью О’Нил и сам смеялся от души. Он понял, что это за существа – коренастые, смурные, бородатые и в шляпах, хранители богатства, которое не ухватить рукой, – донимали англичан. Он ведь и сам когда-то встретил одного из них – давным-давно, на заре своей жизни, близ рата в Данганноне, куда привел его бард О’Махон, слепой О’Махон, который все же прекрасно видел, кто тогда вышел к маленькому Хью из-под земли.
То, что принес ему земляной человечек, было сущей безделицей: просто осколок кремня, обточенный словно рукою ребенка, решившего поиграть в мастера. Но этот осколок оставался при нем до сих пор, лежал в его собственной руке. Безголосый камень – и все же, казалось, он говорит, повелевает, советует. Хью погладил большим пальцем зернистую поверхность. Он не представлял себе, что мог сделать этот кремень для победы при Желтом броде; сам он не просил его помочь и никого не призывал с его помощью; и все же он верил, что избравшие его раскинули сеть на все четыре стороны Эрин – на север и на юг, на восток и на запад. Эта сеть все еще цела, и по нитям ее струятся силы: с севера – отвага, потребная и для войны, и для мира. С запада – ученость и дар сказителя, потребный для того, чтобы ни одно из великих дел никогда не забылось. С востока – гостеприимство и песнь; они потребны для того, чтобы славить ученость и отвагу и вознаграждать королей, хранящих мир таким, каким мы его знаем. С юга же, из Мунстера, приходит музыка, и с нею – все блага земли, и с нею – могучие жены, бессмертные и прекрасные. Вот они каковы, четыре части. Но внутри у Хью О’Нила, как и у всех, были еще четыре, другие и те же самые: Слева и Справа, Впереди и Сзади. А при каждых четырех частях имелась еще и пятая, такая же огромная, как остальные, и название этой пятой части было ответом на загадку, которую О’Махон загадал ему давным-давно, когда учил маленького Хью именам четырех великих четвертей страны. Крутись – не крутись, а глазами эту пятую часть не увидишь; она не далеко, не близко, не впереди, не сзади, а просто здесь. Она-то и хранит все целое неизменным в вечном круговороте перемен; и это – единственная часть, из которой ни уйти, ни уехать. Хью О’Нил прижал к сердцу руку, в которой держал камень сидов – заповедь и обещание, – и прошептал одними губами: «Здесь».

Вести об удивительной победе, одержанной на Севере, всколыхнули старых английских лордов и ирландские кланы Юга, погнав их в набеги по всему Коннахту и Лейнстеру, как ветер гонит огромную волну, что сметает с побережья лодки и камни, дохлую рыбу и обломки разбитых кораблей, а затем, отступая, тащит на глубину все без разбора. После Желтого брода тем септам, которые боялись Томаса Батлера, лорда-маршала Багенала и саму королеву на престоле, бояться стало нечего. Зато страх охватил колонистов, и они бежали, бросая свои дома и отрекаясь от титулов трехсотлетней давности, на которые лишь недавно заявили новые права. Уже к октябрю ольстерские капитаны Тирона вместе с Красным Хью, лордом Тирконнела, и с Хью Магуайром, лордом Ферманы, и с тысячей конных бойцов пересекли гряду невысоких эскеров, отделявшую Удел Конна от Половины Муга.
– Куда ты ведешь нас, дядя? – спросил Лис.
– Пусть каждый ведет тех, кто хочет следовать за ним, – предложил Пес. – Единый вождь нам ни к чему.
О’Нил улыбнулся словам темного всадника. Черные волосы Магуайра, отросшие почти до пояса, сейчас были собраны в узел на затылке. Широкий с раздутыми ноздрями нос на длинном лице указывал точно на юг.
– А если я поведу, сэр? Неужто вы последуете за мной? – мягко спросил он. – Станете псом у ног моей лошади? По-моему, вы для этого слишком горды.
Магуйар перевел взгляд с улыбающегося Лиса на О’Нила, не понимая, дразнят его или говорят всерьез.
– Я не настолько горд, чтобы ни за кем не следовать, – сказал он О’Нилу. – Я могу стать псом для вас, милорд, если понадобится. Но вашим псом я не буду.
– Ну что ж, на вас нет поводка, сэр. Езжайте, куда хотите. – Он по-дружески пожал руку Магуайру, развернулся и, проехав мимо Красного Хью, тронул его за плечо. Затем проехал через ряды солдат и капитанов и, не оборачиваясь, поскакал дальше.
Лис и Пес последовали за ним, на юг.

И вот мертвецы Мунстера – те, которых повесил или обезглавил лорд Генри Сидней, сэр Джон Перрот или кто-то другой; те, что годами лежали без погребения после того, как мятеж Десмондов был подавлен, – поднялись из болот и низин, из лесов и с отравленных полей. Они собрались в армию; среди них были жены и дети; и души их были изранены английским оружием и злодеяниями английских шерифов. Некоторые несли с собой собственные головы, отсеченные руки или ноги, но увечья ничуть не мешали им делать свое дело. И это войско, не ведающее ни голода, ни жажды, ни нужды в снаряжении, обрушилось на колонистов и местных английских сквайров, которые отняли у них все. Живые солдаты и капитаны хоть и не видели, но чувствовали мертвых у себя за спиной: те не давали им отступить и не знали устали. Их становилось все больше. Мертвецы не могли жечь дома и убивать землевладельцев, но живым это было под силу, и все аккуратные деревеньки, выстроенные старым Уоремом Сент-Леджером и Уолтером Рэли, были преданы огню. Слухи об приближающемся войске страшили всех, кроме разве что самых отважных; и в рассказах о нем то и дело звучали старинные гаэльские имена, хорошо известные английским захватчикам. И колонисты обращались в бегство, бросая свои каменные дома и могилы родных, английские кровати и застекленные окна, горшки и сковородки. Из графства Керри, из Уотерфорда и Типперери они стекались в порты, теша себя надеждой, что вот-вот придут корабли и заберут их отсюда. Англиканский епископ Корка бежал из своего имения и насилу добрался живым до укрепленного дворца в городе Корк. Цены на корабль до Лондона из Дублинского порта подскочили вдесятеро.
Среди живых всадников Мунстера, вооруженных настоящими стальными мечами и ружьями, были Макшихи из долины Обег, где поэт Эдмунд Спенсер восстановил разрушенный замок, разбил сады и распахал поля, а затем поведал в красках о том, какой дикой и варварской была Ирландия, когда он только-только сюда приехал, и в какую прекрасную Новую Англию может превратиться Мунстер: подлинное царство мира и справедливости, изобилия и любви. Клан Макши давно таил обиду на англичан и превыше всего на мистера Спенсера, пришедшего со своими патентами и королевскими грамотами и отнявшего у них все. И когда они нагрянули в предрассветный час со стороны северного пастбища, ворвались во двор и подожгли дом, поэт с женой и новорожденным ребенком спасся от них только чудом. Клану Макши не нужен был английский дом: их интересовала только земля, на которой он стоял и которая испокон веков принадлежала им, а не каким-то Спенсерам. И глава клана выдворил Спенсера с этой земли, о чем поэт провидчески писал еще тогда, когда подобный оборот дел казался немыслимым:

Покинув горящий дом, Спенсеры бежали под покровом ночи в сопровождении одного лишь верного слуги по бездорожью, через темный сновиденческий лес; и после поэт уже не мог припомнить, сам ли он выдумал этот лес или тот был сотворен ему на муку злобными духами. В Лондоне, в гостинице на Кинг-стрит, он слег и больше не вставал. Как только рыцари и дамы, фавны и сатиры обрели надежное пристанище в руках издателя, их создатель умер от истощения сил, а приключения их так и остались неоконченными.

Роберт Девере, граф Эссекский[100], самый богатый из всех английских вельмож, оплатил похороны Спенсера и позаботился, чтобы прах его упокоился в Вестминстерском аббатстве[101]по соседству с Джеффри Чосером. Сам не чуждый поэзии и когда-то друживший с Филипом Сидни, Эссекс созвал на похороны поэтов и писателей; пока гроб не закрыли, многие бросали в него стихотворные послания, сонеты и писчие перья и плакали, не стесняясь слез. Лучший поэт королевства умер в нищете, и виновник этого несчастья был всем известен: граф Тирон. То был позор для всей страны, и смыть его могла только кровь из сердца мятежника на английском мече.
Тома Батлера, который тоже покрыл себя позором в роли генерал-лейтенанта английских войск в Ирландии, отозвали в Лондон. В Англии оставался лишь один человек, располагавший благосклонностью королевы и достаточными средствами, чтобы покончить с ирландским восстанием: граф Эссекс. И граф Эссекс хотел только одного: бросить к ногам королевы победу над бунтовщиком. «Богом клянусь, я разобью Тирона, чтобы совершить наконец хоть что-то, достойное Ее Величества», – написал он в своем послании Тайному совету. Он призвал под свои знамена Чарльза Блаунта, лорда Маунтджоя[102], с которым когда-то дрался на дуэли, соперничая за милость королевы. «Давно пора было кому-то указать ему место и научить его манерам», – отозвалась тогда королева о Маунтджое на слушаниях в Совете. Подобно благородным рыцарям из сочинений Спенсера, эти двое потом помирились и стали лучшими друзьями.
Старики, заседавшие в Совете, предупреждали их: не верьте ирландским клятвам! Ирландец держит слово, покуда ему это выгодно. Не верьте слезам, которые льют ирландские разбойники и вожди! Ирландцы льют слезы, как тучи – воду, не разумея, что делают. Не верьте их похвалам; не слушайте их проклятий. И вот еще что, милорды: берегитесь ирландской погоды! Погоды? Да за кого они их принимают? За изнеженных девиц? Эссекс и Маунтджой, английские рыцари, должны бежать от дождя или ветра? В Нидерландах Роберт Эссекс ни в какую погоду не опускал меча; он вел за собой кавалерию в битве при Зютфене, где погиб Филип Сидни, а сам он, Роберт, заслужил звание рыцаря, хотя ему было всего восемнадцать. Тяготы и лишения ему не страшны. И он прекрасно знает, что делать: как только его войска ступят на землю Ирландии и Маунтджой, уже ожидавший в Дублине, примет командование, они тотчас выступят в Ольстер, разыщут и схватят графа Тирона. Это будет проще простого: толпа необученных кернов – ничто против английской армии. Мятежника привезут в Лондон в клетке, чтобы он дал ответ за все свои преступления. А если не выйдет взять его живым, то хватит и его головы. Не будет никакого фальшивого перемирия; они не станут попусту тратить время, людей и слова.
Таков, с его точки зрения, был единственно возможный план; граф Эссекс изложил его на бумаге, а в мыслях своих уже и воплотил в жизнь. В Дублинском замке собрался военный совет: лорд Маунтджой и другие рыцари, несколько ирландских сторонников короны и седобородые лорды-судьи, включая архиепископа Джонса. Граф Эссекс еще не прибыл, но лорд Маунтджой представил его план собранию. Собрание стало возражать: все это слишком рискованно, гарантий успеха нет, а опасность потерь очевидна. Наконец кто-то выразил общее мнение: Эссексу следует выступить на юг и разгромить там кланы, поддерживавшие О’Нила.
Добравшись до Дублина и выслушав Маунтджоя, Эссекс на следующее же утро предстал перед советом во всем своем великолепии, разодетый в черное с серебром. Он поблагодарил присутствующих и объявил, что они могут оставаться при своем мнении, а он останется при своем. Тогда ему предложили обсудить его план подробнее. Эссекс отказался и ушел, забрав с собой Маунтджоя. Зачем ему какие-то южные кланы? Ему нужен только Тирон. Однако не прошло и недели, как он передумал. Так и быть. Он пойдет на юг со всеми своими полками, с артиллерией и кавалерией, с обозом и так далее. Сначала он выбьет почву из-под ног графа Тирона, а уж затем встретится с Тироном на поле боя один на один. Да, только он и этот проклятый мятежник, лицом к лицу.
Почему он все-таки пошел на поводу у совета? Он и сам бы не смог этого объяснить. Возможно, потому, что Ирландия оказалась слишком странной, а он знал о ней слишком мало (и не желал это признать). Эта мягкая, словно обволакивающая, погода, от которой все вокруг казалось ненастоящим… Этот ползучий туман, словно призрачными пальцами ощупывающий его лицо… Эта непроглядная тьма, в которую ночами проваливалось все за пределами города…

Те английские колонисты, которые еще цеплялись за свои владения в Коннахте и Мунстере, робко выбирались из огражденных поселений и полусожженных домов, приветствуя своего спасителя и провожая его криками радости. Богачи радушно принимали его в надежде на то, что Эссекс принесет им мир и справедливость, защитит их имущество или в крайнем случае обеспечит эвакуацию. Латная перчатка пожимала лайковую, обещая: все будет хорошо. И граф ехал дальше, довольный оказанным приемом, но недовольный тем, что за все это время так ни разу и не встретился с врагом. Писать в Лондон было не о чем. Туманы сменились изнурительной зимней моросью, но даже в те редкие дни, когда проглядывало солнце, обнаружить противника и вступить с ним в бой ни разу не удалось, хотя следы его попадались на глаза там и сям. Как-то раз, дождливым вечером, один из разъездов наткнулся на ирландский лагерь и учинил бойню: перебили пару десятков черных овец, которых приняли за спящих бойцов в косматых плащах. К Рождеству Эссекс заболел, подхватил лихорадку. А все погода.
Вернувшись с войском в Дублин, он слег. Вроде бы ему и не в чем было себя упрекнуть, но несчастные случаи, дезертирство, болезни и необходимость оставлять солдат на дальних форпостах вели в совокупности к тому, что его армия таяла, а он до сих пор ничего не добился. И королева не отвечала на письма.
Впрочем, когда наступило лето и вернулось солнце, Эссекс приободрился. Его первоначальный план был единственно верным: надо было следовать ему. Захватить О’Нила одним молниеносным, блистательным броском. К черту Дублинский совет; он, Эссекс, должен исполнить то, чего ожидает его государыня. Он написал ей изысканное письмо (быть может, последнее в жизни): коли вся моя служба не стоила большего, нежели изгнание и ссылка в наихудшую из стран, сущих под небом, то на что мне еще надеяться и ради какой цели продолжать жить? А затем, отобрав лучших бойцов (и в особенности – юных рыцарей, которых удостоил посвящения самолично), пустился в путь навстречу судьбе, подобно благородным героям Спенсера. Июнь сверкал зеленью и пламенел златом. Разведчики О’Хейганов и О’Канов незаметно следовали за ним всю дорогу, через леса от Дандолка до замка Лаут. Время от времени они посылали к О’Нилу гонцов, и те возвращались с приказом, всегда одним и тем же: ни при каких обстоятельствах не нападать на армию лорда-наместника и не чинить ей никаких препятствий. Эссекс остановился под стенами замка и тут же заметил, что к нему бежит какой-то человек – пеший, простоволосый, без доспехов – и машет ему рукой, точно старому знакомцу: мол, надо перемолвиться словом. Не сходя с коня, Эссекс положил руку на эфес шпаги.
– Переговоры! – крикнул парень, подбежав ближе. – Граф Тирон приглашает вас решить дело миром! Он тут стоит недалече, у брода Беллаклинт.
Брод есть всегда, как без него-то.
Дерзость гонца Эссексу не понравилась, и он хотел было двинуться дальше, не снизойдя до ответа, но почему-то все же задержался и смерил его взглядом:
– Королевские офицеры не принимают приглашений на переговоры, – сказал он. – Они сами назначают переговоры, когда сочтут нужным.
Парня это ничуть не смутило. Он кивнул, как будто все понял, но продолжал так, словно и не было этих слов:
– А вон у вас там ирландцы есть. Они вас до этого брода и проводят, тут делов-то часа на два для конного. Это на притоке реки Ди, так им и скажите.
Эссекс не знал, что и думать: сомнения боролись с надеждой на долгожданный шанс.
– Если окажется, что это какая-то ловушка, – сказал он, – ты заплатишь за это головой.
Гонец поклонился с таким видом, словно ответ его изрядно порадовал, а затем повернулся и убрался с глаз долой – как сквозь землю провалился, подумал граф, озираясь по сторонам и снова не видя ничего, кроме деревьев да собственного отряда. Он подозвал капитана ирландцев и скомандовал:
– Река Ди. Брод Беллаклинт.

– Милорд Эссекс! – приветствовал его О’Нил с дальнего берега, снимая шляпу. – Я пришел один и без оружия!
Эссекс молча дышал, уставясь на него во все глаза. Наконец-то! Вот он, зверь, сорвавшийся с цепи! Казалось, нет ничего проще, чем перемахнуть через разделявший их ручей, взбежать на дальний берег и предать ирландца мечу.
– Чего вы от меня хотите?
– Во-первых, – начал О’Нил, – я хочу, чтобы вы заступились за меня перед королевой. Я прошу ее милости. Мое имя и честь опорочили. Я служил Ее Величеству верой и правдой – и не по своей вине лишился ее доверия.
– У меня нет такой возможности, – сказал Эссекс.
О’Нил, однако, повел себя так, будто получил согласие. Он тронул поводья; конь под ним двинулся вперед и остановился на отмели, посередине ручья. Оттуда О’Нил помахал Эссексу – мол, давайте и вы сюда. Эссекс оглянулся; лошади беспокойно переминались с ноги на ногу, люди из его полка тоже нервничали; они что-то чуяли, но Эссекс не считал, что его заманивают в ловушку. Тут было что-то другое… но что? Подняв руку, чтобы никто не вздумал за ним последовать, он направил коня сквозь камыши, в воду. О’Нил двинулся вверх по ручью, снова заговорив, и Эссексу ничего не оставалось, как следовать за ним.
– Я знаю, что сэр Филип Сидни был вашим другом, – с улыбкой молвил О’Нил. – И мы с ним тоже были друзьями.
– Я был рядом с ним, когда он погиб в бою.
О’Нил торжественно кивнул – так, будто и сам при этом присутствовал.
– Мы дружили еще мальчишками, в Пенсхерсте. Видите – вон там, впереди, островок? Поедем туда, присядем под деревьями.
Эссекс замялся, остро чувствуя, что он сейчас совсем один; но отказаться, не потеряв лица, было невозможно. К тому же он был вооружен и не видел причин бояться. Они подъехали к островку; кони вышли из воды, отряхиваясь и осторожно ступая между корней, оплетавших обрывистый берег. Почти весь открытый участок посреди островка занимала каменная плита, широкая и плоская, точно стол, опиравшаяся на другие камни, поменьше. А вокруг нее, словно совещаясь о чем-то, сидели дети или маленькие человечки, бледно-серебристые, колышущиеся волнами бестелесные существа. Эссекс услышал смех, и человечки сей же миг вскочили и прыгнули в воду – все разом, точь-в-точь лягушки на лилейном пруду, если спугнуть их случайным звуком.
– Вы не спешитесь? – раздался голос графа Тирона.
Эссекс вздрогнул: он чуть было не забыл, что этот человек тоже здесь. Между тем О’Нил уже расположился за столом, усевшись на камень. На столе стояли кувшин и два кубка. Так, значит, эти дети – всего лишь слуги: приготовили угощение и ушли… Эссекс спешился и сел напротив О’Нила. Солнце на мгновение скрылось за проплывающей тучкой и снова выглянуло.

Позже, вспоминая этот день, граф Эссекс не смог бы сказать, сколько они там просидели; но он помнил, что время шло; помнил, что ирландец стоял на своем и без устали сыпал аргументами. О’Нил хотел, чтобы Эссекс – именно Эссекс и никто иной – стал его заступником, выступил перед королевой от его имени, говорил с ней от лица Ирландии. Он говорил пылко, бессвязно; несколько раз казалось, что он вот-вот расплачется. И все это, несомненно, было притворство и бессовестное вранье.
Но если так (спрашивал себя Эссекс позже, когда все кончилось), то почему он поддался? Почему это все так на него повлияло?
– С какой стати, – возмутился он тогда, – вы решили, что я заступлюсь за вас перед Ее Величеством? Вы – ее враг, бунтовщик. Вы противитесь ее желаниям и повелениям. Она вас ненавидит; с чего вы взяли, что можете надеяться на ее любовь?
– Было время, когда она говорила со мной ласково. Хвалила меня. Заботилась обо мне, как мать. – Он помолчал, сморгнул слезы и развел руками, показывая Эссексу открытые, честные ладони. – Вы, милорд, и она – как две звезды: одна восходит, другая клонится к закату. Вы идете к вершине славы, а ее пора миновала.
– Значит, вы не только боец, но и провидец, – хмыкнул Эссекс. – Говорят, все ирландцы такие.
– Тогда я скажу вам, что я вижу, – с неожиданной твердостью отозвался О’Нил. – Королева – не божество. Она всего лишь старая женщина, упрятанная, точно в ларец, в женщину помоложе – со всеми этими ее платьями, белилами и париками.
Эссексу почудилось, что при этих словах кто-то хихикнул – но кто? Где? Он привстал со своего камня, схватившись за шпагу:
– Придержите язык, сэр! Вы не смеете говорить со мной о нашей королеве в таком тоне!
– Вы знаете, что я прав. То же самое делает любая колдунья или ведьма: прикидывается красавицей, чтобы обворожить мужчину и завладеть им. А как этого избежать, спросите вы? Как сделать так, чтобы вами не завладели? Очень просто: надобно самому владеть собой. Вот и все; иначе никак.
«Почему он все время вертит в руках этот каменный осколок?» – мелькнуло в голове у Эссекса.
– Она воспламеняется вашей юностью и силой, вашей честью, вашим мечом, – продолжал О’Нил. – Привезите ей мир, который мы с вами заключим, положите его перед ней и докажите ей, милорд, что вы стали тем, кем она была когда-то, но больше не может быть: миротворцем, мудрым, как змий, как многоопытный старый лис, неустрашимый, но воистину осторожный.
– Чересчур осторожный. Она желает мира, но и победа ей желанна не меньше.
– Она желает того же, чего и вы: чтобы вы сняли с ее плеч это бремя и дали ей отдохнуть, уйти на покой с почетом, во всем блеске славы. Неужто вы сами этого не видите?
Все тело графа Эссекса внезапно вспыхнуло жаром. Он словно ослеп на миг, а затем снова прозрел. Белые, прозрачные дети вновь обступили островок; он видел их собственными глазами. И опять до него как будто донесся смех, бесконечно тихий, на самой грани слышимого. Но тот мальчик, который укрывал в ладонях что-то блестящее, стоял у него за спиной; этого мальчика заметил только О’Нил – в тот самый миг, когда бледные ладони разомкнулись и выпустили золотую муху. А потом все стало как прежде: остались лишь двое мужчин, сидящих за каменным столом на речном островке, поросшем деревьями и зелеными камышами.
– Милорд, – негромко промолвил Хью О’Нил, словно понимая, что Эссекс отвлекся, и стараясь вновь завладеть его вниманием. – Я хочу предложить вам перемирие, милорд. От сегодняшнего дня и на шесть недель, с тем условием, что мы сможем продлевать его по договоренности столько раз, сколько потребуется.
Эссекс едва слышал его. Некоторое время он молча озирался вокруг, глядя то на восток, то на запад, и сам не понимая, что ищет, и не находя ничего.
– Ну, хорошо, – пробормотал он наконец.

Королева, словно она и впрямь была ведьмой, способной превращаться в огонь, рвала и метала. Она ярилась на своего лорда-наместника – и на глазах у всего двора, и в личных покоях. Все так же, в бешенстве, она написала ответ, сначала мысленно, а затем и рукой спешно вызванного секретаря. Что они творят там, на этом острове лжи? Она не выносила, когда ей лгут.
«Даже если армия и впрямь ослаблена болезнями, то почему вы не приняли необходимые меры раньше, когда войска еще были в хорошем состоянии? – торопливо калякал под ее диктовку секретарь. – Если дело в том, что приближается зима, то на что вы потратили летние месяцы, июль и август? Мы приходим к выводу, что из всех четырех времен года вам не подходит ни одно и что совету надлежит дать согласие на преследование Тирона по всей строгости закона».
Королева умолкла, собираясь с мыслями, и перо секретаря остановилось, зависнув над бумагой.
Медленным, исполненным решимости движением она сложила на коленях свои длинные руки, а когда заговорила вновь, глаза ее были устремлены вдаль, а в голосе больше не слышалось гнева: «Мы желаем, чтобы вы задумались, насколько веские у нас имеются основания полагать, что цель ваша заключается отнюдь не в том, чтобы положить конец войне». Она взяла у секретаря письмо и собственной рукой дописала: «Благородному и возлюбленному кузену Ее запрещается покидать Ирландию до тех пор, пока Тирон не испытает на себе силу его оружия и не будет захвачен в плен или убит».
Когда Эссекс покидал Англию – не в блеске знамен, не под гром барабанов и пение труб, но под проливным дождем, через какой-то захудалый валлийский порт, – никто не ожидал, что он стяжает славу. Даже он сам. Да, королева согласилась послать его в Ирландию, но не рассчитывала, что ему удастся то, с чем не справились другие. Она любила его, насколько умело любить ее холодное, тоскующее сердце: она не хотела, чтобы он погиб. Она хотела, чтобы он был рядом с нею, но еще больше – куда больше! – она хотела, чтобы ее ирландский остров перестал кипеть и бурлить. Она мечтала, чтобы на этом острове воцарился мир, и молилась о его усмирении. Лучше бы он ушел на дно морское – тогда можно было бы наконец вздохнуть спокойно! Молилась королева и за Эссекса, каждый день; и когда настало очередное утро года тысяча пятьсот девяносто девятого, она как раз приступила к молитве, не подозревая о том, что Эссекс, еще не получивший ее приказа, только что отбыл из Ирландии с ближайшими своими соратниками и друзьями. Он возвращался домой, а почему – этого он не смог бы объяснить ни королеве, ни кому бы то ни было.
Неделю за неделей он чувствовал, что нечто неведомое словно пожирает его мозг, и прекратится это не раньше, чем он вернется домой. Что-то маячило у него за спиной постоянно: шло за ним по пятам, когда он куда-то шел, и останавливалось, стоило ему остановиться. У графа вошло в привычку резко оглядываться: он надеялся, что оно не успеет спрятаться. Но оно всегда успевало. Граф никому не рассказывал об этой ирландской болезни – ни советникам, ни друзьям; но многие замечали, что он ведет себя как одержимый. И лекарство ему приходило в голову только одно: упасть на колени перед королевой, бросить к ее ногам свою загубленную душу и молить о прощении, отчаянно и безнадежно. Уже на корабле, шедшем в Англию, он все-таки заговорил об этом. Чарльз Блаунт, лорд Маунтджой схватил его за руку и уставился ему в глаза, изумленно разинув рот. Эссекс опомнился и прикусил язык. У королевы больше нет власти, сказал ему Чарльз Блаунт; она пережила свое время; ее советники – льстецы и старики; не остается ничего другого, кроме как… Нет! Эссекс не желал этого слышать, хотя эти же самые слова жужжали и крутились у него в голове непрерывно.
Рыцари сошли с корабля в лондонском порту и разбрелись по городу; Эссекс высадился на другом берегу и направился в Нансач[103], полагая, что именно там и найдет королеву. Он больше не помышлял о перевороте; ему просто нужно было увидеть ее, оказаться рядом с ней, чтобы она исцелила его своим королевским прикосновением от того, что им завладело. Чувствуя себя не столько охотником, сколько добычей, он взбежал по ступеням, распахнул двери и ворвался в ее покои, точно ястреб – в голубятню: фрейлины прыснули врассыпную, а она осталась сидеть, где сидела, на невысоком стульчике. Лицо было не набелено, волосы, седые и редкие, старушечьи, – не спрятаны под париком; но он ничего этого не замечал. Это она, и больше ничего не имеет значения.
Она не стала делать глупостей. Возможно, Эссекс пришел убить ее – выглядел он так, словно мог бы на такое решиться, – но Елизавета не поддалась страху. Она лишь велела ему пойти переодеться и умыться с дороги, а затем вернуться к ней. Когда он вернулся, королева уже была самой собой – той, кого делала из себя каждодневно. И хотя они проговорили до глубокой ночи, как в старые добрые времена, прежнего было не вернуть. И будущее оставалось смутным: месяцы и месяцы писем, визитов и просьб, приступов смирения и припадков ярости; череда лордов и советников. Пришла зима, сменился год, а королева все никак не могла принять решение.
Ходили слухи, что граф Эссекс все это время был в сговоре с графом Тироном. Так ли уж это странно? Тирон был знаком с отцом Эссекса, Уолтером Девере, и даже ходил с ним в набеги на Севере, когда был еще молод и несмышлен. Там же, на Севере, поговаривали, что Эссекс может стать королем Ирланди, – и, спрашивается, кто, как не сам Тирон, мог пустить такой слух? И если бы эта молва дошла до ушей королевы, с Эссексом было бы покончено.
– Но разве, – уже гораздо позже, в Риме, спросил О’Нила Петр Ломбард, – разве вы не написали ректору Ирландского колледжа в Саламанке, что Эссекс скоро обратится в католичество, отречется от своей королевы и сделает королем Ирландии именно вас? С испанской помощью, разумеется.
– Мы с Эссексом друг друга поняли, – улыбнулся Тирон.

Во второй месяц нового года четверо главных пайщиков труппы лорда-камергера[104] собрались в одном из саутварских трактиров и расселись у камина, где жарко пылал битумный уголь: Джон Хемингс, Огастин Филлипс, Том Поуп, Уилл Кемп. День выдался сырой, февральский воздух дышал льдом; где коротать такой вечер, как не у камелька? Сегодня к ним обратился сторонник графа Эссекса, сэр Джилли Меррик; он взял на себя труд пересечь реку и добраться до Саутварка, чтобы лично высказать актерам свое предложение: тридцать шиллингов, если они сыграют пьесу о короле Ричарде Втором. Было очевидно, для чего друзьям Эссекса понадобилась эта пьеса, и сэр Джилли не стал ходить вокруг да около: народу и лондонскому Сити следует увидеть своими глазами, что, по крайней мере, однажды Божий помазанник был низложен с престола. Но это старая пьеса, сказали актеры, да и когда была совсем новой, не вызвала у публики восторга; они потеряют деньги. Сорок шиллингов, сказал сэр Джилли. Огромная сумма. И пайщики согласились, хотя на собрании присутствовали не все, а лишь большинство. Но вот переговоры закончились, сэр Джилли ушел; сидя у огня и слушая крики извозчиков и прохожих, доносившиеся с улицы, они засомневались в своем решении. Если безумный граф окончательно впадет в немилость, что станется с ними? Стоило ли в это ввязываться? Эта невысказанная мысль крутилась у каждого в голове, и горло от нее сжималось, как под удавкой.
– Смею предположить, наш Мастер-на-все-Руки в два счета состряпает новую пьесу, которая их устроит. Хотя бы не придется играть старье.
– Нет-нет, ни в коем случае. Наш Поэт – не из тех, что кропает пьески на заказ! Щелкоперов в нашем деле хватает, но наш Уилл не таков.
– А что, надо ставить всю пьесу целиком?
– Сэр Джилли на этот счет ничего не сказал. Но ставить целиком этот старый хлам…
– Старый хлам! – возмутился Уилл Кемп. – Вам не совестно, сэр?
– Наш приятель, верно, припомнил, что у прежнего графа Эссекса был хламбер-спаниель[105]. Другой такой злонравной псины я сроду не видывал. Сущий черт.
– Не будем отвлекаться. На самом деле они хотят те сцены, где Генри Болингброк возвращается со своим войском из Ирландии, а Ричард уступает ему престол.
– Вот здесь, кузен, возьмитесь за нее. – Уилл Кемп протянул воображаемую корону воображаемому Болингброку таким же вялым жестом, как в свое время Бербидж[106].
– Но в пьесе из Ирландии возвращается не Болингброк, а сам Ричард – заметил Огастин. – Тут я вижу несообразность.
– А вот, например, такой день, как сегодня, – совсем не для спектаклей, – заметил Том Поуп, выглядывая за окно, в туман. – Никто не придет. Час-полтора, и все, можно гасить огни. – К тому же историческое старье.
– По-моему, это трагедия. Я имею в виду пьесу.
– Ну, значит, трагическое старье. Наподобие того, чем может стать день спектакля. В котором нам с вами уже отведены роли, господа.

На следующий день, с самого утра, друзья и вооруженные сторонники графа начали стекаться к особняку Эссекс-хаус на Стрэнде. Они были готовы поддержать все, на что решится их предводитель, – лишь бы он их повел. Но что было у него на уме? Это-то они хотели выяснить. Хочет ли он напасть на королевский двор, распустить Тайный совет, захватить королеву? Быть может, они должны разорить город, перебить тех самых горожан, что ликовали и бросали в воздух шляпы, когда он уезжал на войну, чтобы вернуться с победой? Нет, сказал Эссекс; он поведет их на Уайтхолл, чтобы припугнуть двор. И повел – пешком по Стрэнду, потому что добыть лошадей не удалось. Толпа влилась в город через Ладгейт, но городские шерифы, констебли и церковные старосты заранее получили и огласили приказ жителям Чипсайда не покидать своих домов, и жители подчинились. Граф – безусловно, герой, рассудили они, но королева есть королева. В закрытом театре «Грейфрайерс»[107], где «Слуги лорда-камергера» давали зимние представления для джентльменов, ни шатко ни валко катилась к финалу старая пьеса о Ричарде II, пока не явились офицеры военной полиции и не остановили спектакль; после этого актеры бесследно исчезли на целый день.
Ворота, через которые Эссекс со своими сторонниками вошел в город, перекрыли цепями, и графу пришлось спуститься к реке, чтобы его отвезли обратно в Эссекс-хаус на лодке. Плеску весел вторили еле слышные детские голоса, о чем-то между собой болтавшие, но граф не мог разобрать ни слова. Поднимаясь по лестнице от реки, он услышал за левым ухом тоненький смех, и его словно кольнуло иглой; граф уже знал, что того, кто это делает, за руку не схватишь.
Надо забаррикадироваться в доме и биться до последнего, решил он и кликнул слуг. Но было слишком поздно: уже прибыл лорд-адмирал во главе целого войска. Граф увидел в окно, как к дому подтягивают артиллерию, и на миг потерялся: ему вдруг почудилось, что он – в Ирландии, громит какой-то мятежный замок. Но наваждение прошло, он собрался и жестом (из-за всех этих голосов, шепчущих в уши, говорить было трудно) приказал слугам отпереть дверь. Потом он стоял в проеме двери, нелепый, ошеломленный, дрожащий, обливающийся потом. Лорд-адмирал рассчитывал на сопротивление или, по меньшей мере, на кичливую отповедь. Но в ответ на учтивое требование адмирала Эссекс просто вручил ему меч, который зачем-то успел обнажить, и смиренно дал отвезти себя в Тауэр. Королева отложила то, что должна была сделать; затем отложила еще раз; но в конце концов поняла, что дальше тянуть невозможно. Казнь назначили на конец февраля.

Суд, приговор, апелляция и казнь – все это уже осталось в прошлом, а голова и тело Эссекса упокоились в тауэрской капелле Святого Петра в оковах рядом с другими благородными мертвецами. Мать королевы, Анна Болейн, которую в свое время тоже обезглавили за измену, шепотом приветствовала новичка.
Золотой овод, преследовавший Эссекса, покружил над его могилой и вернулся туда, где был рожден или, быть может, создан. Чарльз Блаунт, лорд Маунтджой, по приказу Ее Величества отправился в Ирландию лордом-наместником: роль, которую он сыграл в попытке переворота, так и не вышла на свет. Испанцы снова бороздили моря, а Ирландия и ирландцы по-прежнему бунтовали. Королевский архивариус принес Елизавете краткую сводку кое-каких исторических документов, хранившихся в Тауэре. Она пробежала глазами записи о царствовании доброго Генриха Третьего и об ужасной смерти Эдуарда Второго, дошла до Ричарда Второго и зачиталась. Когда архивариус спросил, чем вызван такой интерес, королева заявила: «Я – Ричард Второй. А вы не знали?» И после этого надолго замолкла.
Середина зимы
– Я видел странный сон, милорд, – сказал Красный Хью. – Хочу рассказать вам.
– Давай, но не надейся, что я тебе его истолкую.
Красный Хью присел на край дядиной кровати.
– Сон был вот какой, – начал он. – Я был при каком-то чужеземном дворе, богатом и многолюдном. Толпы военных и придворных, разодетых в пух и прах; витражные окна, статуи королей и святых. Чей это был двор, я не понял, но когда ко мне там обращались, все говорили по-ирландски. Потом священники благословили меня на латыни, а епископ возложил руку мне на голову.
– Тебе снилось, что ты станешь королем.
– Нет. Я понятия не имею, зачем я там находился. Разве что добиться для нас какой-то помощи.
– Значит, это была Испания.
– Может быть. Но вот что было потом, дядя: какой-то дворецкий или мажордом налил вина в серебряный кубок и дал его мне. Пока я пил, все стояли молча. Стало очень тихо. А потом все снова пришли в движение, начался какой-то круговой танец. А мне вдруг сделалось худо. Я проснулся от страшной рези в животе.
– Это я могу объяснить. Тебя отравили. Самое обычное дело в тех краях.
– Видать, так и было. Еще чуть-чуть – и я бы не добежал до нужника.
– А мне не снятся сны, – сказал Хью О’Нил. – Твоя сестра Шиван говорила, что я сплю как убитый. А утром просыпаюсь и ничего не помню – или помню, что мне опять не снилось ничего.
– Значит, ты не можешь объяснить, что значит этот сон?
– Я не умею толковать сны, но, думаю, твой сон принесла ночная мара. Он ни на что не годен. Можешь выкинуть его, как старую тряпку.
Сын О’Нила, Хью, рослый, тощий и непохожий на отца, восторженно засмеялся.
– Как скажете, дядя, – пожал плечами Красный Хью. – Но если когда-нибудь услышишь, что я очутился в далеких краях при чужом дворе, откуда, может статься, уже не вернусь, то вспомни, что я тебе рассказывал.
– Да я уже все забыл! Давай поговорим о дневных заботах – их у нас хоть отбавляй. – О’Нил поднялся и крикнул, вызывая Педро Бланко (колокольчиков на веревках в Данганноне не водилось). Ничего не произошло; он подождал и крикнул еще раз, погромче. Из прихожей послышались голоса: слуги услышали и тоже стали звать графского секретаря. Вскоре он появился на пороге – высокий, худой и сосредоточенный.
– Дон Педро, – граф поманил его, и секретарь подошел ближе. – Будьте любезны, сообщите милорду Тирконнелу последние известия из Испании и Португалии.
– Из Лиссабона вышли корабли, – сказал Педро. – По моим сведениям, до четырех тысяч солдат. Некоторые – с Азорских островов, как и я сам, другие – из дальних пределов Испанской империи, отовсюду, от Америк до епархии Макао.
– А конница? – спросил Красный Хью, потому что хотел ею командовать.
– Сэр, – повернулся к нему Педро. – Больших судов, пригодных для перевозки лошадей, там немного. Но, – добавил он, воздевая длинный палец, – мне сообщили, что везут более тысячи седел.
– Лошадей они найдут в Мунстере, – сказал О’Нил. – Им с радостью дадут все, что потребуется.
На это никто не ответил. Повисла тишина. Должно быть, все присутствующие – Педро, Красный Хью и его тезка, сын графа, – не испытывали такой уверенности, как граф, да и сам граф, переводя взгляд с одного лица на другое, вдруг осознал, что его уверенность, в сущности, показная.
– Как бы там ни было, – сказал он, – у нас есть новости и похуже.
Он протянул руку за бумагами, которые принес Педро, и копиями своих собственных писем.
Письма эти были к офицерам короля Испании. О’Нил умолял их прислушаться, писал им снова и снова: если прибудут войска числом от шести тысяч и более, то высадиться им лучше в южном порту – в Корке или Уотерфорде: там можно будет организовать снабжение по морю; в случае атаки корабли смогут удержать гавань, а недовольные владетели Мунстера охотно присоединятся к испанцам. Лимерик подойдет, если их будет не более четырех тысяч: больше этот город не вместит. И только в том случае, если войско окажется совсем небольшим (а О’Нил очень надеялся на обратное), следует выбрать один из западных портов – лучше всего Киллибегс или Тилин в заливе Донегал. Но испанские капитаны подумали (объявил Педро, переводивший депеши, которые доставляли быстроходные паташи[108]) и предпочли Кинсейл, портовый городишко на крайнем юге острова. Хуже места для высадки, по мнению О’Нила, было не сыскать – ни на юге, ни на западе, ни на севере. Что ему, что Лису и Псу добираться туда с людьми из Ольстера целую вечность. Но ничего поделать было нельзя: депеши с кораблей, больших и малых, отправили уже на подступах к порту. От Данганнона до Кинсейла было три сотни миль. Близилась зима. Если О’Нил двинется на юг, чтобы присоединиться к испанцам, англичане пойдут за ним по пятам, точно волки… англичане и их ирландские союзнички. Красному Хью не терпелось: он каждый день донимал дядю просьбами разослать гонцов ко всем, кто на их стороне, собрать людей и выступить наконец в поход. Но граф Тирон не поддавался на уговоры. Он слишком хорошо знал, что будет дальше. Скоро англичане выдвинутся на юг из Дублина и осадят Кинсале еще до начала зимних дождей. У испанцев довольно оружия и припасов, чтобы выдержать осаду, пусть даже долгую. Так что граф может рискнуть и оставить дона Хуана дель Агилу[109] с его пушками, епископами и терциями[110] выкручиваться собственными силами до весны.

Новый лорд-наместник – Чарльз Блаунт, лорд Маунтджой, сосланный в Ирландию в наказание (как ему думалось) за дружбу с графом Эссексом, – ломал голову и напрягал силы в надежде прижать к ногтю главных ирландских бунтовщиков – графа Тирона и лорда Тирконнела. Он построил кольцо укреплений, чтобы удерживать Тирона на Севере, в скудных землях, в недосягаемости для союзников. Он знал (потому что все это знали), что испанцы рано или поздно опять придут в Ирландию; если они закрепятся на острове, у них будет вдоволь всего, чтобы не спеша подготовиться и снова разинуть рот на Англию; и один из южных портов им придется как нельзя кстати. Маунтджой предполагал, что корабли причалят либо на севере, чтобы соединиться с повстанцами, либо в одном из больших портов – Корке или Уотерфорде. Однако они выбрали Кинсейл, и это было необъяснимо, но идеально: Маунтджой чувствовал, что справится с этим городком одной левой.
Первые испанские корабли вошли в гавань Кинсейла двадцать первого сентября, в день святого Матфея-евангелиста. Двумя днями позже дон Хуан дель Агила вступил в город, не встретив сопротивления: английский гарнизон разбежался по лесам и полям.
Маунтджой с большею частью войска ушел на юг, развязав руки графу Тирону: тот оставил сына за главного в Данганноне, собрал своих кернов-копейщиков и галлогласов с топорами и мечами и проломил кольцо английских крепостей, удерживавшее его в северных землях. Теперь, вступив в войну открыто, он безо всякого стеснения жег поля, угонял скот и грабил колонистов, вынуждая их бежать в Дублин в поисках защиты. Маунтджой написал королеве, что эти жалкие, перепуганные людишки не заслуживают помощи от короны: «Они не пытаются дать отпор, не поднимают руки против захватчика, но по злобе сердец своих позволяют себя использовать, ибо во всем королевстве не найдется хуже людей, чем они».
Педро Бланко отправился в горы Антрима и разыскал людей с испанских судов, спасенных после крушения у берегов Голуэя, – всех матросов и солдат, кто еще остался в живых. Они уже позабыли воинскую науку, но Педро не сомневался, что сумеет вколотить ее в них заново. К октябрю, когда Хью О’Нил со своими четырьмя тысячами бойцов, с обозом и стадами повернул на юг, Маунтджой уже взял Кинсейл в осаду. Словно в какой-нибудь лондонской пьесе о королях и простолюдинах, все происходившее прежде, сцена за сценой, послужило тому, чтобы расставить действующих лиц по местам: отныне все их поступки были предрешены, и оставалось только исполнять положенное шаг за шагом, пока все не закончится и на авансцену не выступит могильщик – прочесть эпилог.

Ноябрь подошел к концу, а осада Кинсейла все еще длилась; несколько раз англичане пытались взять городские укрепления штурмом, но испанские пушкари и мушкетеры задавали им жару. Когда Маунтджой послал глашатая с трубой требовать капитуляции, испанцы отправили ему навстречу гонца, объявившего, что дон Хуан дель Агила держит этот город во имя короля испанского и Господа нашего Иисуса Христа и будет защищать его contra todos[111]; и все это время испанские солдаты с крепостных стен дразнили англичан и поливали их непристойной бранью. Маунтджой так завелся, что велел всю ночь без перерыва бить из пушек по восточным воротам, и они бы не устояли, если бы не испанские инженеры, которые тоже трудились ночь напролет, под дождем, и наутро ворота стали еще крепче прежнего.
Но куда подевался О’Нил? И где Красный Хью со своей конницей? От графа не было ни слуху ни духу. Дон Хуан дель Агила перестал понимать, каковы его шансы на успех, и вызвал Маунтджоя на поединок. Маунтджой вежливо ответил, что Тридентский собор, насколько ему известно, запретил католикам драться на дуэлях. Но войско Маунтджоя редело, дезертирство приняло уже неприличный размах, а припасов оставалось на неделю, не больше, и рассчитывать на пополнение не приходилось: противный ветер не давал кораблям подойти к берегу, а дороги были слишком опасны, на них хозяйничал граф Тирон.
Но где же он, в самом деле? Когда нанесет удар?
На самом деле он был совсем рядом. После неистовой скачки через весь Юг до самого моря, когда от грохота копыт дрожала земля и тряслись лачуги бедняков, граф со своим войском затаился в лесу Кулкаррон, всего в нескольких милях от Кинсейла. Лес уже кишел всадниками Красного Хью, стягивавшимися для атаки. О’Нил выжидал. Он понимал, что Маунтджой бросится в битву сразу, как только получит известие, что граф Тирон со своим войском уже близко. Дела у лорда-наместника были плохи: лазутчики донесли, что английская армия уже изрядна потрепана голодом и тяготами лагерной жизни.
Поэтому О’Нил продолжал тянуть время. Это будет последняя битва, которая положит конец эпохе. Мир никогда уже не станет прежним, и граф это знал, хотя никто не говорил ему прямо и не давал понять, что с того дня или с утра, которое наступит после ночи сражения, все вывернется наизнанку: высокое станет низким, левое – правым, ложное – истинным. Он словно держал в руках поводки огромных черных псов, рвущихся на волю; в его власти было спустить их с привязи, и он знал, что тогда в охоту вступят и другие – те другие, кого нельзя называть. Но до той поры – пока не взойдет та звезда, под которой не останется места ни для чего, кроме крика «в атаку!», – он будет ждать. Он может себе это позволить.
Позже его будут годами проклинать за нерешительность; скажут, что это по его вине все пропало: мол, он сам не знал, на чьей он стороне, и все никак не мог собраться с духом. Агила писал ему, умоляя поторопиться, и Красный Хью все твердил: пора, пора начинать! Но Хью О’Нил знал настоящую причину, по которой он медлил – знал тогда и не забыл после, – и этой причины не было среди тех, которые называли его друзья и враги. Причиной был тот осколок кремня, который по-прежнему лежал у него в кармане, кочуя из куртки в куртку вот уже сорок лет. На помощь ему могли прийти такие силы, с которыми англичанам не совладать, и все дело было в том, придут они или нет.
Настала ночь зимнего солнцестояния – Геври, середина зимы, но с севера как будто катилась летняя гроза. Подул резкий ветер. Уходящий день подсвечивал черные тучи, что клубились в небесах, точно мохнатые звери, затеявшие озорную возню. Люди Красного Хью собрались вокруг графа: всадники готовились сами и готовили своих коней к броску на английский лагерь, от которого их отделяло всего мили две. Граф разыскал среди них самого Хью, положил руку ему на плечо. Красный Хью обернулся и прочел по лицу дяди все, что хотел узнать.
– Мы поведем! – крикнул он, перекрывая голосом раскат грома. – Следуйте за нами как можно ближе!
Конники потекли рекой через равнину – словно призраки, выбеленные вспышкой молнии. Провожая их взглядом и сдерживая собственного беспокойного коня, О’Нил крикнул, чтобы к нему подъехали капитаны, мунстерские и ольстерские – все, кто присоединился к его войску со своими людьми, каждый по своим причинам. Когда они приблизились, граф вскинул руку, показывая, что надо подождать еще. Вернулись разведчики: навстречу им двигалось множество солдат, конных и пеших, а под какими знаменами – этого они в темноте не разобрали. Маунтджой! Наконец-то! Черные тучи в небе боролись с белыми, словно споря, которые из них доберутся первыми к началу битвы. Но это были не настоящие тучи, не те, что слеплены из воздуха и воды. О’Нил это понял, и сердце его подпрыгнуло в груди. Он вынул кремень из левой перчатки, в которой тот был спрятан. И перед его мысленным взором словно затрепетали страницы книги, стремительно перелистывающейся от прошлого к настоящему: он вспомнил ту ночь, в которую получил этот осколок кремня; он снова увидел, будто въяве, хоть и за пеленой минувших лет, призрачного князя, который велел вручить ему дар; увидел бледное воинство, вытекавшее из рата в тот день, когда бард О’Махон упокоился на дне озера Лох-Ней. Он ощутил страшный холод, заключенный в этом камне, подарке лепрекона, – и холод был силой, которая сейчас впиталась в его ладонь до самых костей и потекла выше, через запястье и локоть – к плечу; и, как священник поднимает освященную облатку на мессе, Хью О’Нил поднял этот камень правой рукой, на которой не было перчатки. Он воззвал к ним, не вслух, но всем сердцем. Во имя Острова, которым они владеют, во имя сыновей Миля и Племен богини Дану или во имя сидов, какая разница сейчас, как их назвать: если все они не придут сюда сей же миг, то все пропало – и им тоже конец.
И они пришли.
Из Круахана, города на равнине, жилища Мейв; из Эмайн-Махи, столицы королей Улада; из Дун-Эйлин[112], Туллахога и Тары; из Ньюгрейнджа, где солнце зимнего солнцеворота год за годом пробиралось внутрь, пытаясь разбудить спящих; из гробниц и святых холмов, больших и малых, поднимался и возносился в воздух, оставив свои пиры и битвы, Подземный народ: они услышали зов и теперь отвечали.
Дождь и ночь над Кинсейлом преображались в нечто иное: с востока, окутанного серой мглой, катилась новая туча, сверкавшая ярче молний. Сонмище сидов стремилось на поле битвы: всадники на конях-скелетах, мужи и девы с волосами, летящими по ветру, воители, потрясающие оружием. Ирландские керны на службе у англичан запрокинули к небу лица – белые пятна среди темных английских макушек, упрямо рвущихся вперед, – и испустили вопль ужаса и безумного восторга: они поняли, что происходит. Хью О’Нил шарил глазами по небу, убеждаясь, что облачные создания растут и прибывают в числе: вот она, Дикая Охота, о которой слепой поэт О’Махон говорил, что ее можно призвать песней! О’Нил уже различал их бронзовые топоры и блестящие щиты, замечал железные браслеты на ногах их коней. Рты всадников были разинуты в крике, и крик этот был как ветер, затерявшийся в лабиринте горных пещер. Подымаясь и опадая, воинство сидов клубилось в воздухе, приближалось к земле и снова взмывало ввысь.
Бейте! – крикнул им Хью из самого сердца. – Бейте! Сойдите на этих чужаков с каменными сердцами, на эту армию лжи! Защитите нас, живущих под небом, как было обещано много веков назад при разделе этой земли! Исполните вашу клятву!
Вихрь воздушных созданий набрал силу и засиял ярче – казалось, он светится собственным светом; облачные фигуры преображались, меняя обличья: дева, муж, зверь, божество… Ветер подхватил их и подбросил выше; они устремились обратно, пытаясь перебороть его. Но ни один всадник так и не коснулся земли.
Это было им не под силу.
Они могли посеять панику среди тех немногих в рядах противника, кто был способен их воспринять; и эти немногие запомнят их навсегда и будут всегда бояться их возвращения. Но в остальном они были безобидны. Глядя в небеса, продуваемые безустальным ветром, Хью О’Нил понял все: у этих созданий нет подлинной силы, нет никакой власти. Их оружие – дым, их боевой клич – могильное безмолвие. Сквозь серую мглу на востоке пробились первые лучи зари, и Охота начала таять, рваться клочьями. Кони и всадники расплывались бесформенными кляксами, обращались в ничто. Вновь становились тем, чем и были всегда, – ничем.
А ирландское войско уже повернуло вспять под натиском англичан, спасаясь от острых пик и мушкетных залпов, от неудержимо катящейся на них волны этих черных набычившихся голов. Ирландцы бежали, бросая оружие, топча своих мертвецов и тех живых, кто не устоял на ногах. Битва кончилась, не начавшись. На все про все хватило часа с небольшим.
Ничто, подумал Хью, стиснув осколок кремня так сильно, что из кулака закапала кровь. Все, что ему теперь оставалось, – это помочь своим людям спастись и добраться домой; что сталось с Красным Хью, он не знал; что теперь будет с доном Хуаном дель Агилой и испанским войском, тоже неясно. Все кончилось. Дождь перестал; на востоке через все небо протянулись кровавые полосы. Рука О’Нила разжалась, кремень упал в истоптанную грязь, и граф потерял его из виду – еще до того, как повернул коня.
Часть седьмая
Прах морской волны
Кошелек золота
В тот день на берегу Стридах, когда Инин наконец смогла подняться с каменистого песка, Сорли с ее ребенком давно уже скрылся из виду. Она огляделась по сторонам: не заметил ли ее с ним кто-то из деревенских? Похоже, что нет; в такой час на берегу почти всегда было пусто; лишь несколько женщин, кутаясь в черные шали, дожидались своих мужей-рыбаков, но эти глядели только перед собой, на море. Подумав немного, Инин подобрала кошелек, который он ей оставил, – из какой-то странной, необычно гладкой кожи. Внутри перекатывались монеты. Инин добралась до деревни и пошла дальше, по улицам. Встречные, местные женщины, смотрели на нее молча; она знала, что они смотрят, но продолжала идти, не глядя на них, но и не шарахаясь от взглядов. Ни одна из дверей, мимо которых она проходила, не открылась, но Инин было все равно.
Вот и старая церковь, где похоронили ее отца и где – без торжества, без радости – случилась ее лживая свадьба… Инин привыкла думать, что ее история не так уж печальна и необычна, но и в этом она лгала себе: когда она пришла сюда со своей историей – с этим самым, со своим грехом – впервые, даже тогда пути назад уже не было. Инин потянула на себя дверь и едва смогла открыть ее: густо разросшиеся у порога травы словно стерегли святое место от недостойных, от тех, у кого нет права войти.
Ну что за глупости!
Алтарь, оставшийся без покрова и ничем не украшенный, казался простым серым камнем в тех жалких лучиках света, которым удавалось пробиться сквозь узкие стрельчатые окна. Инин подошла к алтарю, опустилась на колени на низкой ступеньке перед ним, перекрестилась, встала и положила кошелек на алтарь. Затем отступила назад, в проход между рядами, и преклонила колени еще раз, на том месте, где Кормак Берк надел ей на палец материнское кольцо; оно и сейчас сидело на том же пальце. Помедлив немного, Инин наклонилась и уперлась ладонями в прохладный каменный пол; потом легла лицом вниз и раскинула руки: крест перед алтарем.
«Забери это, – сказала она без слов. – Забери себе и съешь, или я не знаю, делай что хочешь. Это не мое. У меня не осталось ничего своего. Я хочу умереть, прямо здесь и сейчас. Об этом – моя молитва. Но если ты не пожелаешь ее исполнить, тогда я прошу сил, чтобы жить».
Позже она не так и не смогла вспомнить, сколько она так пролежала. Она молилась, чтобы ей дано было чувствовать ее грех и боль и чтобы они никогда не прошли; потом пришел холод – нестерпимый, смертельный. Она подумала: «Да! Мне все-таки позволят умереть!» – и на какое-то время и впрямь умерла. А потом кто-то к ней прикоснулся.
Не Кормак. Не Сорли.
Молодому священнику из аббатства неподалеку было поручено приглядывать за этой ветхой церквушкой – подметать, чинить, возлагать цветы на алтарь. Пусть она почти разрушилась, но когда-то все же была освящена. Он-то и заговорил с Инин – тихонько, потому что поначалу тоже подумал, что она мертва, и не посмел окликнуть ее во весь голос. Но она шевельнулась, привстала, обернулась к нему. Золото по-прежнему лежало на алтаре – там, где она его оставила. Священник помог ей встать на колени и начал молиться, закрыв глаза и сложив руки перед собой; слова молитвы шуршали, как дождь.
Значит, она не умрет. Ей повелели жить, и она будет; ей дадут силы жить. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, – пробормотал священник, осеняя ее крестом.

Она пошла к женщинам – к тем, которые заботились о ней и помогли произвести на свет отродье Сорли. Они, конечно, помнили все, что творилось с нею в те дни, но никогда не заговаривали об этом, и она тоже молчала. Мальчик, сказали они тогда, обычный мальчик. И ни разу не спросили потом, что с ним сталось. Она ходила за ними из дома в дом, от роженицы к роженице; она внимательно следила за всем, что они делают, и записывала в памяти все, что они говорят и чего никто никогда не записывал по-настоящему. Втроем ли они отправлялись принять очередные роды или шла лишь одна, Инин шла тоже. Со временем одна из тех, за кем она ходила следом, разрешила ей подойти ближе; в ушах у нее звенело от криков матери, от молитв и проклятий, но Инин дождалась и увидела блестящую от слизи макушку ребенка, еще слепого и не умеющего дышать; а когда ребенок вышел целиком, ей показали, как правильно брать его на руки. За весь год, пока она просто смотрела и училась, да и потом, когда начала помогать, все младенцы были человеческие – обычные мальчики или девочки, которые иногда умирали, а иногда оставались жить. Но, гуляя по берегу в одиночестве, в определенную погоду она замечала существ, словно сотканных из дыма, из пены, из праха морской волны. Те появлялись, исчезали и возникали вновь – и все за единый миг. Кому, как не ей, было знать, что море подчас приносит всякое, чего не понять умом? Она, по крайней мере, не понимала, хотя, наверно, моряки или жены моряков знали об этом больше. Но про этих существ она знала наверняка: они не из моря. Наоборот, они приходят к морю. Они земные или были земными когда-то в прошлом. А теперь они – ничто или почти ничто. Куда же они все идут? Что за страна лежит на западе, за морем, и есть ли там что-нибудь?
Женщины, у которых она училась, частенько собирались у нее в доме – составляли свои снадобья и готовили зелья, толкли или варили травы, и над каждой травой читали молитву, и рассказывали сказки. Однажды, зимним днем, одна из них рассказала про короля, который родился на свет с ослиными ушами. Потом он вырос, а уши так и остались при нем, сказала она, и король прятал их под большой шляпой, если мог, а со своими рыцарями и брегонами говорил из-за занавески, чтобы секрет его не вышел наружу.
Остальные, кроме Инин, покивали и переглянулись с улыбкой: эту сказку они уже знали. Ну так вот (продолжала рассказчица), тайну короля знал один-единственный человек на всем белом свете: его цирюльник. Он ведь не смог бы подстричь короля, если бы тот не снял шляпу, – вот так он, цирюльник, и узнал про ослиные уши. Король, само собой, взял с него клятву, что он не расскажет об этом ни единой живой душе. Но цирюльник был парень болтливый – ну, знаете, любил языком почесать, – так что несладко ему пришлось: и мочи нет хранить королевский секрет, и не утерпеть да выболтать – боязно.
Инин отложила пучок розмарина, который как раз перевязывала соломинкой, и вся обратилась в слух.
Ну и что он сделал (спросила другая женщина), как облегчил душу? Очень даже просто (ответила рассказчица). Взял и рассказал все немым камням да камышам у реки. А еще – одному дереву. То была ель, чтоб вы знали. И так уж случилось, что приметил это дерево один мастер и сделал из него арфу. И когда королевский арфист взял ее в руки и в первый раз заиграл на ней на пиру, арфа пропела: «У короля – ослиные уши!» И тогда король повесил голову, вздохнул и снял свою шляпу. И оказалось – чистую правду сказала арфа. Хотите верьте, хотите нет, а уши у него были ослиные.
Ни одна из этих женщин не выдала тайну Инин никому; если бы кто-то проговорился, она бы точно узнала. Но, быть может, они рассказали все немым камням? Или тюленям?
А я еще вот что слыхала (заговорила другая женщина): опозоренный король ушел из своего дворца и долго скитался, пока не пришел туда, где жила святая Бригита. Он склонился перед ней, положил голову ей на колени и горько заплакал. А святая стала гладить его по голове. Так она его гладила и гладила, долго ли, коротко, уж не знаю, но когда отняла руку, ослиные уши исчезли. Как не бывало (добавила женщина). Благословенная святая!
Инин тихонько плакала, как этот несчастный король со своими ослиными ушами.
Женщины отвернулись, сделали вид, что заняты работой, дали ей погоревать, сколько нужно. А он, ее сын, найдет ли когда-нибудь такую святую, которая избавит его от перепонок между пальцами, от меха на спине и от этих его зубов, мелких и острых, как зубья пилы?
– Смотрите-ка! – сказала одна из женщин, глядевшая в окно, то самое, из которого Инин когда-то наблюдала, как гибнут корабли испанцев.
Она встала и подошла посмотреть. На волнах залива показался узкий корабль, похожий на дракона. Длинные весла мерно взрезали серую морскую зыбь. Корабль приближался к берегу.
Сломленный
С верхней палубы спустили шлюпку. Корабельный навигатор не хотел заходить глубже в гавань, которую плохо знал. Пиратская королева нечасто посещала берег Стридаха: торговать-то здесь было не с кем. Несколько человек с корабля вывели шлюпку на сушу. Инин, как и все остальные, понятия не имела, что они доставили на берег, и ни о чем не догадалась даже тогда, когда из шлюпки извлекли что-то вроде длинной плетеной люльки с каким-то свертком внутри. Она вышла из дому и направилась к морю одна; остальные женщины разошлись по домам и заперли двери, как делали всегда, когда с моря приходило что-то непонятное.
Наконец из шлюпки выбралась с помощью матросов какая-то высокая, полная женщина с буйной гривой темных волос. По ее сигналу – плавному взмаху длинной руки – матросы подхватили эту плетеную корзину и двинулись наверх, к деревне. Только теперь Инин заподозрила, что все это как-то связано с ней: это ей они что-то несут. Она не испугалась: она уже давно забыла страх. Плотно закутавшись в шаль, она двинулась дальше, навстречу незнакомцам, поднимавшимся от берега. Женщина, шедшая с ними, заметила Инин и замахала ей руками, подзывая ближе. Когда расстояние между ними сократилось достаточно, женщина крикнула – и голос у нее оказался куда громче, чем можно было ожидать. «Где тут Инин Фицджеральд?» – крикнула она.
– Инин Фицджеральд – это я, – отозвалась Инин.
Женщина кивнула; Инин подошла ближе, а женщина наклонилась над плетеной корзиной и начала разворачивать сверток. Это было странно, но Инин уже знала наверняка, что она там увидит, – и изумлялась собственной уверенности.
– Он мертв? – спросила она по-английски.
Женщина покачала головой и ответила по-ирландски:
– Не в этот час еще. Но едва ли долго осталось.
Увидеть в нем живого было нелегко, хотя это и впрямь был тот человек, за которого она вышла замуж и с которым когда-то жила под одной крышей. Только страшно израненный. Он попытался что-то сказать, но часть его челюсти и лица была напрочь отбита, как у древних статуй; попытался встать, но не смог и только продолжал шарить рукой в воздухе, словно что-то искал. Искал ее. Инин встала на колени в песок рядом с ним и взяла его руку обеими руками. Только благодаря тому, чем она занималась последнюю дюжину лет, и всем этим сломанным и недоделанным жизням, на которые она насмотрелась, сейчас она могла смотреть и на него и держать его за руку, сострадая и утешая.
– Кормак, – прошептала она.
Разбитая голова повернулась к ней – было видно, какого огромного усилия это стоило. Но говорить он все же не мог. Инин подняла глаза на королеву Гранью, стоявшую среди своих матросов.
– Он умолял нас привезти его сюда, – сказала та на удивление мягким, чуть ли не девчоночьим голосом. – Семьи у него нет. Нет никого, кто любит его и согласится принять.
– Я – его жена, – сказала Инин. – Я не могу его не принять.
Моряки подняли плетеную люльку. Инин пошла впереди, указывая дорогу к дому. Любопытные старухи и дети высыпали из домов и вовсю глазели на эту удивительную процессию, хотя понятия не имели, что случилось и кого это ведет за собой Инин Фицджеральд. Когда Инин отворила дверь, Гранья сказала:
– Сперва его надобно вымыть.
На какой-то миг все в Инин взбунтовалось: она пожалела, что так поспешно заговорила с этими пришельцами, так безрассудно признала, что это ее муж и согласилась о нем позаботиться. Она ведь никогда его не любила. Но она взяла большой черный чайник, пошла к колодцу у дома и набрала воды. Гости между тем помешали угли в очаге, и она подвесила чайник на крюк над разгоревшимся огнем. Затем наклонилась над корзиной с Кормаком и осторожно освободила его от пропотевших, грязных тряпок, в которые он был завернут. Гранья даже не пыталась ей помочь – до тех пор, пока Инин не согрела воду и не поставила перед очагом хорошо просмоленную деревянную бадью, большую свою отраду для холодных ночей. Только тогда королева пиратов подошла (а матросы стояли наготове, ожидая, не пригодится ли помощь), и две женщины наклонились над обнаженным израненным мужчиной, и с терпеливой заботой ощупали его, и нашли, как его поднять, чтобы ему было не слишком больно, и подняли, хотя он все равно испустил жалобный стон, и переложили в бадью. Он посмотрел на Инин так, словно ему было стыдно, и опять попытался что-то сказать, но опять ничего не вышло; и тут ее захлестнула нестерпимая жалость, куда сильнее той, какую вызывали недоношенные или увечные младенцы. Она взяла тряпицу и обмыла его: сначала лицо (стараясь не задеть разбитую челюсть). Туго натянутые веревки мышц. Грудь, иссеченную ранами, уже почти зарубцевавшимися. Мужское естество, которого она прежде никогда не видела и не касалась.
Кормака вынули из бадьи, надели на него чистую рубаху, положили на кровать, окружив всеми подушками, какие удалось найти в доме. Его глаза, живые и непострадавшие, без устали обыскивали комнату, лицо Инин, небо за окном. Но говорить он не мог. Гранья смотрела на него с непонятной нежностью. Он у нас стал пушкарем, сказала Гранья, да только неважный из него вышел пушкарь. Не годился он для такой работы, но пушки любил, хорошо в них разбирался и хорошо за ними ухаживал. Те, кто смекал в этом деле больше, научили его всему, что нужно знать. И стал он работать при пушках, да только вот, как ни странно, сам не стрелял: только раз и выстрелил по-настоящему. Уж не знаю, сказала Гранья, то ли стеснялся, то ли думал, что недостоин.
– На «Ричарде», том самом корабле, который сейчас вон там стоит, – показала она в окно, – всего-то и было три пушки. И одна была его любимица. Так оно все повелось, будто они его детки или ученики, а он – учитель и выбрал себе в любимицы одну, чугунную, черную, самую старую – ее даже оковать железом пришлось, чтобы не развалилась. Так вот, знай же: то, что случилось, – это моя вина, и если тебе надо кого винить, вини меня…

Навигатор, пушкари и сама Гранья сновали на корабельной шлюпке между испанскими судами в гавани Кинсейла и осажденным городом: торговали и добывали самое необходимое, в том числе порох, если могли найти. Гребцы на галеоне сушили весла, спали или бездельничали; «Ричард» тихо покачивался на якоре – настолько близко от берега, насколько навигатор отважился его подвести. Кормак стоял на малой батарейной палубе, глядел на портовые укрепления и пытался различить, чьи это корабли стоят в доках – испанцев или англичан; но глаза у него были не такие острые, чтобы рассмотреть все как следует. Зато он хорошо видел скальные выступы, защищавшие порт слева и справа. Видел даже тюленей, нежившихся там на солнце. Слышно было, как они поют, – во всяком случае Инин называла это песнями, хотя, по мнению Кормака, на песни было совсем непохоже. Вечно она выискивала тюленей, и в то же время словно дичилась их, как будто даже смотреть на них не могла, но все равно смотрела. Временами кто-то из них поднимал голову, совсем как человек, осматривался кругом и, взревев, падал обратно, в гущу своих сородичей. Кормаку они были противны – он сам не понимал, почему. Он положил руку на черную вертлюжную пушку, нагретую солнцем. Повернул ее влево, навел на скалы. Посмотрел еще, чуя нутром какую-то необъяснимую враждебность, идущую от этих темных, бесформенных туш, и сам над собой смеясь за такие мысли. Потом вспомнил, как брел следом за Инин по песку, не подходя близко, и смотрел, как она на них смотрит, прикрывая шалью растущий живот.
Да будь они прокляты!
Чугунные ядра для этой пушки весили фунтов по двадцать – ровно столько, сколько Кормак был еще в силах поднять. Он спустился в кладовую, закатил ядро в корзину и перетащил его на батарейную палубу. Это отняло столько сил, что он чуть было не плюнул на всю затею, но потом все-таки собрался с духом, поднял ядро и затолкал его глубоко в жерло пушки. Затем управился с пороховой каморой (та походила с виду на пивную кружку) и фитилем. Сердце его ликовало, как будто он вот-вот совершит какой-то ужасный, смертный грех и твердо знает, что ему ничего за это не будет. Он составил рамку из больших и указательных пальцев, как делали пушкари, и посмотрел в нее на скалы вдоль пушечного ствола. Да, все верно. Он достал огниво, поднес к труту, высек несколько искр. Затеплился крохотный огонек, от которого уже можно было зажечь щепку.
Так. Сейчас-сейчас… Сердце его стучало молотом, но руки не дрожали. Он поднес горящую щепку к фитилю. А под днищем «Ричарда» вздыбилась большая волна, катившаяся в гавань, – третий, вероломный вал.
Корабль приподняло, повело; нос его отвернулся от скал и нацелился на город. Кормак оступился и упал, поднялся, кряхтя, потянулся к запалу, но было уже слишком поздно: пушка выплюнула ядро, едва не лопнув от натуги, и чугунный шар полетел по высокой дуге прямо к портовым укреплениям. Куда он упал, Кормак не заметил. Тюленей на скале больше не было – вернулись в море. А пушка на крепостной стене уже отвечала на то, что по всем статьям выглядело как атака. Кормак различил белый дымок, миг спустя услышал грохот, а потом увидел и ядро, несущееся по воздуху на «Ричарда» с невероятной скоростью, прямиком в цель. Надо было упасть на палубу или спрыгнуть за борт, но Кормак просто застыл на месте, глядя на приближающееся ядро. У этого ядра было лицо. Точно такое лицо он видел в какой-то книжке – голова Медузы, свирепая и безумная, в ореоле спутанных змей. Уже на подлете к кораблю пушечный ангел разинул рот в крике ярости или восторга, и ядро развалилось на куски. С каменными ядрами такое случается. Осколки, большие и маленькие, посыпались дождем, впиваясь в мачту и опалубку, в бочки и канаты – и в тело Кормака Берка, не оставляя на нем живого места.

Когда они вернулись, Кормак был уже при смерти, сказала Гранья. Врача на корабле не было, приходилось справляться собственными скромными силами. И надо было срочно уходить из гавани, пока англичане, державшие город в осаде, не послали свои корабли потопить «Ричарда». Как так вышло, что Кормак не умер на месте, Гранья не знала; но пока он еще мог говорить – а это продлилось недолго, потому что раны на лице скоро стали затягиваться, – он попросил привезти его сюда. И вот он здесь. Гранье рассказала Инин, как она любила его за мягкий нрав и за все страдания, выпавшие на его долю; Инин сама увидит (сказала она), что он остался настоящим мужчиной, несмотря на все, что он претерпел и что потерял.
Потом она встала (с большим трудом, потому что была уже старухой и у нее все болело), благословила Инин в нескольких словах и вместе со своими матросами двинулась обратно к морю, где ждала корабельная шлюпка, которая доставит их на борт отремонтированного «Ричарда», а «Ричард» отвезет королеву пиратов в залив Клю, домой.

Инин думала, что он умрет совсем скоро. Она кормила его с ложки, как младенца, – молоком и овсяной размазней, толченой зеленью и яблоками, проталкивая кашицу в рот через обломки зубов. Вода из чашки, которую она подносила к его губам, проливалась наполовину, стекая по клочковатой бородке на грудь. Ему нужна была помощь, чтобы встать и дойти до нужника. Возвращаясь домой с обходов, она порой находила его в мокрой рубахе. Как всегда, подобные труды казались одновременно и бессмысленными, и бесконечными. Но постепенно ему полегчало. Он снова мог сидеть и начал разрабатывать руки, сжимая и разжимая кулаки, снова и снова. Он научился брать и подносить ко рту ложку, чашу… и наконец сумел удержать в пальцах перо. Узнав, что он умеет читать и писать, женщины, приходившие к Инин, решили, что он – священник; Инин пыталась их разубедить; они кивали и продолжали обращаться с ним как со священником. Со временем они начали просить его что-нибудь написать для них: обращение к землевладельцу или чиновнику, от которого они надеялись добиться справедливости или защиты от обид; сыну или мужу, сидевшему в тюрьме, где кто-нибудь мог бы прочитать ему письмо, если повезет. Взамен они приносили хлеб или рыбу, а то и мелкую монету, но от денег он всегда отказывался. Когда он пытался говорить, его не понимали, хотя Инин научилась догадываться. Теперь он сидел уже не на постели, а в кресле, как положено мужчине, хотя вставать из кресла было тяжело. Но все это было ненадолго. Пусть он не умер сразу, но Инин видела, что он угасает: самые глубокие раны так и не исцелились.
В конце концов она решилась спросить его: почему он выстрелил по городу? Что на него нашло? Или там и правда были враги пиратов? Кормак заерзал в кресле, напряг горло и выдавил искалеченным ртом: «Тюлени». Инин уставилась на него в изумлении, а он ловил глазами ее взгляд, как будто надеясь, что она поймет с полуслова. Она не поняла, но слово за слово вытянула из него весь рассказ, повергший ее в печаль и ужас.
«Выходит, тюленям повезло», – вздохнула она, дослушав до конца, и ей почудилось, что Кормак засмеялся бы, если б мог.
За окном уже почти стемнело. Инин сидела, сложив руки перед собой, и все смотрела на Кормака, а потом вдруг обхватила его изломанные руки ладонями и рассказала ему все, о чем никогда никому не говорила, – хоть это и было не его дело и он не имел права знать. Рассказала о Сорли и о том, как она покорилась ему, даже не пытаясь сопротивляться; о своей страсти, о своем выборе; о сыне, которого она родила и который пошел в отца, а не в мать; о том, как она горевала об этом чудовищном ребенке. И до сих пор горюет, по сей день.
Отблеск огня, горевшего в камине, упал на его лицо, и она увидела, что по этому обезображенному лицу катятся слезы, хотя тело оставалось все таким же неподвижным и скованным. Потом он издал какой-то странный звук, в котором жалость смешалась с сердечной болью, и продолжал сидеть, не отнимая рук.

Когда он стал умирать от осколков пушечного ядра, засевших глубоко в теле, когда эти камни перекрыли ему кишечник и легкие, лишая воздуха и пищи, когда он перестал говорить и больше не мог подняться с кровати, на которую Инин его уложила, – с ее собственной кровати, на которой они с Сорли провели вместе ту ночь, когда разбились испанские корабли и когда все это началось, – тогда она наконец пошла за священником, тем самым, который когда-то поднял ее с каменного пола полуразрушенной церкви. Она звонила в колокольчик у ворот аббатства, пока ей не открыли и не разыскали этого молодого священника; когда он собрался, Инин без слов взяла его за руку (остальные, увидев это, только ахнули) и повела за собой, вверх по холму, к каменному дому. Кормак исповедался шепотом, священник благословил его – помазал елеем его губы, глаза и уши, и бедные его руки тоже. После этого Кормак больше не шевелился, а вскоре перестал и дышать: словно наконец обвисли туго натянутые невидимые веревки, держащие его изнутри.
Его похоронили рядом с отцом Инин: это место предназначалось для нее самой, но теперь Инин было все равно, где ее закопают. В гроб Кормаку она положила его книги – учебник латыни и псалтирь; затем крышку закрыли.
После этого больше ничего не произошло.
Кроме одного. Когда она уже состарилась, осталась совсем одна и больше не могла помогать роженицам; когда целый остров близ берега Стридах опустел, вытоптанный, выжженный и освежеванный враждующими армиями, и мертвые остались лежать под открытым небом, как это повторялось с незапамятных времен и должно было повториться снова; когда Инин лежала ночью в кровати, снова принадлежавшей только ей одной, и куталась в теплый плащ от холода, потому что дрова в очаге почти уже прогорели, случилось кое-что еще. Она проснулась от звука: дверной запор заскрежетал и затих. В доме кто-то был. Луна уже зашла; Инин не могла разглядеть того, кто, быть может, пришел по ее душу. Но она не боялась. Когда глаза приноровились к темноте, она различила тонкую, гибкую фигуру, не высокую, но и не слишком маленькую, темную и словно одетую во что-то темное и обтягивающее, вроде узкой куртки и штанов. Инин слыхала от многих людей, и от женщин тоже, что напоследок за тобой может прийти черный человек и забрать тебя в место покоя – или кое-куда еще. Раньше она верила в это лишь отчасти; теперь на миг поверила по-настоящему, но тут же разуверилась снова. Кто бы ни пришел к ней, это не Смерть. Инин набралась храбрости и села в кровати, чтобы достойно встретить того, кто стоял сейчас в изножье, но все же не посмела заговорить и задать вопрос.
Это я.
Он вымолвил это тихо, почти шепотом, чтобы не напугать ее. И она не испугалась. Сорли, сказала она – или подумала.
Нет, не он.
Тогда она поняла, кто это может быть, хотя это и было невозможно; и поняла, что Сорли мертв. Ты не должен меня убивать, сказала она без слов. Потому что я – это я, а ты – это ты. Потому что это будет страшный грех, куда хуже того, который сотворили мы с твоим отцом. Он подошел ближе, и она увидела его лицо, такое знакомое: эта вечная тонкая улыбка, с какой ходил Сорли. И мысли ее он, похоже, читал с такой же легкостью, как Сорли: читал и с улыбкой отметал их прочь, делал неважными. Мой отец был великим владыкой в своей стране, сказал он. Теперь я – великий владыка.
Полено в очаге рассыпалось пеплом, брызнули искры, и она наконец разглядела его как следует. Он протянул ей длинную смуглую руку – безо всяких перепонок, как и обещал Сорли: мол, на суше он будет совсем как человек. Пойдем, мама. Возьми меня за руку. Мы пойдем туда, где сейчас твоя мать. Я знаю, где это.
И она взяла его за руку, встала и пошла с ним, не спрашивая, куда.
Загнанный зверь
Тем утром после разгрома Хью О’Нил и Красный Хью О’Доннел встретились на холме милях в восьми от Кинсейла. Тучи неслись по небу, предвещая новый дождь. Внизу, под холмом, собирались измученные солдаты; бродили, понурившись, кони Красного Хью.
– Не повезло, – сказал Красный Хью. – Ночь, дождь. Разведка сплоховала.
– Просто ты никогда еще не сталкивался с английским войском.
Красный Хью промолчал. Когда О’Нил понял, что его родич больше ничего не скажет, он посмотрел на север и спросил:
– Ты не заметил, что творилось в небе? Ночью, уже перед рассветом?
Красный Хью бросил взгляд на графа, пытаясь понять, о чем это он толкует и какой ответ ему понравится.
– Заметил, – сказал он. – Молнии били одна за другой, словно сбесились. Никогда такого раньше не видел. Черные тучи. Ворон так и швыряло ветром.
И замолк, не понимая, надо ли сказать что-то еще. О’Нил глядел куда-то вдаль невидящим, рассеянным взглядом.
– Пришли известия, что дон Хуан дель Агила решил сдаться, – сообщил он наконец. – Ему обещали хорошее обращение.
Красный Хью не ответил; оба молчали, слушая крики раненых, выпрашивающих воды. Потом Хью О’Нил промолвил:
– Это конец. Больше ничего нельзя сделать. Испанцы захотят мириться.
– Надо сделать так, чтобы они захотели воевать дальше. Они ведь обещали защитить нашу веру, наш народ! Сам Бог хочет этой войны! И мы победим!
На это О’Нил ничего не ответил, но Красный Хью прочитал ответ по его запавшим щекам, по глубоким складкам у его губ. Он стареет, понял Красный Хью; а до сих пор казалось, что годы ему нипочем.
– Я возьму всех, кто может идти сам и кого можно нести, – сказал О’Нил. – Мы пойдем на север.
Конь Красного Хью мотнул головой и переступил с ноги на ногу, словно пытаясь возразить. Красный Хью окинул взглядом стенающую, ворочающуюся толпу под холмом. Растерянные люди жались друг к другу, словно в поисках защиты.
– Они остались без оружия.
– Когда солдаты отступают, они частенько бросают оружие. Чтобы не тащить лишний груз.
– Я не отступлюсь, – сказал Красный Хью. – Магуйар куда-то пропал, еще ночью, – не знаю, смог ли он сделать хоть что-то полезное. Мой брат Рори отведет моих людей домой. А я хочу поговорить с доном Педро Субьяуром – он ведает припасами. Его испанцы тоже не отступят. Он приведет свежие силы.
Дядя Хью смотрел на него так, будто не слышал ни слова.
– Я поеду в Испанию! – заявил Красный Хью. – Я все решил.
Хью О’Нил наклонился с седла, держа левой рукой узду, а правую руку протянул человеку, которого считал лучшим на свете конником, лучшим мечником из всех, кого он встречал. Миг-другой Лис молча смотрел на эту руку в перчатке, но затем крепко пожал ее, развернулся и поехал вниз, туда, где ожидали его кони и всадники.
После битвы в холмах под Кинсейлом английские капитаны привезли Маунтджою (не считая припасов, которые бросил О’Нил, телег, скота и оружия) больше сотни ирландских пленников. Многие были больны или не в себе, кое-кто – почти голый. Маунтджой видел в них только мятежников, взбунтовавшихся против законной власти в лице королевы английской. Они вероломно восстали против нее, прекрасно отдавая себе отчет в том, что они делают. Он приказал повесить их всех немедленно, но его солдаты слишком устали, чтобы исполнить приказ. Одни пленники плакали, умоляли прислать священника; другие просто сидели молча, не шевелясь. Вешать начали в день Нового года, на заре, и в конце концов повесили всех. Времени на это ушло порядком.

Красный Хью вернулся в Каслхейвен, где сел за стол с братом Рори и со своим секретарем и дорогим другом Мэтью О’Мальтулом, и вместе они составили бумаги, по которым все права и земли главы О’Доннелов переходили к Рори. Тому предстояло принять титул главы О’Доннелов, от которого Хью отрекался ныне и навсегда.
– Мне осталось недолго, – сказал Красный Хью брату, – и нужно позаботиться о будущем.
– А если ты не умрешь? – поинтересовался Рори.
– Тогда наш добрый Мэтью соскребет чернила с этих бумаг и составит новые. Ну, давай поцелуй меня и езжай домой!
Через несколько дней Рори О’Доннел приехал в замок Донегал и встал на колени перед своей матерью, Инин Дув. Он не бросил к ее ногам ни вражьих голов, ни захваченных знамен, но рассказал ей все, что случилось на Юге. Что Красный Хью отправился в Испанию; и что вот бумаги, которые ей нужно прочесть, или он сам прочтет их ей, он умеет. Он не умолчал ни о чем, не солгал ни единым словом – за всю жизнь ему ни разу не удалось солгать матери так, чтобы она не распознала обман. Инин Дув выслушала его и не сказала ни слова.
Между тем граф Тирон, уводивший своих людей на Север, проезжал через земли южных союзников и старался встретиться с каждым – хотя бы для того, чтобы пожать ему руку и пообещать все, что было в его в силах (хотя в его силах сейчас было только обещать). Лорд-наместник не находил в этом ничего опасного: Тирону не собрать хоть сколько-нибудь внушительные силы. Но он хотел заполучить О’Нила. За голову графа была назначена огромная награда: казалось бы, этого хватит, чтобы соблазнить любого из обедневших ирландских владетелей или разочарованных поражением капитанов. Но ни один из них не купился; к Маунтджою приходили только обманщики, искатели легкой наживы; он видел их насквозь и вышвыривал вон, угрожая выпороть. Он написал в Лондон, что не было еще на свете такого предателя, который бы так ловко уходил от правосудия, как Тирон, и не было на свете подданных, которым персона их священного государя внушала бы такой же благоговейный ужас, какой не давал ирландцам даже задуматься о том, чтобы поднять руку на своего «внука Ньяла».

О’Нил не пытался стоять насмерть: ему негде было провести последний рубеж. «Он как загнанный зверь, и бежать ему больше некуда», – писал Блаунт в Лондон. От земель Тирконнелов нужно было держаться подальше, чтобы не привлечь туда армию Маунтджоя; англичане шли за ним по пятам, и выбор был невелик: можно было податься к Магуайру или на север, в земли О’Канов, последних его сильных союзников. Только теперь граф узнал, почему Магуайр, его Пес, так и не добрался до Кинсейла. Отделившись от конницы Красного Хью, он поехал с несколькими всадниками в Мунстер – то ли на разведку, то ли набрать еще людей. По дороге им встретился отряд английских бойцов; те заметили ирландцев и решили атаковать. Магуйар (как его уцелевшие спутники позже рассказали О’Нилу) выхватил меч, повернул коня и помчался навстречу англичанам, один из которых принял бой и ударил Магуайра мечом. Магуайр ударил в ответ. Его противник выхватил из кармана пистоль и выстрелил Магуайру прямо в лицо. Потом отъехал на несколько шагов, сам упал с коня и испустил дух: рана оказалась смертельной.
– Кто это был? – спросил граф, желая узнать, от чьей руки пал Магуайр.
– Его звали Сент-Леджер, – сказали ему.
– Уорем Сент-Леджер?
– Да, но не тот. Его племянник, тезка.
Когда Хью О’Нил услышал этот рассказ, круг его жизни словно замкнулся. Как будто он всю жизнь и шел не по прямой, а по кругу. Так гусеницы ползают вокруг веточки, воткнутой в землю: вторая – за первой, третья – за второй, а последняя – следом за первой.
«Пес, – подумал он. – Ох, Пес. Добрый Пес».

Пока О’Нил оставался в бегах, лорд-наместник Маунтджой не терял времени даром. Он возвел цепь новых фортов вдоль Блэкуотера, крепче прежних: они будут сдерживать графа, пока не найдется способ захватить его хитростью или силой. Блаунта словно заело: раз начав строить форты, он уже не мог остановиться, и линии укреплений протянулись от Лох-Ней до Туми, от Туми – до аббатства Дангивен. О’Нил, выезжая на разведку, смотрел, как они строятся, и безнадежный гнев, какого он прежде никогда не испытывал, разгорался в его сердце и сам, не спросясь, выплескивался наружу. Известие о том, что О’Кан сдался на милость Дублина, застало его в Данганноне, и О’Нил разрыдался от горя и ярости. Его старший сын (которому было уже двадцать, который принял титул барона Данганнона и оберегал дом в эти тяжкие, страшные годы) начал бояться, как бы отец не тронулся умом, и не мог придумать, как его успокоить. А затем граф сделал последнее, что еще оставалось в его власти. Он уйдет туда, где его не разыщут, решил он. Когда Маунтджой замкнет свою цепь фортов на востоке и протянет лапы к самому Данганнону, он увидит, что враг ускользнул и никакого Данганнона больше нет. Дойтеан Ри, Король-Огонь, окажет графу Тирону эту услугу, и за это он, граф, станет служить только ему одному. Когда-то в Лондоне граф видел медведя на цепи, на которого спустили собак; сейчас он бушевал, точь-в-точь как этот медведь, и кидался на всякого, кто старался ему помочь. Даже самые близкие – Педро Бланко, молодые капитаны, с которыми он вернулся из-под Кинсейла, его наследник Хью – избегали графа и боялись даже попытаться остановить его. С утра до полудня он в одиночку собирал все, что может гореть, и раскладывал по всему замку – в спальных покоях, в башнях, на кухне. Потом, наконец, он собрал всех обитателей замка – даже поваров, конюхов и свинопасов – и сказал им, что нужно делать. Сам он тоже не собирался отлынивать. Раздевшись по пояс, он вместе со всеми рубил еловые и сосновые ветки, таскал их в замок, сваливал в большом зале. «Да, вот так, хорошо, молодец», – временами приговаривал он, точно обращаясь к кому-то рядом, хотя рядом никого не было.
Наконец он приказал всем домочадцам идти с ветками на кухню, там поджечь их и возвращаться в зал. Все застыли, словно громом пораженные, и только таращились на него, разинув рты. Граф махал на них руками и кричал, словно пытаясь сдвинуть с места заупрямившуюся лошадь. Потом он сам взял охапку еловых лап, пошел на кухню и сунул ветки в очаг. Когда те занялись, поднял их над головой и вернулся в зал; после этого остальные наконец зашевелились. Кто-то следовал его примеру и возвращался с горящим лапником, кто-то молил его прекратить. Не слушая никого, граф велел поджигать все, что может гореть, и сам запалил огромную кучу лапника в большом зале, а когда стало так дымно, что из зала пришлось уйти, приказал идти в спальни – заняться постелями и роскошными гобеленами Мейбл, которые он загодя сорвал со стен; горели они плохо. О’Нил собственноручно поджег картины на стенах, шкафы, набитые одеждой, столы и стулья – все, что только смог. Маунтджою не достанется ничего, что когда-то принадлежало ему или Мейбл; ничего, над чем он смог бы поглумиться. Слуги высыпали во двор, спасаясь от удушливого дыма, но Хью все бродил по комнатам, задыхаясь и хрипя. В конце концов пришли женщины с мокрыми тряпками, закутали его в них и выволокли наружу. Надсаживая воспаленное горло, граф велел складывать костры под стенами – понадобится много костров! – и расставлять вокруг бочонки с порохом. Потом, сидя в этих тряпках, уже просохших, начал отдавать другие приказы на остатках голоса: собрать весь скот, кроме того, что оставался на дальних пастбищах; собрать и погрузить на телеги все запасы еды, хранившиеся во внешних постройках, все оружие и доспехи; в телеги запрячь волов. А когда все будет готово, пускай люди берут телеги и уходят с ними в холмы – бегом, со всех ног! На все эти приготовления ушла неделя. Настало время выступать. Бойцы, конные и пешие, двинулись следом за Хью; кое-кто из О’Хейганов оглянулся и бросил прощальный взгляд на замок, но граф не стал оборачиваться; даже тогда, когда рванули пороховые бочки, наделав изрядного шуму, и от взрывов обрушились части стен, наделав шуму еще больше, он так и не повернул головы – просто ехал вперед, и все.
В руинах его древнего дома, в пыльном углу тех покоев, где Мейбл когда-то попросила показать, что висит у него на шее, осталось лежать обсидиановое зеркальце в фигурной золотой оправе. Золото расплавилось от жара, и знак Монады, наделявший зеркало силой (если у того и впрямь была какая-то сила), бесследно исчез, но сам камень не пострадал. Много лет назад, когда Филипп II лежал на смертном одре, до него дошли – и весьма его порадовали – вести о победе ирландцев над королевскими войсками, одержанной у Желтого брода. Сейчас умирала сама королева английская, великая врагиня Филиппа, – умирала не лежа в кровати, но стоя в самом пышном и богатом из своих платьев и слушая, как наползает неостановимое Время. И чуть ли не последним из того, о чем она подумала и заговорила, был загнанный зверь, великий мятежник Тирон, который больше не мог ее увидеть, до которого она больше не могла дотянуться. Когда из Ирландии вернулся горожанин Николас Харрингтон, известный сплетник[113], королева призвала его в свои покои и первым делом спросила: «Вы видели Тирона?» И когда она услышала ответ – нет, не видел, черное зеркало, забытое в развалинах Данганнона, навсегда укрылось мглой.

Хью О’Нил со всеми своими родными и близкими, со всадниками и пикинерами, с беременными женщинами, голыми детишками и стариками с кухарками и оружейниками, испанскими моряками, чьими-то мужьями, сыновьями и дочерьми ушел в лесистые долины Гланканкина, куда не рискнул бы сунуться ни один английский солдат. Как и предвидел О’Нил, Маунтджой занял руины Данганнона и принялся было переделывать их в английский форт, но вскоре бросил это безнадежное дело. Однако, как выяснилось, лорд-наместник умел не только строить, но и разрушать. Он проехал несколько миль от Данганнона и разыскал Туллахог, где на невысоком холме стоял коронационный камень О’Нилов – Лак-на-Ри, Камень Королей. Он привел туда людей с кувалдами и велел разбить этот древний трон вдребезги – точь-в-точь как брошенный муж в бессильной ревности крушит картины и украшения жены. На это ушел целый день. Крестьяне, жившие неподалеку, пришли посмотреть, как ломают Камень, но близко подойти не рискнули, а женщины, только взглянув, закрыли лица и ушли. Никогда больше О’Хейганы, блюстители этого трона с незапамятных времен, не вложат белый жезл в руку верховного О’Нила; никогда больше не зазвонит чуть слышно колокол святого Патрика, признавая и благословляя нового внука Ньяла.
Маунтджой сам расшвыривал ногой пыльные обломки до тех пор, пока не убедился, что не осталось больше ничего, совсем ничего. Потом он положил себе в карман один осколок, сел в седло, вскинул руку, обтянутую перчаткой, и, не дожидаясь своих солдат и работников, двинулся прочь под холодным весенним дождем навстречу ветру. Никто не услышал голоса Подземных жителей, что заворочались на своих каменных ложах под широко раскинувшимся, опоясанном ратами холмом, – голоса королей, восходивших на этот холм еще до того, как появился первый О’Нил, и разбуженных сейчас треском камня и грохотом кувалд. Никто их не слышал, но они продолжали горестно шептать, не находя покоя, еще целую вечность, полную дней, зим и лет, воспоминаний и забвений, пока наконец не умолкли снова – везде, кроме снов.
Смерть Лиса
Еще в те дни, когда ирландские лорды заключили союз с испанской короной, когда герцог Лерма и Филипп III слали Хью О’Нилу и Красному Хью О’Доннелу письма, полные надежд, когда строились планы вторжения, которое освободит католиков Ирландии от английских еретиков и восстановит честь Испании, О’Нил предложил королю драгоценный залог, который раз и навсегда избавит Испанию от любых сомнений на его счет. Залогом этим был Генри, родной сын О’Нила, которому уже сравнялось четырнадцать, – тот самый мальчик, которого Хью, опасаясь за его участь, когда-то отказался дать в заложники Черному Тому Батлеру и епископу Мита. Генри привезли в Мадрид на испанском корабле, под началом испанского капитана; позже он никогда не рассказывал, что почувствовал, когда его, не спросясь, отослали в чужие края. Он цеплялся за отца до последнего, пока не пришло время подняться на борт, но потом не оглянулся ни разу. По пути Генри учили испанскому языку: начали с названий всего, что имелось на корабле, затем перешли к словам, которые используются в мореходном искусстве, а после – к чинам и званиям испанских вельмож, генералов, офицеров и придворных. Генри учился быстро.
Король был несколько смущен прибытием заложника, которого он не требовал, и в дальнейшем всегда обращался с мальчиком с торжественной учтивостью и подчеркнутой добротой. Генри влюбился в Испанию, в Эскориал и большие соборы; на мессах и торжествах он зачарованно слушал многоголосое пение сотен хористов, возносившееся, казалось, прямиком на небеса.
Отец никогда не наставлял его в делах веры, а полуграмотные ирландские священники, вынужденные вдобавок таиться от гонений в эти опасные времена, редко отвечали на вопросы Генри о служении и благодати, о грехе и прощении. Здесь же в его распоряжении оказались ученые клирики, искушенные в греческом и латыни и готовые наставлять его даже в том, о чем он не знал, как спросить. Когда его опекуны сочли, что юноша готов к большему, Генри отпустили в Саламанкский университет. Через четыре года, в год битвы при Кинсейле, он стал послушником при ордене францисканцев и начал готовиться к постригу. Этот выбор, который, по мнению Генри, сделал за него сам Господь, изрядно встревожил его испанских покровителей. Худенького, бледного, нежного Генри все любили, никто не хотел препятствовать его благочестивым намерениям, но опасались, что граф Тирон решит, будто с его сыном поступили дурно. Из Мадрида к ученым Саламанки послали архиепископа-францисканца – выяснить, не удастся ли отговорить юношу от монашеской стези; ученые, в свой черед, огласили мнение, по которому Генри следовало бы отказаться от послушничества, дабы не впасть в смертный грех. «Он всегда был хорошим мальчиком», – сказал граф Тирон, изучив письмо, наконец добравшееся из Испании, и передавая его Педро Бланко, на чьем лице не отразилось ровным счетом ничего. «Францисканцы, – пробормотал О’Нил. – Они ведь живут в бедности, да? И все их любят». Генри остался послушником в Саламанке, полагая, что Господь даст ему знать, если изменит замыслы на его счет; сам же он по-прежнему лелеял благочестивые надежды. Братья-францисканцы защищали его всякий раз, когда слугам короля приходило в голову, что с Генри надо что-то делать.
В то же время (хотя Генри об этом не знал) решения короля дожидался его кузен – Красный Хью, лорд Тирконнел, приплывший в Испанию на французском судне и рвавшийся в Мадрид, к адмиралам, умолять о повторном вторжении. Губернатор Галисии встретил Красного Хью с его крохотной свитой в порту Коруньи и с королевскими почестями препроводил в приморский городок Бетансос: именно отсюда, сказал губернатор, раскинув руки и словно обнимая широкие галисийские поля, да-да, прямо отсюда, сыновья Миля отплыли в Эйре, ах, как давно это было! Весна в Галисии – точь-в-точь как в Ирландии, думал Мэтью О’Мальтул, такая же туманная и влажная. С полей, мимо которых они проезжали, доносилось пение свирелей; это пастухи, сказал проводник, любят играть на дудочке своим овцам.
В Саламанке, в восьми лигах от Вальядолида, Красный Хью занедужил: у него начался жар, стало трудно держаться в седле и удерживать пищу в желудке. Но возвращаться не было смысла. Хью поместили во францисканский приют, приставили монахинь ухаживать за ним, и ему вроде бы полегчало. Уже очень скоро он встанет на ноги – так он сказал послушнику в черной сутане, который пришел к нему через несколько дней, высокому, тощему юноше, бритоголовому, но без тонзуры.
– Генри, – сказал Красный Хью.
– Кузен.
Генри сжал горячую руку Хью. Красный Хью приподнялся с мучительным усилием, а монашка в пышных белых одеждах подложила подушку ему под голову.
– Расскажи о моем отце, – попросил Генри. – Он на меня не сердится?
– На что ему сердиться?
– На мой выбор.
Сердился ли граф на сына? Красный Хью попытался вспомнить и не смог. Он словно распадался на куски, забывавшие друг о друге и о своих прошлых связях. Руку Генри он так и не отпустил.
– Нет, – сказал он. – Он тебя любит. Но хочет, чтобы ты был рядом с ним.
Глаза Генри наполнились слезами – Красный Хью увидел это очень ясно.
– У меня два отца, – прошептал юноша. – Граф и Господь. В сердце своем я слышу веления Господни и не могу ослушаться.
Красный Хью отпустил его руку. Его сейчас не волновало, вернется Генри домой или нет. Он напряг все силы, пытаясь подняться: надо ехать в Вальядолид, изложить им ситуацию, позвать их на помощь Ирландии. Тут он вспомнил, что не одет, и потребовал одежду. Добрый Мэтью О’Мальтул позвал монахинь и на ломаном испанском велел им вернуть господину его плащ, рубаху и штаны. Меч и ножны он принес Красному Хью собственноручно.
– Я поеду с тобой, – сказал Генри кузену. – По крайней мере, до Симанкаса, там есть францисканская обитель.
Красный Хью только рукой на него махнул. Почему-то он сейчас не видел, что находится прямо перед ним – и что его ждет впереди.
Симанкас был уже в провинции Вальядолид. Соборные колокола гремели так, что голова разрывалась от шума. Слуги короля встретили Красного Хью и на носилках доставили в городской дворец, где его тотчас же обступили рьяные и встревоженные испанцы – священники, рыцари, доктора. Ему пожимали руку; слуга в черном принес ему вина. Трясущейся рукой он принял кубок, жадно припал к нему и вдруг с каким-то смутным отвращением осознал, что когда-то он уже был в этом самом месте, среди этих людей. Он больше не слышал, что ему говорят, – а может, просто все вокруг умолкли. Он согнулся пополам, извергая выпитое, а кубок выпал из его рук, пятная мраморный пол кровавым вином. «Это червь, – сказал подоспевший доктор, ощупывая Хью живот и приподнимая пальцем веки. – Свирепствует по всей провинции, многих уже свел в могилу».
«In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti», – пробормотал священник, коснувшийся его последним.

Долг написать отцу – сообщить, что лорд Тирконнел умер и будет с почестями похоронен в Вальядолиде, – лег на плечи Генри. Письмо сочинялось долго; каждое слово, казалось, преследовало двойную цель: объяснить, почему он, Генри, поступил так, а не иначе, и утешить отца. Он рассказал, как сам король испанский со всем своим двором приехал в Симанкас в чернейшем трауре, чтобы сопроводить тело Красного Хью в Вальядолид и похоронить там на Пласа-Майор. Как сам Генри шел за гробом и пел реквием вместе с братьями-францисканцами. Генри плакал, пока писал, – не по Красному Хью, а по самому себе, хотя и знал, что жалость к себе – это грех. Пока погребальная процессия ехала в Вальядолид, архиепископ призвал его и сказал, что для Генри настала пора подчиниться его земному владыке и покинуть орден.
В завершение письма он поведал отцу, что его отсылают во Фландрию служить в войсках католического эрцгерцога Альбрехта, соправительницей которого была дочь короля испанского – та самая, когда-то обещанная Ирландии[114]. Он надеялся, что уж этому-то отец порадуется: его сын в конце концов станет солдатом. Под конец он попросил передать своему старшему брату Хью, что он, Генри, ежедневно молится за его благополучие – и конечно же, за отца.
Письмо проделало долгий путь, прежде чем добралось до Хью О’Нила, все еще скрывавшегося в лесах Гланканкина. Старший сын О’Нила, Хью, барон Данганнон, стоял весь красный от смущения, пока послание его брата читали вслух. Он смотрел, как отец плачет, не таясь, и думал о том, как это странно: его брат чуть было не стал священником и, верно, очень этого хотел. Наконец граф вытер слезы, которых в тот день пролил немало – и по Лису, и по себе, и по своему острову, – и отложил письмо.
– Не покидай меня, – сказал он сыну. – Будь со мной. Куда бы я ни пошел.

Но идти ему было некуда. Ольстер лежал в руинах. То, что случилось в Мунстере, когда О’Нил был еще молод, теперь повторялось на Севере, и кое-кто утверждал, что в Ольстере все еще хуже, чем было в Мунстере во времена десмондовских войн. На остров пришла чума; пришел неурожай, а с ним – все те же слухи о детях, умиравших с голоду, об отцах и матерях, что, обезумев, убивали и пожирали собственных детей. Даже выдумки становились правдой, если их повторяли слишком часто. Находили мертвецов с позеленевшими ртами: перед смертью они пытались прокормиться травой, крапивой и лопухами. На дорогах валялись непогребенные тела, раздетые донага, хотя грабителям наверняка доставались лишь жалкие лохмотья. Мятежные лорды винили во всех этих бедах англичан; англичане винили ирландских бунтарей – дескать, те ни в грош не ставят свой народ, о котором должны заботиться. Пришла весна, и люди графа Тирона встали перед выбором: если они не вернутся на свои поля, их тоже настигнет голод. Припасы, которые они привезли с собой в Гланканкин, подошли к концу. О’Нил видел это по исхудавшим лицам и запавшим глазам, обращенным на него с безмолвным вопросом. Когда стало ясно, что время пахоты и сева вот-вот пройдет, Хью О’Нил написал Маунтджою, что готов сдаться на милость Дублина безо всяких оговорок и не требуя никаких исключений. Маунтджой ответил отказом.
Лорду Маунтджою доставило огромное удовольствие отказать Лорду Севера в капитуляции. Но прошло несколько дней, и он одумался: все-таки лучше позволить графу Тирону сдаться, чем оставить его бельмом на глазу. Он послал сэра Гаррета Мура, которого Хью О’Нил любил и уважал больше всех других англичан, разыскать О’Нила, и вести об этом дошли до графа довольно скоро. Они с сэром Гарретом встретились и обнялись у разбитого Камня Королей в Туллахоге. Сэр Гаррет протянул руку молодому Хью, сжал его плечо, ободряя и утешая.
– Не бойся, – сказал он. – С твоим отцом все будет хорошо. Я тебе обещаю. Никто не причинит ему вреда, пока я рядом.
Они сели на коней и поехали к древнему аббатству Меллифонт, крепости Мура у входа в ущелье Гленмалюр, куда привезли когда-то давным-давно спасенных из плена мальчиков О’Доннелов. Сэр Гаррет припомнил, как Красный Хью потерял тогда большие пальцы ног, а Хью О’Нил сказал ему, что Красный Хью умер.
– От болезни? – спросил сэр Гаррет.
– Или от яда, – ответил Хью. – Этого мы не узнаем, пока не встретимся с ним вновь.
Они продолжали ехать, раздвигая занавеси липкого мартовского тумана. На подступах к Меллифонту выстроились английские солдаты – длинный живой коридор, в конце которого, перед самой дверью, стоял лорд Маунтджой, как всегда, весь в черном. У Хью О’Нила мелькнула мысль, не повернуть ли сейчас и не умчаться ли прочь? С какой стати он добровольно идет в прямо в руки Маунтджою? Но сэр Гаррет, ехавший рядом, прочитал эту мысль по легчайшим переменам в его движениях и позе. Он взял О’Нила за руку, улыбнулся и кивнул: да, именно за этим мы сюда приехали, и ты это сделаешь, потому что на кону стоит моя жизнь. И граф не посмел опозорить своего друга.
Он спешился и вошел в дом. Маунтджой отступил, поднявшись по лестнице на несколько ступеней, а Хью О’Нил, граф Тирон, встал перед ним, склонив голову. Сэр Гаррет помог ему опуститься на колени: суставы плохо гнулись. Затем он заговорил, первым делом назвав себя, свой титул и свой клан.
Он признал свое поражение в тех словах, которые подсказал ему секретарь Маунтджоя. Он отрекся от всех своих владений, доходов и власти. Отрекся от союза с испанцами и от титула верховного О’Нила. Все еще стоя на коленях, хотя ноги уже дрожали от напряжения, и держа Гаррета за руку, он повторил за секретарем, что отринет все варварские обычаи, если ему будет дозволено вернуться на Север, в земли его предков. Он пообещал, что будет строить там английские дома и хорошие дороги и приучать тамошний народ к английским обычаям, насколько это вообще возможно. Он будет чтить королеву во всех своих поступках и помогать слугам королевы во всем, что они от него потребуют. Все это время Хью не переставал плакать; это ничуть не удивило Гаррета Мура, знавшего, что так и будет, но лорд Маунтджой был поражен до глубины души. Такой гордый человек и так низко пал! Как ему не стыдно проливать эти позорные слезы? Лорд-наместник подошел к графу и с неловкой учтивостью помог ему встать; Хью громко застонал, то ли от боли в ногах, то ли от горя, и коротышка Маунтджой поддержал его, чтобы он не рухнул обратно. «Милорд, – шепнул он, – мы сегодня сделали доброе дело».
Графа провели в дом, усадили перед камином, Лорд Маунтджой сел напротив; секретарь тенью пристроился у него за плечом.
– Уверяю вас, – сказал лорд-наместник, – ваш графский титул непременно будет восстановлен. У меня нет такой власти, чтобы отнять его. И все земли, которыми вы владели прежде, к вам вернутся. Не беспокойтесь за свой клан и за сыновей – они тоже не пострадают. Даю вам слово.
Еще по дороге в Меллифонт сэр Гаррет говорил О’Нилу, что ему предложат нечто подобное в обмен на капитуляцию. Хью ему не поверил. И сейчас, потеряв дар речи, он уставился на Маунтджоя – человека, который любил убивать, делал это хорошо и гордился собой за это. Повисла долгая тишина. Затем Маунтджой усмехнулся, словно через силу, хлопнул себя по коленям и пригласил графа отужинать.

Оставалось только одно. Наутро Хью и Гаррет со стражей, вооруженной до зубов, выехали в Дублин, чтобы Хью повторил свои отречения и обещания по всей форме перед советом. И только там, у ворот тюрьмы, которой ему удавалось избегать так долго, граф узнал то, о чем Маунтджой знал уже не первый день, но так и не сказал ему даже шепотом. Об этом знали все, и только об этом были все разговоры.
Королева умерла.
Когда Хью О’Нил сел на коня в Туллахоге и простился с сыном, она уже неделю как была мертва. Она уже больше недели была мертва, когда он вошел в дом сэра Гаррета и отдал в руки Маунтджоя свою жизнь – жизнь, прошедшую под властью этой королевы, которая то упрекала его, то плакала вместе с ним, то смеялась, глядя на него из черного зеркала Джона Ди, пока он не сорвал его с шеи и не выбросил прочь. Годами она вела на него охоту, как на оленя, спуская на него своих псов – лордов-протекторов и лордов-наместников; годами она жалила его своим змеиным языком. Она никогда его не любила – она не умела любить. Когда он заплакал, одни советники отвернулись, другие смерили его холодным взглядом. Они-то все уже знали. Они знали, что полномочия Маунтджоя как лорда-наместника закончились со смертью королевы, и официально у него не было права ни принять отречение О’Нилла в Меллифонте, ни лишить его титула; все это знали – и только О’Нил не знал.
Умерла. Внезапно, как тогда под Кинсейлом, в ночь середины зимы, Хью почудилось что Время потекло назад или даже вперед и назад одновременно, закручиваясь в какую-то головокружительную спираль; что королева сейчас еще жива, а Смерть ее скачет в прошлое, в Меллифонт, чтобы забрать ее в тот самый миг, когда он, Хью, преклонил колени и отдал ей все, что имел.
Он начал смеяться. Поначалу казалось, что это не смех, а рыдания; но серый дождь за окном уже почти унялся, возвращалось апрельское солнце, и Хью смеялся все громче, прямо в лицо всем этим ошарашенным и растерянным советникам, их секретарям и страже. Это был смех увядших, утративших силу богов – смех, который когда-то мог разрушить старый мир или сотворить новый, а теперь больше не мог.

Пришел май; деревья Фландрии зазеленели, а широкие поля, на которых так удобно строиться войскам, и наступать, и отступать, покрылись маками, и те кивали под ветром, словно соглашаясь, что здесь прольется кровь, такая же красная, как они сами; и в запахе их была сладость воспоминаний о сыновьях и мужьях, отцах и братьях, уснувших на этих полях навсегда. Семь лет прошло с тех пор, как было все потеряно при Кинсейле и как простился с жизнью в Симанкасе Красный Хью. Генри О’Нил стал солдатом и служил в ирландском полку – был такой полк в армии Альбрехта Австрийского, кардинала, эрцгерцога и правителя Нидерландов. Генри дослужился до капитана и набрался храбрости попросить своего полковника отпустить его в Брюссель: он хотел представиться эрцгерцогу и его соправительнице, высокой Изабелле Кларе, дочери короля испанского. Полковник отпустил его, хотя и сомневался, что Генри сможет добиться такой аудиенции. Но Генри знал, что Альбрехт помнит о нем и о его отце, о давней борьбе с английскими еретиками. Знал он и то, что эрцгерцог Альбрехт в молодости принял малый духовный сан: в том же возрасте, когда Генри стал францисканским послушником, Альбрехта произвели в кардиналы (пусть и по сугубо политическим причинам). Правящая чета приняла молодого человека ласково; да и как еще принять такого простого и благочестивого юношу, с такими кроткими глазами и всеобщего любимца в своем полку? Что ему нужно? Пусть просит, о чем захочет.
Для себя Генри не хотел ничего. Но ему было очень нужно – да, просто необходимо! – получить ссуду или нанять корабль. Корабль довольно большой, чтобы хватило места на несколько дюжин человек. Лучше всего – торговое судно, и не испанское, не голландское, а французское, оно привлечет меньше внимания. Эрцгерцог на мгновение прижал к губам пальцы, сплетенные в замок. Англия, этот остров шпионов, ревностно хранила свои тайны, но у эрцгерцога была своя шпионская сеть, и ему уже донесли, что вождей злополучного ирландского восстания скоро схватят и бросят в тюрьму, где они и сгниют, не дождавшись обещанного помилования. Альбрехт подозвал помощника и велел свести этого молодого капитана с нужными людьми: пусть исполнят все, что ему нужно, потому что это дело праведное и богоугодное. А затем протянул Генри О’Нилу длинную белую руку, чтобы Генри поцеловал кардинальский перстень, который эрцгерцог лишь недолго носил с полным правом, но с которым так и не пожелал расстаться.

В одном полку с Генри, том самом полку, который состоял из ирландцев, изгнанных или бежавших с родины, служил некий Магуайр – не кто иной, как сын Хью Магуайра, Черного Пса. Генри О’Нил не считал себя ни сильным, ни стойким, ни бесстрашным, ни надежным, словно каменная стена. Зато у сына Магуайра были все эти достоинства разом. В палатке Генри, сидя при свете свечи, они в последний раз перебрали все подробности того, что предстояло сделать. Кошель с деньгами; опись груза; пропуска, подписанные эрцгерцогом, – все было готово; и французский флаг, под которым Джон Магуайр сможет войти в любую ирландскую гавань без опаски. А Генри что же, сам не поедет? Нет, сказал Генри. Его путь лежал в другую сторону.
В августе французские моряки на французском же торговом судне с обычным для них грузом вина и рыбацких сетей вошли в залив Лох-Суилли на западе Донегала и причалили в деревне Ратмаллан. Джону было сказано, что первым делом нужно известить Рори, брата Красного Хью; затем – Катбарра, младшего брата Рори; Катбарр возьмет с собой жену и новорожденного сына. Затем – Хью О’Нила, барона Данганнона, и его юного сына Конна. После этого Джон должен разослать конных гонцов ко всем остальным, кто взойдет на борт этого черного корабля, имя которого позже никто не вспомнит. Французские моряки на деле были переодетыми ирландцами. Джон Магуайр умел терпеливо ждать, но через какое-то время стало понятно, что этот маскарад долго не продержится. Надо было как можно скорее собрать всех, кого нельзя было бросить на произвол судьбы, и Джон торопливо выуживал их, одного за другим, пока леска наконец не оборвалась. Последним оставалось забрать того, кому важнее всех было бежать из страны. Всего за день до отплытия некий моряк – сам Джон Магуйар – приехал к сэру Гаррету Муру в Меллифонт. Сэр Гаррет послал за О’Нилом, тот вышел через черный ход и в первый миг подумал, что его давно погибший Пес, Хью Магуйар, восстал из мертвых.
На следующее утро граф обошел весь дом и благословил каждого, от домашнего врача до кухарок и конюхов. Потом обнял сэра Гаррета (старый добрый сэр Гаррет! он и понятия не имел о том, что сегодня случится!) и вышел в туман, где его ждали серые всадники с копьями – точь-в-точь те обитатели рата, которых он видел на заре своей жизни. О’Хейганы приехали проводить его, исполнить последний свой долг перед внуком Ньяла. Четырнадцатого сентября 1607 года граф и все прочие, собравшиеся в этот день на пристани Ратмаллена, не стали привязывать своих лошадей и просто бросили их на берегу: эти лошади им уже не понадобятся.
Преображенный
В том же году, когда Хью О’Нил потерпел поражение при Кинсейле, Петр Ломбард в Риме завершил свой грандиозный труд по истории и нынешнему положению дел в Ирландии – De regno Hiberniæ sanctorum insula commentarius[115]. Все, с кем он вел переписку, заверяли в один голос: англичане победили; теперь эти еретики смогут уничтожить Истинную Церковь, не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления; они возведут на престолы собственных епископов, а тех, кто попытается бунтовать, сотрут в порошок. Они выпрямят кривизны и неровные пути сделают гладкими[116], и этому не будет конца до тех пор, пока не настанет конец всему на свете.
Петр подошел к столу, на котором лежала его гигантская рукопись. Со временем ее напечатают, но все-таки она неполна. Он подумал о Кинсейле, обо всех ирландцах, которые там погибли и, верно, так и остались лежать без погребения. Подумал об испанском флоте, покидающем ирландские берега, – обо всех этих гордых адмиралах и капитанах, которые подвели своего короля и своего Бога. Взял перо, уже почти истрепавшееся, обмакнул его в чернила и дописал на последней странице, в самом низу: Postquam nihil postea gestum. «После этого больше ничего не произошло».

И все же, все же… Было одно дитя, как раз тогда подраставшее в израненном Мунстере; дитя это чуть ли не от рождения лепетало складно и в рифму и пошло таким путем, каким не ходили другие. Год за годом, зимой и летом, дитя росло, и его песни и речи становились все странней и сильней. Если расскажете повесть мою тем ирландцам, что ныне томятся в плену, будет то все равно, как если б запоры дверей отворились и спали оковы. Те, кто это слышал, подходили послушать еще – или отшатывались, крестясь: не по-божески это, чтобы ребенок такое пел и доставал до самого сердца. Откуда это чудной ребенок, день-деньской бродивший сам по себе, узнал такие хвалы и проклятия, никто и понятия не имел, но многие запомнили, как однажды он просто взял и ушел: оставил своих родителей, сестер и братьев или кто там у него был и двинулся дальше, от деревни к деревне, и понес другим людям другие песни и повести, чтобы те зажили своей жизнью, заучивались, передавались, преображались и двигались дальше. Светловолосый, стройный, необычно высокий, он носил льняную рубаху и штаны; его принимали за мальчика, потому что говорил он низким голосом, но когда пел, звуки лились легко, и звонко, и сладко. Только те, кто пускал к себе певца на ужин и на ночлег, знали, что это не мальчик и вообще не мужчина; но истинная природа этой странной гостьи называлась contúirteach focal – опасным словом, из тех, которые вслух не произносят.
Она не стеснялась просить у кого угодно то, в чем нуждалась, но не любила давать что-то взамен. Тех, кто отказывал ей, единственной в своем роде, она осыпала насмешками, а тем, над кем она посмеялась, делалось так худо, что они забывали спросить, что это было, кого они сейчас видели, кто говорил с ними и что сказал; забывали все плохое разом. Она приходила ко дворам военачальников и лордов, не присягая и не пытаясь угодить никому; от тех, кто не оказывал ей почестей, она уходила. Она знала, в какую сторону должна идти, но уже не знала, откуда пришла и куда именно придет. Она шла и шла дальше: великий бард, творящий мир своей песнью.

Королева была уже шесть лет как мертва, а Джон Ди умирал. Все его книги, алхимические приборы и даже подарки королевы были распроданы ради куска хлеба; новый король-шотландец, боявшийся магии пуще всего на свете, не оценил ту долгую и тяжкую службу, которую он нес во имя Ее Величества. Остался только кварцевый шарик цвета кротовьей шкурки, в котором сидел пойманный дух; доктор долгое время считал, что это ангел, но теперь начал сомневаться. Война между всеми народами, которую этот ангел показывал ему когда-то в шаре, точно в оке бури, взяла передышку, и на половину мира снизошел покой; но это было ненадолго; все изменится; все менялось уже сейчас.
Когда стало понятно, что на смену первой Армаде придет вторая, Джон Ди утвердился в мысли, что у испанцев есть один великий союзник, которого нет и не может быть у протестантской королевы, – все Господства, Силы и Власти небес. Очевидно же, что ангелы примут сторону католической Испании; пусть они и не отдавали никому предпочтения в делах земных, но слишком многие из них – целые воинства и племена – любили мессу, любили церковные обряды, в которых перечисляли их чины с любовью и почтением, любили благовония, досягавшие их ноздрей (как-никак, обоняние – единственное доступное им чувство), и песнопения scholae cantorum, церковных хоров. Силы, присущие этим ангелам, до сих пор не были сведены в каталог, а если и были, то об этом не написал ни Арегопагит, ни Аквинат. Так или иначе, на него, Джона Ди, ложится обязанность выявлять таких ангелов и препятствовать им по мере сил, отвлекая, мороча и сбивая с толку. Он до сих пор встречал и знал лишь немногих – тех, что поклялись правдиво отвечать на его вопросы; что ж, он станет задавать такие вопросы, которых ни они, ни высшие чины над ними еще не слыхивали; чтобы найти на них правдивые ответы, у ангелов уйдут годы. И это будет последняя служба, которую сослужит своей королеве.
Но когда по извилистым тропам стеганографии до него дошли вести, что вторая, малая, Армада разгромлена при Кинсейле, доктор Ди растерялся. Ни в обычных беседах, ни внезапными голосами ангелы до сих пор не говорили ему ничего об этой битве и о своем участии в ней – если они, конечно, участвовали. Вдобавок казалось, что они устали, как ветераны, одержавшие победу, но лишь ценой огромных жертв, от которых уже не оправиться. И это было самое странное.
Теперь, вернувшись в Мортлейк-на-Темзе, в свой старый дом, где на хозяйстве оставалась лишь одна его старшая дочь, он видел, что его забыли почти все, а для остальных он был то ли призраком из прошлого, ушедшего мира, то ли паяцем в домашних туфлях из какой-то дурацкой пьески. Впрямь ли он изменил исход сражения при Кинсейле? Отвлек небесные силы, помешал им вступить в битву? Скорее всего, нет. Ведь ангельские воинства никогда не заботились об исходе событий, даже если участвовали в них – будь то по доброй воле или по принуждению. Все исходы предрешены и запечатлены в Fiat lux[117], и ангелам нет до них дела. И все же Джону Ди было любопытно: явились ли они над полем битвы в ту рождественскую ночь – подать надежду без обещания тем армиям, судьбы которых они знать не могли? Впрочем, едва ли: он не верил, что преуспел настолько.
То, что он увидел сейчас в кристалле, когда облака в нем разошлись, было непохоже ни на что из виденного прежде. Ни императорских и королевских армий, ни небесных башен, ни ангельских воинств, но только длинный каменистый берег. Западное побережье Ирландии, понял он. Там, где когда-то погибали на скалах испанские корабли, теперь возводились корабли иные, не из тех, что могут нести смертного; корабли, сотканные из времени иного века, серебрящиеся, как плавник, с парусами из паутины; и те, кто их строил, а после всходил на них и отчаливал в море, были такие же серебристые, тонкие и прозрачные. Они потерпели поражение; они бежали. Их путь лежал на Запад, на Острова Блаженных, к новым берегам и дальним холмам, лесам и рощам, которых они еще не видали. Может статься, этих мест и не было на свете, пока они не достигали их и не вызывали к бытию. Внутренним слухом Джон Ди услышал голос: Вот что случится скоро. Мы не знаем, когда. Что ж, так тому и быть. Он наклонился над сияющим камнем, и сама его душа, обретшая пророческую мощь, стала вещать в полный голос. Она открыла ему, что теперь, когда всему пришел конец, пройдет время, и все позабудут о том, какие силы доподлинно сражались в этих войнах, а помнить будут только смертных: королей и королев, солдат, священников и горожан.

Хью О’Нил тоже умирал, с каждым днем приближаясь к смерти немного ближе и все быстрее. Одна за другой отпадали или увядали силы и части его существа; он видал, как это бывает со стариками, и теперь точно так же происходило с ним, хотя видеть со стороны – совсем не то же самое, что испытывать самому. Дело было не в утратах, не в слабости, которую мог заметить всякий, а в чувстве стыда. Стыд, и вина, и страх. Смущение перед лицом здоровых и бодрых, которые пока ничего такого не знают. И все же он вышел поутру из ворот палаццо, повернул направо и, опираясь на кривую оливковую палку, которую носил вместо трости, добрался на исходе утра к подножию того высокого холма, что звался Яникулом. Такую епитимью наложил на него архиепископ: во всякий день, когда ему достанет сил (теперь уже не каждый день, но в те дни, когда он понимал, что иначе нельзя), подниматься крутой дорогой (с каждым разом становившейся все круче) на вершину, к монастырю Сан-Пьетро-ин-Монторио и церкви того же имени.
В тот день он двинулся вверх по холму с мыслью о том, что не сможет добраться до церкви, но эта же мысль в последнее время посещала его всякий раз, как он делал первые шаги по тропе. И так же, как во все предыдущие дни, он ошибся. Долго ли, коротко, а он уже стоял на самом верху, на широкой террасе, и ждал, пока его сердце и легкие вспомнят, как дышать.
Монастырь Сан-Пьетро, основанный испанской королевой, был простым и теплым – не чета огромным романским церквам, надменным и вселявшим робость. Он походил на живое существо, и существо это было добрым – по крайней мере, к нему, Хью О’Нилу; всегда приветствовал его радушно и, не нарушая его скорби, давал утешение. Отсюда, с террасы, открывался такой вид, от которого на сердце нисходил покой: красные черепичные крыши Трастевере, торжественные руины Древнего Рима, темные пирамидальные тополя, подобных которым Хью никогда не встречал на родине, а дальше, за городом, – голубые холмы, которым он не знал названия. Пока он смотрел на все это, в глазах у него помутилось, но потом прояснилось вновь. Он повернулся и двинулся по широким ступеням к воротам церкви, которые всегда стояли незапертые.
Утреннюю мессу уже отслужили. Певчие и служки заканчивали уборку и уходили, напоследок преклоняя колени перед алтарем, где в кивории, похожем на солнце в ореоле лучей, покоилась освященная гостия.
Над алтарем висело «Преображение» – кисти Рафаэлло, как сказали О’Нилу[118]: Иисус, восставший из гроба в белых пеленах (как те, в которые когда-то, давным-давно, закутали слепого поэта О’Махона), поднимался в небо; ноги его были босы, взор устремлен ввысь – к тому, что он видел там, наверху. По обе руки от Христа возносились какие-то бородачи: Хью так и не узнал, кто они такие.
Войдя в неф, он сел там, где садился всегда. Внизу, под плитами тибурского камня, похожими на облака, лежали усопшие. Прямо здесь, под ногами, – его сын, последний барон Данганнон; вон там – Рори О’Доннел, граф Тирконнел, а рядом – брат Рори, Катбарр. Все трое умерли от римской лихорадки вскоре после того, как О’Нил привез их сюда, спасаясь от английских волков. Не лучше ли было умереть там, стоя на своей земле, повернувшись лицом к врагу? На этот вопрос время так и не дало ответа.
Там, под полом, было приготовлено место и для него – отдельная гробница, в стороне от прочих. Этой чести решили удостоить его добрые люди – архиепископ, папские чиновники, и он не хотел обижать их отказом, хотя сам предпочел бы лежать среди остальных, надеясь воскреснуть в Судный день вместе с ними, а до тех пор дремать в их компании. D. O. M. Hugonis principis ONelli ossa, – будет гласить доска на стене: «Во имя Бога лучшего, величайшего: здесь покоятся кости владетеля О’Нила». Как же так? Почему он видит эти буквы, врезанные в стену, уже сейчас, хотя им еще только предстояло возникнуть? Он содрогнулся от страшного предчувствия, и в глазах потемнело вновь. Затем зрение вернулось, но явило ему уже другую картину. Плиты пола Сан-Пьетро с их кремовыми разводами и завитками стали небом, по которому плыли облака. Он, Хью О’Нил, рассматривал это небо как бы сверху – верно, таким видят его чайки и поморники. Далеко внизу темнела земля, уходившая за горизонт на западе, и там сейчас была зима; прошли годы. Он шел по этой земле сквозь кружащие хлопья снега, и каждый его шаг был стремителен и огромен. Он видел армии на марше, испанские терции, немецких ландскнехтов, какой-то вооруженный сброд; кровь на снегу, дома в огне, мужчин и женщин, подвешенных на черных пыточных колесах; но все это было неподвижным, как росписи на римских стенах. Начиналась война, и О’Нил откуда-то знал, что она будет ужаснее всех, какие он видел и в каких сражался; самая жестокая, самая бесполезная; и она будет длиться годы; и даже ангелы – которые, он чуял, склоняются ближе к земле – не смогут предотвратить ее, а если бы и могли, все равно бы не стали.
Впереди чернело море; он двинулся дальше на запад, шагая по морю, как по суше, и волны бурлили прямо у него под ногами, но коснуться его не могли. И сердце его наполнилось, едва не разрываясь в груди, потому что перед ним открылись берега его острова. В портах толпились английские военные суда, а вдоль берегов росли города, новые дома и новые замки. За прибрежной полосой и мысами земля зеленела, не тронутая снегом; озера и холмы были точь-в-точь такими, как в детстве, – все исцелилось или, быть может, никогда и не было изранено: коровы и овцы, резвые кони, мальчики и девочки. И сам он преобразился так, что не узнать. Холмы его Тир-Оуэна, родного и потерянного, как будто медленно ворочались во сне. Он заглянул дальше, поверх холмов. Там, далеко впереди, шагала через поля и рощи тонкая, стройная фигурка, и шаг ее был еще стремительней и шире, чем у Хью О’Нила: пеший гонец, чью загадку он так и не смог разгадать. Скороход обернулся и посмотрел на Хью: иди за мной. Хью сделал еще шаг. Перед ним высился длинный курган, из которого поэт О’Махон когда-то вызвал бледное воинство. Не раздалось ни звука, но он услышал приветственный звон мечей, бьющих о щиты, и женщину, которая пела на его языке, ни на вздох не прерывая песни, и песнь все лилась и текла, то опадая, то подымаясь ввысь, как бесконечное пение тюленей на дальнем морском берегу.
Все они его знали, и он знал, что его здесь ждут; и, когда он сделал еще шаг вперед, двери холмов отворились, чтобы он вошел.
Благодарности
С тех пор как я начал сочинять книги, моя фантазия словно сорвалась с цепи: она без устали выискивала всякие странные и невероятные темы, которые я по большей части отвергал как непригодные. Но три-четыре я все же взял на заметку: что-то вроде английской войны Алой и Белой Роз, только не в XV веке на Земле, а где-то на чужой планете; Америка далекого будущего, обезлюдевшая, тихая и зеленая; научный эксперимент по созданию человека-льва путем ДНК. И все эти годы я постоянно вел, так сказать, прослушивания других вариантов. Среди них был один, который я не смог отбросить, но и не чувствовал себя в силах за него взяться: тюдоровская колонизация Ирландии и попытки ирландских землевладельцев сбросить иго англичан. Я нашел книгу ирландского писателя Шона О’Фаолейна – биографию Хью О’Нила. Я читал ее и перечитывал. Потом начал выстраивать последовательность событий. Искал, с чего все началось, и никак не мог найти. И отложил все это до лучших времен – и книгу, и свои наброски.
Прошло несколько лет, и я написал рассказ по мотивам баллады «Силки», которую сейчас многие знают благодаря Джоан Баэз. Вдобавок я глубоко погрузился в биографию доктора Джона Ди – астролога, ангелолога, алхимика. И вот я начал понимать, что та ирландская история, которая так никуда и не ушла, каким-то образом со всем этим связана. Ныне покойный Гарднер Дозуа опубликовал мой рассказ (к тому времени превратившийся в повесть), и тот дошел до читателей, которым я доверял, и достаточно многие из них стали настаивать, что эта повесть должна стать частью романа. Вот и он, этот роман – мозаика из старинных побасенок, расцвеченных плодами долгих исследований и размышлений. По стилю он не слишком похож на остальные мои книги, но среди моих книг вообще трудно найти такую, что походит хоть на какую-то из остальных, чему я несказанно рад.
Я выражаю признательность:
– Гарднеру Дозуа;
– Генри Фаррелу;
– Патрику Нильсену Хейдену и Говарду Морхему, который убедил моего издателя принять эту книгу в работу;
– всем тем знатокам ирландской истории, чьи труды я читал и использовал, забывал, открывал снова и вспоминал;
– Л. – моей жене, советчице и вдохновительнице;
– друзьям, которые выслушивали все, что я мог рассказать им на тот или иной момент;
– и наконец, тебе, мой читатель – возможно, один из немногих, кому удалось забраться вместе со мной так далеко.
Джон Краули,
Конуэй (Массачусетс), 30 сентября 2021 года
Примечания
1
Лат. букв. «исповедую»; начало католической покаянной молитвы. – Здесь и далее прим. пер.
(обратно)2
Риони – старинное название районов в историческом центре Рима.
(обратно)3
Главный герой этой книги – Хью О’Нил, граф Тирон (ок. 1550–1616), прозванный Великим графом, последний король древнего ирландского королевства Тир Эогайн (Тирон) и предводитель ирландцев в «Девятилетней войне» (1594–1603) – долгом и кровопролитном восстании против английского владычества. Потерпев поражение и спасаясь от расправы, в 1607 году Хью покинул родину и нашел убежище в Риме. Вместе с ним бежали еще 98 ирландских аристократов; этот массовый исход ирландской знати вошел в историю как «бегство графов».
(обратно)4
Палаццо Сальвиати – дворец в Риме, построенный в начале XVI века по проекту Джулио Романо и получивший свое название по имени кардинала Джованни Сальвиати, приобретшего здание в 1552 году. Согласно воспоминаниям Тайга О’Кианана, секретаря Хью О’Нила, в этом дворце по распоряжению папы Павла V поселили не только Хью, но и других ирландских беглецов – его «товарищей по изгнанию», упомянутых ниже.
(обратно)5
Его Святейшество (лат.), папа римский Павел V (1552–1621).
(обратно)6
Нагрузившись вином (лат.).
(обратно)7
Домашний халат (фр.).
(обратно)8
Горячий напиток из молока с вином и пряностями.
(обратно)9
Пс. 42:4.
(обратно)10
Пс. 41:10.
(обратно)11
Хлеб ангелов (лат.), предпоследняя строфа католического гимна «Sacris Solemnis» («Священный праздник»), который включался в торжественную мессу на Праздник Тела и Крови Христовых. Этот праздник приходится на 60-й день после Пасхи.
(обратно)12
«Комментарий о королевстве Ирландия, острове святых» (лат.).
(обратно)13
Грехах (лат.).
(обратно)14
Верховный король (ирл.) – древний титул главы Ирландии.
(обратно)15
Дочь короля испанского – легендарная фигура, олицетворяющая надежды ирландцев на помощь Испании в их национально-освободительной борьбе. Расцвет этих надежд пришелся на период битвы при Кинсейле (1601–1602 годы) – решающий эпизод Девятилетней войны, в которой историческому Хью О’Нилу предстояло возглавить ирландских повстанцев. Испанские войска участвовали в сражениях на стороне ирландцев и в итоге потерпели поражение вместе с ними. Тем не менее образ «дочери короля испанского» сохранился в ирландском фольклоре; иногда она отождествлялась с другими героинями, олицетворявшими свободу Ирландии. Вместе с тем по меньшей мере с XVII века выражение «дочь короля испанского» использовалось в Ирландии как эвфемизм испанского вина.
(обратно)16
«Краснолапы» – ироническое прозвище шотландских горцев, связанное с особенностями национальной одежды: килт оставлял ноги открытыми и не защищал их от холода.
(обратно)17
Септ – часть ирландского клана, объединенная общей фамилией и общим происхождением.
(обратно)18
Туллахог (Тулах Ок, ирл. «холм юности») – название деревни и одноименного холма в графстве Тирон. Древний рат (кольцевой форт) на вершине этого холма был местом инаугурации вождей клана О’Нил с XI до конца XVI века. «Коронационным камнем» (функционально подобным шотландскому Скунскому камню) поначалу служил большой плоский камень, носивший название «Лик-на-ри» (ирл. «королевская плита») и, по преданию, получивший благословение от самого святого Патрика; к XVI веку вокруг него соорудили каменный трон. Позднее, в 1602 году, после битвы при Кинсейле и поражения ирландцев, этот трон был разбит англичанами в знак крушения династии О’Нилов.
(обратно)19
Речь идет о событиях осени 1566 года, когда Генри Сидней, лорд-наместник Ирландии (c 1565 года), взял приступом и сжег крепость Бенберб на реке Блэкуотер, построенную Шейном О’Нилом и служившую ему главной резиденцией.
(обратно)20
Сдача и возврат (англ.) – юридический механизм в рамках английской системы права, по которому ирландские кланы переводились под вассалитет английской короны.
(обратно)21
Вассал (ирл.).
(обратно)22
Позор (ирл.) – слово-лейтмотив хулительной песни как традиционного жанра ирландской поэзии.
(обратно)23
Филип Сидни (1554–1586) – знаменитый поэт елизаветинской эпохи, придворный и дипломат.
(обратно)24
Речь идет о Роберте Дадли, 1-м графе Лестере (1532–1588) – советнике и фаворите королевы Елизаветы I. Он был родным братом Мэри Сидни (урожденной Дадли), жены Генри Сиднея.
(обратно)25
Отсылка к ирландской саге «Судьба детей Лира», повествующей о четверых сыновьях морского божества Лира, превращенных чарами злой мачехи в лебедей, но сохранивших человеческий голос.
(обратно)26
Уильям Сесил, 1-й лорд Берли (1520–1598) – глава правительства Елизаветы I; на момент описываемых событий (около 1560 года) – государственный секретарь.
(обратно)27
Джон Ди (1527–1609) – выдающийся ученый, математик, географ и астроном; врачом королевы Елизаветы он в действительности не был (и вообще не изучал медицину), но был придворным астрологом, среди прочего выбравшим для нее удачный день коронации.
(обратно)28
Ученейший муж (лат.).
(обратно)29
Уотерфорд – город в Ирландии, в Средние века и вплоть до XVII века считавшийся вторым после Дублина по значимости.
(обратно)30
Ги де Бошан, 10-й граф Уорик (ок. 1272–1315) – влиятельный аристократ, один из предводителей англичан в первой англо-шотландской войне (1296–1328) и один из руководителей оппозиции в правление Эдуарда II.
(обратно)31
«Приди, придите, духи лесов, бог потоков…» (искаж. лат.; видимо, Филип еще не вполне владеет латынью: вместо divus, «божественный», он по ошибке говорит dives, «богатый», и путает склонение последнего слова).
(обратно)32
Т. е. до короля Генриха VIII, во времена, когда Англия еще была католической страной.
(обратно)33
Имеется в виду прославленная реликвия, с 1270 года хранившаяся в Хейлском аббатстве (Глостершир), – сосуд с кровью Христа, привезенный из Германии. Благодаря паломникам она приносила аббатству огромные доходы вплоть до 30-х годов XVI века, когда Генрих VIII ликвидировал монастыри по всей Англии. Под давлением эмиссаров короля сам настоятель признал реликвию подделкой, публично объявив, что сосуд содержит всего лишь мед, подкрашенный шафраном.
(обратно)34
Эстотиланд – гипотетический остров в западной части Атлантического океана, якобы открытый около 1400 года братьями Николо и Антонио Зенонами и присутствующий на так называемой «карте Зенона», которая стала достоянием публики в 1558 году. Знаменитый картограф Герхард Меркатор (1512–1594), друг и коллега Джона Ди, признавал эту карту подлинной. Однако некоторые историки считают ее подделкой и ставят под сомнение сам факт того, что братья Зеноны совершили путешествие через Атлантику или тем более открыли Северную Америку за столетие до Колумба. Так или иначе, позднейшие путешественники не обнаружили никакого острова в указанном месте, и Эстотиланд был причислен к странам-утопиям (наряду с Аркадией, Эдемом, Хай-Бразил, Атлантидой и другими легендарными островами и землями). Грюнланд (Зеленая Земля) тоже иногда описывался как «остров блаженных» – райская волшебная страна, недоступная для смертных, – хотя и соотносился с реальным островом Гренландия. Атлантидой Джон Ди в этой речи называет Северную Америку.
(обратно)35
Валлийский король Майлгун Гвинед (ум. ок. 547), фигурирующий в средневековых легендах и поэмах как великий правитель и покровитель бардов.
(обратно)36
Мадок (Мадог) ап Оуэн Гвинед – легендарный валлийский королевич, по преданию, совершивший плавание через Атлантику в 1170 году и открывший Америку за триста с лишним лет до Колумба. Эта легенда пользовалась большой популярностью в елизаветинскую эпоху; сам Джон Ди предложил королеве использовать ее в поддержку притязаний британской короны на земли Северной Америки.
(обратно)37
Святой Брендан (ок. 484 – ок. 578) по прозванию «Мореплаватель» – ирландский монах, настоятель Клонфертского монастыря. Герой средневековых ирландских легенд и поэм,
(обратно)38
повествующих о семилетнем плавании Брендана на запад в поисках Эдема; «остров блаженных», которого ему будто бы удалось достичь, иногда отождествляют с Северной Америкой. Действующее и в наши дни Общество святого Брендана верит, что Брендан был первым европейцем, побывавшим в Новом Свете.
(обратно)39
Джованни Кабото (Джон Кабот, ок. 1450 – ок. 1498) – итало-французский мореплаватель, состоявший на английской службе. В 1497 году он достиг побережья Америки, затем вернулся в Англию, а на следующий год снова отправился в Новый Свет и нанес на карты значительную часть восточного побережья Канады. Его сын Себастьяно Кабото (Себастьян Кабот, ок. 1476–1557) сопровождал его в этом плавании и принял командование экспедицией после смерти отца.
(обратно)40
Был ли этот трактат Джона Ди написан уже около 1564 года, к которому, вероятно, относятся описываемые здесь вымышленные события, неизвестно. В печатном виде «Соображения…» вышли лишь в 1577 году.
(обратно)41
Латинское название Ирландии.
(обратно)42
Алхимический символ, изобретенный Джоном Ди и описанный в одноименной книге, которая увидела свет как раз в 1564 году. Этот комплексный символ включает в себя графические обозначения Солнца, Луны, креста (четырех стихий), пифагорейской декады (числа как символа всего проявленного мира) и зодиакального знака Овна (представляющего огонь). В скрытом виде в этой эмблеме присутствуют также символы всех пяти планет, известных с древности, – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Сам Ди давал своей Монаде следующее эзотерическое объяснение: «Солнце и Луна в этой Монаде желают, чтобы Стихии, в которых расцветет десятичная пропорция, были разделены, а сделать это надлежит с помощью Огня».
(обратно)43
Ирл. Ua Néill, букв. «внук» или «потомок Ньяла»; имеется в виду Ньял Девяти Заложников – полулегендарный верховный король Ирландии, предок династии, главенствовавшей в Ирландии в VI–X веках.
(обратно)44
Керны – легковооруженные пешие воины из коренного населения Ирландии; галлогласы – тяжеловооруженные наемники-пехотинцы в ирландских войсках.
(обратно)45
Здесь повествование расходится с исторической хронологией: в действительности Шейн О’Нил посетил Лондон и предстал перед королевой несколькими годами раньше, 1 января 1562 года.
(обратно)46
Уорем Сент-Леджер (ок. 1525–1597) – английский военный и политик, в 1560–1568 гг. член Палаты общин Парламента Ирландии. В 1565 году получил должность президента Мунстера (благодаря Генри Сиднею, снова ставшему лордом-наместником Ирландии).
(обратно)47
В действительности битва при Аффане, описанная ниже, состоялась 8 февраля 1565 года.
(обратно)48
Согласно «Оксфордскому биографическому словарю», версия Десмонда все же верна, а выстрелил в него брат графа Ормонда, Эдмунд Батлер.
(обратно)49
Английский забор, он же Пейл, – земли средневековой английской колонии на юго-востоке Ирландии с центром в Дублине.
(обратно)50
Tir Oen, от ирл. Tír Eoghain («Страна Эогана»), – древнее название королевства Тирон, основанного Эоганом (ум. ок. 465), сыном Ньяла Девяти Заложников.
(обратно)51
Перч – мера длины, ок. 5 м.
(обратно)52
Мартин Фробишер (1535/1539–1594) – английский мореплаватель и капер. Совершил три экспедиции к берегам Северной Америки, участвовал в безуспешных поисках Северо-Западного прохода и в сражениях с Испанской Армадой. В честь Фробишера назван один из заливов на острове Баффинова Земля.
(обратно)53
Официально на королевскую службу Фробишер поступил лишь в 1572 году, а в 1570-м, к которому относится этот эпизод, только вышел на свободу после годичного заключения в тюрьме по обвинению в пиратстве.
(обратно)54
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – знаменитый английский философ, историк и государственный деятель. Свою карьеру он начинал как дипломат и юрист, однако его присутствие в этой сцене, относящейся к 1570 году, – очередной анахронизм: в то время Бэкон еще даже не приступил к обучению в Кембридже.
(обратно)55
Хамфри Гилберт (1539–1583) – английский мореплаватель и военный; в 1567–1570 гг. он жестоко подавил восстание в Ирландии; в 1570 г. был посвящен в рыцари и начал разрабатывать план протестантской колонизации Мунстера.
(обратно)56
Эдмунд Спенсер (ок. 1552–1599) – английский поэт, позднее ставший гораздо более известным, чем Хамфри Гилберт: за главное свое произведение, эпическую поэму «Королева фей» (первые три книги которой вышли в 1590 году), он удостоился королевской пенсии и таких славных прозваний, как «поэт поэтов» и «принц поэтов». В Ирландию Спенсер прибыл в 1580 году, в качестве секретаря при Артуре Грее, тогдашнем лорде-наместнике Ирландии. За верную службу и активное участие в подавлении очередного ирландского мятежа (поднятого Джеральдом Десмондом по возвращении на родину) Спенсер был награжден земельными владениями; позднее, в 1584–1588 гг. он работал секретарем губернатора Мунстера и получил в награду замок Килкоман, ранее принадлежавший Десмондам.
(обратно)57
Это деление страны восходит к легендарной битве 123 года н. э., в которой верховный король Ирландии, Конн Ста Битв (предок правителей Коннахта и династии О’Нилов), потерпел поражение от Эогана Мора, короля Мунстера. По требованию Эогана Ирландия была разделена на северную и южную половины по границе, проходящей от Голуэйского залива до Дублина. Северная часть стала называться Половиной, или Уделом, Конна, а южная – Рабским уделом, поскольку Эоган носил прозвище Mug Nuadat, что значит «Раб Нуаду» (древнего божества из Племен богини Дану).
(обратно)58
Аннан – одно из имен Дану, прародительницы древнеирландских богов (Племен богини Дану). Анье – ирландская богиня изобилия, лета и урожая, тесно связанная с холмом Нок-Анье в графстве Лимерик. В некоторых народных преданиях она предстает женой 3-го графа Десмонда, Джеральда Фицджеральда, вошедшего в фольклор под именем «Геройд Ярла» (от англ. Earl Gerald, граф Джеральд). По другой версии легенды – очевидно, той самой, которую поведал Хью О’Нилу граф Десмонд, – Анье была матерью Геройда и наделила его магическими дарами (в том числе способностью уменьшаться в размерах и превращаться в дикого гуся), а позже забрала его в волшебный холм и сделала королем сидов. Позднее, уже в XVIII веке, в Мунстере появилось пророчество, согласно которому Геройд Ярла вернется из Волшебной страны (в образе могучего рыцаря с белым как снег лицом и верхом на черном как ночь коне), чтобы принять участие в последней битве против англичан и «отомстить за кровь, пролитую при Охриме» (т. е. в Якобитской войне 1689–1691 годов).
(обратно)59
Джон Перрот (ок. 1527–1592) – английский государственный деятель, один из организаторов колонизации Ирландии, занимавший должность лорда-президента Манстера в 1570–1573 годах, а позднее сменивший Сиднея на посту лорда-наместника Ирландии.
(обратно)60
Терция – тактическая боевая единица Испанской империи, формально состоявшая из 3000 солдат.
(обратно)61
Генри Сидней умер 5 мая 1586 года, а его сын – 17 октября того же года.
(обратно)62
Лаберхам (Леборхам, Лебархам, Лавархам) – персонаж ирландских саг, поэтесса, заклинательница и вестница короля Конхобора. Она отличалась исключительным уродством (само ее имя означает «длинная и кривая»), но считалась всеведущей и внушала страх: никто не мог отказать ей в просьбе или что-либо запретить ей, потому что она могла спеть обидчику смертоносную «песнь поношения».
(обратно)63
Диармайд – воин из дружины Финна, более всего известный как возлюбленный Грайне, невесты Финна. Упомянутая в тексте «песнь сна», пропетая над умирающим Диармайдом, в сагах не фигурирует.
(обратно)64
Фахан – персонаж ирландского фольклора, одноногий великан с единственной рукой, растущей вперед из середины груди, и с единственным глазом посреди лица.
(обратно)65
В действительности – четырьмя годами раньше, в 1583-м.
(обратно)66
Т. е. в Новом Свете; речь идет о бразильских колониях Португалии, которые перешли под власть Испании после того, как португальский король Себастьян I погиб в 1578 году, не оставив наследников, и права на португальский престол заявил Филипп II, король Испании.
(обратно)67
Т. е. Атлантического океана; в чине вице-адмирала Фрэнсис Дрейк (ок. 1540–1596) участвовал в сражении с испанской «Непобедимой армадой» в 1588 году, а Уолтер Рэли (ок. 1554–1618), придворный, моряк и поэт, получил адмиральское звание гораздо раньше, в 1583-м. Оба они были прославленными каперами.
(обратно)68
Маска – жанр музыкально-драматического представления, сложившийся в Англии в конце XVI века.
(обратно)69
Т. е. через северную Атлантику, вдоль западного побережья Ирландии и далее – через пролив между Ирландией и Уэльсом.
(обратно)70
Имеется в виду аббат Иоганн Тритемий (1462–1516), настоятель бенедиктинского монастыря в Шпонгейме (Германия), учитель знаменитого мага Агриппы Неттесгеймского и автор сочинения «Стеганография», речь о котором пойдет ниже. Стеганографией (от др. – греч. στεγανός «скрытый» и γράφω «пишу») называлась одна из разновидностей тайнописи, предполагавшая сохранение в тайне самого факта шифрования. Стеганографическая система Тритемия основывалась на призывании ангелов, при помощи которых шифровались и передавались тайные сообщения. Максимилиан I, император Священной Римской империи (1508–1519) действительно обращался к Тритемию за советами, а тот, согласно легенде, вызывал для него духов и предсказывал будущее.
(обратно)71
Испанский король Филипп II всегда одевался в черное и страдал подагрой, а за свою привычку ежедневно и очень основательно работать с документами получил прозвище «бумажного короля».
(обратно)72
«На неопределенный срок» (лат.).
(обратно)73
Селение в графстве Тирон, на реке Дерг.
(обратно)74
Региомонтан (наст. имя Иоганн Мюллер, 1436–1476) – немецкий математик, астроном и астролог, взявший себе прозвище со значением «кенигсбержец»: немецкое название его родного города, Кенигсберга, означает «Королевская гора», и так же переводится латинское слово Regiomontium. В числе важнейших достижений Региомонтана – издание эфемерид (ежедневных астрономических таблиц) на период с 1474 по 1506 год и разработка новой системы астрологических домов.
(обратно)75
Месяцы указываются здесь по юлианскому календарю. По григорианскому летосчислению первое из двух полных лунных затмений в том году пришлось на 13 марта, а второе – на 5 сентября.
(обратно)76
Речь идет о соединении двух вредоносных планет (Сатурна и Марса), образующих квадрат (злотворный аспект) к астрологическому дому, в котором Юпитер находился в годовом гороскопе на 1588 год (см. прим. ниже).
(обратно)77
Это пророчество, предвещавшее миру большие потрясения и беды в 1588 году и приписывавшееся Региомонтану, в действительности было сделано малоизвестным монахом Иоганном Гилтеном из Эйзенаха (вероятно, в начале XVI века). Авторство предсказания закрепилось за Региомонтаном в новых эфемеридах, опубликованных богемским математиком и астрологом Киприаном Леовицем в 1556 году. Согласно легенде, немецкое четверостишие с таким же смыслом было выбито на надгробии Региомонтана. Еще одно предание гласит, что Региомонтан собственноручно начертил гороскоп на 1588 год, дополнив его тем же пророчеством на немецком языке; поэт Каспар Бруш засвидетельствовал, что в 1551 году этот чертеж украшал стену трапезной монастыря в Кастле (Нижняя Бавария). По всей видимости, речь идет о годовом гороскопе (который строится на момент вхождения Солнца в зодиакальный знак Овна в данном году) и последующих транзитных аспектах к этой астрологической карте.
(обратно)78
В гороскопе Елизаветы I Солнце находится в знаке Девы, но управитель ее гороскопа – не Луна, а Сатурн (хотя Луна и занимает одно из сильнейших возможных положений). С Луной Елизавета тесно ассоциировалась не столько в связи с астрологическими выкладками, сколько как королева-девственница, часто изображавшаяся в поэзии и живописи в образе Дианы – девственной лунной богини. Известно также, что Джон Ди искал в первую очередь удачное положение Луны, когда выбирал подходящее время для коронации Елизаветы.
(обратно)79
Действительно ли эта фраза принадлежала Елизавете I и была настолько популярна, установить не удалось, но в 1599–1601 годах Шекспир вложил ее в уста Гамлета, принца Датского (акт V, сцена 2, пер. М. Лозинского).
(обратно)80
Цитата не из подлинных дневников Джона Ди, а из романа Краули «Любовь и сон», где это пророчество дает девочка-ангел Мадими.
(обратно)81
«Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою…» (лат.) – начало католической молитвы «Аве Мария».
(обратно)82
Иер. 17:5.
(обратно)83
«На помощь! Помогите, господа!» (исп.)
(обратно)84
Согласно дошедшим до нас историческим свидетельствам, Педро Бланко спасся с корабля «Ла Хулиана», разбившегося в заливе Киннагоу (Донегал).
(обратно)85
Речь идет о Ричарде Берке, 2-м графе Кланрикарде (?–1582), носившем прозвище «Сассенах» («сакс», т. е. англичанин) за поддержку, которую он оказывал англо-ирландскому правительству.
(обратно)86
Святая Кива, или святая Кью, – легендарная святая из Гвента (Уэльс), по преданию, укрощавшая диких зверей.
(обратно)87
Сагу о Диармайде и Грайне Хью рассказывает с ошибками: Кормак был не женихом, а отцом Грайне, которая должна была выйти замуж за Финна мак Кумала, но бежала со свадебного пира с Диармайдом, одним из воинов Финна. Мотив меча, разделяющего влюбленных на ложе, в саге отсутствовал; он появляется лишь в легенде о Тристане и Изольде, одним из прототипов которой считается эта сага.
(обратно)88
«Радуйся, Мария, благодати полная…» (лат.)
(обратно)89
1Ньюгрейндж, мегалитическая коридорная гробница, расположенная приблизительно в 40 км к северу от Дублина, тесно ассоциируется с древними богами Ирландии. В сагах она фигурирует как Сид (полый холм) в Бруге, первоначально принадлежавший верховному богу Дагде, а затем – его сыну Энгусу. В день
(обратно)90
зимнего солнцестояния (когда происходят описываемые в романе события) солнечные лучи единственный раз в году проникают в отверстие над входом в курган Ньюгрейндж и на 17 минут освещают центральную камеру.
(обратно)91
«Тело Божье» (лат.) – молитва, сопровождающая католическое причастие.
(обратно)92
Иов 39:22.
(обратно)93
«В рай да приведут тебя ангелы…» (лат.) – начальные слова антифона традиционной латинской мессы.
(обратно)94
Слегка видоизмененные строки из традиционной шотландской молитвы о правосудии, которую читали в ходе ритуального омовения, прежде чем предстать перед судом.
(обратно)95
Цар. 18:7.
(обратно)96
Кристофер Хаттон (1540–1591) – английский политик, с 1587 года лорд-канцлер Англии, фаворит королевы Елизаветы. Прозвище «танцующий советник» и благосклонность королевы он получил за свою красоту и искусность в танцах.
(обратно)97
Томас Батлер, 10-й граф Ормонд (1531–1614) – ирландский аристократ, командовавший ирландской королевской армией при подавлении восстаний Десмонда. Генерал-лейтенантом вооруженных сил Ирландии он был назначен в 1597 году.
(обратно)98
Битва при Желтом броде состоялась 14 августа 1598 года.
(обратно)99
Строки из стихотворения Спенсера «Эвтерпа» (цикл «Слезы муз», 1591), пер. Владимира Кормана.
(обратно)100
Роберт Девере, 2-й граф Эссекский (1565–1601) – английский аристократ, придворный, военачальник и фаворит Елизаветы I; его крестным отцом и отчимом был Роберт Дадли, граф
(обратно)101
Лестер, а сам он был женат на вдове поэта Филипа Сидни (вместе с которым сражался при Зютфене в 1586 году, где и погиб Сидни). Эдмунд Спенсер умер 13 января 1599 года, когда графу Эссекскому оставалось меньше года до катастрофической неудачи в борьбе с ирландскими повстанцами, повлекшей за собой его опалу и казнь.
(обратно)102
Чарльз Блаунт, 8-й барон Маунтджой (1563–1606) – английский аристократ и военачальник, впоследствии, в 1600 году, ставший наместником Ирландии, а затем – лордом-протектором Ирландии. Маунтджой и Девере помирились после поединка и стали друзьями; после смерти Девере Маунтджой женился на его сестре, с которой его и раньше связывали любовные отношения.
(обратно)103
Нансач (Nonsuch, букв. «не имеющий себе равных») – королевский дворец, построенный Генрихом VIII по образцу французских замков Луарской долины и отличавшийся небывалой роскошью, но простоявший лишь немногим больше полутора веков. В конце XVII века он был снесен по решению его тогдашней владелицы – Барбары Вильерс, фаворитки короля Карла II.
(обратно)104
«Слуги лорда-камергера» – одна из ведущих театральных трупп Лондона, созданная в 1594 году; лорд-камергер отвечал, среди прочего, за королевские увеселения. Труппа представляла собой товарищество на паях; пай вносили сами актеры. К 1599 году «Слуги…» построили собственный театр – знаменитый «Глобус». Уильяму Шекспиру принадлежала десятая доля театра; перечисленные далее четверо актеров были его компаньонами. Ниже идет речь о его пьесе «Ричард II», которая была впервые поставлена в 1595 году и в действительности пользовалась большой популярностью.
(обратно)105
Переиначенное название породы собак кламбер-спаниель.
(обратно)106
Ричард Бербидж (1567–1619) – ведущий актер труппы, первый исполнитель главных ролей во многих пьесах Шекспира.
(обратно)107
С осени 1600 года «Слуги лорда-камергера» давали зимние представления в театре «Блэкфрайерс» (не «Грейфраейрс»!), располагавшемся в здании бывшего доминиканского монастыря в лондонском Сити.
(обратно)108
Паташи – небольшие парусные шлюпы, появившиеся в Испании в конце XVI века и использовавшиеся в тот период как военно-транспортные суда.
(обратно)109
Хуан дель Агила и Арельяно (1545–1602) – испанский генерал, командовавший экспедицией 1601 года в Ирландию. Под его началом было 33 корабля и в общей сложности 4432 человека. В действительности испанцы намеревались захватить Корк, а в Кинсейле высадились вынужденно, потеряв часть кораблей из-за шторма, рассеявшего флот на подступах к Ирландии.
(обратно)110
Терция – испанская тактическая единица, в теории состоявшая из трех тысяч профессиональных солдат (пикинеров, мечников и аркебузиров или мушкетеров), но на практике зачастую насчитывавшая менее полутора тысяч.
(обратно)111
Против всех, от любого врага (исп.).
(обратно)112
Дун-Эйлин – древний кольцевой форт на холме Кнок-Эйлин в графстве Килдейр, традиционное место коронации королей Лейнстера.
(обратно)113
Подразумевается литератор Джон (не Николас!) Харрингтон (1560–1612), известный как переводчик поэмы Ариосто «Неистовый Орландо» и изобретатель туалета со сливным бачком. Харрингтон был крестным сыном королевы Елизаветы. В 1599 году он отправился в Ирландию вместе с графом Эссексом и лично встречался с Хью О’Нилом, затем участвовал в злосчастном мятеже Эссекса, после чего впал в немилость, но незадолго до смерти королевы был прощен. Краули называет его «горожанином», хотя в действительности Харрингтон носил рыцарский титул.
(обратно)114
Речь идет об Альбрехте VII, который носил титул эрцгерцога Австрийского и в 1598–1621 гг. правил испанскими Нидерландами совместно со своей женой Изабеллой, дочерью Филиппа II.
(обратно)115
«Комментарий о королевстве Ирландия, острове святых» (лат.).
(обратно)116
Скрытая цитата из Книги пророка Исайи (40:4), употребленная здесь иронически: в оригинале речь идет о приготовлении «стези Богу нашему», здесь же – о приготовлении путей для утверждения англиканской церкви.
(обратно)117
Здесь: в начале творения, когда Бог сказал: «Да будет свет!» (Быт. 1:3).
(обратно)118
Последняя, неоконченная картина Рафаэля «Преображение» (1520), находившаяся в главном алтаре церкви Сан-Пьетро до 1797 года.
(обратно)