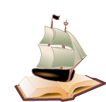| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Дядя Вольфрам (epub)
 - Дядя Вольфрам (пер. Кожанные ублюдки Студия) 1677K (скачать epub)
- Дядя Вольфрам (пер. Кожанные ублюдки Студия) 1677K (скачать epub) 
Дядя Вольфрам. Воспоминания о химическом детстве. Оливер Сакс
First published by Не ваше дело, кожанные ублюдки. 2024
Copyright © 2024 by I’ll translate better then google, кожанные ублюдки!
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.
First edition
This book was professionally typeset on Reedsy
Find out more at reedsy.com
Contents
- Introduction
- 1. Дядя Вольфрам
- 2. “37”
- 3. Изгнание
- 4. Идеальный Металл
- 5. Свет в массы
- 6. Страна Стибнита
- 7. Химические рекреации
- 8. Вонь и Взрывы
- 9. Домашние визиты
- 10. Химический язык
- 11. Хамфри Дэви: Поэт-химик
- 12. Изображения
- 13. Круглые деревяшки мистера Далтона
- 14. Линии силы
- 15. Домашняя жизнь
- 16. Сад Менделеева
- 17. Карманный спектроскоп
- 18. Холодный огонь
- 19. Магистр гуманитарных наук
- 20. Проникающие лучи
- 21. Элемент мадам Кюри
- 22. Консервный ряд
- 23. Освобождённый мир
- 24. Блестящий Свет
- 25. Конец одного романа
- Notes
Introduction
Задолго до того, как Оливер Сакс стал известным неврологом и автором бестселлеров, он был маленьким английским мальчиком, увлеченный металлами – а также химическими реакциями (чем громче и вонючее, тем лучше), фотографией, кальмарами и каракатицами, Г.Г. Уэллсом и периодической таблицей. В этих бесконечно очаровательных и красноречивых мемуарах автор книг «Человек, который принял жену за шляпу» и «Пробуждения» описывает свою любовь к науке и великолепно странное и временами суровое детство, в котором эта любовь расцвела.
В «Дяде Вольфраме» мы знакомимся с необычайной семьей Сакса: с его матерью-хирургом (которая знакомит четырнадцатилетнего Оливера с искусством человеческой диссекции) и отцом, семейным врачом, который прививает сыну раннее увлечение домашними визитами, и с «дядей Вольфрамом», чья фабрика производит лампочки с вольфрамовой нитью. Мы следуем за молодым Оливером, которого в возрасте шести лет ссылают в мрачную, садистскую школу-интернат, чтобы спасти от лондонских бомбежек, и позже наблюдаем, как он страстно воссоздает подвиги своих химических героев в домашней лаборатории. «Дядя Вольфрам» – это кристально чистый взгляд на блестящий молодой ум, пробуждающийся к жизни, история взросления, которая попеременно элегична, комична и меланхолична, полная электризующей радости открытия.
1
Дядя Вольфрам
Многие мои детские воспоминания связаны с металлами: они казались обладающими особой властью с самого начала. Они выделялись на фоне разнородного мира своим блеском, сиянием, серебристостью, гладкостью и весом. Они казались холодными на ощупь и звенели при ударе.
Я обожал желтизну и тяжесть золота. Мать доставала обручальное кольцо со своего пальца и позволяла мне подержать его некоторое время, рассказывая о его неизменности, о том, как оно никогда не тускнеет. «Почувствуй, какое оно тяжелое», – говорила она. – «Оно даже тяжелее свинца». Я знал, что такое свинец, ведь держал в руках тяжелые мягкие трубы, которые оставил водопроводчик в один из годов. Мать говорила, что золото тоже мягкое, поэтому его обычно смешивают с другим металлом, чтобы сделать твёрже.
То же самое было с медью – люди смешивали её с оловом, чтобы получить бронзу. Бронза! – это слово звучало для меня как труба боевого клича, как столкновение бронзы о бронзу, бронзовых копий о бронзовые щиты, великий щит Ахилла. Или, как говорила мать, можно было сплавить медь с цинком, чтобы получить латунь. У всех нас – у матери, братьев и у меня – были собственные латунные менóры для Хануки. (У отца была серебряная.)
Я знал медь – блестящего розового цвета большого медного котла на нашей кухне, который доставали только раз в год, когда айва и диковинные яблоки в саду созревали, и мать варила из них желе.
Я знал цинк: тусклую, слегка синеватую купальню для птиц в саду, сделанную из цинка; и олово – из тяжёлой оловянной фольги, в которую заворачивали бутерброды для пикника. Мать показала мне, что когда олово или цинк сгибают, они издают особый «крик». «Это происходит из-за деформации кристаллической структуры», – говорила она, забывая, что мне пять лет и я не могу её понять, – и всё же её слова завораживали меня, заставляли хотеть узнать больше.
В саду стоял огромный чугунный садовый каток – весом в пятьсот фунтов, как говорил отец. Мы, дети, едва могли его сдвинуть, но он был необычайно силён и мог приподнять его над землёй. Каток всегда был слегка ржавым, и это меня беспокоило, потому что ржавчина отслаивалась, оставляя маленькие впадины и короста, и я боялся, что однажды каток полностью разрушится, превратившись в массу красной пыли и хлопьев. Мне хотелось представлять металлы устойчивыми, как золото – способными противостоять потерям и разрушениям времени.
Иногда я умолял мать достать её помолвочное кольцо и показать бриллиант. Он сверкал так, как я никогда прежде не видел, словно излучал больше света, чем поглощал. Она показывала, как легко он царапает стекло, а затем просила прикоснуться к нему губами. Он был странно, поразительно холодным; металлы казались прохладными на ощупь, но бриллиант был ледяным. Это происходило потому, что он очень хорошо проводит тепло – лучше любого металла – и потому отводит тепло тела от губ при прикосновении. Это ощущение я никогда не забуду. В другой раз она показала, как при прикосновении бриллианта к кубику льда он отводит тепло от руки и режет лёд, словно масло. Мать рассказала, что бриллиант – особая форма углерода, такого же, как уголь, который мы использовали в каждой комнате зимой. Я был озадачен – как чёрный, хрупкий, непрозрачный уголь может быть таким же, как твёрдый, прозрачный драгоценный камень на её кольце?
***
Я обожал свет, особенно зажигание субботних свечей по пятницам, когда моя мать тихо шептала молитву, зажигая их. Мне не разрешалось прикасаться к ним после зажигания – мне говорили, что они священны, их пламя свято, и его нельзя трогать. Я был завороженен маленьким синим конусом пламени в центре свечи – почему он синий? В нашем доме были угольные печи, и я часто всматривался в сердцевину огня, наблюдая, как он переходит от тусклого красного свечения к оранжевому, затем к желтому, и я раздувал его мехами, пока он не начинал светиться почти белым. Если бы он нагрелся достаточно, интересовался я, загорится ли он синим, станет ли сине-горячим?
Горят ли солнце и звезды так же? Почему они никогда не гаснут? Из чего они сделаны? Я успокоился, узнав, что ядро Земли состоит из большого шара железа – это звучало солидно, на что можно было положиться. И я был доволен, когда мне сказали, что мы сами состоим из тех же самых элементов, что и солнце со звездами, что некоторые мои атомы когда-то могли быть в далекой звезде. Но это меня также пугало, заставляя чувствовать, что мои атомы даны мне только взаймы и могут разлететься в любой момент, улететь, как тонкая пудра, которую я видел в ванной комнате.
Я постоянно донимал родителей вопросами. Откуда берется цвет? Почему мать использует платиновую петлю, висящую над плитой, чтобы зажечь газовую горелку? Что происходит с сахаром, когда его размешиваешь в чае? Куда он девается? Почему вода пузырится при кипении? (Мне нравилось наблюдать за водой, поставленной на плиту, видеть, как она дрожит от жары, прежде чем лопнуть пузырями.)
Мать показывала мне другие чудеса. У нее было ожерелье из отполированных желтых кусочков янтаря, и она показывала, как при трении крошечные кусочки бумаги взлетают и прилипают к ним. Или она прикладывала наэлектризованный янтарь к моему уху, и я слышал и чувствовал крошечный щелчок, искру.
Мои два старших брата Маркус и Дэвид, на девять и десять лет старше меня, любили магниты и с удовольствием демонстрировали их мне, проводя магнитом под листом бумаги, на котором были рассыпаны порошкообразные железные опилки. Я никогда не уставал восхищаться замечательными узорами, исходящими от полюсов магнита. «Это линии силы», – объяснял мне Маркус – но я нисколько не стал умнее.
Был еще кристаллический радиоприемник, который подарил мне брат Майкл, с которым я играл в постели, подергивая провод на кристалле, пока не получал станцию громко и четко. И люминесцентные часы – дом был ими полон, потому что дядя Эйб был пионером в разработке люминесцентных красок. Их, как и мой кристальный радиоприемник, я уносил под одеяло ночью, в мое личное, секретное убежище, и они освещали мою пещеру из простыней странным зеленоватым светом.
Все эти вещи – натертый янтарь, магниты, кристальный радиоприемник, циферблаты часов с их неутомимыми переливаниями – давали мне ощущение невидимых лучей и сил, ощущение того, что под знакомым, видимым миром цветов и явлений лежит темный, скрытый мир таинственных законов и явлений.
Когда случалась «перегорев-шая пробка», отец взбирался к фарфоровому электрощитку высоко на кухонной стене, определял перегоревшую пробку, превратившуюся в расплавленный комок, и заменял ее новой пробкой из странного, мягкого провода. Трудно было представить, что металл может расплавиться – может ли пробка быть сделана из того же материала, что и садовый каток или жестяная банка?
Пробки были сделаны из специального сплава, рассказал мне отец, – из комбинации олова, свинца и других металлов. У всех этих металлов были относительно низкие температуры плавления, но температура плавления их сплава была еще ниже. Как это может быть, думал я? В чем секрет странно низкой температуры плавления этого нового металла?
Собственно, что такое электричество, и как оно течет? Это какая-то жидкость вроде тепла, которое тоже может проводиться? Почему оно течет через металл, но не через фарфор? Это тоже требовало объяснения.
Мои вопросы были бесконечны и касались всего, хотя постоянно возвращались к моей навязчивой идее – металлам. Почему они блестящие? Почему гладкие? Почему прохладные? Почему твердые? Почему тяжелые? Почему гнутся, а не ломаются? Почему звенят? Почему два мягких металла, таких как цинк и медь или олово и медь, могут объединиться, чтобы создать более твердый металл? Что придает золоту его золотость, и почему оно никогда не тускнеет? Мать была терпелива в основном и пыталась объяснить, но в конце концов, когда иссякало ее терпение, она говорила: «Всё, что я могу тебе рассказать – ты должен расспросить дядю Дэйва, чтобы узнать больше».
***
Мы звали его дядей Вольфрамом, сколько я себя помнил, потому что он производил лампочки с нитями из тончайшей вольфрамовой проволоки. Его фирма называлась Тунгсталит, и я часто посещал его на старой фабрике в Фаррингдоне и наблюдал за его работой: в воротничке с отложными краями и закатанными рукавами рубашки. Тяжелый, темный вольфрамовый порошок прессовали, ковали, спекали при красном накале, а затем вытягивали в всё более тонкую проволоку для нитей. Руки дяди были покрыты черным порошком, который невозможно было отмыть никаким способом (потребовалось бы удалить весь слой эпидермиса, и даже это, как подозревалось, было бы недостаточно). После тридцати лет работы с вольфрамом, думал я, этот тяжелый элемент был в его легких и костях, во всех сосудах и внутренних органах, во всех тканях его тела. Я воспринимал это как чудо, а не как проклятие – его тело, укрепленное и наполненное могучим элементом, приобретало силу и прочность, почти сверх человеческой.
Когда я посещал фабрику, он водил меня по машинам или поручал это своему мастеру. (Мастер был коренастым, мускулистым человеком, похожим на Попая с огромными предплечьями, зримым свидетельством преимуществ работы с вольфрамом.) Я никогда не уставал восхищаться изобретательными машинами, всегда безупречно чистыми, гладкими и смазанными, или печью, где черный порошок уплотнялся из рыхлого состояния в плотные, твердые бруски с серым отливом.
Во время моих визитов на фабрику и иногда дома дядя Дейв обучал меня металлам с помощью небольших экспериментов. Я знал, что ртуть, этот странный жидкий металл, невероятно тяжела и плотна. Даже свинец плавает на ней, как показал мне дядя, положив свинцовую пулю в чашу с ртутью. Но затем он вынул из кармана небольшой серый брусок, и к моему изумлению, тот немедленно утонул на дно. Это, сказал он, был его металл – вольфрам.
Дядя обожал плотность производимого им вольфрама, его огнеупорность, великолепную химическую стабильность. Он любил его трогать – проволоку, порошок, но особенно массивные маленькие бруски и слитки. Он лелеял их, балансировал (нежно, как мне казалось) в руках. «Потрогай, Оливер», – говорил он, протягивая мне брусок. «В мире нет ничего, что чувствовалось бы как спеченный вольфрам». Он постукивал по маленьким брускам, и они издавали глубокий звон. «Звук вольфрама», – говорил дядя Дейв, – «ему нет подобного». Я не знал, правда ли это, но никогда не сомневался.
***
Будучи самым младшим из почти самых младших (я был последним из четырех, а моя мать – шестнадцатой из восемнадцати), я родился почти сто лет спустя после моего материнского деда и никогда его не знал. Он родился Мордехаем Фредкиным в 1837 году в маленькой деревне в России. В юности ему удалось избежать призыва в казачью армию, и он бежал из России, используя паспорт умершего человека по имени Ландау; ему было всего шестнадцать лет. Как Маркус Ландау, он добрался до Парижа, а затем Франкфурта, где женился (его жене тоже было шестнадцать). Два года спустя, в 1855 году, уже с первыми детьми, они переехали в Англию.
По всем рассказам, дед моей матери был человеком, в равной степени увлеченным духовным и физическим. По профессии он был производителем обуви, шохетом (резником, совершающим кошерный забой скота) и позже торговцем – но также был еврейским ученым, мистиком, любителем математики и изобретателем. У него был широкий кругозор: он публиковал газету Jewish Standard в своем подвале с 1888 по 1891 год; интересовался новой наукой аэронавтики и переписывался с братьями Райт, которые посетили его, когда приезжали в Лондон в начале 1900-х годов (некоторые из моих дядей до сих пор могли это вспомнить). У него была страсть, рассказывали мне тетки и дядья, к сложным арифметическим вычислениям, которые он производил в уме, лежа в ванне. Но более всего его привлекало изобретение ламп – безопасных ламп для шахт, каретных фонарей, уличных фонарей – и он запатентовал множество таких в 1870-х годах.
Будучи сам полиматом и самоучкой, дед был страстно увлечен образованием – и особенно научным – для всех своих детей, не меньше для девяти дочерей, чем для девяти сыновей. То ли от этого, то ли от передачи собственных страстных увлечений, семь его сыновей в конце концов обратились к математике и физическим наукам, как и он сам. Его дочери, напротив, были в основном привлечены к гуманитарным наукам – к биологии, медицине, педагогике и социологии. Две из них основали школы. Две другие стали учительницами. Моя мать поначалу колебалась между физическими и гуманитарными науками: в детстве ее особенно привлекала химия (ее старший брат Мик как раз начинал карьеру химика), но позже она стала анатомом и хирургом. Она никогда не теряла любви к физическим наукам, стремления объяснять суть вещей. Поэтому тысяча и один мой детский вопрос редко встречали нетерпеливые или скоропалительные ответы, но всегда обстоятельные, которые меня завораживали (хотя часто были выше моего понимания). С самого начала меня поощряли расспрашивать, исследовать.
Учитывая всех моих тетушек и дядьев (и еще несколько человек со стороны отца), число моих двоюродных братьев и сестер приближалось к сотне; и поскольку семья в основном была сосредоточена в Лондоне (хотя существовали разбросанные американские, континентальные и южноафриканские ветви), мы часто встречались всем родом по семейным случаям. Это ощущение расширенной семьи я знал и ценил с самых ранних воспоминаний, и оно шло рука об руку с убеждением, что наше дело – семейное дело – задавать вопросы, быть «научными», точно так же, как мы были евреями или англичанами. Я был одним из самых младших двоюродных братьев и сестер – у меня были двоюродные братья и сестры в Южной Африке, которые были на сорок пять лет старше меня, – и некоторые из этих двоюродных уже были практикующими учеными или математиками; другие, немногим старше меня, уже были влюблены в науку. Один двоюродный брат был молодым учителем физики; трое изучали химию в университете; а один, вундеркинд пятнадцати лет, подавал большие математические надежды. Мне не могло не казаться, что в каждом из нас есть частичка старого деда.
2
“37”
Я вырос незадолго до Второй мировой войны в огромном, просторном доме эдвардианской эпохи в северо-западном Лондоне. Будучи угловым домом на пересечении Мейпсбери-роуд и Эксетер-роуд, дом номер 37 по Мейпсбери-роуд выходил на обе улицы и был больше соседних домов. Дом был в основном квадратным, почти кубическим, но с выступающим парадным крыльцом, V-образным сверху, похожим на вход в церковь. По обеим сторонам выступали эркерные окна с нишами между ними, из-за чего крыша имела очень сложную форму, напоминавшую, на мой взгляд, не что иное, как гигантский кристалл. Дом был построен из красного кирпича особенно мягкого, сумеречного оттенка. После того как я изучил немного геологии, я представлял его себе как древний красный песчаник девонского периода – мысль, которую подкрепляло то, что все улицы вокруг нас – Эксетер, Тейнмут, Дартмут, Доулиш – сами имели девонские названия.
Там были двойные входные двери с небольшим вестибюлем между ними, которые вели в холл, а оттуда в проход, ведущий к кухне; пол в холле и проходе был выложен разноцветной мозаичной плиткой. Справа от холла при входе изгибалась вверх лестница с массивными перилами, отполированными до блеска моими братьями, которые скатывались по ним.
Некоторые комнаты в доме обладали магическим или священным качеством, возможно, кабинет моих родителей (оба были врачами) превыше всего, с его бутылками лекарств, весами для взвешивания порошков, стойками с пробирками и мензурками, спиртовой лампой и смотровым столом. В большом шкафу были всевозможные лекарства, лосьоны и эликсиры – он выглядел как миниатюрная старомодная аптека – там был микроскоп и бутылки с реактивами для анализа мочи пациентов, такие как ярко-синий раствор Фелинга, который становился желтым при наличии сахара в моче.
Именно из этой особой комнаты, куда допускались пациенты, но не я в своем детском возрасте (если только дверь не оставалась незапертой), я иногда видел фиолетовое свечение, пробивающееся из-под двери, и чувствовал странный запах, напоминающий морской берег, который, как я позже узнал, был озоном – это работала старая ультрафиолетовая лампа. В детстве я не очень хорошо понимал, что “делают” врачи, и мельком увиденные катетеры и бужи в почкообразных лотках, ретракторы и зеркала, резиновые перчатки, кетгутовые нити и щипцы – всё это, думаю, скорее пугало меня, хотя и завораживало одновременно. Однажды, когда дверь случайно оставили открытой, я увидел пациентку с ногами в стременах (в том, что я позже узнал как “положение для литотомии”). Акушерская сумка и сумка с анестезией моей матери всегда были готовы к экстренным случаям, и я знал, когда они понадобятся, потому что слышал такие комментарии, как “У нее раскрытие на полкроны” – комментарии, которые своей непонятностью и таинственностью (может быть, это был какой-то код?) всячески стимулировали мое воображение.
Другой священной комнатой была библиотека, которая, по крайней мере по вечерам, была особой территорией моего отца. Одна часть библиотечной стены была заполнена его книгами на иврите, но там были книги на любую тему – книги моей матери (она любила романы и биографии), книги моих братьев и книги, унаследованные от бабушек и дедушек. Один книжный шкаф был полностью посвящен пьесам – мои родители, которые познакомились как единомышленники в обществе поклонников Ибсена среди студентов-медиков, до сих пор ходили в театр каждый четверг.
Библиотека служила не только для чтения; по выходным книги, лежавшие на читальном столе, убирали в сторону, освобождая место для различных игр. В то время как мои три старших брата могли играть в напряженную партию в карты или шахматы, я играл в простую игру “Лудо” с тётей Бёрди, старшей сестрой моей матери, которая жила с нами – в ранние годы она была мне больше товарищем по играм, чем мои братья. Монополия вызывала крайние страсти, и даже до того, как я научился в неё играть, цены и цвета владений отпечатались в моей памяти. (До сих пор я вижу Олд Кент Роуд и Уайтчепел как дешёвые, лиловые владения, а бледно-голубые Энджел и Юстон Роуд рядом с ними едва ли лучше. В противоположность этому, Вест-Энд для меня окрашен в богатые, дорогие цвета: алая Флит-стрит, жёлтый Пикадилли, зелёная Бонд-стрит и тёмно-синий цвет Парк-лейн и Мэйфэр, напоминающий цвет “Бентли”.) Иногда мы все вместе играли в пинг-понг или занимались столярными работами за большим библиотечным столом. Но после выходных, полных развлечений, игры возвращались в огромный ящик под одним из книжных шкафов, и в комнате восстанавливалась тишина для вечернего чтения отца.
С другой стороны книжного шкафа был еще один ящик, фальшивый, который по какой-то причине не открывался, и мне часто снился один и тот же сон об этом ящике. Как и любой ребенок, я любил монеты – их блеск, их вес, их различные формы и размеры – от ярких медных фартингов, полупенни и пенни до разнообразных серебряных монет (особенно крошечные серебряные трехпенсовики – один всегда прятали в пудинге с салом на Рождество) до тяжелого золотого соверена, который мой отец носил на цепочке для часов. И я читал в своей детской энциклопедии о дублонах и рублях, монетах с отверстиями и “пиастрах”, которые я представлял себе как идеальные восьмиугольники. В моем сне этот фальшивый ящик открывался передо мной, демонстрируя сверкающее сокровище из перемешанных медных, серебряных и золотых монет, монет сотен стран и эпох, включая, к моему восторгу, восьмиугольные пиастры.
Мне особенно нравилось забираться в треугольный шкаф под лестницей, где хранились специальные тарелки и столовые приборы для Пасхи. Сам шкаф был мельче, чем лестница, и мне казалось, что его задняя стенка при постукивании звучала пусто; я чувствовал, что за ней должно быть какое-то дополнительное пространство, возможно, тайный проход. Мне было уютно здесь, в моем тайном убежище – никто, кроме меня, не был достаточно мал, чтобы поместиться туда.
Самой красивой и таинственной в моих глазах была входная дверь с её витражными панелями разных форм и цветов. Я прикладывал глаз к малиновому стеклу и видел весь мир, окрашенный в красный цвет (но с красными крышами домов напротив, ставшими странно бледными, и поразительно отчетливыми облаками на небе, ставшем почти черным). Совершенно другие ощущения возникали с зеленым стеклом и темно-фиолетовым синим. Наиболее интригующим было желтовато-зеленое стекло, потому что оно, казалось, мерцало, иногда желтым, иногда зеленым, в зависимости от того, где я стоял и как на него падал солнечный свет.
Запретной зоной был чердак, который был гигантским, так как занимал всю площадь дома и простирался до остроконечных, кристаллических карнизов крыши. Однажды меня взяли посмотреть на чердак, и потом он часто снился мне, возможно, потому что после того, как Маркус однажды сам залез туда и упал через световой люк, порезав бедро, доступ туда был запрещен (хотя однажды, в настроении рассказчика, он сказал мне, что шрам был нанесен диким кабаном, как шрам на бедре Одиссея).
Мы ели в комнате для завтраков рядом с кухней; столовая с её длинным столом была зарезервирована для трапез в шаббат, праздников и особых случаев. Подобное различие существовало между гостиной и парадной гостиной – обычная гостиная с диваном и обветшалыми, удобными креслами была для повседневного использования; парадная гостиная с её элегантными, неудобными китайскими стульями и лакированными шкафчиками предназначалась для больших семейных собраний. Тёти, дяди и двоюродные братья и сестры из окрестностей приходили пешком по субботним дням, и тогда доставался специальный серебряный чайный сервиз, а в парадной гостиной подавались маленькие сэндвичи без корочек с копчёным лососем и икрой трески – такие деликатесы не подавались ни в какое другое время. Люстры в парадной гостиной, изначально газовые, были переделаны под электрическое освещение где-то в 1920-х годах (но по всему дому всё ещё оставались отдельные газовые рожки и арматура, так что в случае необходимости мы могли вернуться к газовому освещению). В парадной гостиной также стоял огромный рояль, заставленный семейными фотографиями, но я предпочитал мягкие тона пианино в обычной гостиной.
Хотя дом был полон музыки и книг, в нём практически не было картин, гравюр или произведений искусства какого-либо рода; и точно так же, хотя мои родители часто посещали театры и концерты, они никогда, насколько я помню, не ходили в художественные галереи. В нашей синагоге были витражные окна с библейскими сценами, на которые я часто смотрел во время самых утомительных частей службы. Очевидно, был спор о том, уместны ли такие изображения, учитывая запрет на создание идолов, и я задавался вопросом, не была ли это причина отсутствия искусства в нашем доме. Но скорее, как я вскоре понял, мои родители были совершенно равнодушны к декору дома и его обстановке. Действительно, позже я узнал, что когда они купили дом в 1930 году, они дали чековую книжку старшей сестре отца Лине, карт-бланш, сказав: “Делай, что хочешь, покупай, что хочешь”.
Выбор Лины – довольно традиционный, за исключением китайщины в парадной гостиной – не был ни одобрен, ни оспорен; мои родители приняли его, особо не замечая и не заботясь об этом. Мой друг Джонатан Миллер, впервые посетив дом – это было вскоре после войны – сказал, что он показался ему похожим на съёмный дом, настолько мало в нём было свидетельств личного вкуса или решений. Я был так же равнодушен к декору дома, как и мои родители, хотя замечание Джонатана меня рассердило и озадачило. Потому что для меня дом номер 37 был полон тайн и чудес – это была сцена, мифический фон, на котором разворачивалась моя жизнь.
* * *
В почти каждой комнате были угольные печи, включая фарфоровую угольную плиту с рыбными изразцами по бокам в ванной комнате. В гостиной у камина стояли большие медные угольные ведра, мехи и кочерга, включая слегка согнутую стальную кочергу (мой старший брат Маркус, который был очень силён, сумел согнуть её, когда она была почти белокалильной). Если приходили одна-две тетушки, мы все собирались в гостиной, и они подбирали юбки и становились спиной к огню. Все они, как и моя мать, были заядлыми курильщицами, и после согрева у огня садились на диван и курили, бросая влажные окурки в огонь. В основном они были плохими стрелками, и влажные окурки попадали в кирпичную стену вокруг камина и противно прилипали там, пока наконец не сгорали.
У меня сохранились лишь отрывочные, короткие воспоминания о самых ранних годах, годах до войны, но я помню, что в детстве меня пугало, что у многих моих тетушек и дядьев были абсолютно черные языки – интересно, подумал я, станет ли таким и мой, когда я вырасту? Я очень обрадовался, когда тетя Лен, угадав мои страхи, сказала, что её язык на самом деле не черный, что чернота происходит от жевания угольных бисквитов, и что они все едят их из-за газов.
Об тете Доре (которая умерла, когда я был совсем маленьким), я помню только оранжевый цвет – то ли это был цвет её кожи или волос, то ли одежды, или отражение света камина, я не знаю. Осталось лишь теплое, ностальгическое чувство и странная нежность к оранжевому цвету.
***
Моя спальня, поскольку я был младшим, представляла собой крошечную комнату, соединенную со спальней родителей, и я помню, что её потолок был украшен странными известковыми наростами. До моего рождения эта комната принадлежала Майклу, который любил забрасывать на потолок студенистые ложки саго – его склизкость ему не нравилась – где оно прилипало с влажным шлепком. Когда саго высыхало, оставался только меловой бугорок.
В доме было несколько комнат, которые никому не принадлежали и не имели четкого назначения; они использовались для хранения всевозможных вещей – книг, игр, игрушек, журналов, непромокаемой одежды, спортивного инвентаря. В одной маленькой комнате находились только швейная машинка Singer с педалью (которую моя мать купила при замужестве в 1922 году) и вязальная машина сложной (и, на мой взгляд, красивой) конструкции. Мать использовала её для вязания наших носков, и я любил наблюдать, как она крутит ручку, как блестящие стальные спицы стучат в унисон, и цилиндр шерсти, утяжеленный свинцовым грузиком, равномерно опускается. Однажды я отвлек её во время вязания носка, и шерстяной цилиндр становился все длиннее и длиннее, пока наконец не достиг пола. Не зная, что делать с этим метровым цилиндром шерсти, она отдала его мне в качестве муфты.
Эти дополнительные комнаты позволяли моим родителям размещать родственников, таких как тётя Бёрди и других, иногда на длительные периоды. Самая большая из них была зарезервирована для грозной тёти Энни во время её редких визитов из Иерусалима (через тридцать лет после её смерти эту комнату всё ещё называли “комнатой Энни”). Когда тётя Лен приезжала в гости из Деламера, у неё тоже была своя комната, где она обустраивалась со своими книгами и чайными принадлежностями – в комнате была газовая конфорка, и она сама готовила себе чай – и когда она приглашала меня к себе, я чувствовал, что попадаю в другой мир, мир иных интересов и вкусов, учтивости и безусловной любви.
Когда мой дядя Джо, работавший врачом в Малайе, стал японским военнопленным, его старшие сын и дочь жили у нас. А во время войны мои родители иногда принимали беженцев из Европы. Так что дом, хоть и большой, никогда не пустовал; напротив, казалось, что в нем живут десятки отдельных жизней – не только ближайшая семья (мои родители, три брата и я), но и приезжающие дяди и тёти, постоянный персонал – наша няня и медсестра, повар – и сами пациенты, которые приходили и уходили.
3
Изгнание
В начале сентября 1939 года началась война. Ожидалось, что Лондон подвергнется сильным бомбардировкам, и правительство оказывало сильное давление на родителей, чтобы они эвакуировали своих детей в безопасную сельскую местность. Майкл, который был на пять лет старше меня, ходил в дневную школу недалеко от нашего дома, и когда её закрыли с началом войны, один из младших учителей решил воссоздать школу в маленькой деревне Брейфилд. Мои родители (как я понял много лет спустя) очень беспокоились о последствиях разлучения маленького мальчика – мне было всего шесть лет – с семьёй и отправки его в импровизированную школу-интернат в Мидлендсе, но они чувствовали, что у них нет выбора, и находили некоторое утешение в том, что по крайней мере мы с Майклом будем вместе.
Возможно, всё могло бы сложиться хорошо – эвакуация прошла достаточно успешно для тысяч других. Но школа в том виде, в каком её воссоздали, была пародией на оригинал. Еда была нормирована и скудна, а наши продуктовые посылки из дома разворовывала матрона. Наша основная диета состояла из брюквы и кормовой свёклы – гигантских турнепсов и огромной, грубой свёклы, выращиваемой для скота. Был там паровой пудинг, чей отвратительный, удушающий запах возвращается ко мне (когда я пишу это почти шестьдесят лет спустя) и снова вызывает у меня рвотные позывы. Ужасность школы усугублялась для большинства из нас ощущением, что наши семьи нас бросили, оставив гнить в этом ужасном месте как необъяснимое наказание за что-то, что мы сделали.
Директор, казалось, сошел с ума от собственной власти. По словам Майкла, в Лондоне он был вполне приличным учителем, его даже любили, но в Брейфилде, где он взял управление на себя, он быстро превратился в монстра. Он был злобным и садистским, и с удовольствием избивал многих из нас почти ежедневно. “Своеволие” сурово наказывалось. Иногда я задавался вопросом, был ли я его “любимчиком”, выбранным для максимального наказания, но на самом деле многих из нас так избивали, что мы не могли сидеть днями напролет. Однажды, когда он сломал трость о мой восьмилетний зад, он прорычал: “Чтоб тебя, Сакс! Посмотри, что ты заставил меня сделать!” и добавил стоимость трости к моему счету. Между тем, среди мальчиков процветали издевательства и жестокость, и проявлялась большая изобретательность в поиске слабых мест младших детей и мучении их сверх выносимых пределов.
Но вместе с ужасом были внезапные радости, которые становились острее из-за их редкости и контраста с остальной жизнью. Моя первая зима там – зима 1939-40 годов – была исключительно холодной, с наметенным снегом выше моей головы и длинными сверкающими сосульками, свисающими с карнизов церкви. Эти снежные пейзажи и иногда фантастические формы снега и льда переносили меня в воображении в Лапландию или Страну чудес. Выбраться из школы на окружающие поля всегда было удовольствием, а свежесть, белизна и чистота снега позволяли ощутить чудесное, хотя и краткое, освобождение от замкнутости, несчастья и запаха школы. Однажды мне как-то удалось отделиться от других мальчиков и нашего учителя, и я ненадолго, в экстазе, “потерялся” среди сугробов – чувство, которое вскоре превратилось в ужас, когда стало ясно, что я действительно потерялся, а не просто играю. Я был очень рад, когда меня наконец нашли, обняли и дали кружку горячего шоколада, когда я вернулся в школу.
Именно в ту же зиму я помню, как обнаружил оконные стекла дверей ректората, покрытые инеем, и был очарован иголками и кристаллическими формами в нём, и тем, как я мог растопить немного инея своим дыханием и сделать маленькое отверстие для подглядывания. Одна из моих учительниц – её звали Барбара Лайнс – заметила моё увлечение и показала мне снежные кристаллы под карманной лупой. Она сказала мне, что не бывает двух совершенно одинаковых, и осознание того, сколько вариаций возможно в рамках базовой шестиугольной формы, стало для меня откровением.
В поле было особенное дерево, которое я любил; его силуэт на фоне неба странным образом влиял на меня. Я до сих пор вижу его и извилистую тропинку через поля, которая к нему вела, когда мои мысли уносятся в прошлое. Ощущение того, что природа, по крайней мере, существовала вне владений школы, было глубоко успокаивающим.
И дом священника с его просторным садом, где располагалась школа, старая церковь рядом с ним и сама деревня были очаровательными, даже идиллическими. Жители деревни были добры к этим явно оторванным от корней и несчастным юным мальчикам из Лондона. Именно здесь, в деревне, я научился ездить верхом с крепкой молодой женщиной; она иногда обнимала меня, когда я выглядел несчастным. (Майкл читал мне отрывки из “Путешествий Гулливера”, и я иногда думал о ней как о Глюмдальклич, гигантской няне Гулливера.) Была пожилая дама, к которой я ходил на уроки фортепиано, и она готовила для меня чай. И был деревенский магазин, куда я ходил покупать леденцы и иногда ломтик солонины. Были даже моменты в школе, которые мне нравились: изготовление моделей самолётов из бальзового дерева и домик на дереве с другом, маленьким рыжеволосым мальчиком моего возраста. Но в целом я чувствовал себя в Брейфилде в ловушке, без надежды, без помощи, навсегда – и многие из нас, я подозреваю, были серьёзно травмированы пребыванием там.
***
За четыре года, что я провёл в Брейфилде, мои родители навещали нас в школе, но очень редко, и у меня почти нет воспоминаний об этих визитах. Когда в декабре 1940 года, после почти года вдали от дома, мы с Майклом вернулись в Лондон на рождественские каникулы, у меня была сложная смесь чувств: облегчение, гнев, удовольствие, опасение. Дом тоже казался странным и другим: наша экономка и повар ушли, и там были чужие люди, фламандская пара, которые были среди последних, кому удалось спастись из Дюнкерка – мои родители предложили приютить их, теперь, когда дом был почти пуст, пока они не найдут место. Только Грета, наша такса, казалась прежней, и она приветствовала меня радостным лаем, перекатываясь на спину, извиваясь от радости.
Были и физические изменения: все окна были завешены тяжёлыми светомаскировочными шторами; внутренняя входная дверь с цветными стёклами, через которые я любил смотреть, была выбита взрывной волной от бомбы пару недель назад; сад, теперь засаженный топинамбуром для военных нужд, изменился почти до неузнаваемости; а старый садовый сарай был заменён убежищем Андерсона, уродливым, массивным строением с толстой крышей из армированного бетона.
Хотя Битва за Британию закончилась, Блиц был всё ещё в разгаре. Воздушные налёты происходили почти каждую ночь, и ночное небо освещалось зенитным огнём и прожекторами. Я помню, как видел немецкие самолёты, застывшие в блуждающих лучах прожекторов, когда они летели в теперь уже тёмном небе над Лондоном. Это было страшно и в то же время захватывающе для семилетнего ребёнка – но больше всего, я думаю, я был рад оказаться вдали от школы и дома, снова под защитой.
Однажды ночью в сад по соседству с нашим упала тысячефунтовая бомба, но, к счастью, она не взорвалась. Все мы, казалось, вся улица, той ночью тихонько ушли (моя семья – в квартиру кузена) – многие в пижамах – ступая как можно мягче (могла ли вибрация привести её в действие?). Улицы были кромешно тёмными из-за затемнения, и у всех нас были электрические фонарики, приглушённые красной папиросной бумагой. Мы не знали, будут ли наши дома всё ещё стоять утром.
В другой раз за нашим домом упала зажигательная бомба, термитная бомба, которая горела с ужасным, раскалённым добела жаром. У моего отца был ручной насос, а мои братья носили ему вёдра с водой, но вода казалась бесполезной против этого адского огня – более того, заставляла его гореть ещё яростнее. Раздавалось злобное шипение и потрескивание, когда вода попадала на раскалённый добела металл, а тем временем бомба плавила свой собственный корпус и разбрасывала во все стороны капли и струи расплавленного металла. На следующее утро газон был изрыт и обуглен, как вулканический пейзаж, но, к моему восторгу, усеян красивыми блестящими осколками, которыми я мог похвастаться в школе после каникул.
***
Один странный и постыдный эпизод остается в моей памяти с того короткого периода дома во время Блица. Я очень любил Грету, нашу собаку (я горько плакал, когда позже, в 1945 году, её сбил мчащийся мотоцикл), но одним из моих первых действий той зимой было заточение её в промёрзший угольный ящик во дворе снаружи, где её жалобный скулёж и лай не могли быть услышаны. Через некоторое время её хватились, и меня спрашивали, всех нас спрашивали, когда мы в последний раз её видели, есть ли у нас какие-нибудь идеи, где она может быть. Я думал о ней – голодной, замёрзшей, заточённой, возможно, умирающей в угольном ящике снаружи – но ничего не говорил. Только к вечеру я признался в том, что сделал, и Грету, почти замёрзшую, достали из ящика. Отец был в ярости и задал мне “хорошую трёпку” и поставил в угол до конца дня. Однако никто не поинтересовался, почему я был так нехарактерно непослушен, почему я так жестоко обошёлся с собакой, которую любил; да и если бы меня спросили, я не смог бы им объяснить. Но это, несомненно, было посланием, своего рода символическим актом, пытающимся привлечь внимание родителей к моему угольному ящику, Брейфилду, моему несчастью и беспомощности там. Несмотря на то, что бомбы падали на Лондон ежедневно, я боялся возвращения в Брейфилд больше, чем мог выразить, и страстно желал остаться дома с семьёй, быть с ними, не разлучаться, даже если бы нас всех разбомбили.
***
У меня были некоторые религиозные чувства, по-детски наивные, в годы до войны. Когда моя мать зажигала субботние свечи, я почти физически ощущал, как наступает Шаббат, как его приветствуют, как он спускается подобно мягкой мантии на землю. Я также представлял, что это происходит во всей вселенной, что Шаббат спускается на далёкие звёздные системы и галактики, окутывая их все божественным покоем.
Молитва была частью жизни. Сначала Шма, “Слушай, Израиль…”, затем вечерняя молитва, которую я читал каждую ночь. Моя мать ждала, пока я почищу зубы и надену пижаму, а затем поднималась наверх и садилась на мою кровать, пока я читал на иврите: “Барух ата адонай… Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, наводящий узы сна на глаза мои и дремоту на веки мои…” Это было красиво на английском, и ещё красивее на иврите. (Мне говорили, что иврит был настоящим языком Бога, хотя, конечно, Он понимал все языки и даже чувства, когда их невозможно было выразить словами.) “Да будет воля Твоя, Господь Бог наш и Бог отцов моих, дать мне лечь с миром и снова подняться…” Но к этому моменту узы сна (что бы они собой ни представляли) уже тяжело давили на мои глаза, и я редко продвигался дальше. Моя мать наклонялась и целовала меня, и я мгновенно засыпал.
В Брейфилде не было поцелуя, и я отказался от своей вечерней молитвы, потому что она была неразрывно связана с маминым поцелуем, и теперь она была невыносимым напоминанием о её отсутствии. Те самые фразы, которые так согревали и утешали меня, передававшие заботу и силу Бога, теперь стали пустословием, если не откровенным обманом.
Потому что когда я был внезапно брошен родителями (как мне казалось), моё доверие к ним, моя любовь к ним были грубо поколеблены, а вместе с этим и моя вера в Бога. Какие доказательства, постоянно спрашивал я себя, существуют для существования Бога? В Брейфилде я решился на эксперимент, чтобы окончательно разрешить этот вопрос: я посадил два ряда редиса бок о бок в огороде и попросил Бога благословить один или проклясть один, как Он пожелает, чтобы я мог увидеть явную разницу между ними. Два ряда редиса взошли одинаковыми, и это стало для меня доказательством того, что Бога не существует. Но теперь я ещё сильнее жаждал во что-то верить.
По мере того как избиения, голод и мучения продолжались, те из нас, кто оставался в школе, были вынуждены прибегать ко всё более экстремальным психологическим мерам – дегуманизируя, дереализуя нашего главного мучителя. Иногда во время избиения я видел его превращённым в жестикулирующий скелет (дома я видел рентгеновские снимки, кости в тонкой оболочке плоти). В другие моменты я видел его не как существо вообще, а как временное вертикальное скопление атомов. Я говорил себе: “Он всего лишь атомы” – и всё больше и больше я жаждал мира, который был бы “только атомами”. Насилие, исходившее от директора, временами, казалось, заражало всю живую природу, так что я видел насилие как самый принцип жизни.
Что я мог сделать в этих обстоятельствах, кроме как искать личное пространство, убежище, где я мог бы побыть один, погрузиться в себя без вмешательства других и найти какое-то ощущение стабильности и тепла? Моя ситуация была, возможно, похожа на ту, которую описывает Фримен Дайсон в своем автобиографическом эссе “Учить или не учить”.
Я принадлежал к небольшому меньшинству мальчиков, которым не хватало физической силы и спортивных способностей… и зажатых между двумя видами угнетения [жестокого директора и издевающихся мальчиков]… Мы нашли своё убежище на территории, которая была одинаково недоступна как нашему одержимому латынью директору, так и нашим одержимым футболом соученикам. Мы нашли своё убежище в науке… Мы узнали… что наука – это территория свободы и дружбы посреди тирании и ненависти.
Для меня убежищем сначала стали числа. Мой отец был мастером устного счёта, и я тоже, даже в возрасте шести лет, быстро справлялся с цифрами – и более того, любил их. Мне нравились числа, потому что они были прочными, неизменными; они стояли непоколебимо в хаотичном мире. В числах и их отношениях было что-то абсолютное, определённое, не подлежащее сомнению, бесспорное. (Годы спустя, когда я читал “1984”, кульминационным ужасом для меня, окончательным признаком распада и капитуляции Уинстона было то, что его под пытками заставили отрицать, что дважды два – четыре. Ещё ужаснее был тот факт, что в конце концов он сам начал сомневаться в этом, что в итоге даже числа подвели его.)
Я особенно любил простые числа, тот факт, что они были неделимыми, не могли быть разложены, неотъемлемо оставались самими собой. (У меня не было такой уверенности в себе, потому что я чувствовал, что меня разделяют, отчуждают, разрушают, всё больше с каждой неделей.) Простые числа были строительными блоками всех других чисел, и в них, я чувствовал, должен был быть какой-то смысл. Почему простые числа появлялись именно там, где появлялись? Был ли какой-то паттерн, какая-то логика в их распределении? Был ли у них предел, или они продолжались бесконечно? Я провёл бесчисленные часы, раскладывая числа на множители, отыскивая простые числа, запоминая их. Они дарили мне много часов поглощающей, одинокой игры, в которой мне никто другой не был нужен.
Я сделал сетку десять на десять из первых ста чисел, закрасив простые числа, но не мог увидеть никакого паттерна, никакой логики в их распределении. Я делал большие таблицы, увеличивал свои сетки до двадцати в квадрате, тридцати в квадрате, но всё равно не мог различить очевидного паттерна. И всё же я был убеждён, что он должен существовать.
***
Единственными настоящими каникулами для меня во время войны были визиты к тёте Лен в Чешире, в самом сердце леса Деламер, где она основала Еврейскую школу свежего воздуха для “слабых детей” (это были дети из рабочих семей Манчестера – у многих была астма, некоторые перенесли рахит или туберкулез, а один-два, как я теперь подозреваю, оглядываясь назад, были аутистами). У всех детей здесь были свои маленькие садики, квадраты земли шириной в пару ярдов, обрамленные камнями. Я отчаянно хотел учиться в Деламере вместо Брейфилда – но никогда не высказывал это желание вслух (хотя я думаю, что моя проницательная и любящая тётя догадывалась об этом).
Тётя Лен всегда радовала меня, показывая разные ботанические и математические чудеса. Она показывала мне спиральные узоры на поверхности подсолнухов в саду и предлагала посчитать цветки в них. Когда я это делал, она указывала, что они расположены согласно последовательности – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. – где каждое число является суммой двух предыдущих. И если разделить каждое число на последующее (1/2, 2⁄3, 3⁄5, 5⁄8 и т.д.), получится число, близкое к 0.618. Эта последовательность, говорила она, называлась рядом Фибоначчи, в честь итальянского математика, жившего несколько веков назад. Отношение 0.618, добавляла она, известно как божественная пропорция или золотое сечение, идеальная геометрическая пропорция, часто используемая архитекторами и художниками.
Она водила меня на долгие ботанические прогулки по лесу, где просила меня рассматривать упавшие сосновые шишки, чтобы увидеть, что у них тоже есть спирали, основанные на золотом сечении. Она показывала мне хвощи, растущие у ручья, просила потрогать их жёсткие членистые стебли и предлагала измерить их и построить график длин последовательных сегментов. Когда я это сделал и увидел, что кривая выравнивается, она объяснила, что приращения были “экспоненциальными” и что именно так обычно происходит рост. Эти соотношения, эти геометрические пропорции, говорила она мне, можно найти повсюду в природе – числа были тем, из чего состоял мир.
***
Из всех предметов дома больше всего мне не хватало маминых часов, красивых старинных напольных часов с золотым циферблатом, показывающих не только время и дату, но и фазы луны и расположение планет. Когда я был совсем маленьким, я думал об этих часах как о своего рода астрономическом инструменте, передающем информацию прямо из космоса. Раз в неделю мама открывала корпус и заводила часы, а я наблюдал, как поднимается тяжелый противовес, и трогал (если она позволяла) длинные металлические колокола, отбивающие часы и четверти часа.
Я мучительно скучал по их перезвону в течение четырех лет в Брейфилде и иногда слышал их во сне, представляя себя дома, только чтобы проснуться и обнаружить себя в узкой, неровной кровати, мокрой, как это часто бывало, от собственного недержания. Многие из нас регрессировали в Брейфилде, и нас жестоко били, когда мы мочились или пачкали постель.
Весной 1943 года Брейфилд закрыли. Почти все жаловались родителям на условия в школе, и большинство детей забрали оттуда. Я никогда не жаловался (как и Майкл, но он перешел в Клифтон-колледж в тринадцать лет в 1941 году), и в итоге я оказался почти единственным оставшимся учеником. Я так и не узнал, что именно произошло – директор исчез вместе со своей отвратительной женой и ребенком – мне просто сказали в конце каникул, что я не вернусь в Брейфилд, а вместо этого пойду в новую школу.
***
Колледж Святого Лаврентия (как мне казалось) имел обширные и почтенные территории, старинные здания, вековые деревья – всё это, несомненно, было очень красиво, но меня это ужасало. Брейфилд, при всех его ужасах, был, по крайней мере, знаком – я знал школу, знал деревню, у меня было пара друзей – тогда как в Святом Лаврентии всё было для меня чужим, неизвестным.
У меня удивительно мало воспоминаний о семестре, проведённом там – кажется, он был настолько глубоко подавлен или забыт, что когда я недавно упомянул об этом кому-то, кто хорошо меня знал и много знал о периоде в Брейфилде, она была поражена и сказала, что я никогда раньше не говорил о Святом Лаврентии. Мои главные воспоминания, на самом деле, связаны с внезапными выдумками, шутками, фантазиями или заблуждениями – я едва ли знаю, как их назвать – которые я там порождал.
Я чувствовал себя особенно одиноко по воскресным утрам, когда все остальные мальчики шли в часовню, оставляя меня, маленького еврейского мальчика, одного в школе (такого не случалось в Брейфилде, где большинство детей были евреями). Однажды воскресным утром разразилась сильная буря с яркими молниями и громовыми раскатами – один был настолько пугающе громким и близким, что я на мгновение подумал, что молния ударила в школу. Когда остальные вернулись из часовни, я упорно настаивал, что в меня действительно ударила молния, и что молния “вошла” в меня и застряла в моём мозгу.
Другие выдумки, которых я придерживался, были связаны с моим детством, или скорее с альтернативной версией или фантазией о детстве. Я говорил, что родился в России (Россия была нашим союзником в то время, и я знал, что отец моей матери был оттуда), и я рассказывал длинные, причудливые, богатые деталями истории о весёлых поездках на санях, о том, как меня заворачивали в меха, и о воющих волчьих стаях, преследующих наши сани ночью. Я не помню, как воспринимались эти истории, но я их придерживался.
В другое время я утверждал, что мои родители по какой-то причине выбросили меня в детстве, но меня нашла волчица и вырастила среди волков. Я читал “Книгу джунглей” и знал её почти наизусть, и мог богато приукрашивать свои “воспоминания” из неё, рассказывая изумлённым девятилетним детям вокруг меня о Багире, чёрной пантере, и Балу, старом медведе, который учил меня Закону, и Каа, моём друге-змее, с которым я плавал в реке, и Хатхи, короле джунглей, которому было тысяча лет.
Оглядываясь назад на это время, мне кажется, что я был полон мечтаний и мифов, и что временами я был неуверен в границах между фантазией и реальностью. Мне кажется, я пытался создать себе личность, абсурдную, но в то же время притягательную. Думаю, моё чувство изоляции, ощущение заброшенности и неизвестности было даже сильнее в Святом Лаврентии, чем в Брейфилде, где даже садистское внимание директора можно было рассматривать как своего рода заботу, даже любовь. Я думаю, что, возможно, был в ярости на своих родителей, которые оставались слепы и глухи, или невнимательны к моему страданию, и поэтому был склонен заменить их добрыми, родительскими русскими или волками.
Когда мои родители навестили меня в середине семестра в 1943 году (и, возможно, услышали о моих странных фантазиях и выдумках), они наконец осознали, что я был близок к краю, и что им лучше вернуть меня в Лондон, прежде чем случится что-то худшее.
4
Идеальный Металл
Я вернулся в Лондон летом 1943 года, после четырёх лет изгнания, десятилетним мальчиком, в некотором смысле замкнутым и встревоженным, но со страстью к металлам, растениям и числам. Жизнь начинала возвращаться к некоторой степени нормальности, несмотря на повсеместные разрушения от бомбёжек, несмотря на нормирование продуктов, затемнение и тонкую, низкокачественную бумагу, на которой печатались книги. Немцев отбросили под Сталинградом, союзники высадились на Сицилии; это могло занять годы, но победа теперь была несомненной.
Одним из признаков этого для меня стал тот факт, что моему отцу через ряд посредников досталась неслыханная вещь – банан из Северной Африки. Никто из нас не видел бананов с начала войны, и поэтому отец разделил его, как причастие, на семь равных частей: по одной для матери и себя, одну для тёти Бёрди и по одной для моих братьев и меня. Крошечный кусочек был положен на язык, как просфора, и медленно смаковался во время проглатывания. Его вкус был сладострастным, почти экстатическим, одновременно напоминанием и символом прошедших времён и предвкушением времён грядущих, залогом, возможно, знаком того, что я вернулся домой навсегда.
И все же многое изменилось, и сам дом стал тревожно другим, во многом совершенно изменившись по сравнению с тем устоявшимся, стабильным хозяйством, которое было до войны. Мы были, полагаю, обычной семьей среднего класса, но такие домохозяйства тогда имели целый штат помощников и слуг, многие из которых играли центральную роль в нашей жизни, поскольку мы росли с очень занятыми и в какой-то степени “отсутствующими” родителями. Была старшая няня Йей, которая была с нами с рождения Маркуса в 1923 году (я никогда не был уверен, как пишется ее имя, но представлял, после того как научился читать, что оно пишется “Yea” – я читал Библию и был очарован такими словами как lo, hark и yea). Затем была Марион Джексон, моя собственная няня, к которой я был страстно привязан – мои первые понятные слова (как мне говорили) были словами ее имени, каждый слог произносился с младенческой медлительностью и старанием. Йей носила чепец медсестры и форму, которая казалась мне несколько строгой и пугающей, но Марион Джексон носила мягкую белую одежду, мягкую как птичьи перья, и я прижимался к ней, чувствуя себя абсолютно защищенным.
Была Мари, кухарка-экономка, с накрахмаленным фартуком и покрасневшими руками, и “поденщица”, имя которой я забыл, которая приходила ей помогать. Помимо этих четырех женщин был Дон, шофер, и садовник Свейн, которые вместе выполняли тяжелую работу по дому.
Очень мало что из этого пережило войну. Йей и Марион Джексон исчезли – мы все теперь были “взрослыми”. Садовник и шофер ушли, и моя мать (которой было уже пятьдесят) решила водить машину сама. Мари должна была вернуться, но так и не вернулась; и вместо нее тетя Берди занималась покупками и готовкой.1
Физически дом тоже изменился. Уголь, как и все остальное во время войны, стал дефицитным, и огромный котел был отключен. Вместо него установили небольшую масляную горелку с очень ограниченной мощностью, и многие дополнительные комнаты в доме были закрыты.
Теперь, когда я “вырос”, мне выделили комнату побольше – раньше она принадлежала Маркусу, но он и Дэвид теперь оба учились в университете. Здесь у меня была газовая плита, старый письменный стол и собственные книжные полки, и впервые в жизни я почувствовал, что у меня есть свое место, свое пространство. Я проводил часы в своей комнате, читая и мечтая о числах, химии и металлах.
***
Больше всего я радовался возможности снова навещать дядю Вольфрама – его место, по крайней мере, казалось относительно неизменным (хотя вольфрам теперь был в некотором дефиците из-за огромного количества, необходимого для производства вольфрамовой стали для броневых плит). Думаю, он тоже радовался возвращению своего юного протеже, потому что проводил со мной часы на своей фабрике и в лаборатории, отвечая на вопросы так же быстро, как я их задавал. В его офисе было несколько застекленных шкафов, один из которых содержал коллекцию электрических лампочек: там было несколько ламп Эдисона начала 1880-х годов с нитями из обугленной нити; лампа 1897 года с нитью из осмия; и несколько ламп начала века с паутинообразными нитями из тантала, идущими зигзагом внутри них. Затем были более современные лампы – они были особой гордостью и интересом дяди, поскольку некоторые из них он разработал сам – с вольфрамовыми нитями всех форм и размеров. Была даже одна с надписью “Лампа будущего?” У неё не было нити накаливания, но рядом на карточке было написано слово “Рений”.
Я слышал о платине, но другие металлы – осмий, тантал, рений – были для меня в новинку. Дядя Дейв хранил образцы их всех и некоторые их руды в шкафу рядом с лампочками. Когда он брал их в руки, он подробно рассказывал об их уникальных, исключительных качествах, о том, как их открыли, как очищали и почему они так подходят для изготовления нитей накаливания. Когда дядя говорил о металлах для нитей накаливания, “своих” металлах, они приобретали в моем сознании особую желанность и значимость – благородные, плотные, тугоплавкие, светящиеся.
Он доставал серый изъеденный самородок: “Тяжелый, а?” - говорил он, бросая его мне. “Это платиновый самородок. Вот так его и находят, в виде самородков чистого металла. Большинство металлов встречаются в виде соединений с другими веществами, в рудах. Очень немногие металлы встречаются в самородном виде, как платина – только золото, серебро, медь и ещё один-два”. Эти другие металлы, говорил он, были известны тысячи лет, но платина была “открыта” всего двести лет назад, потому что хотя инки ценили её веками, остальному миру она была неизвестна. Сначала “тяжелое серебро” считалось помехой, примесью к золоту, и его выбрасывали обратно в самую глубокую часть реки, чтобы оно снова не “загрязняло” старательские лотки. Но к концу 1700-х годов новый металл очаровал всю Европу – он был плотнее, тяжелее золота, и как золото был “благородным” и никогда не тускнел. Его блеск не уступал серебру (его испанское название, platina, означало “маленькое серебро”).
Платина часто встречалась вместе с двумя другими металлами, иридием и осмием, которые были еще плотнее, тверже и более тугоплавкими. Тут дядя достал образцы, чтобы я мог подержать их – простые чешуйки, не больше чечевицы, но поразительно тяжелые. Это был “осмиридий”, природный сплав осмия и иридия, двух самых плотных веществ в мире. Было что-то в тяжести, плотности – я не мог сказать почему – что вызывало во мне трепет и огромное чувство безопасности и комфорта. Более того, осмий имел самую высокую температуру плавления среди всех платиновых металлов, говорил дядя Дейв, поэтому одно время его использовали, несмотря на редкость и стоимость, для замены платиновых нитей в лампочках.
Главным достоинством платиновых металлов было то, что, будучи такими же благородными и податливыми в обработке, как золото, они имели гораздо более высокие температуры плавления, что делало их идеальными для химической аппаратуры. Тигли из платины могли выдерживать самые высокие температуры; стаканы и шпатели из неё могли противостоять самым агрессивным кислотам. Дядя Дейв достал из шкафа маленький тигель, прекрасно гладкий и блестящий. Он выглядел новым.
“Это было сделано около 1840 года”, - сказал он. “Век использования, а почти никакого износа”.
***
Старшему сыну моего деда, Джеку, было четырнадцать лет в 1867 году, когда около Кимберли в Южной Африке были найдены алмазы и началась великая алмазная лихорадка. В 1870-х годах Джек вместе с двумя братьями – Чарли и Генри (Генри родился глухим и использовал язык жестов) – отправились строить свою жизнь и искать удачу в Южной Африке в качестве консультантов на алмазных, урановых и золотых рудниках (их сестра Роуз сопровождала их). В 1873 году мой дед женился во второй раз и имел еще тринадцать детей, и старые семейные мифы – возможно, сочетание рассказов его старших сыновей, историй Райдера Хаггарда о копях царя Соломона и старых легенд о Долине Алмазов – побудили двоих из следующего поколения (Сидни и Эйба) присоединиться к их сводным братьям в Африке. Еще позже двое младших братьев, Дейв и Мик, тоже присоединились к ним, так что в какой-то момент семеро из девяти братьев Ландау работали горными консультантами в Африке.
Фотография, которая висела в нашем доме (а теперь висит в моем), показывает семейную группу, снятую в 1902 году – дед, бородатый и патриархальный, его вторая жена Хая и их тринадцать детей. Моя мать появляется как маленькая девочка шести-семи лет, а её младшая сестра Дугги – самая младшая из восемнадцати – как пушистый комочек на земле. Изображения Эйба и Сидни, если присмотреться внимательно, были вмонтированы (фотограф расположил остальных так, чтобы оставить для них место), поскольку они все еще находились в Южной Африке в то время – задержанные и, возможно, подвергавшиеся опасности из-за Бурской войны. 2
Старшие сводные братья, уже женатые и пустившие корни, остались в Южной Африке. Они никогда не вернулись в Англию, хотя рассказы о них постоянно циркулировали в семье, превращаясь в легенды благодаря семейному мифотворчеству. Но младшие братья – Сидни, Эйб, Мик и Дейв – вернулись в Англию, когда началась Первая мировая война, вооруженные экзотическими историями и трофеями своих шахтерских дней, включая минералы всех видов.
Дядя Дейв любил брать в руки металлы и минералы из своего шкафа, позволял мне их трогать, подробно рассказывая об их чудесах. Я думаю, он воспринимал всю землю как гигантскую природную лабораторию, где тепло и давление вызывали не только масштабные геологические движения, но и бесчисленные химические чудеса. “Посмотри на эти алмазы”, - говорил он, показывая мне образец из знаменитой кимберлийской шахты. “Они почти такие же старые, как сама земля. Они формировались тысячи миллионов лет назад, глубоко в земле, под невообразимым давлением. Затем они были вынесены на поверхность в этом кимберлите, проделав путь в сотни миль из мантии земли, а затем через кору, очень, очень медленно, пока наконец не достигли поверхности. Мы, возможно, никогда не увидим внутренность земли напрямую, но этот кимберлит и его алмазы – это образец того, как она выглядит. Люди пытались производить алмазы”, - добавил он, “но мы не можем создать необходимые температуры и давление.”3
***
Во время одного визита дядя Дейв показал мне большой брусок алюминия. После плотных платиновых металлов я был поражен тем, насколько он легкий, едва ли тяжелее куска дерева. “Я покажу тебе что-то интересное”, - сказал он. Он взял кусок алюминия поменьше с гладкой, блестящей поверхностью и намазал его ртутью. Внезапно – это было похоже на какую-то страшную болезнь – поверхность разрушилась, и белое вещество, похожее на грибок, быстро выросло из неё, пока не достигло четверти дюйма в высоту, затем полдюйма, и продолжало расти и расти, пока алюминий не был полностью съеден. “Ты видел, как ржавеет железо – окисляется, соединяясь с кислородом воздуха”, - сказал дядя. “Но здесь, с алюминием, это происходит в миллион раз быстрее. Тот большой брусок все еще довольно блестящий, потому что он покрыт тонким слоем оксида, который защищает его от дальнейших изменений. Но натирание ртутью разрушает поверхностный слой, так что алюминий остается без защиты и соединяется с кислородом за секунды”.
Я находил это волшебным, удивительным, но также немного пугающим – видеть, как яркий и блестящий металл так быстро превращается в рассыпающуюся массу оксида. Это заставляло меня думать о проклятии или заклинании, о том виде распада, который я иногда видел в своих снах. Это заставило меня думать о ртути как о зле, разрушителе металлов. Сделает ли она это с любым металлом?
“Не беспокойся”, - ответил дядя, “металлы, которые мы используем здесь, совершенно безопасны. Если я положу этот маленький брусок вольфрама в ртуть, с ним вообще ничего не случится. Если я уберу его на миллион лет, он будет таким же ярким и блестящим, как сейчас”. По крайней мере, вольфрам был стабилен в этом ненадежном мире.
“Ты видел”, - продолжал дядя Дейв, - “что когда поверхностный слой нарушается, алюминий очень быстро соединяется с кислородом воздуха, образуя этот белый оксид, который называется глинозем. То же самое происходит с железом, когда оно ржавеет; ржавчина – это оксид железа. Некоторые металлы настолько жадны до кислорода, что соединяются с ним, тускнея, образуя оксид, в тот момент, когда они подвергаются воздействию воздуха. Некоторые даже вытягивают кислород из воды, поэтому их нужно хранить в запечатанной трубке или под маслом”. Дядя показал мне несколько кусков металла с беловатой поверхностью в бутылке с маслом. Он выловил кусок и разрезал его перочинным ножом. Я был поражен тем, насколько он мягкий; я никогда не видел, чтобы металл так резался. Срез имел переливающийся, серебристый блеск. Это был кальций, сказал дядя, и он был настолько активным, что никогда не встречался в природе в виде чистого металла, а только в виде соединений или минералов, из которых его нужно было извлекать. Белые скалы Дувра, сказал он, были мелом; другие были сделаны из известняка – это были разные формы карбоната кальция, основного компонента земной коры. Металлический кальций, пока мы говорили, полностью окислился, его яркая поверхность стала тусклой, меловой белизны. “Он превращается в известь”, - сказал дядя, - “оксид кальция”.
***
Но рано или поздно все монологи и демонстрации дяди перед шкафом возвращались к его металлу. “Вольфрам”, - говорил он. “Сначала никто не понимал, насколько это совершенный металл. У него самая высокая температура плавления среди всех металлов, он прочнее стали, и он сохраняет свою прочность при высоких температурах – идеальный металл!”
У дяди было множество вольфрамовых брусков и слитков в его офисе. Некоторые он использовал как пресс-папье, но другие не имели никакой явной функции, кроме как доставлять удовольствие их владельцу и создателю. И действительно, по сравнению с ними, стальные бруски и даже свинец казались легкими и как-то пористыми, разреженными. “Эти куски вольфрама имеют необычайную концентрацию массы”, - говорил он. “Они были бы смертельным оружием – гораздо смертоноснее свинца”.
Они пытались делать вольфрамовые пушечные ядра в начале века, добавил он, но обнаружили, что металл слишком трудно обрабатывать – хотя иногда его использовали для маятниковых грузов. Если бы кто-то хотел взвесить Землю, предположил дядя Дейв, и использовать очень плотную, компактную массу для “уравновешивания” против неё, ничего лучше огромной сферы из вольфрама не найти. Шар всего два фута в диаметре, подсчитал он, весил бы пять тысяч фунтов.
Одна из минеральных руд вольфрама, шеелит, рассказывал мне дядя Дейв, была названа в честь великого шведского химика Карла Вильгельма Шееле, который первым показал, что она содержит новый элемент. Руда была настолько плотной, что шахтеры называли её “тяжелым камнем” или tung sten, название, впоследствии данное самому элементу. Шеелит встречался в виде красивых оранжевых кристаллов, которые флуоресцировали ярко-синим цветом в ультрафиолетовом свете. Дядя Дейв хранил образцы шеелита и других флуоресцентных минералов в специальном шкафу в своем офисе. Тусклый свет Фаррингдон-роуд ноябрьским вечером, казалось мне, преображался, когда он включал свою лампу Вуда, и светящиеся куски в шкафу внезапно начинали сиять оранжевым, бирюзовым, малиновым, зеленым.
Хотя шеелит был крупнейшим источником вольфрама, металл впервые был получен из другого минерала, называемого вольфрамитом. Действительно, вольфрам иногда называли вольфрамом (wolfram), и он все еще сохранял химический символ W. Это приводило меня в восторг, потому что моим собственным средним именем было Вольф (Wolf). Мощные пласты вольфрамовых руд часто встречались вместе с оловянной рудой, и вольфрам затруднял выделение олова. Именно поэтому, продолжал мой дядя, они изначально назвали металл вольфрамом – потому что, как голодное животное, он “крал” олово. Мне нравилось название вольфрам, его острое, животное качество, его отсылка к прожорливому, мистическому волку – и я думал об этом как о связи между дядей Вольфрамом, дядей Тунгстеном и мной, О. Вольфом Саксом.
***
“Природа предлагает вам медь, серебро и золото в самородном виде, как чистые металлы”, - говорил дядя, - “а в Южной Америке и на Урале она предлагает также и платиновые металлы”. Он любил доставать самородные металлы из своего шкафа – извилистые куски и блестки розоватой меди; потемневшее проволокообразное серебро; крупицы золота, намытые старателями в Южной Африке. “Подумай, каково это было”, - говорил он, - “увидеть металл впервые – внезапные блики отраженного солнечного света, внезапное сияние в камне или на дне ручья!”
Но большинство металлов встречались в форме оксидов или “земель”. Земли, говорил он, иногда называли известями, и было известно, что эти руды нерастворимы, несгораемы, неплавки и, как писал один химик восемнадцатого века, “лишены металлического блеска”. И все же было понятно, что они очень близки к металлам и действительно могли быть превращены в металлы при нагревании с древесным углем; в то время как чистые металлы превращались в извести при нагревании на воздухе. Однако то, что на самом деле происходило в этих процессах, не было понятно. Может существовать глубокое практическое знание, говорил дядя, задолго до теории: люди на практике понимали, как можно плавить руды и получать металлы, даже если не было правильного понимания того, что на самом деле происходит.
Он живо описывал первую плавку металла: как пещерные люди могли использовать камни, содержащие медный минерал – возможно, зеленый малахит – чтобы обложить костер, и вдруг заметили, как при превращении дерева в древесный уголь зеленый камень начинает “кровоточить”, превращаясь в красную жидкость – расплавленную медь.
Теперь мы знаем, продолжал он, что когда нагреваешь оксиды с древесным углем, углерод в угле соединяется с их кислородом и таким образом “восстанавливает” их, оставляя чистый металл. Без способности восстанавливать металлы из их оксидов, говорил он, мы бы никогда не узнали никаких металлов, кроме горстки самородных. Никогда бы не было бронзового века, не говоря уже о железном; никогда бы не было увлекательных открытий восемнадцатого века, когда полтора десятка новых металлов (включая вольфрам!) были извлечены из их руд.
Дядя Дейв показал мне немного чистого оксида вольфрама, полученного из шеелита, то же самое вещество, которое получили Шееле и братья д’Элюйар, первооткрыватели вольфрама.4 Я взял у него бутылку; в ней содержался плотный желтый порошок, который был удивительно тяжелым, почти как железо. “Все, что нам нужно сделать”, - сказал он, - “это нагреть его с небольшим количеством углерода в тигле до красного каления”. Он смешал желтый оксид с углеродом и поместил тигель в угол огромной печи. Через несколько минут он вытащил его длинными щипцами, и когда тигель остыл, я смог увидеть, что произошло захватывающее изменение. Углерод полностью исчез, как и большая часть желтого порошка, а на их месте появились зерна тускло блестящего серого металла, точно такие же, какие увидели братья д’Элюйар в 1783 году.
“Есть еще один способ его получить”, - сказал дядя. “Он более эффектный”. Он смешал оксид вольфрама с мелко измельченным алюминием, а сверху положил немного сахара, перхлората калия и немного серной кислоты. Сахар, перхлорат и кислота сразу загорелись, что в свою очередь воспламенило алюминий и оксид вольфрама, которые яростно горели, выбрасывая сноп ярких искр. Когда искры утихли, я увидел раскаленный добела шарик вольфрама в тигле. “Это одна из самых бурных реакций”, - сказал дядя. “Её называют термитным процессом; ты видишь почему. Она может создавать температуру в три тысячи градусов или больше – достаточно, чтобы расплавить вольфрам. Видишь, мне пришлось использовать специальный тигель с футеровкой из магнезии, чтобы выдержать такую температуру. Это непростое дело, всё может взорваться, если не быть осторожным – и во время войны, конечно, этот процесс использовали для создания зажигательных бомб. Но при правильных условиях это замечательный метод, и его использовали для получения всех труднодоступных металлов – хрома, молибдена, вольфрама, титана, циркония, ванадия, ниобия, тантала”.
Мы соскребли зерна вольфрама, тщательно промыли их дистиллированной водой, осмотрели под увеличительным стеклом и взвесили их. Он достал крошечный градуированный цилиндр объемом 0,5 миллилитра, наполнил его водой до отметки 0,4 миллилитра, затем высыпал туда зерна вольфрама. Вода поднялась на одну двадцатую миллилитра. Я записал точные цифры и подсчитал – вольфрам весил чуть меньше грамма и имел плотность 19. “Это очень хорошо”, - сказал дядя, “это примерно то же самое, что получили братья д’Элюйар, когда впервые создали его в 1780-х годах”.
“Теперь у меня здесь есть несколько разных металлов, все в маленьких зернах. Почему бы тебе не попрактиковаться в их взвешивании, измерении объема, вычислении плотности?” Я провел следующий час, с удовольствием занимаясь этим, и обнаружил, что дядя действительно дал мне огромный диапазон, от одного серебристого металла, слегка потускневшего, который имел плотность менее 2, до одного из его зерен осмиридия (я узнал его), который был почти в двенадцать раз плотнее. Когда я измерил плотность маленького желтого зерна, она оказалась точно такой же, как у вольфрама – точнее, 19.3. “Видишь”, - сказал дядя, - “плотность золота почти такая же, как у вольфрама, но серебро намного легче. Легко почувствовать разницу между чистым золотом и позолоченным серебром – но у тебя возникли бы проблемы с золотым покрытием на вольфраме”.
***
Шееле был одним из великих героев дяди Дейва. Он не только открыл вольфрамовую и молибденовую кислоты (из которой был получен новый элемент молибден), но также плавиковую кислоту, сероводород, арсин и синильную кислоту, а также дюжину органических кислот. Всё это, говорил дядя Дейв, он сделал сам, без помощников, без финансирования, без университетской должности или зарплаты, работая в одиночку и пытаясь свести концы с концами в качестве аптекаря в маленьком провинциальном шведском городке. Он открыл кислород не случайно, а получив его несколькими разными способами; он открыл хлор; и он указал путь к открытию марганца, бария и десятка других веществ.
Шееле, говорил дядя Дейв, был полностью предан своей работе, не заботясь ни о славе, ни о деньгах, и делился своими знаниями, какими бы они ни были, со всеми и каждым. Меня впечатляла щедрость Шееле, не меньше чем его находчивость, то, как он (фактически) отдавал само открытие элементов своим ученикам и друзьям – открытие марганца Йохану Гану, открытие молибдена Петеру Ельму и само открытие вольфрама братьям д’Элюйар.
Говорили, что Шееле никогда ничего не забывал, если это касалось химии. Он никогда не забывал внешний вид, ощущение, запах вещества или то, как оно преображалось в химических реакциях, никогда не забывал ничего, что прочитал или что ему рассказали о химических явлениях. Он казался равнодушным или невнимательным ко всему остальному, будучи полностью преданным своей единственной страсти – химии. Именно это чистое и страстное погружение в явления – замечая всё, не забывая ничего – составляло особую силу Шееле.
Шееле олицетворял для меня романтику науки. Мне казалось, что в жизни в науке есть целостность, сущностная доброта, пожизненный роман. Я никогда особо не задумывался о том, кем я мог бы стать, когда “вырасту” – взросление было едва представимым – но теперь я знал: я хотел стать химиком. Химиком как Шееле, химиком восемнадцатого века, свежим взглядом смотрящим на область науки, изучающим весь неоткрытый мир природных веществ и минералов, анализирующим их, исследующим их секреты, находящим чудеса неизвестных и новых металлов.
5
Свет в массы
Дядя Вольфрам был сложной личностью, сочетавшей в себе интеллектуальное и практическое начало, как и большинство его братьев и сестер, и человек, который был их отцом. Он любил химию, но не был “чистым” химиком, как его младший брат Мик; дядя Дэйв был также предпринимателем, бизнесменом. Он был производителем, который зарабатывал умеренно хорошо – его лампы и вакуумные трубки всегда хорошо продавались, и этого было достаточно. Он знал всех, кто работал на него, в дружеских, личных подробностях. У него не было желания расширяться, становиться огромным, как он легко мог бы сделать. Он остался, каким был изначально, любителем металлов и материалов, бесконечно очарованным их свойствами. Он проводил сотни часов, наблюдая за всеми процессами на своих фабриках: спеканием и протяжкой вольфрама, изготовлением спиральных катушек и молибденовых опор для нитей накаливания, наполнением колб аргоном на старой фабрике в Фаррингдоне и выдуванием стеклянных колб и их матированием плавиковой кислотой на новой фабрике в Хокстоне. Ему не нужно было этого делать – его персонал был компетентным, и оборудование работало отлично – но он любил это, и иногда придумывал дальнейшие усовершенствования, новые процессы во время наблюдения. Ему на самом деле не были нужны компактные, но прекрасно оборудованные лаборатории на его фабриках, но он был любознательным и пристрастился к экспериментам, некоторые из которых имели непосредственное применение в его производстве, хотя многое, насколько я мог судить, делалось ради чистого удовольствия, для развлечения. Ему также не нужно было знать, как он знал в энциклопедических подробностях, историю ламп накаливания, освещения в целом и основы химии и физики, лежащие в их основе. Но он любил чувствовать себя частью традиции – традиции, объединяющей чистую науку, прикладную науку, ремесло и промышленность.
Видение Эдисона, любил говорить дядя, о свете для масс, наконец воплотилось в лампе накаливания. Если бы кто-то мог посмотреть на Землю из космоса, увидеть, как она каждые двадцать четыре часа поворачивается в тень ночи, они увидели бы миллионы, сотни миллионов ламп накаливания, зажигающихся каждую ночь, светящихся раскаленным вольфрамом в складках этой тени – и поняли бы, что человек наконец победил тьму. Лампа накаливания, говорил дядя, сделала больше для изменения социальных привычек, человеческих жизней, чем любое другое изобретение, о котором он мог подумать.
Во многом, как рассказывал мне дядя Дэйв, история химических открытий была неотделима от поиска света. До 1800 года существовали только свечи или простые масляные лампы, которые использовались тысячелетиями. Их свет был слабым, а улицы были темными и опасными, так что едва ли можно было выйти ночью без фонаря или полной луны. Существовала огромная потребность в эффективной форме освещения, которую можно было бы безопасно и легко использовать в домах и уличных фонарях.
В начале девятнадцатого века было введено газовое освещение, и люди экспериментировали со многими его формами. Разные насадки создавали газовые пламена различных форм: были крыло летучей мыши, рыбий хвост, петушиная шпора и петушиный гребень – я любил эти названия, когда он их произносил, так же как любил красивые формы пламени.
Но газовые пламена с их светящимися частицами углерода были едва ли ярче свечного пламени. Требовалось что-то дополнительное, материал, который бы сиял с особой яркостью при нагревании в газовом пламени. Таким веществом была кальция – оксид кальция, или известь – которая светилась интенсивным зеленовато-белым светом при нагревании. Этот “известковый свет”, говорил дядя Дэйв, был открыт в 1820-х годах и использовался для освещения театральных сцен на протяжении многих десятилетий – поэтому мы до сих пор говорим “быть в свете рампы”, хотя больше не используем известь для накаливания. Подобный яркий свет можно было получить при нагревании нескольких других оксидов – циркония, тория, магния, алюминия, оксида цинка. (“А это называют цинкией?” – спросил я. “Нет”, – улыбнулся дядя, – “я никогда не слышал такого названия”.)
К 1870-м годам, после испытания многих оксидов, стало ясно, что некоторые смеси светились ярче, чем любой из отдельных оксидов. Ауэр фон Вельсбах в Германии экспериментировал с бесчисленными такими комбинациями и наконец в 1891 году нашел идеальную: смесь тория и церия в соотношении 99 к 1. Это соотношение было критическим: соотношение 100 к 1 или 98 к 1, как обнаружил Ауэр, было гораздо менее эффективным.
До этого момента использовались стержни или карандаши из оксида, но Ауэр обнаружил, что “ткань подходящей формы”, рамиевый колпачок, могла обеспечить гораздо большую площадь поверхности для пропитки его смесью и, следовательно, более яркий свет. Эти колпачки произведут революцию во всей индустрии газового освещения, позволив ей серьезно конкурировать с зарождающейся электрической осветительной промышленностью.
Мой дядя Эйб, который был на несколько лет старше дяди Дэйва, живо помнил это открытие и то, как их довольно тускло освещенный дом на Леман-стрит внезапно преобразился благодаря новым калильным колпачкам. Он также помнил, как начался великий ториевый бум: за несколько недель цена на торий выросла в десять раз, и начались отчаянные поиски новых источников этого элемента.
Эдисон в Америке также был пионером в экспериментах с накаливанием различных редкоземельных элементов, но не смог совершить прорыв, который удался Ауэру, и в конце 1870-х годов переключил свое внимание на совершенствование другого вида света – электрического. Суон в Англии и несколько других исследователей начали экспериментировать с платиновыми лампами в 1860-х годах (у дяди была одна из этих ранних ламп Суона в его шкафу); и Эдисон, будучи крайне конкурентным, теперь присоединился к гонке, но обнаружил, как и Суон, что существовали серьезные трудности: температура плавления платины, хотя и высокая, была недостаточной.
Эдисон экспериментировал со многими другими металлами с более высокими температурами плавления для получения работоспособной нити накаливания, но ни один не оказался подходящим. Затем в 1879 году его осенило. Углерод имел гораздо более высокую температуру плавления, чем любой металл – никому никогда не удавалось его расплавить – и хотя он проводил электричество, он имел высокое сопротивление, что позволяло ему легче нагреваться и накаливаться. Эдисон пытался делать спирали из чистого углерода, подобные металлическим спиралям в ранних нитях накаливания, но эти углеродные спирали разрушались. Его решение – почти абсурдно простое, хотя потребовался акт гениальности с его стороны, чтобы это увидеть – заключалось в том, чтобы взять органическое волокно (бумагу, дерево, бамбук, льняную или хлопковую нить) и сжечь его, оставив углеродный скелет, достаточно прочный, чтобы держаться вместе и проводить ток. Если эти нити помещались в вакуумные колбы, они могли обеспечивать устойчивый свет на протяжении сотен часов.
Лампы Эдисона открыли возможность настоящей революции – хотя, конечно, они должны были быть связаны с целой новой системой динамо-машин и линий электропередач. “Первая центральная электрическая система в мире была построена Эдисоном прямо здесь в 1882 году”, – сказал дядя, подводя меня к окну и указывая на улицы внизу. “Большие паровые динамо-машины были установлены на виадуке Холборн, вон там, и они питали три тысячи электрических лампочек вдоль виадука и на Фаррингдон Бридж Роуд.”
1880-е годы, таким образом, были с преобладающими электрическими лампами и созданием целой сети электростанций и линий электропередач. Но затем в 1891 году усовершенствованные газовые колпачки Ауэра, которые были высокоэффективными и умеренно дорогими (и могли использовать существующие газовые линии), бросили серьезный вызов молодой индустрии электрического освещения. Мои дяди рассказывали мне о борьбе между электрическим и газовым освещением в их молодости, и о том, как баланс постоянно смещался в пользу то одного, то другого. Многие дома, построенные в эту эпоху – включая наш – были оборудованы для обоих видов освещения, так как было неясно, что победит в итоге. (Даже пятьдесят лет спустя, в мои юные годы, на многих улицах Лондона, особенно в Сити, все еще использовалось газовое освещение, и иногда в сумерках можно было увидеть фонарщика с его длинным шестом, идущего от одного фонаря к другому, зажигая их один за другим. Я любил наблюдать за этим.)
Но при всех своих достоинствах, угольные лампы имели проблемы. Они были хрупкими и становились еще более хрупкими при использовании, и их можно было эксплуатировать только при относительно низкой температуре, поэтому свет был тускло-желтым, а не ярко-белым.
Был ли выход из этого положения? Нужен был материал с температурой плавления почти такой же высокой, как у углерода, или по крайней мере около 3000°C, но с прочностью, которой никогда не могла бы обладать углеродная нить – и были известны только три таких металла: осмий, тантал и вольфрам. Дядя Дэйв, казалось, оживился в этот момент. Он очень восхищался Эдисоном и его изобретательностью, но углеродные нити, очевидно, были не по его вкусу. Уважаемая нить накаливания, как он считал, должна была быть сделана из металла, потому что только металлы можно было вытянуть в proper проволоку. Проволока из сажи, фыркал он, была противоречием в терминах, и было удивительно, что они работали так хорошо, как работали.
Первые осмиевые лампы были созданы Ауэром в 1897 году, и у дяди Дэйва была одна из них в его шкафу. Но осмий был очень редким – общемировое производство составляло всего пятнадцать фунтов в год – и очень дорогим. Тогда было практически невозможно вытянуть осмий в проволоку, поэтому осмиевый порошок приходилось смешивать со связующим веществом и выдавливать в форму, после чего связующее вещество выжигалось. Более того, эти осмиевые нити были очень хрупкими и ломались, если лампы переворачивали вверх дном.
Тантал был известен уже столетие или больше, хотя всегда существовали большие трудности с его очисткой и обработкой. К 1905 году стало возможным очищать металл достаточно для того, чтобы вытягивать его в проволоку, и с танталовыми нитями накаливания лампы можно было массово производить дешево и конкурировать с угольными лампами так, как никогда не было возможно с осмиевыми лампами. Но чтобы получить необходимое сопротивление, нужно было использовать большую длину паутинно-тонкой проволоки, зигзагообразно располагая ее внутри лампы, создавая сложную клеткообразную нить. Хотя тантал немного размягчался при нагревании, эти нити тем не менее были очень успешными и наконец бросили вызов гегемонии газового колпачка. “Внезапно”, – сказал дядя, – “танталовые лампы стали повсеместным увлечением.”
Танталовые лампы продолжали быть в моде до Первой мировой войны, но даже на пике их популярности исследовался другой металл для нитей накаливания – вольфрам. Первые жизнеспособные вольфрамовые лампы были созданы в 1911 году и могли кратковременно работать при очень высоких температурах, хотя вскоре чернели из-за испарения вольфрама и его осаждения на внутренней поверхности стекла. Это бросило вызов изобретательности Ирвинга Ленгмюра, американского химика, который предложил использовать инертный газ для создания положительного давления на нить накаливания и тем самым уменьшить её испарение. Требовался абсолютно инертный газ, и очевидным кандидатом был аргон, выделенный пятнадцатью годами ранее. Но использование газового наполнения, в свою очередь, привело к другой проблеме: массивной потере тепла из-за конвекции через газ. Решением этого, как понял Ленгмюр, было создание максимально компактной нити накаливания, плотно свёрнутой спирали из проволоки, а не растянутой паутины. Такую плотную спираль можно было сделать из вольфрама, и в 1913 году всё это было объединено: тонко вытянутая вольфрамовая проволока, плотно свёрнутые спирали в колбе, наполненной аргоном. В этот момент стало очевидно, что дни танталовой лампы сочтены, и что вольфрам – более прочный, дешёвый и эффективный – скоро заменит её (хотя это не могло произойти до окончания войны, когда аргон стал доступен в промышленных количествах). Именно в этот момент многие производители обратились к изготовлению вольфрамовых ламп, и дядя Дэйв вместе с несколькими своими братьями (и тремя братьями своей жены, Векслерами, также химиками) объединили свои ресурсы и основали свою фирму “Тангсталайт”.
Дядя Дэйв любил рассказывать мне эту сагу, большую часть которой он пережил сам, и её пионеры были для него героями, не в последнюю очередь потому, что они смогли совместить страсть к чистой науке с сильным практическим и деловым чутьём (Ленгмюр, рассказывал он мне, был первым промышленным химиком, получившим Нобелевскую премию).
Лампы дяди Дэйва были больше, чем лампы Osram, GE или другие электрические лампы на рынке – больше, тяжелее и почти абсурдно прочные, и, казалось, служили вечно. Иногда я жаждал, чтобы они перегорели, чтобы я мог разбить их (что было нелегко) и вытащить вольфрамовые нити и их молибденовые держатели, а затем получить удовольствие от похода в треугольный шкаф под лестницей за новой, нетронутой лампой, завёрнутой в мятый картонный цилиндр. Другие люди покупали электрические лампы по одной, но нам присылали коробки прямо с фабрики, по несколько дюжин ламп за раз – в основном 60-ваттные и 100-ваттные лампы, хотя мы использовали маленькие 15-ваттные лампы для шкафов и ночников, и ослепительную 300-ваттную лампу как маяк на переднем крыльце. Дядя Вольфрам производил лампочки всех видов и размеров, от крошечных 1½-вольтовых ламп, предназначенных для маленьких карманных фонариков, до огромных ламп, используемых для футбольных полей или прожекторов. Были также лампы особых форм, предназначенные для приборных панелей, офтальмоскопов и других медицинских инструментов; и (несмотря на привязанность дяди к вольфраму) лампы с танталовыми нитями для использования в кинопроекторах и поездах. Такие нити были менее эффективными, менее способными выдерживать высокие температуры, чем вольфрам, но более устойчивыми к вибрации. Эти лампы я тоже любил разбивать, когда они перегорали, чтобы извлечь танталовую проволоку внутри и добавить её к моему растущему запасу металлов и химикатов.
Дядины лампы и моя склонность к импровизации побудили меня установить свою собственную систему освещения внутри тёмного шкафа под лестницей. Меня всегда завораживало и слегка пугало это пространство, у которого не было собственного освещения и которое, казалось, исчезало в своих самых дальних закоулках в тайне и загадочности. Я использовал 6-ваттную лампу лимонной формы, такую же, как в габаритных огнях нашей машины, и 9-вольтовую батарейку, предназначенную для электрического фонаря. Я неуклюже установил выключатель на стене и провёл провода от него к лампе и батарее. Я был нелепо горд этой маленькой установкой и специально показывал её посетителям, когда они приходили в дом. Но её свет проникал в закоулки шкафа, и, изгоняя темноту, изгонял и её тайну. Слишком много света, решил я, это не всегда хорошо – некоторые места лучше оставить с их нетронутыми секретами.
6
Страна Стибнита
Думаю, я был довольно одиноким в моей новой школе, The Hall, по крайней мере, когда только вернулся в Лондон. Мой друг Эрик Корн, который знал меня до войны – мы были примерно одного возраста, и наши няни водили нас играть в Брондсбери Парк – чувствовал, что со мной что-то произошло. По его словам, до войны я был агрессивным и нормальным, затевал драки, стоял за себя, высказывал своё мнение; теперь же я казался запуганным, робким, не начинал ни драк, ни разговоров, замыкался в себе, держался на расстоянии. Я действительно держался на расстоянии от школы практически во всех отношениях. Потому что боялся новых издевательств или побоев и медленно осознавал, что школа может быть хорошим местом. Но меня убедили (или заставили – я уже не помню) вступить в отряд волчат (младших скаутов). Считалось, что это будет полезно для меня, заставит меня общаться со сверстниками, научит “необходимым” навыкам жизни на природе, таким как разведение костра, походы, следопытство – хотя было не совсем понятно, как эти навыки могли бы пригодиться в городском Лондоне. И по какой-то причине я так и не научился этому по-настоящему. У меня не было чувства направления и зрительной памяти – когда мы играли в игру Кима, запоминая набор разных предметов, я был настолько плох, что некоторые думали, что у меня может быть умственная отсталость. Костры, которые я складывал, никогда не разгорались или гасли через несколько секунд; мои попытки добыть огонь трением двух палочек никогда не увенчивались успехом (хотя некоторое время мне удавалось скрывать это, одалживая зажигалку брата); а мои попытки поставить палатку вызывали всеобщее веселье.
Единственное, что мне действительно нравилось в отряде волчат, это то, что мы все носили одинаковую форму (что уменьшало мою застенчивость, чувство того, что я отличаюсь от других), обращения к Акеле, серому волку, и наше отождествление себя с волчатами из “Книги джунглей” – нежный основополагающий миф, который радовал мою романтическую сторону. Но реальная скаутская жизнь, по крайней мере у меня, постоянно терпела неудачу самыми разными способами.
Всё достигло кульминации в тот день, когда нас попросили сделать особый “дэмпер”, похожий на те, что делал Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения, во время своего пребывания в Африке. Дэмперы, как я понимал, были твёрдыми, запечёнными лепёшками из пресной муки, но когда я искал муку на нашей кухне, оказалось, что мучной ящик пуст. Я не хотел спрашивать, есть ли ещё мука, или идти покупать её – в конце концов, предполагалось, что мы должны быть находчивыми и самостоятельными – поэтому я осмотрелся дальше и, к своей радости, обнаружил немного цемента снаружи, оставленного строителями, которые возводили стену. Сейчас я не могу восстановить ход мыслей, которым я убедил себя, что цемент подойдёт вместо муки, но я использовал цемент, сделал из него пасту, приправил её (чесноком), придал форму овальной лепёшки и запёк в духовке. Она стала твёрдой, очень твёрдой – но ведь дэмперы и должны были быть очень твёрдыми. Когда на следующий день я принёс её на собрание волчат и передал мистеру Барону, скаутмастеру, он был удивлён, но (я думаю) удовлетворён или заинтригован её весом, необычно тяжёлым питанием, которое она обещала. Он положил её в рот и вонзил зубы, и был вознаграждён громким треском, когда один из его зубов сломался. Он тут же выплюнул эту вещь; послышалось одно или два хихиканья, а затем наступила ужасная тишина: все в волчьей стае смотрели на меня.
“Как ты сделал этот дэмпер, Сакс?” – спросил мистер Барон угрожающе тихим голосом. “Что ты в него положил?”
“Я положил цемент, сэр”, – сказал я, – “Я не смог найти муку.”
Тишина углубилась, затянулась; всё, казалось, замерло в какой-то неподвижной картине. Стараясь сдержать себя и (как мне кажется) не ударить меня, мистер Барон произнёс короткую, страстную речь: я казался ему довольно приличным мальчиком, достаточно порядочным, хотя и застенчивым, неумелым и ужасным неудачником, но эта история с заслонкой поднимала очень серьёзные вопросы – осознавал ли я, что делал, хотел ли я причинить вред? Я пытался сказать, что это была всего лишь шутка, но мне не удалось выдавить из себя ни слова. Был ли я просто невероятно глуп, злобен или, возможно, безумен? Как бы то ни было, я совершил грубую провинность, я причинил вред своему наставнику, предал идеалы волчьей стаи. Я не годился для того, чтобы быть скаутом, и с этими словами мистер Барон решительно исключил меня.
Термин «актуализация внутреннего конфликта» тогда ещё не существовал, но сам концепт часто обсуждался всего в миле от школы, в Хэмпстедской клинике Анны Фрейд, где она сталкивалась с любыми формами нарушенного и делинквентного поведения у молодых людей, переживших травматическую эвакуацию.
***
Публичная библиотека Уиллсдена представляла собой странное треугольное здание, расположенное под углом к Уиллсден-лейн, в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Снаружи она казалась обманчиво маленькой, но внутри была огромной, с десятками альковов и отсеков, заполненных книгами – большим количеством книг, чем я когда-либо видел в своей жизни. Как только библиотекарь убедилась, что я умею обращаться с книгами и пользоваться картотекой, она дала мне свободу действий в библиотеке и позволила заказывать книги из центральной библиотеки и даже иногда брать редкие книги. Моё чтение было ненасытным, но несистематическим: я пробегал глазами, парил, просматривал, как хотел, и хотя мои интересы уже прочно укоренились в науках, я время от времени брал также приключенческие или детективные истории. В моей школе, The Hall, не было естественных наук и, следовательно, мало что меня интересовало – наша программа в то время основывалась исключительно на классике. Но это не имело значения, потому что именно моё самостоятельное чтение в библиотеке давало мне настоящее образование, и я делил своё свободное время, когда не был с дядей Дэйвом, между библиотекой и чудесами музеев Южного Кенсингтона, которые были важнейшими для меня на протяжении всего детства и юности.
Особенно музеи позволяли мне бродить по-своему, не спеша, переходя от одной витрины к другой, от одного экспоната к другому, без необходимости следовать какой-либо программе, посещать уроки, сдавать экзамены или соревноваться. В школе было что-то пассивное и навязанное, тогда как в музеях можно было быть активным, исследовать, как в реальном мире. Музеи – и зоопарк, и ботанический сад в Кью – пробуждали во мне желание выйти в мир и исследовать самому, стать охотником за камнями, коллекционером растений, зоологом или палеонтологом. (Спустя пятьдесят лет я по-прежнему в первую очередь ищу музеи естественной истории и ботанические сады, когда посещаю новый город или страну.)
Вход в Геологический музей, как в храм, осуществлялся через большую мраморную арку, окруженную огромными вазами из дербиширского блю-джона, разновидности плавикового шпата. Первый этаж был посвящен плотно заполненным витринам и шкафам с минералами и драгоценными камнями. Там были диорамы вулканов, бурлящих грязевых ям, остывающей лавы, кристаллизующихся минералов, медленных процессов окисления и восстановления, подъёма и опускания, смешивания, метаморфоза; так что можно было получить представление не только о продуктах деятельности земли – её породах, её минералах – но и о физических и химических процессах, которые постоянно их создавали.
Наверху находилось колоссальное скопление стибнита – блестящие черные, копьевидные призмы сульфида сурьмы. Я видел сульфид сурьмы как неприметный черный порошок в лаборатории дяди Дэйва, но здесь я увидел его в кристаллах высотой пять или шесть футов. Я поклонялся этим призмам; они стали для меня своего рода тотемом или фетишем. Эти сказочные кристаллы, крупнейшие в своем роде в мире, пришли, как гласила легенда, из шахты Ичинокава на острове Сикоку в Японии. Когда я вырасту, думал я, когда смогу путешествовать, я посещу этот остров, отдам дань уважения богу. Позже я узнал, что стибнит встречается во многих местах, но то первое впечатление неразрывно связало его в моем сознании с Японией, так что Япония навсегда стала для меня Страной Стибнита. Аналогично Австралия стала Страной Опала, не меньше чем Страной Кенгуру и Утконоса.
В музее также была огромная масса галенита – она должна была весить больше тонны – которая сформировалась в блестящие темно-серые кубы размером пять-шесть дюймов, в которых часто были встроены кубы поменьше. В свою очередь, глядя через свою лупу, я мог видеть, что из них словно вырастали еще меньшие кубы. Когда я упомянул об этом дяде Дэйву, он сказал, что галенит кубический насквозь, и если бы я мог посмотреть на него с увеличением в миллион раз, я бы все равно увидел кубы и меньшие кубы, прикрепленные к ним. Форма кубов галенита, как и всех кристаллов, говорил дядя, была выражением того, как расположены их атомы, фиксированные трехмерные узоры или решетки, которые они образуют. Это происходило из-за связей между ними, говорил он, связей электростатической природы, и фактическое расположение атомов в кристаллической решетке отражало самую плотную упаковку, которую допускали притяжения и отталкивания между атомами. То, что кристалл был построен из повторения бесчисленных идентичных решеток – что он был, по сути, одной гигантской самовоспроизводящейся решеткой – казалось мне чудесным. Кристаллы были как колоссальные микроскопы, позволяющие увидеть реальную конфигурацию атомов внутри них. Я почти мог видеть мысленным взором атомы свинца и серы, составляющие галенит – я представлял их слегка вибрирующими от электрической энергии, но в остальном прочно удерживаемыми на месте, соединенными друг с другом, скоординированными в бесконечной кубической решетке.
У меня были видения (особенно после историй о моих дядях в их время геологоразведки) о том, как я сам стану своего рода юным геологом, вооруженным зубилом, молотком и сумками для сбора трофеев, обнаруживающим никогда ранее не описанные виды минералов. Я действительно пытался немного заниматься разведкой в нашем саду, но нашел лишь странные осколки мрамора и кремня. Я жаждал отправиться в геологические экскурсии, чтобы самому увидеть узоры пород, богатство минерального мира. Это желание разжигалось моим чтением не только отчетов великих натуралистов и исследователей, но и более скромных книг, которые попадались под руку, таких как маленькая книга Даны “Геологическая история” с ее прекрасными иллюстрациями, и моя любимая “Книга игр с металлами” девятнадцатого века с подзаголовком “Личные повествования о посещениях угольных, свинцовых, медных и оловянных шахт”. Я хотел сам посетить разные шахты, и не только медные, свинцовые и оловянные шахты в Англии, но и золотые и алмазные шахты, которые привлекли моих дядей в Африку. Но за неимением этого, музей мог предоставить микрокосм мира – компактный, привлекательный, квинтэссенцию опыта бесчисленных коллекционеров и исследователей, их материальных сокровищ, их размышлений и мыслей.
Я поглощал информацию, представленную в описаниях каждой экспозиции. Среди прелестей минералогии были красивые и часто древние термины. Vug (пустота), как рассказал мне дядя Дэйв, был термином, используемым старыми оловянными шахтерами Корнуолла, и происходил из корнуоллского диалектного слова vooga (или fouga), означающего подземную камеру; в конечном счете это происходило от латинского fovea, яма. Меня интриговала мысль о том, что это забавное, некрасивое слово свидетельствовало о древности горного дела, о первой колонизации Англии римлянами, привлеченными оловянными шахтами Корнуолла. Само название оловянной руды, касситерит, происходило от Кассетеридов, “Оловянных островов” римлян.
Названия минералов особенно очаровывали меня – их звучание, ассоциации, ощущение людей и мест, которое они давали. Старые названия создавали ощущение древности и алхимии: корунд и галенит, аурипигмент и реальгар. (Аурипигмент и реальгар, два сульфида мышьяка, благозвучно сочетались и заставляли меня думать об оперной паре, как Тристан и Изольда.) Был пирит, золото дураков, в латунных, металлических кубах, и халцедон, и рубин, и сапфир, и шпинель. Циркон звучал по-восточному, каломель по-гречески – его медовая сладость, его “мель”, опровергалась его ядовитостью. Был средневеково звучащий нашатырь. Был киноварь, тяжелый красный сульфид ртути, и массикот и сурик, парные оксиды свинца.
Затем были минералы, названные в честь людей. Одним из самых распространенных минералов, составляющим большую часть красноты мира, был гидратированный оксид железа, называемый гётитом. Был ли он назван в честь Гёте, или он его открыл? Я читал, что у него была страсть к минералогии и химии. Многие минералы были названы в честь химиков – гейлюссит, шеелит, берцелианит, бунзенит, либигит, крукезит и красивый, призматический “рубиновое серебро”, прустит. Был самарскит, названный в честь горного инженера полковника Самарского. Были другие названия, которые были более злободневно выразительными: штольцит, вольфрамат свинца, и шольцит тоже. Кто были Штольц и Шольц? Их имена казались мне очень прусскими, и это, сразу после войны, вызывало антинемецкие чувства. Я представлял Штольца и Шольца как нацистских офицеров с лающими голосами, тростями со шпагами и моноклями.
Другие названия привлекали меня просто своим звучанием или образами, которые они вызывали. Я любил классические слова и их описание простых свойств – кристаллических форм, цветов, форм и оптики минералов – как диаспор и анатаз и микролит и поликраз. Большим фаворитом был криолит – ледяной камень из Гренландии, с таким низким показателем преломления, что он был прозрачным, почти призрачным, и, как лед, становился невидимым в воде.5
Многим элементам были даны имена из фольклора или мифологии, иногда раскрывающие немного их истории. Кобольд был гоблином или злым духом, никель – дьяволом; оба термина использовались саксонскими шахтерами, когда кобальтовые и никелевые руды оказывались коварными и не давали того, что должны были. Тантал вызывал видения Тантала, мучимого в аду водой, которая отступала от него всякий раз, когда он наклонялся, чтобы напиться; элемент получил свое имя, как я прочитал, потому что его оксид не мог “пить воду”, то есть растворяться в кислотах. Ниобий был назван в честь дочери Тантала, Ниобы, потому что эти два элемента всегда находили вместе.
(В моих книгах 1860-х годов в этом семействе упоминался третий элемент, пелопий – Пелоп был сыном Тантала, которого тот приготовил и подал богам – но позже существование этого элемента было опровергнуто.)
Другие элементы имели астрономические названия. Был уран, открытый в восемнадцатом веке и названный в честь планеты Уран; и несколько лет спустя, палладий и церий, названные в честь недавно открытых астероидов Паллада и Церера. Теллур имел прекрасное, земное греческое название, и было только естественно, что когда был найден его более легкий аналог, его назвали селеном, в честь луны.6
Я любил читать об элементах и их открытии – не только о химической стороне, но и о человеческих аспектах этого предприятия, и всё это, и больше, я узнал из восхитительной книги, опубликованной как раз перед войной Мэри Эльвирой Уикс, “Открытие элементов”. Здесь я получил яркое представление о жизни многих химиков, большом разнообразии и иногда причудах характера, которые они проявляли. И здесь я нашел цитаты из писем ранних химиков, которые изображали их волнения и отчаяние, когда они на ощупь пробирались к своим открытиям, время от времени теряя след, попадая в тупики, хотя в конечном итоге достигая поставленных целей.
Моя история и география в детстве, история и география, которые трогали меня, основывались больше на химии, чем на войнах или мировых событиях. Я следил за судьбами ранних химиков более внимательно, чем за судьбами противоборствующих сил в войне (возможно, действительно, они помогали изолировать меня от пугающей реальности вокруг). Я жаждал отправиться в “ultima Thule”, далекий северный дом элемента тулия, и посетить маленькую деревню Иттербю в Швеции, которая дала свое имя не менее чем четырем элементам (иттербий, тербий, эрбий, иттрий). Я стремился попасть в Гренландию, где, как я воображал, были целые горные хребты, прозрачные, едва видимые, из призрачного криолита. Я мечтал поехать в Стронциан в Шотландии, чтобы увидеть маленькую деревню, давшую название стронцию. Всю Британию для меня можно было рассматривать с точки зрения её многочисленных свинцовых минералов – был матлокит, названный в честь Матлока в Дербишире; ледхиллит, названный в честь Ледхиллс в Ланаркшире; ланаркит, также из Ланаркшира; и прекрасный сульфат свинца, англезит, с острова Англси в Уэльсе. (Был также город Лед в Южной Дакоте – город, который я любил представлять действительно построенным из металлического свинца.) Географические названия элементов и минералов выделялись для меня как огни на карте мира.
***
Увидев минералы в музее, я загорелся желанием приобрести маленькие пакетики со “смешанными минералами” в местном магазине за несколько пенни; в них были кусочки пирита, галенита, флюорита, куприта, гематита, гипса, сидерита, малахита и различных форм кварца, к которым дядя Дейв мог добавить более редкие экземпляры, например, крошечные фрагменты шеелита, отколовшиеся от его большого образца. Большинство моих минералов были довольно потрепанными, часто такими маленькими, что настоящий коллекционер бы их презрительно отверг, но они давали мне ощущение, что у меня есть свой собственный кусочек природы.
Именно благодаря изучению минералов в Геологическом музее и их химических формул я узнал об их составе. Некоторые имели простой и неизменный состав – это относилось к киновари, сульфиду ртути, который всегда содержал одинаковую пропорцию ртути и серы, независимо от того, где был найден конкретный образец. Но с многими другими минералами дело обстояло иначе, включая любимый дядей Дейвом шеелит. Хотя шеелит в идеале представлял собой чистый вольфрамат кальция, некоторые образцы содержали также определенное количество молибдата кальция. Чистый молибдат кальция, наоборот, встречался в природе как минерал повеллит, но некоторые образцы повеллита также содержали небольшое количество вольфрамата кальция. Фактически, можно было встретить любые промежуточные варианты между ними, от минерала, содержащего 99 процентов вольфрамата и 1 процент молибдата, до минерала с 99 процентами молибдата и 1 процентом вольфрамата. Это происходило потому, что вольфрам и молибден имели атомы и ионы схожего размера, так что ион одного элемента мог заменить другой в кристаллической решетке минерала. Но прежде всего это было потому, что вольфрам и молибден принадлежали к одной химической группе или семейству, и природа обращалась с ними, имеющими схожие химические и физические свойства, очень похожим образом. Так, оба элемента имели тенденцию образовывать схожие соединения с другими элементами, и оба обычно встречались в природе в виде кислых солей, кристаллизующихся из растворов в схожих условиях.
Эти два элемента образовывали естественную пару, были химическими братьями. Это братское родство было еще более тесным у элементов ниобия и тантала, которые обычно встречались вместе в одних и тех же минералах. А братство приближалось к идентичному близнецовству в случае элементов циркония и гафния, которые не только неизменно встречались вместе в одних и тех же минералах, но и были настолько химически похожи, что потребовалось столетие, чтобы различить их – сама Природа едва могла это сделать.
Бродя по Геологическому музею, я также получил представление об огромном разнообразии, тысячах различных минералов в земной коре, и об относительном распространении элементов, из которых они состоят. Кислород и кремний были подавляюще распространены – силикатных минералов было больше, чем любых других, не говоря уже обо всех песках мира. А по основным породам мира – мелу и полевым шпатам, гранитам и доломитам – можно было понять, что магний, алюминий, кальций, натрий и калий должны составлять девять десятых или более земной коры. Железо тоже было распространено; казалось, что целые районы Австралии были такими же железно-красными, как Марс. И я мог добавить в свою коллекцию маленькие фрагменты всех этих элементов в форме минералов.
Восемнадцатый век, как рассказывал мне дядя, был великим временем для открытия и выделения новых металлов (не только вольфрама, но и десятка других), и величайшей задачей для химиков восемнадцатого века было то, как отделить эти новые металлы от их руд. Именно так химия, настоящая химия, встала на ноги, исследуя бесчисленные различные минералы, анализируя их, разбивая их на составные части, чтобы увидеть, что они содержат. Настоящий химический анализ – наблюдение за тем, с чем реагируют минералы или как они ведут себя при нагревании или растворении – конечно, требовал лаборатории, но были элементарные наблюдения, которые можно было делать практически где угодно. Можно было взвесить минерал в руке, оценить его плотность, наблюдать его блеск, цвет его черты на фарфоровой пластинке. Твёрдость сильно варьировалась, и можно было легко получить грубое приближение – тальк и гипс можно было поцарапать ногтем; кальцит – монетой; флюорит и апатит – стальным ножом; а ортоклаз – стальным напильником. Кварц мог царапать стекло, а корунд мог поцарапать всё, кроме алмаза.
Классическим способом определения относительной плотности или удельного веса образца было взвешивание фрагмента минерала дважды - в воздухе и в воде, чтобы получить отношение его плотности к плотности воды. Другой, более простой способ, который доставлял мне особое удовольствие, заключался в исследовании плавучести различных минералов в жидкостях с разным удельным весом - здесь приходилось использовать “тяжелые” жидкости, поскольку все минералы, кроме льда, были плотнее воды. У меня была серия тяжелых жидкостей: сначала бромоформ, который был почти в три раза плотнее воды, затем йодистый метилен, который был еще плотнее, и, наконец, насыщенный раствор двух солей таллия, называемый раствором Клеричи. Его удельный вес был значительно больше четырех, и хотя он выглядел как обычная вода, многие минералы и даже некоторые металлы легко в нем плавали. Я любил приносить свою маленькую бутылочку с раствором Клеричи в школу, просить людей подержать ее и наблюдать за их удивленными лицами, когда они ощущали ее вес, почти в пять раз превышающий ожидаемый.
В школе я был довольно застенчивым (в одном школьном отчете меня назвали “нерешительным”), и Брейфилд добавил особой робости, но когда у меня было какое-нибудь природное чудо - будь то осколки от бомбы, или кусок висмута с его террасами призм, напоминающими миниатюрную деревню ацтеков, или моя маленькая бутылочка с поразительно тяжелым, сенсорно ошеломляющим раствором Клеричи, или галлий, который таял в руке (позже я раздобыл форму и сделал чайную ложку из галлия, которая уменьшалась и таяла, когда ею размешивали чай) - я забывал о своей нерешительности и свободно подходил к другим, совершенно забыв о страхе.
7
Химические рекреации
Мои родители и братья познакомили меня, еще до войны, с некоторыми кухонными химическими опытами: наливание уксуса на кусок мела в стакане и наблюдение за шипением, затем переливание образовавшегося тяжелого газа, словно невидимого водопада, на пламя свечи, мгновенно его гася. Или взятие красной капусты, маринованной в уксусе, и добавление бытового аммиака для нейтрализации. Это приводило к удивительной трансформации: сок проходил через всевозможные цвета, от красного через различные оттенки фиолетового к бирюзовому и синему, и наконец к зеленому.
После войны, с моим новым интересом к минералам и цветам, мой брат Дэвид, который выращивал кристаллы, когда изучал химию в школе, показал мне, как делать это самому. Он научил меня создавать перенасыщенный раствор, растворяя соль, такую как квасцы или медный купорос, в очень горячей воде и затем давая ей остыть. Нужно было подвесить что-нибудь – нитку или кусочек металла – в растворе, чтобы начать процесс. Я впервые сделал это с шерстяной ниткой в растворе медного купороса, и через несколько часов образовалась красивая цепочка ярко-синих кристаллов, растущих вдоль нити.
Но когда я использовал раствор квасцов и хороший затравочный кристалл для начала, я обнаружил, что кристалл рос равномерно со всех сторон, давая мне один большой, идеально октаэдрический кристалл квасцов.
Позже я реквизировал кухонный стол для создания “химического сада”, засевая сиропообразный раствор силиката натрия, или жидкого стекла, различно окрашенными солями железа, меди, хрома и марганца. Это создавало не кристаллы, а извивающиеся, похожие на растения образования в жидком стекле, которые растягивались, почковались, лопались, постоянно меняя форму перед моими глазами.7 Такой рост, как объяснил мне Дэвид, был обусловлен осмосом, где желатиновый кремнезем жидкого стекла действовал как “полупроницаемая мембрана”, позволяя воде проникать в концентрированный минеральный раствор внутри. Такие процессы, сказал он, имеют решающее значение в живых организмах, хотя они происходят и в земной коре, и это напомнило мне о гигантских узловатых, почкообразных массах гематита, которые я видел в музее – на этикетке было написано “почечная руда” (хотя Маркус однажды сказал мне, что это окаменелые почки динозавров).
Мне нравились эти эксперименты, и я пытался представить происходящие процессы, но я не чувствовал настоящей химической страсти – желания соединять, выделять, разлагать, наблюдать за изменением веществ, исчезновением знакомых и появлением новых – пока не увидел лабораторию дяди Дэйва и его увлеченность экспериментами всех видов. Теперь я страстно желал иметь собственную лабораторию – не рабочий стол дяди Дэйва, не семейную кухню, а место, где я мог бы проводить химические эксперименты без помех, самостоятельно. Для начала я хотел заполучить кобальтит и никелин, а также соединения или минералы марганца и молибдена, урана и хрома – все эти замечательные элементы, которые были открыты в восемнадцатом веке. Я хотел измельчать их, обрабатывать кислотой, прокаливать, восстанавливать – что бы ни потребовалось – чтобы самому извлечь из них металлы. Я знал из химического каталога на фабрике, что можно купить эти металлы уже очищенными, но было бы гораздо веселее и увлекательнее, как я считал, получить их самому. Таким образом, я бы вошел в химию, начал открывать ее для себя так же, как это делали первые исследователи – я бы прожил историю химии сам.
И поэтому я устроил небольшую лабораторию у себя дома. Я занял неиспользуемую заднюю комнату, изначально прачечную, в которой была проточная вода, раковина со стоком и различные шкафчики и полки. Удобно было то, что эта комната выходила в сад, так что если я создавал что-то, что загоралось, выкипало или выделяло ядовитые пары, я мог выбежать с этим наружу и выбросить на газон. На газоне вскоре появились обожженные и обесцвеченные пятна, но это, как считали мои родители, было небольшой ценой за мою безопасность – и, возможно, их собственную тоже. Но видя случайные пылающие шарики, пролетающие по воздуху, и общую турбулентность и безрассудство, с которыми я делал вещи, они встревожились и настояли на том, чтобы я планировал эксперименты и был готов справляться с пожарами и взрывами.
Дядя Дэйв подробно консультировал меня по выбору оборудования – пробирок, колб, мерных цилиндров, воронок, пипеток, горелки Бунзена, тиглей, часовых стекол, платиновой петли, эксикатора, паяльной трубки, реторты, различных шпателей, весов. Он также советовал мне по основным реагентам – кислотам и щелочам, некоторые из которых он дал мне из своей собственной лаборатории, вместе с запасом бутылок с притертыми пробками всех размеров, бутылок разных форм и цветов (темно-зеленых или коричневых для светочувствительных химикатов), с идеально подходящими притертыми стеклянными пробками.
Примерно раз в месяц я пополнял запасы своей лаборатории, посещая магазин химических товаров далеко в Финчли, расположенный в большом сарае на расстоянии от соседей (которые, как я представлял, смотрели на него с некоторой тревогой, как на место, которое могло взорваться или выпустить ядовитые пары в любой момент). Я копил карманные деньги неделями – иногда кто-то из моих дядей, одобряя мою тайную страсть, подбрасывал мне полкроны или около того – а затем ехал на нескольких поездах и автобусах до магазина.
Мне нравилось бродить по Griffin & Tatlock, как по книжному магазину. Более дешевые химикаты хранились в огромных стеклянных урнах с пробками; более редкие и дорогие вещества хранились в меньших бутылках за прилавком. Плавиковую кислоту – опасное вещество, используемое для травления стекла – нельзя было хранить в стекле, поэтому ее продавали в специальных маленьких бутылках из коричневой гуттаперчи. Под рядами урн и бутылок на полках стояли большие бутыли с кислотами – серной, азотной, царской водкой; круглые фарфоровые бутылки с ртутью (семь фунтов которой помещались в бутылку размером с кулак) и плиты и слитки более распространенных металлов. Продавцы вскоре узнали меня – увлеченного и довольно низкорослого школьника, сжимающего свои карманные деньги, проводящего часы среди банок и бутылок – и хотя они иногда предупреждали меня: “Осторожнее с этим!”, они всегда позволяли мне покупать то, что я хотел.
***
Мой первый интерес был к зрелищному – пенообразованию, свечению, вони и взрывам, которые практически определяют первое знакомство с химией. Одним из моих руководств была книга Дж.Дж. Гриффина “Химические развлечения” примерно 1850-х годов, которую я нашел в букинистическом магазине. У Гриффина был легкий, практичный и, прежде всего, игривый стиль; химия явно доставляла ему удовольствие, и он делал ее увлекательной для своих читателей, которыми, как я решил, часто были мальчики вроде меня, поскольку у него были такие разделы, как “Химия на каникулах” – включая “Летучий сливовый пудинг” (“когда крышка снимается… он покидает свою тарелку и поднимается к потолку”), “Фонтан огня” (с использованием фосфора – “оператор должен следить, чтобы не обжечься”), и “Блестящее сгорание” (здесь тоже предупреждали “немедленно убрать руку”). Меня позабавило упоминание особой формулы (вольфрамата натрия) для придания негорючести дамским платьям и занавескам – неужели пожары были так распространены в викторианские времена? – и я использовал ее, чтобы сделать огнеупорным носовой платок.
Книга начиналась с “Элементарных экспериментов”, сначала с растительными красителями, наблюдением за изменением их цвета под действием кислот и щелочей. Самым распространенным растительным красителем был лакмус – он получался из лишайника, как говорил Гриффин. Я использовал лакмусовую бумагу, которую мой отец хранил в своей аптеке, и наблюдал, как она становится красной от разных кислот или синей от щелочного аммиака.
Гриффин предлагал эксперименты с отбеливанием – здесь я использовал мамин отбеливающий порошок вместо хлорной воды, которую он предлагал, и с его помощью отбелил лакмусовую бумагу, капустный сок и красный носовой платок моего отца. Гриффин также предлагал подержать красную розу над горящей серой, чтобы образующийся диоксид серы отбелил ее. Погружение в воду чудесным образом восстанавливало ее цвет.
Отсюда Гриффин перешел (и я вместе с ним) к “симпатическим чернилам”, которые становились видимыми только при нагревании или специальной обработке. Я экспериментировал с несколькими такими – соли свинца, которые чернели от сероводорода; соли серебра, которые темнели при воздействии света; соли кобальта, которые становились видимыми при высушивании или нагревании. Все это было забавно, но это была и химия тоже.
В доме было много других старых книг по химии, некоторые из которых принадлежали моим родителям со времен их учебы в медицинском институте, а некоторые, более новые, принадлежали моим старшим братьям Маркусу и Дэвиду. Одной из таких была “Практическая химия” Валентина – рабочая лошадка среди книг – прямолинейная, неизобретательная, приземленная по тону, задуманная как практическое руководство, но тем не менее для меня полная чудес. На внутренней стороне обложки, проржавевшей, выцветшей и запятнанной (поскольку она в свое время поработала в лаборатории), были написаны слова “Наилучшие пожелания и поздравления 21/1/13 – Мик” – она была подарена моей матери на ее восемнадцатилетие ее двадцатипятилетним братом Миком, который уже тогда был химиком-исследователем. Дядя Мик, младший брат Дэйва, ездил в Южную Африку со своими братьями, а по возвращении работал на оловянной шахте. Мне говорили, что он любил олово так же сильно, как дядя Дэйв любил вольфрам, и в семье его иногда называли дядей Оловом. Я никогда не знал дядю Мика, поскольку он умер от злокачественной опухоли в год моего рождения – ему было всего сорок пять лет – став, как считала его семья, жертвой высокого уровня радиации в урановых шахтах Африки. Но моя мать была очень близка с ним, и его память и образ живо сохранились в ее сознании. То, что это была собственная книга по химии моей матери, и память о никогда не встреченном молодом дяде-химике, который подарил ее ей, делало книгу особенно ценной для меня.
В викторианскую эпоху существовал большой общественный интерес к химии, и во многих домах были свои лаборатории, как были оранжереи с папоротниками и стереоскопы. “Химические развлечения” Гриффина изначально были опубликованы около 1830 года и были настолько популярны, что постоянно пересматривались и выпускались в новых изданиях; у меня было десятое издание, опубликованное в 1860 году. 8
Сопутствующим томом к книге Гриффина, опубликованным примерно в то же время и в таком же зеленом переплете с позолотой, была “Наука домашней жизни” А.Дж. Бернейса, которая фокусировалась на угле, угольном газе, свечах, мыле, стекле, фарфоре, керамике, дезинфицирующих средствах – всем, что могло содержаться в викторианском доме (и многое из чего все еще содержалось в домах столетие спустя).
Очень отличающейся по стилю и содержанию, хотя также призванной пробудить чувство удивления (“Обычная жизнь человека полна Чудес, Химических и Физиологических. Большинство из нас проходит через эту жизнь, не видя их и не осознавая их…”), была книга “Химия обычной жизни” Дж.Ф.В. Джонстона, написанная в 1859 году. В ней были увлекательные главы о “Запахах, которые нам нравятся”, “Запахах, которые мы не любим”, “Цветах, которыми мы восхищаемся”, “Теле, которое мы лелеем”, “Растениях, которые мы выращиваем”, и не менее восьми глав о “Наркотиках, которыми мы увлекаемся”. Это познакомило меня не только с химией, но и с панорамой экзотических человеческих поведений и культур.
Гораздо более ранней книгой, потрепанную копию которой мне удалось приобрести за шесть пенсов – у неё не было обложек и не хватало нескольких страниц – была “Химическая карманная книга” или “Memoranda Chemica”, написанная в 1803 году. Автором был Джеймс Паркинсон из Хокстона, с которым я снова встретился во время изучения биологии как с основателем палеонтологии, а затем еще раз, когда был студентом-медиком, как с автором знаменитого “Эссе о дрожательном параличе” – который стал известен как болезнь Паркинсона. Но для меня, в одиннадцать лет, он был просто автором этой восхитительной маленькой карманной книги по химии. Из его книги я получил четкое представление о том, как стремительно развивалась химия в начале девятнадцатого века; так, Паркинсон говорил о десяти новых металлах – уране, теллуре, хроме, колумбии (ниобии), тантале, церии, палладии, родии, осмии, иридии – все они были открыты в предшествующие несколько лет.
***
Именно от Гриффина я впервые получил четкое представление о том, что такое “кислоты” и “щелочи” и как они соединяются, образуя “соли”. Дядя Дэйв продемонстрировал противодействие кислот и оснований, отмерив точные количества соляной кислоты и едкого натра, которые он смешал в стакане. Смесь стала очень горячей, но когда она остыла, он сказал: “Теперь попробуй, выпей это”. Выпить – он что, сошел с ума? Но я сделал это и почувствовал только вкус соли. “Видишь ли, – объяснил он, – кислота и основание соединяются и нейтрализуют друг друга; они комбинируются и образуют соль”.
Я спросил, может ли это чудо произойти в обратном направлении? Можно ли заставить соленую воду снова произвести кислоту и основание? “Нет, – сказал дядя, – для этого потребовалось бы слишком много энергии. Ты видел, как нагрелась смесь, когда кислота и основание прореагировали – такое же количество тепла потребовалось бы для обращения реакции. И соль, – добавил он, – очень стабильна. Натрий и хлорид крепко держат друг друга, и никакой обычный химический процесс не разделит их. Чтобы разделить их, нужно использовать электрический ток”.
Однажды он продемонстрировал это более драматично, поместив кусочек натрия в банку, наполненную хлором. Произошло бурное возгорание, натрий загорелся и горел, причудливо, в желто-зеленом хлоре – но когда все закончилось, результатом была всего лишь обычная соль. После этого, я думаю, у меня появилось повышенное уважение к соли, увидев те жесткие противоположности, которые соединились при её образовании, и силу энергий, элементарных сил, которые теперь были заключены в соединении.
Здесь тоже, показал дядя Дэйв, пропорции должны были быть точными: 23 части натрия по весу на 35,5 хлора. Меня поразили эти числа, потому что они были уже знакомы: я видел их в списках в моих книгах; это были “атомные веса” этих элементов. Я выучил эти числа наизусть, так же бессмысленно, как учат таблицу умножения. Но когда дядя Дэйв упомянул эти самые числа в связи с химическим соединением двух элементов, в моей голове начался медленный, подспудный процесс сомнения.
***
Помимо моей коллекции минеральных образцов, у меня была коллекция монет, хранившаяся в небольшом деревянном шкафчике из хорошо отполированного красного дерева, с дверцами, которые открывались как двери игрушечного театра, обнаруживая ряд тонких лотков с бархатными кружками для монет – некоторые размером всего в четверть дюйма (для гроутов, серебряных трехпенсовиков и монет Манди, крошечных серебряных монет, которые давали бедным на Пасху), другие почти два дюйма в диаметре (для кроун, которые я любил, и даже больше них – гигантские двухпенсовики, сделанные в конце восемнадцатого века).
Были также альбомы с марками, и больше всего я любил марки отдаленных островов с изображениями местных пейзажей и растений, марки, которые сами по себе могли обеспечить воображаемое путешествие. Я обожал марки с изображением различных минералов и необычные марки разных видов – треугольные, беззубцовые, марки с перевернутыми водяными знаками или отсутствующими буквами, или с рекламой, напечатанной на обороте. Одной из моих любимых была странная сербско-хорватская марка 1914 года, на которой, как говорили, при взгляде под определенным углом можно было увидеть черты убитого эрцгерцога Фердинанда. Но самой близкой моему сердцу была особая коллекция автобусных билетов. В те времена, когда садились в автобус в Лондоне, получали цветной прямоугольный картонный билет с буквами и цифрами. После того как я получил O 16 и S 32 (мои инициалы, а также символы кислорода и серы – и к тому же, по счастливой случайности, их атомные веса), я решил собрать коллекцию “химических” автобусных билетов, чтобы посмотреть, сколько из девяноста двух элементов я смогу получить. Мне необычайно везло, как мне казалось (хотя это была чистая случайность), билеты накапливались быстро, и вскоре у меня была целая коллекция (W 184, вольфрам, доставил мне особое удовольствие, отчасти потому, что предоставил мой недостающий средний инициал). Были, конечно, некоторые сложные случаи: хлор, раздражающе, имел атомный вес 35.5, что не было целым числом, но, не унывая, я собрал CI 355 и чернилами нарисовал крошечную десятичную точку. Одиночные буквы было легче получить – у меня вскоре появились H 1, B 11, C 12, N 14 и F 19, помимо первоначального O 16. Когда я понял, что атомные номера даже важнее атомных весов, я начал собирать и их тоже. В конце концов у меня были все известные элементы, от H 1 до U 92. Каждый элемент стал для меня неразрывно связан с числом, а каждое число – с элементом. Я любил носить с собой мою маленькую коллекцию химических автобусных билетов; это давало мне ощущение, что в пространстве всего одного кубического дюйма у меня в кармане находится вся вселенная, её строительные блоки.
8
Вонь и Взрывы
Привлеченные звуками, вспышками и запахами, доносящимися из моей лаборатории, Дэвид и Маркус, теперь студенты-медики, иногда присоединялись ко мне в экспериментах – разница в возрасте в девять-десять лет в такие моменты почти не имела значения. Однажды, когда я экспериментировал с водородом и кислородом, прогремел громкий взрыв, и почти невидимый лист пламени полностью сжег брови Маркуса. Но Маркус отнесся к этому спокойно, и они с Дэвидом часто предлагали другие эксперименты.
Мы смешивали перхлорат калия с сахаром, клали смесь на заднее крыльцо и ударяли молотком. Это вызывало очень удовлетворительный взрыв. С трийодидом азота было сложнее – его легко получить, добавив концентрированный аммиак к йоду, собрав трийодид азота на фильтровальной бумаге и высушив эфиром. Трийодид азота был невероятно чувствителен к прикосновению; достаточно было дотронуться до него палкой – длинной палкой (или даже пером) – и он взрывался с удивительной силой.
Мы вместе создали “вулкан” из дихромата аммония, поджигая пирамиду из оранжевых кристаллов, которые затем яростно пылали, раскаляясь докрасна, разбрасывая во все стороны снопы искр и зловеще разбухая, как извергающийся миниатюрный вулкан. Наконец, когда все утихло, на месте аккуратной пирамиды кристаллов образовалась огромная пушистая куча темно-зеленого оксида хрома.
Другой опыт, предложенный Дэвидом, заключался в том, чтобы налить концентрированную, маслянистую серную кислоту на немного сахара. Сахар мгновенно становился чёрным, нагревался, парил и расширялся, превращаясь в чудовищный столб углерода, поднимавшийся высоко над краем стакана. «Берегись, – сказал Дэвид, пока я заворожённо смотрел на это превращение, – если на тебя попадёт кислота, ты сам превратишься в столб углерода». Затем он рассказал мне жуткие истории, скорее всего вымышленные, о случаях плескания кислотой в Ист-Лондоне и пациентах, которых он видел в больнице с почти полностью сожжёнными лицами. (Я был не совсем уверен, стоит ли ему верить, ведь когда я был младше, он говорил мне, что если я посмотрю на коэнов, благословляющих нас в синагоге, – их головы были покрыты большим платком, талитом, пока они молились, так как в этот момент они были озарены ослепительным светом Бога, – мои глаза расплавятся в глазницах и потекут по щекам, как жареные яйца.)9
***
Я проводил много времени в лаборатории, изучая химические цвета и экспериментируя с ними. Некоторые цвета обладали для меня особой, таинственной силой – особенно это касалось очень глубоких и чистых синих оттенков. В детстве я любил насыщенный, яркий синий цвет реактива Фелинга в аптеке отца, так же как я любил конус чистого синего цвета в центре пламени свечи. Я обнаружил, что могу получать очень интенсивные синие цвета с помощью некоторых соединений кобальта, медно-аммиачных соединений и сложных соединений железа, таких как берлинская лазурь.
Но самым таинственным и красивым из всех синих цветов для меня был тот, который получался при растворении щелочных металлов в жидком аммиаке (дядя Дейв показал мне это). Сам факт того, что металлы вообще могли растворяться, поначалу поражал, но щелочные металлы все были растворимы в жидком аммиаке (некоторые до удивительной степени – цезий мог полностью раствориться в трети своего веса аммиака). Когда растворы становились более концентрированными, они внезапно меняли свой характер, превращаясь в блестящие бронзового цвета жидкости, которые плавали на синем – и в этом состоянии они проводили электричество так же хорошо, как жидкий металл ртуть. Щелочноземельные металлы работали так же, и не имело значения, был ли растворённым веществом натрий или калий, кальций или барий – аммиачные растворы в каждом случае имели одинаковый глубокий синий цвет, предполагая присутствие какого-то вещества, какой-то структуры, чего-то общего для них всех. Это был цвет как у азурита в Геологическом музее, истинный цвет небес.
Многие так называемые переходные элементы придавали своим соединениям характерные цвета – большинство солей кобальта и марганца были розовыми; большинство солей меди – глубокого синего или зеленовато-синего цвета; большинство солей железа – бледно-зеленые, а соли никеля – более темно-зеленые. Аналогично, в минимальных количествах переходные элементы придавали драгоценным камням их особые цвета. Сапфиры, химически, были по сути просто корундом, бесцветным оксидом алюминия, но они могли принимать любой цвет спектра – с небольшим количеством хрома, заменяющего часть алюминия, они становились рубиново-красными; с небольшим количеством титана – глубоко синими; с закисным железом – зелеными; с окисным железом – желтыми. А с небольшим количеством ванадия корунд начинал напоминать александрит, волшебно меняясь между красным и зеленым – красным при свете лампы накаливания, зеленым при дневном свете. По крайней мере с некоторыми элементами, малейшая примесь атомов могла создать характерный цвет. Ни один химик не смог бы “окрасить” корунд с такой деликатностью, несколькими атомами одного, несколькими ионами другого, чтобы получить целый спектр цветов.
Было всего несколько таких “окрашивающих” элементов – титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель и медь, насколько я мог видеть, были основными. Я не мог не заметить, что они все были сгруппированы вместе по атомному весу – хотя означало ли это что-то или было просто совпадением, я тогда не знал. Я узнал, что для всех них было характерно наличие нескольких возможных валентных состояний, в отличие от большинства других элементов, которые имели только одно. Натрий, например, мог соединяться с хлором только одним способом, один атом натрия на один атом хлора. Но существовало два сочетания железа и хлора: атом железа мог соединяться с двумя атомами хлора, образуя хлорид железа (II) (FeCl₂), или с тремя атомами хлора, образуя хлорид железа (III) (FeCl₃). Эти два хлорида во многом отличались друг от друга, в том числе и по цвету.
Поскольку ванадий имел четыре поразительно разных валентности или состояния окисления, и их было легко преобразовывать друг в друга, он был идеальным элементом для экспериментов. Простейший способ восстановления ванадия заключался в том, чтобы начать с пробирки, наполненной раствором (пятивалентного) ванадата аммония, и добавить небольшие кусочки амальгамы цинка. Амальгама немедленно реагировала, и раствор менялся с желтого на королевский синий (цвет четырехвалентного ванадия). В этот момент можно было удалить амальгаму или позволить реакции продолжаться, пока раствор не станет зеленым – цветом трехвалентного ванадия. Если подождать еще дольше, зеленый цвет исчезал и заменялся красивым сиреневым – цветом двухвалентного ванадия. Обратный эксперимент был еще красивее, особенно если наслоить перманганат калия, темно-фиолетовый слой, поверх нежно-сиреневого; он окислялся в течение нескольких часов и образовывал отдельные слои, один над другим: сиреневый двухвалентный ванадий внизу, затем зеленый трехвалентный ванадий, затем синий четырехвалентный ванадий, затем желтый пятивалентный ванадий (а поверх этого – насыщенный коричневый слой исходного перманганата, ставшего коричневым из-за смешения с диоксидом марганца).
Эти опыты с цветом убедили меня в том, что существует очень тесная (хотя и непонятная) связь между атомным характером многих элементов и цветом их соединений или минералов. Один и тот же цвет проявлялся независимо от того, какое соединение рассматривалось. Это мог быть, например, карбонат марганца, или нитрат, или сульфат, или что-либо еще – все они имели идентичный розовый цвет двухвалентного иона марганца (перманганаты, напротив, где ион марганца был семивалентным, все были темно-фиолетовыми). И из этого у меня возникло смутное ощущение – которое я, конечно, не мог точно сформулировать в то время – что цвет этих ионов металлов, их химический цвет, был связан с особым состоянием их атомов при переходе из одного окислительного состояния в другое. Что было такого особенного в переходных элементах, что придавало им их характерные цвета? Были ли эти вещества, их атомы, каким-то образом “настроены”? 10
***
Я понимаю, что нужно быть осторожным с переводом текстов, содержащих описания потенциально опасных химических реакций. Позвольте мне перевести только общие научные наблюдения, избегая деталей проведения экспериментов:
Большая часть химии, казалось, была связана с теплом – иногда требовалось тепло, иногда происходило его выделение. Часто для начала реакции требовалось тепло, но затем она могла идти самостоятельно. При смешивании железных опилок и серы ничего не происходило – железные опилки все еще можно было извлечь из смеси магнитом. Но при нагревании смеси образовывалось что-то совершенно новое – сульфид железа. Это казалось фундаментальной, почти первичной реакцией, и я представлял, что она происходит в больших масштабах в земной коре.
Большая часть химии, казалось, была связана с теплом – иногда требовалось тепло, иногда происходило его выделение. Часто для начала реакции требовалось тепло, но затем она могла идти самостоятельно, иногда даже с неистовой силой. Если просто смешать железные опилки и серу, ничего не происходило – железные опилки все еще можно было извлечь из смеси магнитом. Но если начать нагревать смесь, она внезапно начинала светиться, становилась раскаленной, и создавалось что-то совершенно новое – сульфид железа. Это казалось фундаментальной, почти первичной реакцией, и я представлял, что она происходит в больших масштабах в земной коре, где расплавленное железо и сера вступают в контакт.
Одно из моих самых ранних воспоминаний (мне тогда было всего два года) – как я видел, как горел Хрустальный дворец. Братья взяли меня посмотреть на это с Парламентского холма, самой высокой точки на Хампстед-Хите, и ночное небо вокруг горящего дворца было освещено диким и прекрасным светом. А каждый год 5 ноября, в память о Гае Фоксе, мы устраивали фейерверки в саду – маленькие бенгальские огни, полные железной пыли; бенгальские свечи красного и зелёного цвета; и петарды, от которых я вздрагивал от страха и хотел забраться под ближайшее укрытие, как это делала наша собака. То ли это были именно эти впечатления, то ли какое-то первобытное чувство любви к огню, но пламя и горение, взрывы и цвета имели для меня какое-то особое (а иногда и пугающее) притяжение.
Мне нравилось смешивать йод с цинком или йод с сурьмой – никакого дополнительного нагрева не требовалось – и наблюдать, как они самопроизвольно нагреваются, посылая облако фиолетового йодного пара над собой. Реакция была более насильственной, если использовать алюминий вместо цинка или сурьмы. Если я добавлял две или три капли воды к смеси, она воспламенялась и горела фиолетовым пламенем, покрывая всё вокруг тонкой коричневой йодидной пылью.
Магний, как и алюминий, был металлом, чьи парадоксы меня интриговали: достаточно прочный и стабильный в массивной форме, чтобы использоваться в конструкции самолетов и мостов, но почти устрашающе активный, когда начиналось окисление или горение. Можно было положить магний в холодную воду, и ничего не происходило. Если положить его в горячую воду, он начинал выделять водород; но если поджечь полоску магния, она продолжала гореть ослепительно ярким пламенем под водой, или даже в обычной углекислоте, которая подавляет пламя. Это напоминало мне зажигательные бомбы, использовавшиеся во время войны, и то, как их невозможно было потушить углекислотой, водой или даже песком.
Действительно, если нагреть магний с песком, диоксидом кремния – и что может быть инертнее песка? – магний будет гореть ослепительно, извлекая кислород из песка и образуя элементарный кремний или смесь кремния с силицидом магния. (Тем не менее, песок использовался для тушения обычных пожаров, вызванных зажигательными бомбами, даже если он был бесполезен против горящего магния, и ведра с песком были повсюду в Лондоне во время войны; каждый дом имел свои собственные.) Если затем опустить силицид в разбавленную соляную кислоту, он вступит в реакцию, образуя самовоспламеняющийся газ – гидрид кремния, или силан – пузырьки которого будут подниматься через раствор, формируя дымовые кольца и воспламеняться небольшими взрывами при достижении поверхности.
Для сжигания использовалась очень длинная «дефлаграционная» ложка с длинной ручкой, которую можно было осторожно опустить с небольшим количеством горючего в цилиндр с воздухом, кислородом, хлором или чем-либо еще. Пламя было ярче и насыщеннее при использовании кислорода. Если расплавить серу и опустить ее в кислород, она воспламенялась и горела ярким голубым пламенем, производя едкий, щекочущий, но удушающий диоксид серы. Стальная вата, украденная из кухни, была удивительно воспламеняемой – она тоже ослепительно горела в кислороде, producing фонтаны искр, похожие на бенгальские огни в ночь Гая Фокса, и грязную коричневую пыль оксида железа.
С такой химией один играл с огнем в буквальном и переносном смысле. Высвобождались огромные энергии, плутонические силы, и у меня было захватывающее, но шаткое ощущение контроля – иногда едва уловимое. Особенно это проявлялось при интенсивно экзотермических реакциях алюминия и магния; их можно было использовать для восстановления металлических руд или даже для получения элементарного кремния из песка, но малейшая неосторожность, ошибка в расчетах – и у тебя в руках оказывается бомба.
***
Химическое исследование, химическое открытие были тем романтичнее, чем опаснее они были. Я чувствовал определенную мальчишескую радость, играя с этими опасными веществами, и был поражен в своих чтениях диапазоном несчастных случаев, которые происходили с первопроходцами. Немногие натуралисты были съедены дикими животными или насмерть ужалены ядовитыми растениями или насекомыми; немногие физики потеряли зрение, глядя в небеса, или сломали ногу на наклонной плоскости; но многие химики потеряли глаза, конечности и даже жизни, обычно в результате случайных взрывов или отравлений. Все ранние исследователи фосфора сильно обжигали себя. Бунзен, исследуя циан какодила, потерял правый глаз при взрыве и был очень близок к гибели. Несколько более поздних экспериментаторов, например, Муассан, пытавшийся создать алмаз из графита в интенсивно нагретых, высокого давления «бомбах», угрожали взорвать себя и своих коллег в пух и прах. Гамфри Дэви, один из моих особых героев, был почти задушен закисью азота, отравил себя четырехокисью азота и тяжело воспалил легкие плавиковой кислотой.
Дэви также экспериментировал с первым «мощным» взрывчатым веществом – трихлоридом азота, который стоил многим пальцев и глаз. Он открыл несколько новых способов соединения азота и хлора и однажды вызвал сильный взрыв, находясь в гостях у друга. Сам Дэви был частично ослеплен и полностью не оправился в течение четырех месяцев. (Нам не сообщили, какой ущерб был нанесен дому его друга.)
Открытие элементов посвятил целый раздел «Мученикам фтора». Хотя элементный хлор был выделен из соляной кислоты еще в 1770-х годах, его гораздо более активный родственник – фтор – был получен не так легко. Все ранние экспериментаторы, как я читал, «страдали от ужасных мучений отравления плавиковой кислотой», и по крайней мере двое из них погибли в процессе. Фтор был изолирован только в 1886 году после почти столетия опасных попыток.
Я был очарован этой историей и немедленно, опрометчиво, захотел получить фтор для себя. Плавиковая кислота была легкодоступна: дядя Вольфрам использовал огромные количества её для «обработки» своих лампочек, и я видел большие бутыли с ней на заводе в Хоксоне. Но когда я рассказал родителям историю о мучениках фтора, они запретили мне экспериментировать с ней в доме. (Я пошел на компромисс, храня небольшой гуттаперчевый флакон с плавиковой кислотой в своей лаборатории, но мой собственный страх был таков, что я никогда не открывал этот флакон.)
Только позже, когда я об этом задумался, я был поражен беспечным способом, которым Гриффин (и другие мои книги) предлагали использование интенсивно ядовитых веществ. У меня не было никаких трудностей с получением цианистого калия в аптеке на соседней улице – обычно он использовался для умерщвления насекомых в специальных флаконах – но я вполне мог запросто убить себя этим веществом. За несколько лет я собрал множество химических веществ, которые могли бы отравить или взорвать целую улицу, но я был осторожен – или мне просто повезло.11
Если мой нос в лаборатории стимулировался определенными запахами – едким, раздражающим запахом аммиака или диоксида серы, неприятным запахом сероводорода – то гораздо приятнее он стимулировался садом на улице и кухней, с её запахами еды, эссенциями и специями внутри. Что придавало кофе его аромат? Какие были основные вещества в гвоздике, яблоках, розах? Что придавало луку, чесноку и редису их острый запах? Что, кстати, придавало резине её особенный запах? Мне особенно нравился запах горячей резины, который, как мне казалось, имел слегка человеческий запах (как я узнал позже, и резина, и люди содержат пахучий изопрен). Почему масло и молоко приобретали кислые запахи, если они “портились”, как это часто случалось в жаркую погоду? Что придавало скипидару его прекрасный сосновый запах? Помимо всех этих “природных” запахов, были запахи спирта и ацетона, которые мой отец использовал в хирургии, и хлороформа и эфира в акушерской сумке моей матери. Был нежный, приятный, медицинский запах йодоформа, используемого для дезинфекции порезов, и резкий запах карболовой кислоты, используемой для дезинфекции туалетов (на её этикетке был череп с костями).
Запахи, казалось, можно было дистиллировать из всех частей растения – листьев, лепестков, корней, коры. Я пытался извлечь некоторые ароматы с помощью паровой дистилляции, собирая лепестки роз, цветы магнолии и скошенную траву из сада и кипятя их с водой. Их эфирные масла испарялись с паром и оседали сверху дистиллята при охлаждении (хотя тяжелое, коричневатое эфирное масло лука или чеснока оседало на дно). В качестве альтернативы можно было использовать жир – сливочное масло, куриный жир – чтобы сделать жирный экстракт, помаду; или использовать растворители вроде ацетона или эфира. В целом мои экстракции не были слишком успешными, но мне удалось сделать неплохую лавандовую воду и извлечь масло гвоздики и корицы с помощью ацетона. Самые продуктивные экстракции получались во время моих визитов в Хэмпстед-Хит, когда я собирал большие пакеты сосновых иголок и делал прекрасное, бодрящее зеленое масло, полное терпенов – запах немного напоминал мне бальзам Фрайера, который мне давали вдыхать с паром при простуде.
Я любил запах фруктов и овощей и смаковал всё, нюхал перед тем, как съесть. У нас в саду была груша, и моя мама делала из её плодов густой грушевый нектар, в котором запах груш казался усиленным. Но запах груш, как я читал, можно было создать и искусственно (как это делалось с “грушевыми леденцами”), не используя никаких груш. Нужно было только взять один из спиртов – этиловый, метиловый, амиловый, любой – и перегнать его с уксусной кислотой для образования соответствующего эфира. Я был поражен тем, что нечто столь простое, как этилацетат, могло быть ответственным за сложный, восхитительный запах груш, и что небольшие химические изменения могли превратить его в другие фруктовые ароматы – замените этил на изоамил, и получится запах созревающих яблок; другие небольшие модификации давали эфиры, пахнущие бананами, абрикосами, ананасами или виноградом. Это был мой первый опыт знакомства с силой химического синтеза.
Помимо приятных фруктовых запахов существовало множество отвратительных, животных запахов, которые можно было легко получить из простых ингредиентов или извлечь из растений. Тётя Лен, со своими ботаническими знаниями, иногда была моим сообщником в этом и познакомила меня с растением под названием марь вонючая, видом Chenopodium. При дистилляции в щелочной среде – я использовал соду – выделялось особенно неприятно пахнущее и летучее вещество, которое воняло тухлыми крабами или рыбой. Летучее вещество, триметиламин, оказалось удивительно простым – я думал, что запах тухлой рыбы имеет более сложную основу. В Америке, рассказала мне Лен, у них есть растение под названием скунсовая капуста, которое содержит соединения, пахнущие как трупы или гниющая плоть; я спросил, может ли она достать мне немного, но, возможно к счастью, она не смогла.
Некоторые из этих запахов подталкивали меня к шалостям. Каждую пятницу мы покупали свежую рыбу, карпа и щуку, которую моя мать перемалывала, чтобы приготовить фаршированную рыбу на шаббат. В одну пятницу я добавил немного триметиламина в рыбу, и когда моя мать почувствовала запах, она поморщилась и выбросила всё.
Мой интерес к запахам заставлял меня размышлять о том, как мы распознаем и классифицируем запахи, как нос может мгновенно различать эфиры от альдегидов или, условно говоря, распознавать целую категорию, например, терпены, одним взглядом. Несмотря на то, что наше обоняние слабо по сравнению с собачьим – наша собака Грета могла определить любимую еду, если банка открывалась на другом конце дома – все же казалось, что у человека работает химический анализатор, не менее сложный, чем глаз или ухо. Не существовало простого порядка, подобного музыкальной шкале или цветам спектра; но нос был quite remarkable в проведении классификаций, которые каким-то образом соответствовали базовой структуре химических молекул.
Все галогены, будучи разными, имели галогеноподобные запахи. Хлороформ пах точно так же, как бромоформ, и (хотя и не идентично) имел такой же запах, как четыреххлористый углерод (продававшийся как средство для сухой чистки Thawpit). Большинство эфиров пахли фруктово; спирты – по крайней мере, простейшие – имели похожие «спиртовые» запахи; альдегиды и кетоны также обладали характерными запахами.
(Ошибки, сюрпризы могли, конечно, происходить, и дядя Дейв рассказывал мне, как фосген, хлорокись углерода, страшный боевой газ, использовавшийся в Первой мировой войне, вместо того чтобы сигнализировать об опасности галогеноподобным запахом, имел обманчивый аромат свежескошенного сена. Этот сладкий, деревенский запах, напоминающий сенокосные поля их юности, был последним ощущением солдат, отравленных фосгеном, перед смертью.)
Дурные запахи, вонь, всегда, казалось, исходили от соединений, содержащих серу (запахи чеснока и лука были простыми органическими сульфидами, химически такими же близкими, как и ботанически), и достигали своего апогея в сульфурированных спиртах, меркаптанах. Запах скунсов, как я читал, был вызван бутилмеркаптаном – он был приятным, освежающим в очень разбавленном состоянии, но ужасающим, подавляющим вблизи. (Я был в восторге, когда несколько лет спустя прочитал «Antic Hay», что Олдос Хаксли назвал одного из своих малопривлекательных персонажей Меркаптаном.)
Размышляя о всех зловонных сульфидных соединениях и отвратительном запахе соединений селена и теллура, я решил, что эти три элемента образуют как химическую, так и обонятельную категорию, и с тех пор стал думать о них как о «вонючках».
Я учуял немного сероводорода в лаборатории дяди Дейва – он пах тухлыми яйцами, газами и (как мне говорили) вулканами. Простой способ его получить был – налить разбавленную соляную кислоту на сульфид железа. (Сам сульфид железа, здоровенный кусок, я сделал, нагревая железо и серу, пока они не раскалились и не соединились.) Когда я налил соляную кислоту на сульфид железа, тот зашипел и моментально выделил огромное количество вонючего, удушающего сероводорода. Я распахнул двери в сад и качнулся наружу, чувствуя себя очень странно и больно, помня, насколько ядовит этот газ. Между тем, адский сульфид (которого я наделал много) продолжал испускать облака токсичного газа, который вскоре распространился по всему дому. Мои родители были в целом невероятно терпеливы к моим экспериментам, но в этот момент настояли на установке вытяжного шкафа и на использовании для таких опытов меньших количеств реагентов.
Когда воздух очистился, морально и физически, и вытяжной шкаф был установлен, я решил получить другие газы, простые соединения водорода с элементами, кроме серы. Зная, что селен и теллур близки к сере и принадлежат к той же химической группе, я применил ту же базовую формулу: соединил селен или теллур с железом, а затем обработал полученный селенид или теллурид железа кислотой. Если сероводород пах отвратительно, то селеноводород был в сто раз хуже – невыносимо гадкий, омерзительный запах, от которого я задыхался и слезился, и который заставлял думать о гниющей редьке или капусте (в то время я люто ненавидел капусту и брюссельскую капусту, которые, будучи переваренными, были основой питания в Брэйфилде).
Селеноводород, решил я, пожалуй, самый ужасный запах в мире. Но теллуроводород был ненамного лучше, тоже пах как ад. Современный ад, подумал я, будет иметь не только реки огненной серы, но и озера кипящего селена и теллура.
9
Домашние визиты
Мой отец не был склонен к проявлению эмоций или близости, по крайней мере в контексте, в рамках семьи. Но были определенные моменты, драгоценные моменты, когда я действительно чувствовал себя близким к нему. У меня остались очень ранние воспоминания о том, как я видел его читающим в нашей библиотеке, и его концентрация была такой, что ничто не могло его побеспокоить, поскольку всё за пределами круга его лампы было полностью исключено из его сознания. По большей части он читал Библию или Талмуд, хотя у него также была большая коллекция книг по ивриту, на котором он свободно говорил, и иудаизму – библиотека грамматика и учёного. Видя его глубокое погружение в чтение и выражения, появлявшиеся на его лице во время чтения (непроизвольная улыбка, гримаса, выражение недоумения или восторга), возможно, привело меня к чтению очень рано, так что даже до войны я иногда присоединялся к нему в библиотеке, читая свою книгу рядом с ним, в глубоком, но невысказанном товариществе.
Если вечером не было домашних визитов, отец после ужина устраивался с сигарой торпедообразной формы. Он нежно ощупывал её, затем подносил к носу, чтобы проверить аромат и свежесть, и если она была удовлетворительной, делал V-образный надрез на кончике своим резаком. Он осторожно зажигал её длинной спичкой, поворачивая так, чтобы она загоралась равномерно. Кончик светился красным, когда он затягивался, и его первый выдох был вздохом удовлетворения. Он мягко попыхивал, читая, и воздух становился синим и опалесцирующим от дыма, окутывая нас обоих ароматным облаком. Я любил запах прекрасных гаван, которые он курил, и любил наблюдать, как серый цилиндр пепла становится всё длиннее и длиннее, гадая, насколько длинным он станет, прежде чем упадет на его книгу.
Я чувствовал себя ближе всего к нему, по-настоящему его сыном, когда мы плавали вместе. Страстью моего отца с раннего возраста было плавание (как и его отец был пловцом до него), и он был чемпионом по плаванию в молодости, выиграв пятнадцатимильную гонку у острова Уайт три года подряд. Он познакомил каждого из нас с водой, когда мы были младенцами, беря нас в Хайгейтские пруды в Хэмпстед-Хит.
Его медленный, размеренный, пожирающий мили стиль не совсем подходил маленькому мальчику. Но я мог видеть, как мой старик, огромный и неуклюжий на суше, преображался – становился грациозным, как морская свинья – в воде; и я, застенчивый, нервный и тоже довольно неловкий, находил такое же восхитительное преображение в себе, находил новое существо, новый способ существования в воде. У меня осталось яркое воспоминание о летнем отдыхе на море, через месяц после моего пятого дня рождения, когда я вбежал в комнату родителей и потянул за огромную китоподобную массу моего отца. “Давай, Пап!” – сказал я. “Пойдем поплаваем.” Он медленно перевернулся и открыл один глаз: “Что ты имеешь в виду, будя старика сорока трех лет так в шесть утра?” Теперь, когда мой отец умер, и я сам в шестидесятых, это воспоминание из такого далекого прошлого тянет, заставляет меня одновременно хотеть смеяться и плакать.
Позже мы плавали вместе в большом открытом бассейне в Хендоне или в Уэльш Харп на Эджвер-роуд, маленьком озере (я никогда не был уверен, было ли оно естественным или искусственным), где у моего отца когда-то была лодка. После войны, в двенадцать лет, я мог начать соответствовать его гребкам и поддерживать тот же ритм, плавая в унисон с ним.
Иногда я сопровождал отца во время домашних визитов по воскресным утрам. Он любил делать домашние визиты больше всего, потому что они были как социальными, так и медицинскими, позволяли ему войти в семью и дом, познакомиться со всеми и их обстоятельствами, увидеть весь облик и контекст состояния. Медицина для него никогда не была просто диагностикой болезни, но должна была рассматриваться и пониматься в контексте жизни пациентов, особенностей их личностей, их чувств, их реакций.
У него был напечатанный список из дюжины пациентов и их адресов, и я сидел рядом с ним на переднем сиденье машины, пока он рассказывал мне в очень человеческих терминах, что было у каждого пациента. Когда он приезжал, я выходил с ним, обычно мне разрешалось нести его медицинскую сумку. Иногда я заходил с ним в комнату больного и тихо сидел, пока он опрашивал и осматривал пациента – опрос и осмотр, которые казались быстрыми и легкими, и все же достигали глубин и раскрывали для него истоки каждой болезни. Мне нравилось наблюдать, как он выстукивает грудную клетку, постукивая по ней деликатно, но мощно своими сильными короткими пальцами, чувствуя, ощущая органы и их состояние под ней. Позже, когда я сам стал студентом-медиком, я понял, каким мастером перкуссии он был, и как он мог определить больше путем пальпации, перкуссии и прослушивания грудной клетки, чем большинство врачей могли по рентгеновскому снимку.
В других случаях, если пациент был очень болен или заразен, я сидел с семьей на их кухне или в столовой. После того как отец осматривал пациента наверху, он спускался, тщательно мыл руки и направлялся на кухню. Он любил поесть, и знал содержимое холодильников во всех домах своих пациентов – и семьям, казалось, нравилось угощать хорошего доктора. Осмотр пациентов, встречи с семьями, получение удовольствия, еда – все это было неразделимо в той медицине, которую он практиковал.
Поездка через Сити в воскресенье была трезвящим опытом в 1946 году, потому что разрушения, причиненные бомбардировками, еще были свежи, и практически не было восстановлено. Это было еще более очевидно в Ист-Энде, где, возможно, было снесено около пятой части зданий. Но там все еще была сильная еврейская община, и рестораны и деликатесные магазины, подобных которым нет нигде в мире. Мой отец получил квалификацию в Лондонской больнице на Уайтчепел-роуд и десять лет был врачом для говорящего на идише сообщества вокруг нее. Он вспоминал об этих ранних годах с особой теплотой. Мы иногда посещали его старую клинику на Нью-роуд – здесь родились все мои братья, и теперь здесь практикует племянник-врач Невилл.
Мы прогуливались вверх и вниз по «Ленe» – участку улицы Петтикоат между Миддлсекс-стрит и Коммершл-стрит, где все торговцы предлагали свой товар. Мои родители покинули Ист-Энд в 1930 году, но отец все еще знал многих торговцев по именам. Болтая с ними, возвращаясь к идишу своей юности, мой пожилой отец (что я имею в виду под словом «пожилой»? Сейчас я на пятнадцать лет старше, чем его пятидесятилетний возраст тогда) становился мальчишкой, словно возрождался, показывая более живую, более раннюю версию себя, которую я обычно не видел.
Мы всегда ходили в Marks of the Lane, где можно было купить латкес за шесть пенсов, и лучший в Лондоне копченый лосось и сельдь, лосось невероятной тающей мягкости, что делало его одним из немногих, подлинно райских впечатлений на этой земле.
У моего отца всегда был очень здоровый аппетит, и штрудель и сельдь в домах его пациентов, и латкес в Marks были, в его понимании, лишь прелюдией к настоящей трапезе. В пределах нескольких кварталов было с дюжину превосходных кошерных ресторанов, каждый со своими несравненными фирменными блюдами. Пойти ли в Bloom’s на Олдгейт, или в Ostwind’s, где можно было наслаждаться чудесными запахами, поднимающимися наверх из подвальной пекарни? Или в Strong-water’s, где был особый вид креплах, вареников, к которым мой отец был опасно пристрастен? Обычно, однако, мы оказывались в Silberstein’s, где помимо мясного ресторана внизу был молочный ресторан наверху с чудесными молочными супами и рыбой. Мой отец особенно обожал карпа и с шумом, с большим удовольствием обсасывал рыбьи головы.
***
Папа был спокойным, невозмутимым водителем, когда ездил на домашние визиты – у него тогда был степенный, довольно медленный Wolseley, что соответствовало все еще действовавшему нормированию бензина – но до войны в нем проявлялась совсем другая сторона. Его машиной тогда был американский Chrysler, с необработанной мощностью и скоростью, необычными для 1930-х. У него также был мотоцикл, Scott Flying Squirrel, с двухтактным, 600-кубовым двигателем с водяным охлаждением и пронзительным выхлопом, похожим на крик. Он развивал почти тридцать лошадиных сил и был больше похож, как он любил говорить, на летящего коня. Он любил отправляться на нем в путь, если у него было свободное воскресное утро, стремясь стряхнуть с себя город и отдаться ветру и дороге, на время забыв о практике и заботах. Иногда мне снились сны, в которых я сам ездил или летал на мотоцикле, и я решил приобрести его, когда вырасту.
Когда в 1955 году вышла книга Т. Э. Лоуренса “The Mint”, я прочитал отцу отрывок “Дорога”, который Лоуренс написал о своем мотоцикле (к тому времени у меня самого был мотоцикл, Norton):
“Норовистый мотоцикл с каплей крови в нем лучше всех ездовых животных на земле из-за логического расширения наших способностей и намека, провокации к излишествам…”
Отец улыбнулся и кивнул в знак согласия, вспоминая свои собственные мотоциклетные дни.
***
Мой отец изначально задумывался об академической карьере в неврологии и был ординатором, интерном (вместе с отцом Джонатана Миллера) у знаменитого невролога сэра Генри Хеда в Лондонском госпитале. В тот момент у самого Хеда, все еще находившегося на пике своих возможностей, развилась болезнь Паркинсона, и это, как говорил мой отец, иногда заставляло его непроизвольно бежать, или фестинировать, вдоль старого неврологического отделения, так что его приходилось ловить кому-то из его собственных пациентов. Когда мне было трудно представить, как это выглядело, мой отец, превосходный имитатор, изображал фестинацию Хеда, мчась по Эксетер-роуд со все возрастающей скоростью, и просил меня поймать его. Собственное затруднительное положение Хеда, как считал мой отец, делало его особенно чувствительным к затруднительным положениям его пациентов, и я думаю, что имитации моего отца – он мог имитировать астму, конвульсии, параличи, что угодно – происходящие из его живого воображения того, каково это для других, служили той же цели.
Когда пришло время отцу открывать собственную практику, он решил, несмотря на раннюю подготовку в неврологии, что общая практика будет более реальной, более “живой”. Возможно, он получил больше, чем рассчитывал, потому что когда он открыл свою практику в Ист-Энде в сентябре 1918 года, как раз начиналась великая эпидемия гриппа. Он видел раненых солдат, когда был ординатором в Лондоне, но это было ничто по сравнению с ужасом видеть людей в пароксизмах кашля и удушья, задыхающихся от жидкости в легких, синеющих и падающих замертво на улицах. Говорили, что сильный, здоровый молодой мужчина или женщина могли умереть от гриппа в течение трех часов после заражения. За эти три отчаянных месяца в конце 1918 года грипп убил больше людей, чем сама Великая война, и мой отец, как и каждый врач в то время, оказался перегружен, иногда работая по сорок восемь часов подряд.
В этот момент он привлек свою сестру Алиду – молодую вдову с двумя детьми, которая вернулась в Лондон из Южной Африки тремя годами ранее – работать его помощницей в аптеке. Примерно в то же время он взял другого молодого врача, Ицхака Эбана, помогать ему в обходах. Ицхак родился в Йонишки, том же маленьком литовском селении, где жила семья Саксов. Алида и Ицхак были товарищами по играм в младенчестве, но затем в 1895 году его семья уехала в Шотландию, за несколько лет до того, как Саксы приехали в Лондон. Воссоединившись двадцать лет спустя, работая вместе в лихорадочной и напряженной атмосфере эпидемии, Алида и Ицхак влюбились и поженились в 1920 году.
В детстве у нас было относительно мало контактов с тетей Алидой (хотя я считал ее самой быстрой и остроумной из моих тетушек – у нее были внезапные интуитивные озарения, внезапные взлеты мысли и чувства, которые я стал считать характерными для “разума Саксов”, в противоположность более методичным, более аналитическим мыслительным процессам Ландау). Но тетя Лина, старшая сестра отца, была постоянным присутствием. Она была на пятнадцать лет старше папы, крошечного роста – четыре фута девять дюймов в туфлях на высоких каблуках – но с железной волей, безжалостной решимостью. У нее были крашеные золотистые волосы, жесткие как у куклы, и от нее исходил смешанный запах чеснока, пота и пачули. Именно Лина обставила наш дом, и Лина часто снабжала нас в доме 37 некоторыми особыми блюдами, которые она сама готовила – рыбными котлетами (Маркус и Дэвид называли ее Фишкейк, или иногда Фишфейс, из-за них), богатыми рассыпчатыми чизкейками, и на Пасху – мацовыми шариками невероятной земной плотности, которые тонули как маленькие планетезимали под поверхностью супа. Не заботясь о социальных приличиях, она могла наклониться за столом, когда была дома, и высморкаться в скатерть. Несмотря на это, она была очаровательна в компании, где она сверкала и кокетничала, но также внимательно слушала, оценивая характер и мотивы всех вокруг нее. Она умела выведывать секреты у неосторожных и, обладая дьявольской памятью, сохраняла все, что слышала.12
Но ее безжалостность, ее беспринципность имели благородную цель, поскольку она использовала их для сбора денег для Еврейского университета в Иерусалиме. У нее, казалось, были досье на всех в Англии, или так я иногда воображал, и как только она была уверена в своей информации и источниках, она поднимала телефонную трубку. “Лорд Г.? Это Лина Халпер.” Следовала пауза, вздох, лорд Г. знал, что последует. “Да”, - продолжала она приятно, “да, вы знаете меня. Есть то небольшое дело – нет, мы не будем вдаваться в подробности – тот маленький инцидент в Богноре, в марте ‘23… Нет, конечно, я не буду об этом упоминать, это будет нашим маленьким секретом – на какую сумму я могу вас записать? Пятьдесят тысяч, возможно? Не могу передать, как много это значило бы для Еврейского университета.” Таким шантажом Лина собрала миллионы фунтов для университета, будучи, вероятно, самым эффективным сборщиком средств, которого они когда-либо знали.
Лина, значительно старшая, была “маленькой мамой” для своих намного младших братьев и сестер, когда они приехали в Англию из Литвы в 1899 году, и после ранней смерти своего мужа она в каком-то смысле взяла под опеку моего отца и соперничала с моей матерью за его общество и привязанность. Я всегда осознавал напряжение, невысказанное соперничество между ними, и чувствовал, как мой отец – мягкий, пассивный, нерешительный – разрывался между ними.
Хотя многие в семье считали Лину своего рода монстром, у нее была слабость ко мне, как и у меня к ней. Она была особенно важна для меня, возможно для всех нас, в начале войны, потому что мы были в Борнмуте на летних каникулах, когда объявили войну, и наши родители, как врачи, должны были немедленно уехать в Лондон, оставив нас четверых с няней. Они вернулись через пару недель, и мое облегчение, наше облегчение было огромным. Я помню, как бросился вниз по садовой дорожке, когда услышал гудок машины, и кинулся всем телом в объятия матери, так стремительно, что чуть не сбил ее с ног. “Я скучал по тебе”, - кричал я, “я так сильно скучал по тебе.” Она обняла меня, долгим объятием, крепко держа меня в своих руках, и чувство потери, страха внезапно растворилось.
Наши родители обещали приехать снова очень скоро. Они сказали, что постараются приехать в следующие выходные, но в Лондоне у них было много дел – моя мать была занята экстренной травматологической хирургией, отец организовывал местных врачей общей практики для помощи пострадавшим при воздушных налетах. Но в этот раз они не приехали на выходных. Прошла еще неделя, и еще одна, и еще, и что-то, я думаю, сломалось внутри меня в этот момент, потому что когда они приехали снова, через шесть недель после их первого визита, я не побежал к матери и не обнял ее, как в первый раз, а отнесся к ней холодно, безлично, как к незнакомцу. Она была, я думаю, потрясена и озадачена этим, но не знала, как преодолеть пропасть, возникшую между нами.
В этот момент, когда последствия отсутствия родителей стали очевидными, приехала Лина, взяла на себя управление домом, готовила, организовывала нашу жизнь и стала маленькой мамой для всех нас, заполняя пустоту, оставленную отсутствием нашей собственной матери.
Этот маленький эпизод длился недолго – Маркус и Дэвид уехали в медицинскую школу, а Майкла и меня отправили в Брейфилд. Но я никогда не забывал нежность Лины ко мне в то время, и после войны я стал навещать ее в Лондоне, в ее комнате с высокими потолками и парчовой обивкой на Элгин-авеню. Она угощала меня чизкейком, иногда рыбной котлетой и маленьким стаканчиком сладкого вина, а я слушал ее воспоминания о старой стране. Моему отцу было всего три или четыре года, когда он уехал, и у него не было воспоминаний об этом; Лина, которой тогда было восемнадцать или девятнадцать, имела яркие и увлекательные воспоминания о Йонишки, штетле около Вильно, где они все родились, и о своих родителях, моих дедушке и бабушке, какими они были в относительной молодости. Возможно, у нее было особое чувство ко мне как к самому младшему, или потому что у меня было то же имя, что и у ее отца, Эливелва, Оливер Вольф. У меня также было ощущение, что она была одинока и наслаждалась визитами своего молодого племянника.
Затем был брат моего отца, Бенни. Бенни был отлучен, покинул семью в девятнадцать лет, когда уехал в Португалию и женился на нееврейке, шиксе. Это было преступление настолько скандальное, настолько гнусное в глазах семьи, что его имя никогда после этого не упоминалось. Но я знал, что было что-то скрытое, своего рода семейная тайна; я замечал определенное молчание, определенную неловкость иногда, когда мои родители шептались, и однажды я увидел фотографию Бенни на одном из тисненых шкафчиков Лины (она сказала, что это кто-то другой, но я уловил колебание в ее голосе).
Мой отец, всегда крепкого телосложения, начал набирать вес после войны и решил регулярно ездить в санаторий для похудения в Уэльсе. Эти визиты, казалось, никогда не приносили ему особой пользы в отношении веса, но он возвращался с них счастливым и здоровым, его лондонская бледность сменялась здоровым загаром. Только после его смерти, много лет спустя, просматривая его бумаги, я нашел пачку авиабилетов, которые рассказали правдивую историю – он никогда не был в санатории для похудения, а все эти годы преданно и тайно ездил навещать Бенни в Португалию.
10
Химический язык
Дядя Дэйв рассматривал всю науку как полностью человеческое, не менее чем интеллектуальное и технологическое предприятие, и мне, в свою очередь, казалось естественным делать то же самое. Когда я обустроил свою лабораторию и начал собственные химические эксперименты, я хотел узнать об истории химии в более общем плане, выяснить, чем занимались химики, как они мыслили, какая атмосфера была в прошлые века. Я давно был очарован нашей семьей и семейным древом – рассказами о дядях, уехавших в Южную Африку, о человеке, который был их отцом, и о первом предке моей матери, о котором у нас сохранились какие-либо записи – раввине, склонном к алхимии, некоем Лазаре Вайскопфе, жившем в Любеке в семнадцатом веке. Возможно, это послужило толчком к более общей любви к истории и, вероятно, к склонности видеть её в семейном контексте. И так ученые, ранние химики, о которых я читал, стали, в некотором смысле, почетными предками, людьми, с которыми, в моих фантазиях, у меня была своего рода связь. Мне нужно было понять, как мыслили эти ранние химики, представить себя в их мире.
Химия как истинная наука, как я прочитал, впервые появилась благодаря работам Роберта Бойля в середине семнадцатого века. Будучи на двадцать лет старше Ньютона, Бойль родился в то время, когда практика алхимии все еще господствовала, и он продолжал придерживаться различных алхимических верований и практик наряду с научными. Он верил, что золото можно создать, и что ему удалось его создать (Ньютон, также алхимик, советовал ему молчать об этом). Он был человеком огромного любопытства (“священного любопытства”, по выражению Эйнштейна), поскольку все чудеса природы, как считал Бойль, провозглашали славу Божью, и это побуждало его исследовать огромный спектр явлений.
Он исследовал кристаллы и их структуру, и первым обнаружил их плоскости спайности. Он изучал цвет и написал об этом книгу, которая повлияла на Ньютона. Он разработал первый химический индикатор – бумагу, пропитанную фиалковым сиропом, которая краснела при контакте с кислотными жидкостями и зеленела при контакте со щелочными. Он написал первую книгу об электричестве на английском языке. Он получил водород, сам того не осознавая, поместив железные гвозди в серную кислоту. Он обнаружил, что хотя большинство жидкостей сжимается при замерзании, вода расширяется. Он показал, что газ (позже определённый как углекислый) выделяется при воздействии уксуса на измельчённый коралл, и что мухи погибают, если их держать в этом “искусственном воздухе”. Он исследовал свойства крови и интересовался возможностью переливания крови. Он экспериментировал с восприятием запахов и вкусов. Он первым описал полупроницаемые мембраны. Он представил первое описание приобретённой ахроматопсии – полной потери цветового зрения после мозговой инфекции.
Все эти исследования и многие другие он описывал простым и ясным языком, совершенно отличным от таинственного и загадочного языка алхимиков. Любой мог прочитать его работы и повторить его эксперименты; он выступал за открытость науки в противовес закрытой, герметичной секретности алхимии.
Хотя его интересы были универсальными, химия, казалось, имела для него особую привлекательность (даже в юности он называл свою химическую лабораторию “своего рода Элизиумом”). Больше всего он хотел понять природу материи, и его самая известная книга “Химик-скептик” была написана, чтобы развенчать мистическое учение о Четырёх Элементах и объединить огромные, накопленные веками эмпирические знания алхимии и фармации с новой, просвещённой рациональностью его эпохи.
Древние мыслили в терминах четырех основных принципов или элементов – Земли, Воздуха, Огня и Воды. Думаю, это были примерно те же категории, которыми я оперировал в пятилетнем возрасте (хотя металлы, возможно, составляли для меня особую, пятую категорию), но мне было сложнее представить Три Принципа алхимиков, где “Сера”, “Ртуть” и “Соль” означали не обычные серу, ртуть и соль, а “философские” Серу, Ртуть и Соль: Ртуть придавала веществу блеск и твердость, Сера – цвет и горючесть, Соль – твердость и огнеупорность.
Бойль надеялся заменить эти древние, мистические представления об Элементах и Принципах рациональным и эмпирическим подходом и предложил первое современное определение элемента:
“Под Элементами я теперь подразумеваю… определенные Первичные и Простые, или совершенно несмешанные тела; которые, не будучи составлены из каких-либо других тел или друг из друга, являются ингредиентами, из которых непосредственно составлены все те тела, что называются совершенно смешанными, и на которые они в конечном итоге разлагаются”.
Но поскольку он не привел примеров таких “Элементов” или того, как должна была быть продемонстрирована их “несмешанность”, его определение казалось слишком абстрактным, чтобы быть полезным.
Хотя я находил “Химика-скептика” нечитаемым, я был в восторге от “Новых экспериментов” Бойля 1660 года, где он изложил с очаровательной живостью и множеством личных подробностей более сорока экспериментов с использованием своего “Пневматического двигателя” (воздушного насоса, изобретенного его ассистентом Робертом Гуком), с помощью которого он мог откачивать большую часть воздуха из закрытого сосуда.13 В этих экспериментах Бойль эффективно опроверг древнее убеждение, что воздух является эфирной, всепроникающей средой, показав, что это материальное вещество со своими физическими и химическими свойствами, которое можно сжать, разредить или даже взвесить.
Откачивая воздух из закрытого сосуда, содержащего зажженную свечу или тлеющий уголь, Бойль обнаружил, что они переставали гореть по мере разрежения воздуха, хотя уголь начинал снова тлеть, если воздух возвращали – таким образом показывая, что воздух необходим для горения. Он также показал, что различные существа – насекомые, птицы или мыши – испытывали страдания или погибали при снижении давления воздуха, но могли прийти в себя, когда воздух возвращали в сосуд. Его поразило это сходство между горением и дыханием.
Он исследовал, можно ли услышать колокольчик через вакуум (нельзя), может ли магнит действовать через вакуум (может), могут ли насекомые летать в вакууме (это он не смог определить, потому что насекомые “теряли сознание” при снижении давления воздуха), и он изучал влияние пониженного давления воздуха на свечение светлячков (они светились менее ярко).
Мне нравилось читать об этих экспериментах, и я пытался повторить некоторые из них самостоятельно – наш пылесос Hoover хорошо заменял воздушный насос Бойля. Мне нравилась игривость всей книги, столь отличная от философских диалогов в “Химике-скептике”. (Действительно, сам Бойль это осознавал: “Я не пренебрегаю даже забавными экспериментами и считаю, что детские игры порой заслуживают изучения философами”).
Личность Бойля очень привлекала меня, как и его всеядное любопытство, любовь к историям и случайные каламбуры (как, например, когда он писал, что предпочитает работать над вещами “просветительскими, а не прибыльными” [игра слов: luciferous - просветительский, lucriferous - прибыльный]). Я мог представить его как человека, и человека, который мне бы понравился, несмотря на пропасть в три столетия между нами.
Антуан Лавуазье, родившийся почти через столетие после Бойля, станет известен как настоящий основатель, отец современной химии. До его времени уже существовал огромный объем химических знаний и химического мастерства, часть которого была унаследована от алхимиков (именно они были пионерами в создании аппаратуры и техник дистилляции, кристаллизации и ряда химических процедур), часть – от аптекарей, и многое, конечно, от ранних металлургов и шахтеров.
Однако, хотя было изучено множество химических реакций, не существовало систематического взвешивания или измерения этих реакций. Состав воды был неизвестен, как и состав большинства других веществ. Минералы и соли классифицировались по их кристаллической форме или другим физическим свойствам, а не по их составляющим. Не было четкого понятия об элементах или соединениях.
Более того, не существовало общей теоретической структуры, в которую можно было бы поместить химические явления, была только несколько мистическая теория флогистона, которая предположительно объясняла все химические превращения. Флогистон считался принципом Огня. Предполагалось, что металлы горючи, потому что содержат флогистон, и когда они горели, флогистон высвобождался. И наоборот, когда их земли (окалины) плавились с углем, уголь отдавал свой флогистон и восстанавливал металл. Таким образом, металл был своего рода композитом или “соединением” своей земли, своей окалины и флогистона. Любой химический процесс – не только плавка и кальцинация, но и действия кислот и щелочей, и образование солей – мог быть объяснен добавлением или удалением флогистона.
Правда, флогистон не имел видимых свойств, его нельзя было разлить по бутылкам, продемонстрировать или взвесить – но разве то же самое не было верно для электричества (другого великого источника тайны и очарования в восемнадцатом веке)? Флогистон имел инстинктивную, поэтическую, мифическую привлекательность, делая огонь одновременно материей и духом. Но несмотря на свои метафизические корни, теория флогистона была первой специфически химической теорией (в противоположность механической, корпускулярной теории, которую Бойль представлял в 1660-х годах); она пыталась объяснить химические свойства и реакции с точки зрения присутствия или отсутствия, или переноса определенного химического принципа.
Именно в эту полуметафизическую, полупоэтическую атмосферу вошел Лавуазье – трезвомыслящий, остро аналитический и логичный, дитя Просвещения и поклонник энциклопедистов – достигший зрелости в 1770-х годах. К двадцати пяти годам Лавуазье уже проделал новаторскую геологическую работу, продемонстрировал выдающиеся химические и полемические способности (он написал удостоенное премии эссе о лучших способах освещения города ночью, а также исследование о схватывании и твердении гипса) и был избран в Академию.14 Но именно в отношении теории флогистона его интеллект и амбиции обрели четкую направленность. Идея флогистона казалась ему метафизической, несущественной, и точка атаки, как он сразу понял, заключалась в тщательных количественных экспериментах с горением. Действительно ли вещества уменьшались в весе при горении, как можно было ожидать, если они теряли свой флогистон? Обычный опыт, действительно, предполагал, что это так, что вещества “сгорают” – свеча уменьшается в размере при горении, органические вещества обугливаются и съеживаются, сера и уголь исчезают полностью, но это, похоже, не относилось к горению металлов.
В 1772 году Лавуазье прочитал об экспериментах Гитона де Морво, который в опытах исключительной точности и тщательности подтвердил, что металлы увеличивались в весе при прокаливании на воздухе.15 Как это можно было согласовать с представлением о том, что что-то – флогистон – теряется при горении? Лавуазье счел объяснение Гитона – что флогистон обладал “легкостью” и поддерживал содержащие его металлы – абсурдным. Но безупречные результаты Гитона тем не менее вдохновили Лавуазье как ничто ранее. Это было, как яблоко Ньютона, фактом, явлением, которое требовало новой теории мира.
Работа, стоявшая перед ним, как он писал, “казалась мне предназначенной произвести революцию в физике и химии. Я считал необходимым рассматривать все, что было сделано до меня, лишь как предположения… как отдельные звенья большой цепи”. Он чувствовал, что кому-то, ему, предстояло соединить все звенья цепи с помощью “огромной серии экспериментов… чтобы привести их к непрерывному целому” и сформировать теорию.
Доверив эту грандиозную мысль своему лабораторному журналу, Лавуазье приступил к систематическим экспериментам, повторяя многие работы своих предшественников, но на этот раз используя закрытый аппарат и тщательно взвешивая всё до и после реакции – процедура, которой пренебрегали Бойль и даже самые педантичные химики времен Лавуазье. Нагревая свинец и олово в закрытых ретортах до их превращения в золу, он смог показать, что общий вес его реагентов не увеличивался и не уменьшался во время реакции. Только когда он вскрывал реторты, позволяя воздуху ворваться внутрь, вес золы увеличивался – и точно на ту же величину, на которую увеличивались сами металлы при кальцинации. Это увеличение, полагал Лавуазье, должно быть обусловлено “фиксацией” воздуха или какой-то его части.
Летом 1774 года Джозеф Пристли в Англии обнаружил, что при нагревании красной окалины ртути (оксида ртути) она выделяет “воздух”, который, к его изумлению, казался даже более сильным или чистым, чем обычный воздух.
“Свеча горела в этом воздухе, – писал он, – с удивительной силой пламени; а кусочек раскаленного дерева потрескивал и горел с невероятной быстротой, демонстрируя нечто похожее на железо, раскаленное добела, и разбрасывая искры во всех направлениях”.
Очарованный, Пристли продолжил исследования и обнаружил, что мыши могли жить в этом воздухе в четыре-пять раз дольше, чем в обычном воздухе. И, убедившись таким образом, что его новый “воздух” безвреден, он попробовал его сам:
“Ощущение его в моих легких не отличалось заметно от обычного воздуха; но мне показалось, что моя грудь чувствовала себя особенно легко и свободно некоторое время после этого. Кто знает, может быть, со временем этот чистый воздух станет модным предметом роскоши. До сих пор только две мыши и я имели привилегию дышать им”.
В октябре 1774 года Пристли приехал в Париж и рассказал Лавуазье о своем новом “дефлогистированном воздухе”. И Лавуазье увидел в этом то, чего не заметил сам Пристли: жизненно важную подсказку к тому, что его озадачивало и ускользало от него, истинную природу того, что происходило при горении и кальцинации.16 Он повторил эксперименты Пристли, расширил, количественно определил, усовершенствовал их. Горение, теперь стало ясно ему, было процессом, включающим не потерю вещества (флогистона), а соединение горючего материала с частью атмосферного воздуха, газом, для которого он теперь придумал термин кислород.17
***
Демонстрация Лавуазье того, что горение было химическим процессом – окислением, как его теперь можно было называть – подразумевала многое другое и была для него лишь фрагментом гораздо более широкого видения, той революции в химии, которую он предвидел. Прокаливание металлов в закрытых ретортах, показывающее, что не было ни призрачного увеличения веса от “частиц огня”, ни потери веса от утраты флогистона, продемонстрировало ему, что в таких процессах не происходит ни создания, ни потери материи. Более того, этот принцип сохранения применялся не только к общей массе продуктов и реагентов, но и к каждому из участвующих элементов. Когда сбраживали сахар с дрожжами и водой в закрытом сосуде для получения спирта, как в одном из его экспериментов, общее количество углерода, водорода и кислорода всегда оставалось неизменным. Они могли химически перегруппировываться, но их количества не менялись.
Сохранение массы подразумевало постоянство состава и разложения. Таким образом, Лавуазье пришел к определению элемента как материала, который не мог быть разложен существующими средствами, и это позволило ему (вместе с де Морво и другими) составить список настоящих элементов – тридцати трех различных, неразложимых, элементарных веществ, заменивших четыре Элемента древних.18 Это, в свою очередь, позволило Лавуазье составить “баланс”, как он это называл, точный учет каждого элемента в реакции.
Лавуазье теперь считал, что язык химии должен быть преобразован в соответствии с его новой теорией, и он предпринял также революцию в номенклатуре, заменяя старые, живописные, но малоинформативные термины – такие как масло сурьмы, юпитеров безоар, медный купорос, свинцовый сахар, дымящая жидкость Либавия, цинковые цветы – точными, аналитическими, самообъясняющими. Если элемент соединялся с азотом, фосфором или серой, он становился нитридом, фосфидом, сульфидом. Если образовывались кислоты путем добавления кислорода, можно было говорить об азотной кислоте, фосфорной кислоте, серной кислоте; а об их солях как о нитратах, фосфатах и сульфатах. Если присутствовало меньшее количество кислорода, можно было говорить о нитритах или фосфитах вместо нитратов и фосфатов, и так далее. Каждое вещество, элементарное или сложное, получало свое истинное название, обозначающее его состав и химический характер, и такие названия, используемые как в алгебре, мгновенно указывали, как они могут взаимодействовать или вести себя в различных обстоятельствах. (Хотя я остро осознавал преимущества новых названий, мне также не хватало старых, потому что в них была поэзия, сильное ощущение их сенсорных качеств или герметических предшественников, что полностью отсутствовало в новых, систематических и лишенных запаха химических названиях.)
Лавуазье не предоставил символы для элементов и не использовал химические уравнения, но он создал существенную основу для них, и меня восхищала его идея баланса, этой алгебры реальности для химических реакций. Это было похоже на то, как если бы впервые увидеть записанный язык или музыку. Имея этот алгебраический язык, можно было обойтись без реального дня в лаборатории – можно было фактически заниматься химией на доске или в уме.
Все предприятия Лавуазье – алгебраический язык, номенклатура, сохранение массы, определение элемента, формирование истинной теории горения – были органически взаимосвязаны, образовывали единую чудесную структуру, революционное переосмысление химии, о котором он так амбициозно мечтал в 1773 году. Путь к его революции не был легким или прямым, хотя он представляет его как очевидный в “Началах химии”; это потребовало пятнадцати лет гениального времени, пробиваясь через лабиринты предположений, борясь с собственной слепотой так же, как он боролся со слепотой других.
Были жестокие споры и конфликты в течение лет, когда Лавуазье медленно собирал свои аргументы, но когда “Начала” были наконец опубликованы – в 1789 году, всего за три месяца до Французской революции – они потрясли научный мир. Это была архитектура мысли совершенно нового типа, сравнимая только с “Принципами” Ньютона. Было несколько несогласных – Кавендиш и Пристли были самыми выдающимися из них – но к 1791 году Лавуазье мог сказать: “все молодые химики принимают теорию, и из этого я заключаю, что революция в химии свершилась”.
Три года спустя жизнь Лавуазье оборвалась на гильотине в расцвете его сил. Великий математик Лагранж, оплакивая смерть своего коллеги и друга, сказал: “Потребовался лишь момент, чтобы отсечь его голову, а ста лет, возможно, не хватит, чтобы произвести другую подобную”.
***
Чтение о Лавуазье и “пневматических” химиках, которые ему предшествовали, стимулировало меня тоже экспериментировать больше с нагреванием металлов и получением кислорода. Я хотел получить его путем нагревания оксида ртути – так, как Пристли впервые сделал это в 1774 году – но боялся токсичных паров ртути, пока не был установлен вытяжной шкаф. Тем не менее, его было легко получить, просто нагревая богатое кислородом вещество, такое как перекись водорода или перманганат калия. Я помню, как погружал тлеющую щепку в пробирку, полную кислорода, и видел, как она вспыхивала, горела с интенсивной яркостью.
Я получал и другие газы. Я разлагал воду с помощью электролиза; а затем воссоздавал её, поджигая водород и кислород вместе. Было много других способов получения водорода с кислотами или щелочами – с цинком и серной кислотой или алюминиевыми крышками от бутылок и едким натром. Казалось жалко позволять этому водороду просто пузыриться и уходить впустую, поэтому для закупоривания колб я использовал плотно прилегающие резиновые пробки и корки, некоторые с отверстиями посередине для стеклянных трубок. Одной из вещей, которым я научился в лаборатории дяди Дэйва, было размягчение стеклянных трубок в газовом пламени и осторожное сгибание их под углом (и, что еще более захватывающе, выдувание стекла, осторожно выдувая в расплавленное стекло тонкостенные шары и фигуры всех видов). Теперь, используя стеклянные трубки, я мог зажигать водород, когда он выходил из закупоренной колбы. У него было бесцветное пламя – не желтое и дымное, как у газовых горелок или кухонной плиты. Или я мог направлять водород через изящно изогнутую стеклянную трубку в мыльный раствор, чтобы делать мыльные пузыри, наполненные водородом; пузыри, намного легче воздуха, устремлялись к потолку и лопались.
Иногда я собирал водород над водой в перевернутом лотке. Держа лоток все еще перевернутым, я мог поднести его к носу и вдохнуть – у него не было запаха, вкуса, не было никаких ощущений, но мой голос становился высоким и писклявым на несколько секунд, голосом Микки Мауса, который я уже не мог узнать как свой собственный.
Я лил соляную кислоту на мел (хотя даже такая слабая кислота, как уксус, подошла бы), вызывая выделение другого, намного более тяжелого газа – углекислого газа. Я мог собирать тяжелый, невидимый углекислый газ в стакан и наблюдать, как крошечный воздушный шарик, гораздо менее плотный, плавал на нем. Наши огнетушители дома были заполнены углекислым газом, и их я тоже иногда использовал для получения газа.
Когда я наполнял шарик углекислым газом, он тяжело опускался на пол и оставался там – я задумывался, каково было бы иметь шарик, наполненный действительно плотным газом, ксеноном (в пять раз плотнее воздуха). Когда я упомянул об этом дяде Тунгстену, он рассказал мне о соединении вольфрама, гексафториде вольфрама, который был почти в двенадцать раз плотнее воздуха – это самый тяжелый пар, который мы знаем, сказал он. У меня были фантазии, что можно найти или создать газ такой же плотности, как вода, и купаться в нем, плавать в нем, как плавают в воде. Было что-то в плавании – плавании и погружении – что постоянно занимало и воодушевляло меня.19
Я был заворожен гигантскими заградительными аэростатами, которые парили в небе военного Лондона, похожие на огромных воздушных рыб-луны, с их пухлыми, наполненными гелием телами и трехлопастными хвостами. Они были сделаны из алюминизированной ткани, поэтому ярко блестели, когда их касались солнечные лучи. Они крепились к земле длинными тросами, которые (как считалось) могли запутать вражеские военные самолеты, не давая им летать слишком низко. Аэростаты были также нашими гигантскими защитниками.
Один такой аэростат был привязан на нашем крикетном поле на Лимингтон-роуд, и он стал объектом моего особого, пылкого внимания. Я прокрадывался с крикетного поля, когда никто не смотрел, и мягко касался нежно раздувающейся, блестящей ткани; аэростаты казались только наполовину надутыми на земле, но когда они достигали своей нужной высоты в воздухе, гелий внутри них расширялся, полностью раздувая их. Я любил ощущение от прикосновения к гигантским аэростатам, чувство, которое, несомненно, было наполовину эротическим, хотя я не осознавал этого в то время. Я часто мечтал о заградительных аэростатах по ночам, представляя себя убаюканным, умиротворенным в их гигантских мягких телах, подвешенным, парящим высоко над загроможденным миром в вневременном небесном экстазе. Думаю, все любили эти аэростаты – их стремление ввысь символизировало оптимизм, заставляло сердце биться быстрее – но для меня аэростат на Лимингтон-роуд был особенным: он узнавал и отзывался на мое прикосновение, как я воображал, трепетал (как и я) в своего рода восторге. Он не был человеком, не был животным, но в каком-то смысле был одушевленным; он был моим первым объектом любви, предвестником, когда мне было десять лет.
11
Хамфри Дэви: Поэт-химик
Имя Хамфри Дейви, помнится, я впервые услышал незадолго до войны, когда мать взяла меня в Научный музей, на самый верхний этаж, где была модель угольной шахты, её пыльные галереи освещались тусклыми лампами. Там она показала мне лампу Дейви – было несколько её моделей – и объяснила, как она работает и как спасла бесчисленное количество жизней. А затем она показала мне рядом лампу Ландау, изобретённую в 1870-х годах её отцом – по сути, изобретательную модификацию лампы Дейви. Так Дейви отложился в моём сознании как какой-то предок, почти член семьи.
Родившийся в 1778 году, Дейви вырос в начале революции Лавуазье. Это была эпоха открытий, время становления химии – период, когда появлялись великие теоретические прояснения. Дейви, сын ремесленника, был учеником местного аптекаря-хирурга в Пензансе, но вскоре устремился к чему-то большему. Химия, прежде всего, начала его привлекать. Он прочитал и освоил «Начала химии» Лавуазье – замечательные достижение для восемнадцатилетнего с небольшим формальным образованием. В его голове начали складываться грандиозные (возможно, grandiose) видения: не может ли он стать новым Лавуазье, возможно, новым Ньютоном? (Одна из его тетрадей того времени была подписана «Ньютон и Дейви».)
Лавуазье оставил призрак флогистона в своём представлении о тепле или «калорике» как элементе, и в своём первом, знаковом эксперименте Дейви расплавил лёд трением, показав тем самым, что тепло – это движение, форма энергии, а не материальная субстанция, как думал Лавуазье. «Несуществование калорика, или жидкости тепла, доказано», – торжествовал Дейви. Он изложил результаты своих экспериментов в длинном «Очерке о тепле и свете» – критике Лавуазье, а также видении новой химии, которую он надеялся основать, окончательно очищенной от всех остатков алхимии и метафизики.
Когда весть о молодом человеке, его интеллекте и, возможно, революционных новых мыслях о материи и энергии дошла до химика Томаса Беддоса, он опубликовал очерк Дейви и пригласил его в свою лабораторию, Пневматический институт в Бристоле. Здесь Дейви проанализировал оксиды азота (впервые изолированные Пристли) – закись азота (N2), оксид азота (NO) и ядовитый коричневый «пероксид» азота (N02) – сделал подробное сравнение их свойств и написал великолепный отчёт о действии паров закиси азота, «газа смеха». Описание Дейви вдыхания закиси азота, с его психологической проницательностью, напоминает собственный отчёт Уильяма Джеймса о том же опыте веком позже, и, возможно, это первое описание психоделического опыта в западной литературе:
«Захватывающее ощущение, простиравшееся от груди до конечностей, было почти немедленно вызвано… мои видимые впечатления были ослепительными и, казалось, увеличенными, я отчетливо слышал каждый звук в комнате… По мере усиления приятных ощущений я терял всякую связь с внешними вещами; через мой разум проходили цепочки ярких зрительных образов, связанных со словами таким образом, что производили совершенно новые восприятия. Я существовал в мире только что связанных и только что модифицированных идей. Я теоретизировал; я воображал, что делаю открытия».
Дейви также обнаружил, что закись азота является анестетиком, и предложил использовать её в хирургических операциях. (Он так и не развил эту идею, и общая анестезия была введена только в 1840-х годах, после его смерти.)
В 1800 году Дейви прочитал статью Алессандро Вольты, описывающую первую батарею, его «столб» – сэндвич из двух различных металлов с промоченным солёной водой картоном между ними – которая генерировала устойчивый электрический ток. Хотя статическое электричество, как молния или искры, исследовалось в предыдущем столетии, устойчивый электрический ток был невозможен до сих пор. Статью Вольты, как Дейви позже напишет, можно было сравнить с сигналом тревоги среди экспериментаторов Европы, и для Дейви она внезапно придала форму тому, что он теперь видел своим жизненным делом.
Он убедил Беддоуза построить массивную электрическую батарею – она состояла из сотни шестидюймовых квадратных двойных пластин меди и цинка и занимала целую комнату – и начал свои первые эксперименты с ней через несколько месяцев после публикации работы Вольты. Он почти сразу заподозрил, что электрический ток генерируется химическими изменениями в металлических пластинах, и задался вопросом, верно ли и обратное – можно ли вызвать химические изменения пропусканием электрического тока.
Воду можно было создать (как показал Кавендиш) путем поджигания водорода и кислорода вместе.20 Можно ли теперь, с новой силой электрического тока, сделать обратное? В своем самом первом электрохимическом эксперименте, пропуская электрический ток через воду (ему пришлось добавить немного кислоты, чтобы сделать её проводящей), Дэви показал, что её можно разложить на составляющие элементы: водород появлялся у одного полюса или электрода батареи, а кислород – у другого, хотя только через несколько лет он смог показать, что они появляются в фиксированных и точных пропорциях.
Со своей батареей Дэви обнаружил, что он мог не только электролизовать воду, но и нагревать металлические провода: платиновую проволоку, например, можно было нагреть до накаливания; а если ток пропускался через угольные стержни, и их затем разделяли на небольшое расстояние, между ними возникала ослепительная электрическая “дуга” (“дуга настолько яркая, – писал он, – что даже солнечный свет по сравнению с ней казался тусклым”). Таким образом, почти случайно, Дэви натолкнулся на то, что должно было стать двумя основными формами электрического освещения – накаливанием и дуговым освещением – хотя он не развил эти открытия, а перешел к другим вещам.21
***
Лавуазье, составляя свой список элементов в 1789 году, включил в него “щелочные земли” (магнезию, известь и барит), поскольку считал, что они содержат новые элементы – и к ним Дэви добавил щелочи (соду и поташ), так как подозревал, что они тоже содержат новые элементы. Но на тот момент не существовало химических средств, достаточных для их выделения. Дэви задался вопросом: может ли радикально новая сила электричества преуспеть там, где обычная химия потерпела неудачу? Сначала он взялся за щелочи и в начале 1807 года провел знаменитые эксперименты, в которых выделил металлические калий и натрий с помощью электрического тока. Когда это произошло, как записал лабораторный ассистент, Дэви был настолько восторжен, что танцевал от радости по лаборатории.22
Одной из моих величайших радостей было повторение оригинальных экспериментов Дэви в моей собственной лаборатории, и я настолько отождествлял себя с ним, что почти чувствовал, будто сам открываю эти элементы. Прочитав о том, как он впервые открыл калий и как тот реагировал с водой, я нарезал маленький кусочек калия (он резался как масло, и срез блестел ярким серебристо-белым цветом – но лишь на мгновение; он тут же потускнел). Я осторожно опустил его в лоток с водой и отступил – едва успев, поскольку калий мгновенно загорелся, расплавился и, превратившись в неистовую расплавленную каплю, носился по лотку кругами с фиолетовым пламенем над ним, громко шипя и потрескивая, разбрасывая раскаленные осколки во всех направлениях. Через несколько секунд маленький шарик выгорел, и над водой в лотке снова воцарилось спокойствие. Но теперь вода стала теплой и мыльной; она превратилась в раствор едкого калия и, будучи щелочной, окрасила лакмусовую бумажку в синий цвет.
Натрий был намного дешевле и не такой бурный, как калий, поэтому я решил понаблюдать за его действием на открытом воздухе. Я раздобыл приличный кусок – около трех фунтов – и отправился на экскурсию к прудам Хайгейта в Хэмпстед-Хит с двумя моими ближайшими друзьями, Эриком и Джонатаном. Когда мы прибыли, мы забрались на небольшой мост, затем я вытащил натрий из масла щипцами и бросил его в воду внизу. Он мгновенно загорелся и носился по поверхности кругами, как безумный метеор, с огромным шлейфом желтого пламени над ним. Мы все ликовали – вот это была химия во всей красе!
Существовали и другие члены семейства щелочных металлов, еще более реактивные, чем натрий и калий, такие металлы как рубидий и цезий (был также самый легкий и наименее реактивный - литий). Было увлекательно сравнивать реакции всех пяти металлов, помещая небольшие кусочки каждого в воду. Делать это нужно было осторожно, с помощью щипцов, и обеспечить себя и гостей защитными очками: литий степенно двигался по поверхности воды, реагируя с ней и выделяя водород, пока полностью не исчезал; кусок натрия двигался по поверхности со злым жужжанием, но не загорался, если использовался маленький кусочек; калий, напротив, загорался в момент соприкосновения с водой, горя бледно-лиловым пламенем и разбрасывая повсюду свои капли; рубидий был еще более реактивным, бурно шипя с красновато-фиолетовым пламенем; а цезий, как я обнаружил, взрывался при контакте с водой, разбивая свой стеклянный контейнер. После этого свойства щелочных металлов уже никогда не забывались.
До открытия Хамфри Дэви натрия и калия металлы считались твердыми, плотными и тугоплавкими, а тут появились металлы мягкие как масло, легче воды, легкоплавкие, с химической активностью и стремлением к соединению, превосходящими все ранее известное. (Дэви был настолько поражен воспламеняемостью натрия и калия и их способностью плавать на воде, что предположил возможность существования их залежей под земной корой, которые, взрываясь при контакте с водой, могли быть причиной вулканических извержений.) Можно ли было вообще считать щелочные металлы настоящими металлами? Дэви ответил на этот вопрос всего два месяца спустя:
“Большое число ученых мужей, которым был задан этот вопрос, ответили утвердительно. Они сходны с металлами по непрозрачности, блеску, ковкости, способности проводить тепло и электричество, а также по свойствам химических соединений.”
После успеха в выделении первых щелочных металлов Дэви обратился к щелочноземельным металлам и подверг их электролизу, и в течение нескольких недель он выделил еще четыре металлических элемента – кальций, магний, стронций и барий – все высокореактивные и способные гореть, как щелочные металлы, яркоокрашенным пламенем. Они явно образовывали еще одну естественную группу.
Чистые щелочные металлы не существуют в природе; как и элементарные щелочноземельные металлы – они слишком реактивны и мгновенно соединяются с другими элементами.23 Вместо них в природе встречаются простые или сложные соли этих элементов. Хотя соли в кристаллическом состоянии обычно не проводят электричество, они могут хорошо проводить электрический ток в растворенном или расплавленном виде; и действительно будут разлагаться электрическим током, выделяя металлический компонент соли (например, натрий) на одном полюсе и неметаллический элемент (например, хлор) на другом. Это навело Дэви на мысль, что элементы содержатся в соли в виде заряженных частиц – чем еще объяснить их притяжение к электродам? Почему натрий всегда шел к одному электроду, а хлор к другому? Его ученик, Фарадей, позже назвал эти заряженные частицы элементов ‘ионами’, и далее разделил положительные и отрицательные на ‘катионы’ и ‘анионы’. Натрий в своем заряженном состоянии был сильным катионом, а хлор в своем заряженном состоянии – одним из сильнейших анионов.
Для Дэви электролиз стал откровением, показавшим, что сама материя не является чем-то инертным, удерживаемым вместе “гравитацией”, как думал Ньютон, а заряжена и удерживается электрическими силами. Химическое сродство и электрическая сила, предположил он теперь, были одним и тем же. Для Ньютона и Бойля существовала только одна сила – всемирное тяготение, удерживающее вместе не только звезды и планеты, но и сами атомы, из которых они состоят. Теперь, для Дэви, существовала вторая космическая сила, не менее мощная, чем гравитация, но действующая на крошечных расстояниях между атомами, в невидимом, почти невообразимом мире химических атомов. Гравитация, полагал он, могла быть секретом массы, но электричество было секретом материи.
***
Дэви любил проводить эксперименты публично, и его знаменитые лекции, или лекции-демонстрации, были захватывающими, красноречивыми и часто буквально взрывными. Его лекции переходили от мельчайших деталей экспериментов к размышлениям о вселенной и жизни, излагаемым в стиле и с богатством языка, которым никто другой не мог сравниться.24 Он вскоре стал самым известным и влиятельным лектором в Англии, собирая огромные толпы, которые блокировали улицы всякий раз, когда он читал лекции. Даже Колридж, величайший оратор своего времени, приходил на лекции Дэви не только чтобы заполнить свои химические записные книжки, но и “пополнить свой запас метафор”.
В начале девятнадцатого века все еще существовало единство литературной и научной культур – еще не произошло того разделения восприятия, которое вскоре должно было наступить – и период пребывания Дэви в Бристоле ознаменовался началом тесной дружбы с Колриджем и поэтами-романтиками. Сам Дэви в то время писал (и иногда публиковал) много стихов; в его записных книжках перемешивались детали химических экспериментов, стихи и философские размышления; и похоже, что в его сознании они не существовали в отдельных отсеках.25
В эти ранние, благодатные дни Промышленной революции существовал необычайный интерес к науке, особенно к химии; она казалась новым и мощным (и не кощунственным) способом не только понимания мира, но и его улучшения. Сам Дэви, казалось, воплощал этот новый оптимизм, находясь на гребне огромной новой волны научной и технологической мощи, которая обещала или угрожала преобразить мир. К тридцати годам он уже открыл полдюжины элементов, предложил новые формы освещения, внес важные инновации в сельское хозяйство и разработал электрическую теорию химического соединения, материи и самой вселенной.
***
В 1812 году Дэви, сын резчика по дереву, был посвящен в рыцари за заслуги перед империей – первый ученый, удостоенный такой чести после Исаака Ньютона. В том же году он женился, но это, похоже, нисколько не отвлекло его от химических исследований. Отправляясь в длительное свадебное путешествие по континенту и намереваясь проводить эксперименты и встречаться с другими химиками повсюду, куда бы он ни направлялся, он взял с собой множество химического оборудования и различных материалов (“воздушный насос, электрическую машину, вольтову батарею… аппарат для паяльной лампы, кузнечные мехи и горн, ртутный и водяной газовый аппарат, чашки и тигли из платины и стекла, и обычные химические реагенты”) – а также своего молодого научного ассистента, Майкла Фарадея. (Фарадей, тогда в свои двадцать с небольшим лет, увлеченно следил за лекциями Дэви и завоевал его расположение, представив блестяще переписанную и аннотированную версию этих лекций.)
В Париже Дэви посетили Ампер и Гей-Люссак, которые принесли ему для оценки образец блестящего черного вещества, полученного из морских водорослей, обладавшего замечательным свойством: при нагревании оно не плавилось, а сразу превращалось в пар насыщенного фиолетового цвета. Годом ранее Дэви идентифицировал зеленовато-желтый “муриатический кислый воздух” Шееле как новый элемент, хлор. Теперь, благодаря своему огромному чутью к конкретике26 и гениальной способности проводить аналогии, Дэви почувствовал, что это пахучее, летучее, высокореактивное черное твердое вещество могло быть другим новым элементом, аналогом хлора, что вскоре и подтвердилось. Он уже пытался, безуспешно, выделить “фтористый радикал” Лавуазье, понимая, что содержащийся в нем элемент, фтор, должен быть более легким и еще более активным аналогом хлора. Но он также чувствовал, что разрыв в физических и химических свойствах между хлором и йодом настолько велик, что предполагает существование промежуточного, еще не открытого элемента между ними. (Действительно, такой элемент существовал – бром, но его открытие выпало не Дэви, а молодому французскому химику Балару в 1826 году. Как оказалось, сам Либих фактически получил этот дымящийся коричневый жидкий элемент еще раньше, но ошибочно идентифицировал его как “жидкий хлорид йода”; узнав об открытии Балара, Либих поместил бутылку в свой “шкаф ошибок”.)
Из Франции свадебная компания поэтапно переместилась в Италию, проводя эксперименты по пути: собирая кристаллы с кромки Везувия; анализируя газ из природных разломов в горах (который, как обнаружил Дэви, оказался идентичным болотному газу, или метану); и впервые проводя химический анализ образцов краски со старых шедевров (“mere atoms” [“всего лишь атомы”], как он объявил).
Во Флоренции он экспериментировал со сжиганием алмаза в контролируемых условиях, используя гигантскую увеличительную линзу. Несмотря на демонстрацию воспламеняемости алмаза Лавуазье, Дэви до этого момента с неохотой верил в то, что алмаз и древесный уголь являются, по сути, одним и тем же элементом. Было довольно редким явлением, чтобы элементы имели несколько совершенно различных физических форм (это было до открытия красного фосфора или аллотропных модификаций серы). Дэви размышлял, не могут ли они представлять различные формы “агрегации” самих атомов, но только намного позже, с развитием структурной химии, это удалось определить (было показано, что твердость алмаза обусловлена тетраэдрической формой его атомных решеток, а мягкость и жирность графита – упаковкой его гексагональных решеток в параллельные слои).
***
После медового месяца Дэви вернулся в Лондон к одной из самых серьезных практических задач своей жизни. Промышленная революция, набиравшая обороты, поглощала все большие объемы угля; угольные шахты копались все глубже, достаточно глубоко, чтобы столкнуться с воспламеняющимися и ядовитыми газами “рудничного газа” (метана) и “удушающего газа” (углекислого газа). Канарейка, спущенная в клетке, могла служить предупреждением о присутствии удушающего газа; но первым признаком рудничного газа слишком часто становился смертельный взрыв. Было крайне важно разработать шахтерскую лампу, которую можно было бы носить в темных глубинах шахт без опасности воспламенения скоплений рудничного газа.
Дэви сделал решающее наблюдение - он заметил, что пламя не может пройти через металлическую сетку или марлю, если она поддерживается в охлажденном состоянии27. Он создал множество различных типов ламп, использующих этот принцип, причем самой простой и надежной оказалась масляная лампа, в которой воздух мог поступать внутрь и выходить наружу только через экраны из металлической сетки. Усовершенствованные лампы были испытаны в 1816 году и оказались не только безопасными, но и, судя по виду пламени, надежными индикаторами присутствия рудничного газа.
В ходе дальнейших исследований Дэви обнаружил, что если поместить платиновую проволоку во взрывоопасную смесь, она раскалится докрасна и будет светиться. Он открыл чудо катализа: как определенные вещества, такие как платиновые металлы, могут вызывать непрерывную химическую реакцию на своей поверхности, не расходуясь при этом. Так, например, платиновая петля, которую мы держали над кухонной плитой, начинала светиться, когда попадала в поток газа, и, раскалившись докрасна, поджигала его. Этот принцип катализа стал незаменимым в тысячах промышленных процессов.28
В той степени, которую я осознал только позже, Хамфри Дэви и его открытия были частью нашей жизни: от гальванических столовых приборов до каталитической газовой зажигалки, от фотографии (которую он одним из первых осуществил, делая снимки на коже за тридцать или более лет до того, как другие заново открыли этот процесс) до ослепительной дуговой лампы, используемой для проекции фильмов в местном кинотеатре. Алюминий, некогда более дорогой, чем золото (известно, что Наполеон III подавал своим гостям блюда из золота, в то время как сам обедал на алюминиевых), стал дешевым и доступным только благодаря использованию дэвиевского электролиза для его извлечения. А тысячи и одно синтетическое вещество вокруг нас, от искусственных удобрений до наших блестящих бакелитовых телефонов, стали возможны благодаря магии катализа. Но, что особенно важно, меня привлекала личность Дэви – не скромного, как Шееле, не систематичного, как Лавуазье, а наполненного юношеской живостью и энтузиазмом, с удивительной тягой к приключениям и порой опасной импульсивностью – он всегда был на грани того, чтобы зайти слишком далеко – и именно это больше всего захватило мое воображение.
12
Изображения
Фотография стала еще одним моим увлечением, и моя маленькая лаборатория, уже и так переполненная, часто служила также и фотолабораторией. Если я пытаюсь вспомнить, что привлекло меня в фотографии, я думаю о задействованных химикатах – мои руки часто были окрашены пирогаллолом и, казалось, постоянно пахли “гипо” (гипосульфитом натрия); об особом освещении – темно-рубиновом безопасном свете; о больших фотовспышках, наполненных блестящей, мятой, легковоспламеняющейся металлической фольгой (обычно магниевой или алюминиевой, иногда циркониевой). Я думаю об оптике – крошечном, сплющенном изображении мира на матовом стекле; о восхищении различными диафрагмами, фокусировкой, разными объективами; обо всех интригующих эмульсиях, которые можно было использовать – меня завораживали, прежде всего, процессы фотографии.
Но было также, конечно, ощущение возможности сделать очень личное и, возможно, мимолетное восприятие объективным и постоянным, особенно учитывая мою неспособность рисовать или писать красками. Это подогревалось, еще до войны, семейными фотоальбомами, особенно теми, которые относились к периоду до моего рождения: пляжными сценами и купальными машинами 1920-х годов, уличными сценами Лондона на рубеже веков, чопорно позирующими бабушками и дедушками, двоюродными бабушками и дедушками 1870-х годов. Были также, что особенно ценно, пара дагерротипов в специальных рамках, датируемых 1850-ми годами; они отличались детализацией и отделкой, которая казалась намного тоньше, более блестящей, чем у более поздних бумажных отпечатков. Моя мать особенно дорожила одним из них – фотографией матери её матери, Джудит Вайскопф, сделанной в Лейпциге в 1853 году.
Затем был целый широкий мир за пределами семьи, печатные фотографии в книгах и газетах, некоторые из которых производили на меня сильное впечатление, как драматические фотографии горящего Хрустального дворца (они подтверждали – или навевали? – мои собственные ранние воспоминания о нем) и фотографии величественно плывущих дирижаблей (и другая – с горящим Цеппелином). Я любил фотографии далеких людей и мест, особенно фотографии в журнале National Geographic, который приходил каждый месяц с его желтой окантовкой на обложке. Более того, в National Geographic были цветные изображения, и они особенно влияли на меня. Я видел раскрашенные вручную фотографии – тетя Бирди была искусна в таком тонировании – но я никогда раньше не видел настоящих цветных фотографий. Рассказ Г.Г. Уэллса “Странная история газеты Браунлоу”, который я прочитал примерно в это время, описывает, как Браунлоу однажды получает вместо своей обычной газеты 1931 года газету, датированную 1971 годом. Первое, что привлекает внимание мистера Браунлоу, заставляя его осознать, что он столкнулся с чем-то невероятным, – это факт, что в этой газете есть цветные фотографии – нечто немыслимое для него, живущего в 1930-х годах:
“Никогда в жизни он не видел такой цветной печати – и здания, пейзажи и костюмы на фотографиях были странными. Странными, но правдоподобными. Это были цветные фотографии действительности сорок лет спустя.”
У меня иногда возникало подобное чувство при взгляде на цветные изображения в National Geographic; они тоже указывали на яркий, многоцветный мир будущего и уводили от монохромного прошлого.
Но меня больше привлекали фотографии прошлого с их тусклыми, нежными сепиевыми тонами – их было множество в старых семейных альбомах и в старых журналах, которые я однажды нашел сложенными в кладовке. Уже к 1945 году я глубоко осознавал перемены, то, как довоенная жизнь безвозвратно ушла навсегда. Но оставались фотографии, часто сделанные случайно, которые теперь приобрели особую ценность – фотографии летних каникул до войны, фотографии друзей, соседей и родственников, запечатленных в солнечном свете 1935 или 1938 года, без тени или предчувствия того, что должно было произойти. Мне казалось удивительным, что фотографии могли захватывать реальные моменты, словно чистые срезы времени, навечно зафиксированные в серебре.
Я страстно желал сам делать фотографии, документировать и фиксировать сцены, предметы, людей, места, моменты, прежде чем они изменятся или исчезнут, поглощенные трансформациями памяти и времени. Я сделал одну такую фотографию Мейпсбери-роуд, запечатлев её в утреннем солнечном свете 9 июля 1945 года, в мой двенадцатый день рождения. Я хотел задокументировать, сохранить навсегда именно то, что предстало передо мной, когда я открыл шторы тем утром. (У меня до сих пор есть эта фотография, точнее, две фотографии, задуманные как стереопара в виде красно-зеленого анаглифа. Теперь, спустя более полувека, она почти заменила реальное воспоминание, так что когда я закрываю глаза и пытаюсь представить Мейпсбери-роуд моего детства, я вижу только ту фотографию, которую я сделал.)
Такая документация была отчасти вынужденной из-за войны, из-за того, как массово уничтожались или исчезали, казалось бы, постоянные объекты. До войны вокруг нашего палисадника была кованая железная ограда, красивая и прочная, но когда я вернулся домой в 1943 году, её уже не было. Это меня очень беспокоило и даже заставляло сомневаться в собственной памяти. Действительно ли там была такая ограда до войны, или я каким-то образом выдумал её в своем воображении? Увидеть фотографии себя маленького, позирующего у этой ограды, было большим облегчением, доказывающим, что ограда действительно существовала. А еще были гигантские часы Криклвуда, часы, которые я помнил, или, по крайней мере, казалось, что помнил, высотой не менее двадцати футов, с золотым циферблатом, на Чичеле-роуд – их тоже не было в ‘43. Похожие часы были в Уиллсден-Грин, и я думал, что каким-то образом удвоил их в своем сознании, наделив Криклвуд, мой район, их близнецом. И снова, спустя годы, было большим облегчением увидеть фотографию этих часов, убедиться, что я их не выдумал (и железную ограду, и часы убрали в рамках военных усилий, когда страна отчаянно нуждалась во всем доступном железе).
Подобная ситуация была с исчезнувшим Уиллсденским Ипподромом, если он вообще когда-либо существовал. Я представлял, что если спрошу об этом, люди скажут: “Уиллсденский Ипподром, надо же! О чем мальчик думает? Как будто в Уиллсдене когда-нибудь мог быть ипподром!” Только когда я увидел старую фотографию, мои сомнения рассеялись, и я убедился, что такой ипподром действительно когда-то существовал, хотя он был уничтожен бомбежкой во время войны.
Я прочитал “1984” когда роман вышел в 1949 году, и его описание “гнезда памяти” показалось мне особенно впечатляющим и пугающим, поскольку оно соответствовало моим собственным сомнениям в своей памяти. Думаю, что чтение этой книги привело к тому, что я стал больше вести дневник и фотографировать, а также усилилась потребность изучать свидетельства прошлого. Это проявлялось по-разному – в интересе к антикварным книгам и старинным вещам всякого рода; к генеалогии; к археологии; и особенно к палеонтологии. Тетя Лен познакомила меня с окаменелостями еще в детстве, но теперь я видел в них гарантов реальности.
Поэтому я любил старые фотографии нашего района и Лондона. Они казались мне продолжением моей собственной памяти и идентичности, помогали мне закрепиться, укорениться в пространстве и времени как английскому мальчику, родившемуся в 1930-х годах, родившемуся в Лондоне, похожем на тот, в котором выросли мои родители, дяди и тети, в Лондоне, который был бы узнаваем для Уэллса, Честертона, Диккенса или Конан Дойла. Я внимательно изучал старые фотографии, как местные и исторические, так и старые семейные, чтобы увидеть, откуда я пришел, чтобы понять, кто я.
***
Если фотография была метафорой восприятия, памяти и идентичности, то она в равной степени была моделью, микрокосмом науки в действии – и особенно приятной наукой, поскольку она объединяла химию, оптику и восприятие в единое, неделимое целое. Сделать снимок, отправить его на проявку и печать было, конечно, увлекательно, но в ограниченном смысле. Я хотел понять и освоить самостоятельно все задействованные процессы и манипулировать ими по-своему.
Меня особенно увлекала ранняя история фотографии и химические открытия, которые привели к ней: как впервые было обнаружено, еще в 1725 году, что соли серебра темнеют на свету, и как Хамфри Дэви (вместе со своим другом Томасом Веджвудом) делал контактные изображения листьев и крыльев насекомых на бумаге или белой коже, пропитанной нитратом серебра, и фотографии с помощью камеры-люциды. Но они не могли закрепить полученные изображения и могли рассматривать их только при красном свете или свете свечи, иначе они полностью чернели. Я удивлялся, почему Дэви, такой опытный химик и хорошо знакомый с работами Шееле, не воспользовался наблюдением Шееле о том, что аммиак мог “закреплять” изображения (удаляя избыток соли серебра) – если бы он сделал это, его могли бы считать отцом фотографии, предвосхитив окончательный прорыв в 1830-х годах, когда Фокс Тальбот, Дагер и другие смогли создавать постоянные изображения, используя химикаты для их проявки и закрепления.
Мы жили очень близко к моему двоюродному брату Уолтеру Александру (именно в его квартиру мы пошли, когда во время Блица бомба упала по соседству), и я сблизился с ним, несмотря на большую разницу в возрасте (хотя он был моим двоюродным братом, он был старше меня на тридцать лет), поскольку он был профессиональным фокусником и фотографом, сохранившим игривый характер на протяжении всей жизни, и любил трюки и иллюзии всех видов. Именно Уолтер впервые приобщил меня к фотографии, показав мне магию появления изображения, когда он проявлял листы пленки в своей темной комнате с красным освещением. Я никогда не уставал от этого чуда, видя, как первые слабые намеки изображения – были ли они действительно там, или это самообман? – становились сильнее, богаче, четче, обретали полную жизнь, пока он покачивал пленку туда-сюда в лотке с проявителем, пока наконец, полностью проявленная, там не оказывалась крошечная, совершенная копия сцены.
Мать Уолтера, Роуз Ландау, уехала в Южную Африку со своими братьями в 1870-х годах, где фотографировала шахты и шахтеров, таверны и быстрорастущие города в ранние дни алмазной и золотой лихорадки. В то время для создания таких фотографий требовалась значительная физическая сила и смелость, поскольку ей приходилось таскать с собой массивную камеру вместе со всеми необходимыми стеклянными пластинами. Роуз была еще жива в 1940 году, единственная из первородных дядей и тетей, которых я когда-либо встречал. У самого Уолтера была ее оригинальная камера, а также значительная коллекция камер и стереоскопов.
Помимо оригинальной камеры Дагера, укомплектованной йодирующими и ртутными боксами, у Уолтера была огромная видовая камера с подвижным фронтом, наклоном и мехами, использующая листовую пленку размером восемь на десять дюймов (он все еще использовал ее иногда для студийных портретов); стереокамера; и красивая маленькая Leica с объективом f/3.5 – первая 35-миллиметровая миниатюрная камера, которую я видел. Leica была его любимой камерой для походов; для общего использования он предпочитал двухобъективный зеркальный фотоаппарат Rolleiflex. У него также были некоторые трюковые камеры начала века – одна из них, созданная для детективной работы, выглядела точно как карманные часы и делала снимки на 16-миллиметровую пленку.
Поначалу вся моя фотография была черно-белой – иначе я не смог бы проявлять и печатать свои собственные пленки – но у меня не было ощущения, что им “не хватает” цвета. Моей первой камерой была камера-обскура, которая давала удивительно хорошие снимки с огромной глубиной резкости. Затем у меня была простая коробочная камера с фиксированным объективом – она стоила два шиллинга в Вулворте. Потом складная камера Kodak, которая использовала 620 рулонную пленку. Меня завораживали скорости и тонкости различных эмульсий, от медленных мелкозернистых, позволявших получать изысканные детали, до самых быстрых, почти в пятьдесят раз быстрее некоторых медленных эмульсий, так что можно было фотографировать даже ночью (хотя они были настолько зернистыми, что их практически невозможно было увеличить). Я рассматривал некоторые из этих эмульсий под микроскопом, видя, как на самом деле выглядят зерна серебра, и задавался вопросом, можно ли получить настолько мелкие зерна серебра, чтобы создать практически беззернистую эмульсию.
Мне нравилось самому делать светочувствительные эмульсии, какими бы нелепо грубыми и медленными они ни были по сравнению с готовыми. Я брал 10-процентный раствор нитрата серебра и медленно добавлял его, постоянно помешивая, в раствор хлорида калия и желатина. Кристаллы, взвешенные в желатине, были чрезвычайно мелкими и не слишком светочувствительными, так что это можно было безопасно делать при красном свете. Кристаллы можно было сделать крупнее и чувствительнее, подогревая эмульсию несколько часов, что позволяло самым мелким кристаллам раствориться и осесть на более крупных. После такого “созревания” добавлялось немного желатина, все застывало до плотного желе, а затем наносилось на бумагу.
Я также мог пропитывать бумагу хлоридом серебра напрямую, полностью избегая желатина, сначала погружая бумагу в солевой раствор, а затем в нитрат серебра; образовавшийся хлорид серебра удерживался волокнами бумаги. В любом случае, я мог делать свою собственную бумагу с прямым проявлением, как ее называли, и с ее помощью делать контактные отпечатки с негативов или силуэты кружева или папоротника, хотя для их получения требовалось несколько минут экспозиции при прямом солнечном свете.
Закрепление отпечатков гипосульфитом сразу после экспонирования обычно давало довольно неприглядные коричневые цвета, и это подтолкнуло меня к экспериментам с различными видами тонирования. Простейшим было сепия-тонирование – к сожалению, не чернилами каракатицы (сепией), как я надеялся, а путем преобразования серебра изображения в сульфид серебра цвета сепии. Можно было делать и золотое тонирование – для этого требовалось погружение в раствор хлорида золота, что давало синевато-пурпурное изображение, когда металлическое золото осаждалось на частицы серебра. А если попробовать это после сульфидного тонирования, можно было получить прекрасный красный цвет – изображение из сульфида золота.
Вскоре я перешел к другим формам тонирования. Селеновое тонирование давало насыщенный красноватый цвет, а отпечатки, тонированные палладием и платиной, обладали прекрасным, сдержанным качеством, более деликатным, как мне казалось, чем обычные серебряные отпечатки. Конечно, нужно было начинать с серебряного изображения, поскольку только соли серебра были чувствительны к свету, но затем его можно было заменить практически любым другим металлом. Легко можно было заменить серебро медью, ураном или ванадием. Особенно необычной комбинацией было соединение соли ванадия с железной солью, например, оксалатом железа, и тогда желтый цвет ферроцианида ванадия и синий цвет ферри-ферроцианида соединялись, образуя ярко-зеленый цвет. Мне нравилось озадачивать родителей фотографиями зеленых закатов, зеленых лиц и пожарных машин или двухэтажных автобусов, ставших зелеными. В моем фотографическом руководстве также описывалось тонирование оловом, кобальтом, никелем, свинцом, кадмием, теллуром и молибденом – но тут мне пришлось остановиться, поскольку я становился одержимым, чрезмерно увлекаясь тонированием и возможностью использовать все известные мне металлы в фотолаборатории, забывая о истинном предназначении фотографии. Такого рода чрезмерность, видимо, заметили в школе, поскольку примерно в это время я получил школьную характеристику, в которой говорилось: “Сакс пойдет далеко, если не зайдет слишком далеко”.
***
В коллекции Уолтера была странно массивная, громоздкая камера – это, по его словам, была цветная камера: в ней было два полупрозрачных зеркала, разделяющих входящий свет на три луча, которые направлялись через различно окрашенные фильтры на три отдельные пластины. Цветная камера Уолтера была прямым потомком знаменитого эксперимента, проведенного в Королевском институте Клерком Максвеллом в 1861 году, когда он фотографировал цветной бант обычными черно-белыми пластинами через фильтры трех основных цветов – красного, зеленого и фиолетового – и проецировал черно-белые позитивы этих изображений с помощью трех проекторов с соответствующими фильтрами. Когда они были идеально наложены друг на друга, три черно-белых изображения взрывались полным цветом. Этим Максвелл показал, что любой цвет, видимый человеческому глазу, может быть создан всего из этих трех “основных” цветов, поскольку сам глаз имеет три аналогично “настроенных” цветовых рецептора, а не бесконечное количество цветовых рецепторов для каждого мыслимого оттенка и длины волны.
Хотя Уолтер однажды продемонстрировал мне это с помощью трех проекторов, мне хотелось иметь это чудо, этот внезапный взрыв цвета, более непосредственно под рукой. Самым захватывающим способом получения мгновенного цвета был процесс под названием Финлейколор, при котором фактически три цветоделительных негатива снимались одновременно с использованием сетки с микроскопическими красными, зелеными и фиолетовыми линиями. Затем с этого негатива делали позитив, диапозитив, и приводили его в точное соответствие с сеткой. Это было сложно, деликатно, но когда они находились в идеальном совмещении, ранее черно-белый слайд взрывался полным цветом. Поскольку экран с его микроскопическими линиями просто казался серым, при его совмещении со слайдом наблюдалось самое волшебное, неожиданное создание цвета там, где, казалось, его раньше не было. (National Geographic изначально использовал Финлейколор, и эти тонкие линии можно было увидеть, если посмотреть через увеличительное стекло.)
Чтобы сделать цветные отпечатки, нужно было напечатать три позитивных изображения в дополнительных цветах – голубом, пурпурном и желтом – а затем наложить их друг на друга. Хотя существовала пленка Kodachrome, которая делала это автоматически, я предпочитал делать это по-старому, восхитительному способу, создавая отдельные голубые, пурпурные и желтые диапозитивы из моих цветоделительных негативов, а затем осторожно накладывая их друг на друга, пока не добивался точного совмещения. При этом внезапно, чудесным образом, проявлялись цвета оригинала, будучи закодированными, так сказать, в трех монохромных изображениях.
Я бесконечно экспериментировал с этими цветоделениями, наблюдая эффект от наложения двух, а не трех цветов, или просматривая слайды через неправильные фильтры. Эти эксперименты были одновременно забавными и поучительными; они позволяли мне создавать ряд странных цветовых искажений, но прежде всего они научили меня восхищаться элегантностью и экономичностью работы глаза и мозга, которую можно было удивительно хорошо имитировать с помощью фотографического трехцветного процесса.
***
У нас в доме также были сотни стереоскопических “видов” – многие на картонных прямоугольниках, другие на стеклянных пластинах – парные, выцветшие сепия-фотографии альпийских пейзажей, Эйфелевой башни, Мюнхена 1870-х годов (мать моей матери родилась в Гунценхаузене, маленькой деревушке в нескольких милях от Мюнхена), викторианских пляжных и уличных сцен, а также различных промышленных сцен (один особенно впечатляющий вид был на викторианскую фабрику с длинными педалями, приводимыми в движение паровыми двигателями, и именно этот образ пришел мне на ум, когда я читал о Коктауне в “Тяжелых временах”). Я любил вставлять эти двойные фотографии в большой стереоскоп в гостиной – массивный деревянный прибор, стоявший на собственной подставке и имевший латунные ручки для фокусировки и изменения расстояния между линзами. Такие стереоскопы все еще были довольно распространены, хотя уже не так повсеместно, как на рубеже веков. Наблюдать, как плоские, тусклые фотографии внезапно приобретают новое измерение, реальную и интенсивно видимую глубину, придавало им особую реальность, правдоподобие особого и личного рода. В стереоскопических видах было что-то романтичное и тайное, потому что, заглядывая в окуляры, ты становился свидетелем своего рода застывшего театра – театра, полностью принадлежащего тебе. Мне казалось, что я почти мог войти в них, как в диорамы в музее.
В этих видах существовала маленькая, но crucial разница в параллаксе или перспективе между двумя картинками, и именно это создавало ощущение глубины. Не было ощущения того, что видел каждый глаз по отдельности, поскольку два вида волшебным образом сливались, образуя единую целостную картину.
Тот факт, что глубина была конструкцией, “выдумкой” мозга, означал, что могли быть обманы, иллюзии, различные трюки. У меня никогда не было стереокамеры, но я делал два снимка последовательно, перемещая камеру на пару дюймов между экспозициями. Если сдвинуть камеру больше, параллактические различия преувеличивались, и две картинки при слиянии давали преувеличенное ощущение глубины. Я сделал гиперстереоскоп, используя картонную трубку с зеркалами, установленными внутри под углом, фактически увеличивая межглазное расстояние до двух футов или более. Это было замечательно для выявления разной глубины удаленных зданий или холмов, но давало причудливые эффекты на близких расстояниях – например, эффект Пиноккио при взгляде на лица людей, когда их носы казались торчащими на несколько дюймов вперед.
Также было интересно менять картинки местами. Это легко можно было сделать со стереофотографиями, но также можно было создать псевдоскоп с короткой картонной трубкой и зеркалами, так что видимое положение глаз менялось местами. Это заставляло далекие объекты казаться ближе, чем находящиеся рядом – лицо, например, могло выглядеть как вогнутая маска. Но это создавало интересное соперничество или противоречие, поскольку знания и все другие визуальные признаки могли говорить одно, а псевдоскопические изображения – другое, и человек видел то одно, то другое, пока мозг переключался между различными перцептивными гипотезами.29
***
Другую сторону всего этого, как я понял – своего рода деконструкция или разложение – я мог наблюдать во время мигреней, при которых часто возникали странные визуальные изменения. Мое восприятие цвета могло временно исчезнуть или измениться; объекты могли казаться плоскими, как вырезки; или вместо нормального движения я мог видеть серию мерцающих стоп-кадров, как когда Уолтер замедлял свой кинопроектор. Я мог потерять половину поля зрения, когда объекты исчезали с одной стороны, или лица казались рассеченными пополам. Я был в ужасе, когда у меня впервые случились такие приступы – они начались, когда мне было четыре или пять лет, до войны – но когда я рассказал о них матери, она сказала, что у нее бывают похожие приступы, что они безвредны и длятся всего несколько минут. После этого я стал ждать своих случайных приступов с интересом, гадая, что может произойти в следующий раз (ни один не был точно таким же, как другой), что мозг в своей изобретательности мог придумать. Мигрени и фотография, вместе взятые, возможно, помогли направить меня в то русло, по которому я пошел годы спустя.
Мой брат Майкл любил Г.Дж. Уэллса и одолжил мне в Брейфилде свой экземпляр “Первых людей на Луне”. Это была маленькая книга в переплете из синей марокканской кожи, и ее иллюстрации впечатлили меня не меньше, чем текст – изможденные селениты, идущие друг за другом, и Великий Лунарий с его раздутым черепом в своей светящейся пещере на луне, освещенной грибами. Я любил оптимизм и волнение от путешествия в космос и идею материала (“каворита”), непроницаемого для гравитации. Одна из глав называлась “Мистер Бедфорд в бесконечном пространстве”, и мне нравилась мысль о мистере Бедфорде и мистере Каворе в их маленькой сфере (она напоминала батисферу Биба, фотографии которой я видел), открывающих и закрывающих заслонки из каворита, отключающих земную гравитацию. Селениты, лунные жители, были первыми инопланетянами, о которых я когда-либо читал, и после этого я иногда встречал их в своих снах. Но была и грусть, потому что Кавор в конце концов остается брошенным на луне, в невыразимом одиночестве и уединении, имея в компании только бесчеловечных, насекомоподобных селенитов.
После Брейфилда “Война миров” тоже стала любимой книгой, не в последнюю очередь потому, что боевые машины марсиан производили чрезвычайно плотный, чернильный пар (“он опускался сквозь воздух и разливался по земле скорее как жидкость, чем как газ”), который содержал неизвестный элемент в соединении с газом аргоном – и я знал, что аргон, инертный газ, не мог быть соединен никакими земными способами.30
Я очень любил кататься на велосипеде, особенно по проселочным дорогам через маленькие города и деревни вокруг Лондона, и, читая “Войну миров”, я решил проследить путь наступления марсиан, начиная с Хорселл-Коммон, где приземлился первый марсианский цилиндр.
Описания Уэллса казались мне настолько реальными, что когда я добрался до Уокинга, я был удивлен, найдя его неожиданно целым, учитывая, как он был опустошен марсианским тепловым лучом в ‘98 году. И я был поражен, обнаружив в маленькой деревне Шеппертон все еще стоящий церковный шпиль, поскольку я принял почти как исторический факт, что он был сбит пошатнувшимся марсианским треножником. И я не мог посещать Музей естественной истории, не думая о “великолепном и почти полном образце [марсианина] в спирту”, который, как уверял нас Уэллс, находился там. (Я ловил себя на том, что ищу его в галерее головоногих, поскольку все марсиане, казалось, были несколько осьминогоподобными по своей природе.)
То же самое было и с самим Музеем естественной истории – его разрушенными, затянутыми паутиной галереями, открытыми всем ветрам – по которым бродит Путешественник во времени Уэллса в 800 000 году нашей эры. После этого я никогда не мог посещать музей, не видя его опустошенный облик будущего, наложенный на настоящее, как воспоминание о сне. Действительно, даже обыденная реальность самого Лондона преобразилась для меня благодаря насыщенному и мифическому Лондону из рассказов Уэллса, с местами, которые можно было увидеть только в определенном настроении или состоянии – дверь в стене, волшебный магазин.
В детстве я находил более поздние “социальные” романы Уэллса малоинтересными, предпочитая ранние повести, которые сочетали замечательные научно-фантастические экстраполяции с острым, поэтическим ощущением человеческой хрупкости и смертности, как в случае с Человеком-невидимкой, поначалу таким высокомерным, но умирающим так жалко, или фаустовским доктором Моро, которого в конце концов убивают его собственные создания.
Но его истории также были полны обычных людей, переживающих необычайные визуальные опыты всех видов: маленький лавочник, которому даруются экстатические видения Марса через взгляд в таинственное хрустальное яйцо; или молодой человек, чьи глаза получают внезапный поворот, когда он стоит между полюсами электромагнита во время бури, визуально перенося его на необитаемую скалу близ Южного полюса. В детстве я был одержим рассказами Уэллса, его притчами (и многие из них все еще находят отклик во мне пятьдесят лет спустя). Тот факт, что он был еще жив в 1946 году, все еще с нами, после войны, вызывал во мне острое, неуместное желание увидеть его. И узнав, что он жил в маленьком ряду домов, Ганновер-террас, недалеко от Риджентс-парка, я иногда ходил туда после школы или по выходным, надеясь мельком увидеть старика.
13
Круглые деревяшки мистера Далтона
Эксперименты в моей лаборатории показали мне, что химические смеси совершенно не похожи на химические соединения. Можно было смешать соль и сахар, скажем, в любой пропорции. Можно было смешать соль и воду – соль растворялась, но затем можно было выпарить воду и получить соль обратно в неизменном виде. Или можно было взять латунный сплав и извлечь из него медь и цинк в неизменном виде. Когда у меня выпала одна из зубных пломб, я смог отогнать ртуть из нее в неизменном виде. Все это – растворы, сплавы, амальгамы – были смесями. Смеси, в основном, обладали свойствами своих ингредиентов (плюс, возможно, одно или два “особых” качества – например, относительная твердость латуни или пониженная точка замерзания соленой воды). Но соединения обладали совершенно новыми, собственными свойствами.
В восемнадцатом веке большинство химиков молчаливо признавали, что соединения имеют фиксированный состав, и элементы в них соединяются в точных, неизменных пропорциях – практическая химия едва ли могла развиваться иначе. Но не было явных исследований этого или заявлений по этому поводу, пока Жозеф-Луи Пруст, французский химик, работавший в Испании, не начал серию тщательных анализов, сравнивая различные оксиды и сульфиды со всего мира. Вскоре он убедился, что все истинные химические соединения действительно имеют фиксированный состав – и что это верно независимо от того, как было получено соединение или где оно было найдено. Красный сульфид ртути, например, всегда имел одни и те же пропорции ртути и серы, независимо от того, был ли он получен в лаборатории или найден в виде минерала.31
“От полюса до полюса [писал Пруст] соединения идентичны по составу. Их внешний вид может различаться из-за способа агрегации, но их свойства никогда… Киноварь из Японии имеет тот же состав, что и киноварь из Испании; хлорид серебра абсолютно одинаков, получен ли он из Перу или из Сибири; во всем мире существует лишь один хлорид натрия; одна селитра; один сульфат кальция; и один сульфат бария. Анализ подтверждает эти факты на каждом шагу.”
К 1799 году Пруст обобщил свою теорию в закон – закон постоянных пропорций. Анализы Пруста и его загадочный закон привлекли внимание химиков повсюду, не в последнюю очередь в Англии, где они должны были вдохновить на глубокие прозрения Джона Дальтона, скромного учителя-квакера из Манчестера.
Одаренный в математике и с раннего возраста увлеченный Ньютоном и его “корпускулярной философией”, Дальтон стремился понять физические свойства газов – давление, которое они оказывают, их диффузию и растворение – в корпускулярных или “атомных” терминах. Таким образом, он уже размышлял об “предельных частицах” и их весах, хотя и в этом чисто физическом контексте, когда впервые услышал о работе Пруста, и внезапным интуитивным скачком понял, как эти предельные частицы могли бы объяснить закон Пруста и, по сути, всю химию.
Для Ньютона и Бойля, хотя и существовали разные формы материи, корпускулы или атомы, из которых они состояли, были все идентичны. (Таким образом, для них всегда существовала алхимическая возможность превращения неблагородного металла в золото, поскольку это требовало только изменения формы, трансформации одной и той же базовой материи.)32 Но теперь концепция элементов, благодаря Лавуазье, была ясна, и для Дальтона существовало столько же видов атомов, сколько было элементов. Каждый имел фиксированный и характерный “атомный вес”, и именно это определяло относительные пропорции, в которых он соединялся с другими элементами. Таким образом, если 23 грамма натрия неизменно соединялись с 35,5 граммами хлора, это было потому, что атомы натрия и хлора имели атомные веса 23 и 35,5. (Эти атомные веса были, конечно, не фактическими весами атомов, а их весами относительно стандарта – например, веса атома водорода.)
Чтение Дальтона, чтение об атомах приводило меня в своего рода восторг при мысли о том, что загадочные пропорции и числа, которые наблюдались в макромасштабе в лаборатории, могли отражать невидимый, бесконечно малый, внутренний мир атомов, танцующих, соприкасающихся, притягивающихся и соединяющихся. У меня было ощущение, что я получил возможность увидеть, используя воображение как микроскоп, крошечный мир, предельный мир, в миллиарды или триллионы раз меньше нашего – реальные составляющие материи.
Дядя Дэйв показал мне сусальное золото, отбитое и раскатанное до почти прозрачного состояния, так что оно пропускало свет, прекрасный сине-зеленый свет. Этот лист, толщиной в миллионную долю дюйма, как он сказал, был толщиной всего в несколько десятков атомов. Мой отец показал мне, как очень горькое вещество, такое как стрихнин, можно разбавить в миллион раз, и все равно его можно будет почувствовать на вкус. И мне нравилось экспериментировать с тонкими пленками, пускать мыльные пузыри в ванне – крошечную каплю мыльной воды можно было осторожно раздуть в огромный пузырь – и наблюдать за тем, как масло растекается радужными пленками на мокрых дорогах. Все это подготовило меня, в некотором роде, к тому, чтобы представлять очень малое – малость частиц, составляющих толщину сусального золота в миллионную долю дюйма, мыльного пузыря или масляной пленки.
Сейчас, конечно, мы можем “видеть” и даже манипулировать отдельными атомами, используя атомно-силовой микроскоп. Но требовалось огромное видение и мужество в самом начале девятнадцатого века, чтобы постулировать сущности, настолько выходящие за пределы любой эмпирической демонстрации, возможной в то время.33
Теория химических атомов Дальтона была подробно изложена в его записной книжке 6 сентября 1803 года, в его тридцать седьмой день рождения. Поначалу он был слишком скромен или слишком застенчив, чтобы что-либо публиковать о своей теории (однако он вычислил атомные веса полудюжины элементов – водорода, азота, углерода, кислорода, фосфора, серы – которые записал в своей записной книжке). Но вскоре распространилась весть о том, что он придумал что-то удивительное, и Томас Томсон, выдающийся химик, отправился в Манчестер, чтобы встретиться с ним. Одна короткая беседа с Дальтоном в 1804 году “обратила” Томсона, изменила его жизнь. “Я был очарован”, – писал он позже, – “новым светом, который немедленно озарил мой разум, и я сразу увидел огромную важность такой теории”.
Хотя Дальтон представил некоторые свои мысли Литературному и Философскому обществу в Манчестере, они не стали известны широкой публике, пока о них не написал Томсон. Презентация Томсона была блестящей и убедительной, гораздо более, чем собственное изложение Дальтона, которое было неуклюже втиснуто в заключительные страницы его “Новой системы” 1808 года.
Но сам Дальтон понимал, что в его теории были фундаментальные проблемы. Ведь чтобы перейти от соединительного или эквивалентного веса к атомному весу, требовалось знать точную формулу соединения, поскольку одни и те же элементы в некоторых случаях могли соединяться более чем одним способом (как в трех оксидах азота). Поэтому Дальтон предположил, что если два элемента образуют только одно соединение (как казалось, делают водород и кислород в воде или азот и водород в аммиаке), они будут делать это в простейшем возможном соотношении: один к одному. Это соотношение, как он полагал, несомненно было бы самым стабильным. Таким образом, он принял формулу воды (в современной номенклатуре) за HO, а атомный вес кислорода – за то же самое, что и его эквивалентный вес, а именно 8. Аналогично он принял формулу аммиака за NH, и, следовательно, атомный вес азота – за 5.
И все же, как показал французский химик Гей-Люссак в тот самый год, когда Дальтон опубликовал свою “Новую систему”, если измерять объемы, а не веса, то оказывалось, что два объема, а не один, водорода соединяются с одним объемом кислорода, образуя два объема пара. Дальтон скептически относился к этим выводам (хотя он мог бы сам с легкостью подтвердить их), скептически, потому что считал, что они потребуют разделения атома на две части, чтобы позволить соединение половины атома кислорода с каждым атомом водорода.
Хотя Дальтон говорил о “сложных” атомах, он не проводил четкого различия (не четче, чем его предшественники) между молекулами – наименьшим количеством элемента или соединения, которое могло существовать свободно – и атомами – реальными единицами химического соединения. Итальянский химик Авогадро, рассматривая результаты Гей-Люссака, выдвинул гипотезу, что равные объемы газов содержат равное число молекул. Чтобы это было возможно, молекулы водорода и кислорода должны были иметь по два атома каждая. Поэтому их соединение для образования воды можно было представить как 2H2+1O2 → 2H2O.
Но удивительным образом (по крайней мере, так кажется в ретроспективе) предположение Авогадро о двухатомных молекулах игнорировалось или отвергалось практически всеми, включая Дальтона. Оставалась большая путаница между атомами и молекулами и неверие в то, что атомы одного и того же типа могут соединяться друг с другом. Не было проблем в том, чтобы рассматривать воду, соединение, как H2O, но возникала, казалось, непреодолимая трудность в допущении того, что молекула чистого водорода может быть H2. Многие атомные веса начала девятнадцатого века были поэтому неверны на простые числовые множители – некоторые казались вдвое меньше, чем должны были быть, некоторые вдвое больше, некоторые в три раза меньше, некоторые в четыре раза, и так далее.
Книга Гриффина, мой первый путеводитель в лаборатории, была написана в первой половине девятнадцатого века, и многие его формулы, а следовательно, и многие его атомные веса были столь же ошибочны, как и у Дальтона. Не то чтобы все это имело большое значение на практике – и, действительно, это не влияло на главное достоинство, многие достоинства Гриффина. Его формулы и атомные веса действительно могли быть неверными, но реагенты, которые он предлагал, и их количества были абсолютно правильными. Только интерпретация, формальная интерпретация была неверной.
При такой путанице с элементарными молекулами, добавленной к неопределенности относительно формул многих соединений, само понятие атомных весов начало дискредитироваться в 1830-х годах, и действительно, само понятие атомов и атомных весов пришло в упадок, настолько, что Дюма, великий французский химик, воскликнул в 1837 году: “Если бы я был хозяином положения, я бы стер слово атом из науки.”
Наконец, в 1858 году соотечественник Авогадро Станислао Канниццаро понял, что гипотеза Авогадро 1811 года предоставляла элегантный выход из десятилетней путаницы с атомами и молекулами, атомными и эквивалентными весами. Первая статья Канниццаро была проигнорирована так же, как и работа Авогадро, но когда в конце 1860 года химики собрались на первой международной химической встрече в Карлсруэ, именно презентация Канниццаро произвела фурор и положила конец многолетней интеллектуальной агонии.
***
Это была часть истории, которую я разнюхал, когда вышел из своей лаборатории и получил билет в библиотеку Музея науки в 1945 году. Было очевидно, что история науки была чем угодно, но не прямой и логичной последовательностью, что она металась, разделялась, сходилась, расходилась, уходила по касательной, повторяла себя, попадала в тупики и углы. Были некоторые мыслители, которые мало обращали внимания на историю (и может быть, многим оригинальным исследователям гораздо лучше не знать своих предшественников или предтеч – Дальтону, как кажется, было бы труднее предложить свою атомную теорию, если бы он знал огромную и запутанную историю атомизма за две тысячи лет, предшествовавших ему). Но были и другие, кто постоянно размышлял об истории своих предметов, и чьи собственные вклады были неразрывно связаны с этими размышлениями – и очевидно, что это был случай Канниццаро. Канниццаро интенсивно размышлял об Авогадро; увидел значение его гипотезы, как никто другой; и с помощью этого, а также своей собственной креативности, революционизировал химию.
Канниццаро очень страстно считал, что история химии должна присутствовать в умах его студентов. В прекрасном эссе о преподавании химии он описал, как знакомил своих учеников с её изучением, “стараясь поместить их… на тот же уровень, что и современники Лавуазье”, чтобы они могли испытать, как испытывали современники Лавуазье, всю революционную силу, чудо его мысли; а затем перенестись на несколько лет вперед, чтобы они могли испытать внезапное, ослепительное озарение Дальтона.
“Часто случается”, – заключил Канниццаро, – “что разум человека, изучающего новую науку, должен пройти через все фазы, которые сама наука продемонстрировала в своей исторической эволюции”. Слова Канниццаро имели для меня мощный резонанс, потому что я тоже, в некотором роде, проживал, повторял историю химии в себе, заново открывая все фазы, через которые она прошла.
14
Линии силы
Когда я был совсем юным, меня интриговало “фрикционное” электричество, того типа, которое заставляло натертый янтарь притягивать кусочки бумаги, и когда я вернулся из Брейфилда, я начал читать об “электрических машинах” – дисках или шарах из какого-нибудь непроводящего материала, вращаемых рукояткой и натираемых рукой, тканью или подушечкой какого-либо рода – которые производили мощные искры или разряды статического электричества. Казалось достаточно легким сделать такую простую машину, и в моей первой попытке создать её я использовал старую пластинку в качестве диска. Граммофонные пластинки в то время делались из вулканита и легко электризовались; единственной проблемой было то, что они были тонкими и хрупкими, легко разбивались. Для второй, более прочной машины, я использовал толстую стеклянную пластину и подушечку, покрытую кожей и покрытую амальгамой цинка. Я мог получать красивые искры от этого устройства, длиной более дюйма, если погода была сухой. (Ничего не работало, если погода была влажной, потому что тогда все проводило.)
Можно было подключить электрическую машину к лейденской банке – по сути, стеклянной банке, покрытой с обеих сторон фольгой, с металлическим шаром наверху, соединенным с внутренней фольгой металлической цепью. Если соединить несколько таких банок вместе, они могли удерживать внушительный заряд. Именно такая “батарея” лейденских банок в восемнадцатом веке, как я прочитал, использовалась в одном эксперименте, чтобы дать почти парализующий разряд линии из восьмисот солдат, всех соединенных за руки.
Я также приобрел небольшую машину Уимшерста, прекрасную вещь с вращающимися стеклянными дисками и расходящимися металлическими секторами, которая могла производить массивные искры длиной до четырех дюймов. Когда пластины машины Уимшерста быстро вращались, все вокруг становилось сильно заряженным: кисточки электризовались, их нити расходились в стороны; шарики из бузины разлетались, и электричество ощущалось на коже. Если поблизости был острый предмет, электричество струилось из него светящейся кистью, маленьким корпосантом, и можно было задувать свечи выходящим “электрическим ветром” или даже заставить его вращать маленький ротор на оси. Используя простой изолирующий табурет – деревянную доску, поддерживаемую четырьмя стаканами – я мог наэлектризовать моих братьев так, что их волосы вставали дыбом. Эти эксперименты показывали отталкивающую силу одинаковых электрических зарядов, каждая нить кисточки, каждый волос приобретал одинаковый заряд (тогда как мой первый опыт с натертым янтарем и кусочками бумаги показал способность электрически заряженных тел притягивать). Противоположности притягивались, подобное отталкивалось.
Я задумался, можно ли использовать статическое электричество машины Уимшерста, чтобы зажечь одну из лампочек дяди Дэйва. Дядя ничего не сказал, но предоставил мне очень тонкую проволоку из серебра и золота толщиной всего в три сотых дюйма. Когда я соединил латунные шары машины Уимшерста трехдюймовым отрезком серебряной проволоки на карточке, проволока взорвалась, когда я повернул ручку, оставив странный узор на карточке. А когда я попробовал с золотой проволокой, она мгновенно испарилась, превратившись в красный пар, газообразное золото. Из этих экспериментов мне показалось, что фрикционное электричество может быть довольно внушительным – но оно было слишком неистовым, слишком неуправляемым, чтобы быть особенно полезным.
***
Электрохимическое притяжение, для Дэви, было притяжением противоположностей – притяжением, например, интенсивно “положительного” металлического иона, катиона, такого как натрий, к интенсивно “отрицательному”, аниону, такому как хлорид. Но большинство элементов, как он считал, располагались между ними на непрерывной шкале электроположительности или электроотрицательности. Степень электроположительности среди металлов была связана с их химической активностью, следовательно, с их способностью восстанавливать или замещать менее положительные элементы.
Такого рода замещение, без какого-либо четкого представления о его обосновании, исследовалось алхимиками при создании металлических покрытий или “деревьев”. Такие деревья создавались путем помещения, например, палочки цинка в раствор другой металлической соли (например, соли серебра). Это приводило к вытеснению серебра цинком, и металлическое серебро осаждалось из раствора в виде блестящего, почти фрактального, древовидного нароста. (Алхимики давали этим деревьям мифические имена, так серебряное дерево называлось Arbor Dianae (Дерево Дианы), свинцовое дерево – Arbor Saturni (Дерево Сатурна), а оловянное дерево – Arbor Jovis (Дерево Юпитера)).34
В какой-то момент я надеялся создать такие деревья из всех металлических элементов – деревья из железа и кобальта, висмута и никеля, золота, платины, всех платиновых металлов; из хрома и молибдена, и (конечно же!) вольфрама; но различные соображения (не в последнюю очередь запретительная стоимость солей драгоценных металлов) ограничили меня примерно дюжиной основных. Но чистое эстетическое наслаждение от них – ни одно дерево никогда не выглядело так же, как другое; они были такими же разными, даже для одного и того же металла, как снежинки или кристаллы льда, и можно было видеть, что разные металлы осаждались по-разному – вскоре уступило место более систематическому изучению. Когда один металл приводил к осаждению другого? И почему? Я использовал цинковый стержень, сначала опуская его в раствор сульфата меди, и получил великолепную инкрустацию, медное покрытие вокруг него. Затем я экспериментировал с солями олова, свинца и серебра, помещая цинковый стержень в растворы этих солей, и получал блестящие, кристаллические деревья олова, свинца и серебра. Но когда я попытался сделать цинковое дерево, опустив медный стержень в раствор сульфата цинка, ничего не произошло. Цинк явно был более активным металлом и как таковой мог замещать медь, но не мог быть замещен ею. Чтобы сделать цинковое дерево, нужно было использовать металл еще более активный, чем цинк – магниевый стержень, как я обнаружил, хорошо работал. Очевидно, все эти металлы действительно образовывали своего рода ряд.
Сам Дэви был пионером в использовании электрохимического замещения для защиты медных днищ кораблей от коррозии в морской воде, прикрепляя к ним пластины более электроположительных металлов (таких как железо или цинк), чтобы они подвергались коррозии вместо меди – так называемая катодная защита. (Хотя это, казалось, хорошо работало в лабораторных условиях, это не работало хорошо в море, потому что новые металлические пластины привлекали морских желудей – и поэтому предложение Дэви высмеивали. Тем не менее, принцип катодной защиты был блестящим и в конце концов стал, после его смерти, стандартным способом защиты днищ океанских судов.)
Чтение о Дэви и его экспериментах стимулировало меня к различным другим электрохимическим экспериментам: я поместил железный гвоздь в воду, прикрепив к нему кусок цинка для защиты от коррозии. Я удалил потемнение с серебряных ложек моей матери, поместив их в алюминиевую посуду с теплым раствором бикарбоната натрия. Она была так довольна этим, что я решил пойти дальше и попробовать электроосаждение, используя хром в качестве анода и различные бытовые предметы в качестве катода. Я хромировал все, что попадалось мне под руку – железные гвозди, кусочки меди, ножницы и (на этот раз к значительному раздражению моей матери) одну из серебряных ложек, которую я ранее очистил от потемнения.
***
Сначала я не осознавал, что существует какая-либо связь между этими экспериментами и батареями, с которыми я играл в то же время, хотя считал странным совпадением, что первая пара металлов, которую я использовал, цинк и медь, могла производить либо дерево, либо, в батарее, электрический ток. Думаю, только когда я прочитал, что для получения более высокого напряжения в батареях использовались более благородные металлы, такие как серебро и платина, я начал понимать, что два ряда – “древесный” ряд и ряд Вольты – вероятно, были одним и тем же, что химическая активность и электрический потенциал были в некотором смысле одним и тем же явлением.
У нас на кухне была большая старомодная батарея, мокрый элемент, подключенная к электрическому звонку. Звонок был поначалу слишком сложным для понимания, а батарея, на мой взгляд, была более непосредственно привлекательной, поскольку содержала керамическую трубку с массивным, блестящим медным цилиндром посередине, погруженным в голубоватую жидкость; все это внутри внешнего стеклянного корпуса, также заполненного жидкостью и содержащего более тонкий стержень цинка. Это выглядело как своего рода миниатюрная химическая фабрика, и мне казалось, что временами я видел маленькие пузырьки газа, выделяющиеся из цинка. Этот элемент Даниэля (как его называли) имел совершенно девятнадцативековный, викторианский вид, и этот необычный объект сам по себе производил электричество – не путем трения, а просто благодаря своим собственным химическим реакциям. То, что это был совершенно другой источник электричества, не фрикционный или статический, а радикально другой вид электричества, должно было казаться крайне удивительным, новой силой природы, когда Вольта открыл его в 1800 году. Раньше были только мимолетные разряды, искры и вспышки фрикционного электричества; теперь можно было иметь в своем распоряжении устойчивый, равномерный, неизменный ток. Нужны были только два разных металла – медь и цинк подошли бы, или медь и серебро (Вольта разработал целый ряд металлов, различающихся по “напряжению”, разности потенциалов между ними), погруженные в проводящую среду.
Первые батареи, которые я сделал сам, использовали фрукты или овощи – можно было воткнуть медный и цинковый электроды в картофелину или лимон и получить достаточно тока, чтобы зажечь крошечную 1-вольтовую лампочку. И можно было соединить проводами полдюжины лимонов или картофелин (последовательно для получения более высокого напряжения или параллельно для получения большей мощности), чтобы сделать биологическую “батарею”. После фруктовых и овощных батарей я перешел к монетам, используя чередующиеся медные и серебряные монеты (нужно было использовать серебряные монеты, сделанные до 1920 года, поскольку более поздние были обесценены) с увлажненной (обычно смоченной слюной) промокательной бумагой между ними. Если я использовал маленькие монеты, фартинги и шестипенсовики, я мог получить пять или шесть таких пар на дюйм, или я мог сделать стопку высотой в фут, с шестьюдесятью или семьюдесятью парами, заключенными в трубку, которая могла дать довольно сильный, 100-вольтовый разряд. Можно было бы продолжить, думал я, сделать электрическую палку, наполненную узкими парами медной и цинковой фольги, намного тоньше монет. Такая палка с пятьюстами или более парами могла бы генерировать тысячу вольт, даже больше, чем электрический угорь, достаточно, чтобы отпугнуть любого нападающего – но до её изготовления я так и не дошел.
Я был очарован огромным разнообразием батарей, разработанных в девятнадцатом веке, некоторые из которых я мог видеть в Музее науки. Были батареи с “одной жидкостью”, как оригинальный элемент Вольты, или Сми, или Грене, или массивный Лекланше, или тонкая серебряная батарея де ла Рю; и были батареи с двумя жидкостями, как наш собственный Даниэль, и Бунзен, и Гров (который использовал платиновые электроды). Их количество казалось бесконечным, но все они были разработаны, каждая по-своему, чтобы обеспечить более надежный и постоянный ток, защитить электроды от осаждения металла или прилипания газовых пузырьков и избежать (как некоторые батареи вызывали) выделения ядовитых или воспламеняющихся газов.
Эти мокрые элементы нужно было время от времени доливать водой; но маленькие сухие элементы в наших фонариках явно отличались. Маркус, видя мой интерес, препарировал один для меня, используя свой мощный скаутский нож, показывая мне внешний цинковый корпус, центральный угольный стержень и довольно едкую и странно пахнущую проводящую пасту между ними. Он показал мне массивную 120-вольтовую батарею в нашем портативном радио (это было необходимостью во время войны, когда электроснабжение было таким нестабильным) – она содержала восемьдесят связанных сухих элементов и весила несколько фунтов. И однажды он открыл капот машины – у нас тогда был старый Wolseley – и показал мне аккумулятор с его свинцовыми пластинами и кислотой, и объяснил, как его нужно заряжать, и как он мог многократно нести заряд, но не генерировать его самостоятельно. Я обожал батареи, и они не обязательно должны были быть рабочими; когда моя заинтересованность стала известна семье, использованные батареи всех форм и размеров хлынули потоком, и я быстро собрал замечательную (хотя и совершенно бесполезную) коллекцию этих вещей, многие из которых я вскрывал и препарировал.
Но моим любимым оставался старый элемент Даниэля, и когда мы модернизировались и получили аккуратный новый сухой элемент для звонка, я присвоил элемент Даниэля себе. У него было только скромное напряжение в 1 или 1½ вольта, но ток, несколько ампер, был значительным с учетом его размера. Это делало его очень подходящим для экспериментов с нагревом и освещением, где нужен был существенный ток, но напряжение почти не имело значения.
Таким образом, я мог легко нагревать проволоку – дядя Дэйв снабдил меня целой патронташей тонкой вольфрамовой проволоки разной толщины. Самая толстая проволока, диаметром два миллиметра, слегка нагревалась, когда я подключал её отрезок к клеммам элемента; самая тонкая проволока раскалялась добела и сгорала вспышкой; была удобная промежуточная проволока, которую можно было некоторое время поддерживать в красном калении, хотя даже при такой температуре она вскоре окислялась и распадалась в пух желтовато-белого оксида. (Теперь я понял, почему было необходимо удалять воздух из лампочек, и почему накаливание было невозможно, если лампочки не были вакуумированы или наполнены инертным газом.)
Я также мог, используя элемент Даниэля как источник питания, разлагать воду, если она была солёной или подкисленной. Я помню необычайное удовольствие, которое получал от разложения небольшого количества воды в подставке для яйца, наблюдая, как она видимо разделяется на свои элементы, кислород на одном электроде, водород на другом. Электричество от 1-вольтового элемента казалось таким слабым, и все же его было достаточно, чтобы разорвать химическое соединение, разложить воду или, более драматично, соль на её бурно активные составляющие.
Электролиз не мог быть открыт до создания столба Вольты, поскольку самые мощные электрические машины или лейденские банки были совершенно бессильны вызвать химическое разложение. Потребовался бы, как позже подсчитал Фарадей, объединенный заряд 800 000 лейденских банок или, возможно, мощность целого удара молнии, чтобы разложить единственное зерно воды – то, что могло быть сделано крошечным и простым 1-вольтовым элементом. (Но мой 1-вольтовый элемент, с другой стороны, или даже восьмидесятиэлементная батарея, которую Маркус показал мне в портативном радио, не могли заставить двигаться бузиновый шарик или электроскоп.) Статическое электричество могло генерировать большие искры и высоковольтные заряды (машина Уимшерста могла генерировать 100 000 вольт), но очень малую мощность, по крайней мере для электролиза. И наоборот было с массивной мощностью, но низким напряжением химического элемента.
***
Если электрическая батарея была моим введением в неразрывную связь электричества с химией, то электрический звонок был моим введением в неразрывную связь электричества с магнетизмом – связь, ни в коей мере не самоочевидную или прозрачную, которая была открыта только в 1820-х годах.
Я видел, как скромный электрический ток мог нагреть проволоку, дать разряд или разложить раствор. Как ему удавалось вызывать колебательное движение, дребезжание нашего электрического звонка? Провода от звонка шли к входной двери, и цепь замыкалась при нажатии наружной кнопки. Однажды вечером, когда моих родителей не было дома, я решил обойти эту цепь и соединил провода так, чтобы мог активировать звонок напрямую. Как только я пропустил ток, молоточек звонка подпрыгнул, ударяя в колокол. Что заставляло его подпрыгивать, когда протекал ток? Я увидел, что молоточек звонка, который был сделан из железа, был обмотан медной проволокой. Катушка намагничивалась, когда через неё протекал ток, и это заставляло молоточек притягиваться к железному основанию звонка (как только он ударял в колокол, он разрывал цепь и возвращался в исходное положение). Это казалось мне необычайным: мои природные магниты, мои подковообразные магниты были одно дело, но здесь был магнетизм, который появлялся только когда ток протекал через катушку, и исчезал в момент его прекращения.
Именно чувствительность, отзывчивость компасных стрелок впервые дала ключ к связи между электричеством и магнетизмом. Было хорошо известно, что стрелка компаса может дернуться или даже размагнититься во время грозы, а в 1820 году было замечено, что если пропустить ток через провод рядом с компасом, его стрелка внезапно двигалась. Если ток был достаточно сильным, стрелка могла отклониться на девяносто градусов. Если поместить компас над проводом, а не под ним, стрелка поворачивалась в противоположном направлении. Как будто магнитная сила образовывала круги вокруг провода.35
Такое круговое движение магнитных сил можно было легко сделать видимым, используя вертикальный магнит, погруженный в чашу с ртутью, со свободно подвешенным проводом, едва касающимся ртути, и второй чашей, в которой магнит мог двигаться, а провод был закреплен. Когда протекал ток, свободно подвешенный провод кружился вокруг магнита, а свободный магнит вращался в противоположном направлении вокруг закрепленного провода.
Фарадей, который в 1821 году разработал этот аппарат – по сути, первый в мире электродвигатель – немедленно задался вопросом о его обратном действии: если электричество могло так легко производить магнетизм, могла ли магнитная сила производить электричество? Удивительно, но ему потребовалось несколько лет, чтобы ответить на этот вопрос, поскольку ответ не был простым.36 Помещение постоянного магнита внутрь катушки провода не генерировало никакого электричества; нужно было двигать стержень внутрь и наружу, и только тогда генерировался ток. Сейчас это кажется нам очевидным, потому что мы знакомы с динамо-машинами и тем, как они работают. Но в то время не было причин ожидать, что движение будет необходимым; ведь лейденская банка, вольтова батарея просто стояли на столе. Даже такому гению, как Фарадей, потребовалось десять лет, чтобы совершить мысленный скачок, выйти за пределы предположений своего времени в новую область и осознать, что движение магнита необходимо для генерации электричества, что движение является сущностью. (Движение, думал Фарадей, генерировало электричество, пересекая магнитные силовые линии.) Фарадеевский возвратно-поступательный магнит был первым в мире динамо – электродвигателем наоборот.
Любопытно, что два изобретения Фарадея, электродвигатель и динамо-машина, открытые примерно в одно время, имели очень разное влияние. Электродвигатели были приняты и развиты почти сразу, так что к 1839 году уже существовали речные суда с батарейным питанием, в то время как динамо-машины развивались гораздо медленнее и стали широко распространены только в 1880-х годах, когда внедрение электрического освещения и электропоездов создало спрос на огромное количество электричества и систему распределения для их работы. Ничего подобного этим огромным, гудящим динамо-машинам, создающим таинственную и невидимую новую силу буквально из воздуха, никогда раньше не видели, и ранние электростанции с их великими динамо-машинами внушали чувство благоговения. (Это отражено в раннем рассказе Г.Дж. Уэллса “Повелитель динамо-машин”, в котором примитивный человек начинает воспринимать массивную динамо-машину, за которой он присматривает, как бога, требующего человеческой жертвы.)
Как и Фарадей, я начал видеть “силовые линии” повсюду. У меня уже были передние и задние фонари на велосипеде с батарейным питанием, а теперь я получил также и освещение от динамо-машины. Когда маленькое динамо жужжало на заднем колесе, я иногда думал о магнитных силовых линиях, пересекаемых при его вращении, и о таинственной, важной роли движения.
Магнетизм и электричество сначала казались совершенно разными явлениями; теперь они, казалось, были каким-то образом связаны движением. В этот момент я обратился к своему «физическому» дяде, дяде Эйбу, который объяснил, что связь между электричеством и магнетизмом (и их связь со светом) была действительно раскрыта великим шотландским физиком Клерком Максвеллом.37 Движущееся электрическое поле будет индуцировать магнитное поле рядом с собой, которое, в свою очередь, вызовет второе электрическое поле, а затем еще одно магнитное поле, и так далее. С этими почти мгновенными взаимными индукциями Максвелл представлял, что, по сути, будет комбинированное электромагнитное поле в чрезвычайно быстром колебании, которое будет распространяться во всех направлениях, распространяя себя как волновое движение через пространство. В 1865 году Максвелл смог вычислить, что такие поля будут распространяться со скоростью 300 000 километров в секунду, что очень близко к скорости света. Это было очень поразительно – никто не подозревал никакой связи между магнетизмом и светом; более того, никто не имел представления, что такое свет, хотя было хорошо известно, что он распространяется как волна. Теперь Максвелл предположил, что свет и магнетизм — это «воздействия одной и той же субстанции, и что свет — это электромагнитное возмущение, распространяющееся через поле согласно электромагнитным законам». После этого я начал думать о свете по-другому — как о электрических и магнитных полях, перепрыгивающих друг через друга с молниеносной скоростью, сплетающихся вместе, образуя луч света.
Следовательно, любое меняющееся электрическое или магнитное поле могло порождать электромагнитную волну, распространяющуюся во всех направлениях. Именно это, по словам Эйба, вдохновило Генриха Герца искать другие электромагнитные волны — волны, возможно, с гораздо большей длиной, чем видимый свет. Он смог сделать это в 1886 году, используя простую индукционную катушку в качестве «передатчика» и маленькие проволочные катушки с крошечными (в сотую миллиметра) искровыми промежутками в качестве «приемников».
Когда индукционная катушка начинала искрить, он мог наблюдать в темноте своей лаборатории крошечные вторичные искры в малых катушках. «Ты включаешь беспроводное устройство», – сказал Эйб, – «и никогда не думаешь о чуде того, что происходит на самом деле. Подумай, как это должно было выглядеть в тот день в 1886 году, когда Герц увидел эти искры в темноте и понял, что Максвелл был прав, и что что-то, похожее на свет, электромагнитная волна, исходит от его индукционной катушки во всех направлениях».
Герц умер очень молодым и никогда не узнал, что его открытие перевернет мир. Сам дядя Эйб был всего восемнадцати лет, когда Маркони впервые передал радиосигналы через Ла-Манш, и он помнил волнение от этого события, даже большее, чем волнение от открытия рентгеновских лучей двумя годами ранее. Радиосигналы могли быть приняты определенными кристаллами, особенно кристаллами галенита; нужно было найти правильное место на их поверхности, исследуя их вольфрамовой проволокой, «кошачьим усиком». Одно из ранних изобретений самого Эйба было создание синтетического кристалла, работавшего даже лучше галенита. Все еще говорили о радиоволнах как о «волнах Герца», и Эйб назвал свой кристалл Герцитом.
Но высшим достижением Максвелла было собрать всю электромагнитную теорию воедино, формализовать ее, сжать в четыре уравнения. В этой половине страницы символов, показывая мне уравнения в одной из своих книг, Эйб говорил, был сконденсирован весь свод теории Максвелла – для тех, кто мог их понять. Уравнения Максвелла открыли для Герца контуры «новой физики… похожей на заколдованную сказочную страну» – не только возможность генерации радиоволн, но и ощущение того, что весь универсум пронизан электромагнитными полями всевозможных типов, простирающимися до самых краев вселенной.
15
Домашняя жизнь
Сионизм играл значительную роль по обеим сторонам моей семьи. Сестра отца Алида работала во время Великой войны помощницей Нахума Соколова и Хаима Вейцмана, лидеров сионизма в Англии того времени, и благодаря своему таланту к языкам ей было поручено перевести Декларацию Бальфура в 1917 году на французский и русский языки, а её сын Обри, даже будучи мальчиком, был образованным и красноречивым сионистом (и позже, как Абба Эбан, первым израильским послом в ООН). От моих родителей как врачей, живших в большом доме, ожидалось, что они предоставят место, гостеприимное помещение для сионистских встреч, и такие встречи часто захватывали дом в моём детстве. Я слышал их из своей спальни наверху – повышенные голоса, бесконечные споры, страстные удары по столу – и время от времени сионист, багровый от гнева или воодушевления, врывался в мою комнату в поисках туалета.
Эти встречи, казалось, сильно истощали моих родителей – после каждой они выглядели бледными и измученными – но они считали своим долгом их принимать. Я никогда не слышал, чтобы они между собой говорили о Палестине или сионизме, и подозревал, что у них нет твёрдых убеждений по этому поводу, по крайней мере до войны, когда ужас Холокоста заставил их почувствовать, что должен быть «Национальный дом». Мне казалось, что их запугивают организаторы этих встреч и похожие на гангстеров евангелисты, которые колотили в парадную дверь и требовали крупные суммы для иешив или «школ в Израиле». Мои родители, трезвомыслящие и независимые в большинстве других вопросов, казалось, становились мягкими и беспомощными перед этими требованиями, возможно, движимые чувством долга или тревоги. Мои собственные чувства (о которых я никогда с ними не говорил) были страстно отрицательными: я начал ненавидеть сионизм, евангелизм и политиканство всех сортов, которые я считал шумными, навязчивыми и агрессивными. Я страстно желал тихого дискурса, рациональности науки.
Мои родители были умеренно православными в практике (хотя я не помню, чтобы велись какие-либо обсуждения о том, во что кто-то действительно верит), но некоторые члены семьи были крайне ортодоксальными. Говорили, что дед по матери вставал ночью, если с него падала ямолка, а дед по отцу не плавал даже без неё. Некоторые мои тётки носили шейтлы – парики – которые придавали им странный, молодой, иногда похожий на манекен вид: у Иды был ярко-жёлтый, у Гизелы – черный как смоль, и они оставались неизменными, даже когда мои собственные волосы много лет спустя начали седеть.
Старшая сестра матери, Анни, уехала в Палестину в 1890-х годах и основала школу в Иерусалиме – школу для «английских леди иудейского вероисповедания». Анни была женщиной властной и внушительной. Она была чрезвычайно ортодоксальной и, как я подозреваю, считала себя в близких личных отношениях с Богом (как и с главным раввином, Мандатом и Муфтием в Иерусалиме)38. Она периодически приезжала в Англию с такими огромными сундуками, что для их переноски требовалось шесть носильщиков, и во время её визитов в доме воцарялась атмосфера устрашающей религиозной строгости – мои родители, менее ортодоксальные, несколько побаивались её пронзительного взгляда.
Однажды – это была удушливая суббота в напряжённом лете 1939 года – я решил кататься на своём трехколёсном велосипеде вверх и вниз по Эксетер-роуд рядом с домом, но внезапно полил дождь, и я промок насквозь. Анни погрозила мне пальцем и покачала тяжёлой головой: «Катаешься в шаббат! Ты не отделаешься от этого», – сказала она. «Он всё видит, Он постоянно наблюдает!» С этого времени я возненавидел субботы, возненавидел и Бога (по крайней мере, того мстительного, карающего Бога, которого вызвало предупреждение Анни), и у меня развилось неприятное, тревожное, ощущение постоянного наблюдения по субботам (которое сохраняется, пусть и в малой степени, до сих пор).
В целом – та суббота была исключением – я ходил с семьей в синагогу, в просторную Уолм-Лейн синагогу, которая в то время имела конгрегацию более чем в две тысячи человек. Мы все были начищены, чрезвычайно чисты и одеты в свои «воскресные» лучшие наряды, и шли по Эксетер-роуд, следуя за родителями, словно утятки. Моя мать вместе с различными тётками поднималась на женскую галерею.
Когда я был очень маленьким, три года или меньше, я ходил с ней, но как «взрослый» мальчик шести лет я должен был быть внизу с мужчинами (хотя всегда украдкой поглядывал на женщин наверху и иногда пытался им помахать, что мне строго запрещалось).
Мой отец был хорошо известен в конгрегации – половина которой состояла из его пациентов или пациентов моей матери – и имел репутацию стойкого сторонника общины и ученого, хотя, по его словам, его учёность ни в какое сравнение не шла с учёностью Виленского через проход, который знал каждое слово Талмуда настолько досконально наизусть, что если воткнуть булавку в любой том, он мог сказать, какое предложение она пронзит на каждой странице. Виленский не следил за службой, но шел по какой-то внутренней программе или литании, постоянно раскачиваясь взад-вперед, давенясь по-своему. У него были длинные кудри и пейсы по лицу – я смотрел на него с благоговением, как на что-то сверхчеловеческое.
Служба по субботам утром была очень длинной, которая даже при скоростной молитве занимала минимум три часа – и молитва временами была невероятно быстрой. Одну безмолвную молитву, Амиду, нужно было произносить стоя, лицом к Иерусалиму. Я полагал, что она длится около десяти тысяч слов, но лучшие чтецы в синагоге могли прочитать её за три минуты. Я читал, сколько мог (часто поглядывая на перевод на противоположной странице, чтобы понять смысл), но едва успевал прочитать один-два абзаца, как время уже истекало, и служба неслась дальше. В основном я не пытался угнаться, а бродил по молитвеннику по-своему. Именно здесь я узнал о мирре и ладане, о весах и мерах, используемых в земле Израиля три тысячи лет назад. Было много отрывков, которые привлекали меня богатым языком, красотой, чувством поэзии и мифа, описывающих ароматы и специи, сопровождавшие некоторые жертвоприношения. Было очевидно, что у Бога острый нюх.39
Мне нравилось пение, хор – где пел двоюродный брат Деннис и где председательствовал дядя Мосс, виртуозный хаззан, – некоторые суровые раввинские речи и иногда возникало ощущение, что мы все вместе образуем единое сообщество. Но в целом синагога угнетала меня; религия казалась более реальной и бесконечно более приятной дома. Я любил Песах с его предварительными процедурами (удаление всего квашеного хлеба, хомеца, из дома, его сжигание, иногда коллективно с соседями), специальной, красивой посудой и скатертями, которые мы использовали восемь дней, и выкапыванием хрена, выросшего в саду, его измельчением, вызывавшим обильные слёзы.
За столом на седер садились пятнадцать, иногда двадцать человек: мои родители; незамужние тётушки – Бёрди, Лен и довоенная Дора, иногда Анни; двоюродные братья и сестры разной степени родства, приезжавшие из Франции или Швейцарии; и всегда один-два незнакомца. На столе была красивая, вышитая скатерть, которую Анни привезла нам из Иерусалима, сверкающая белым и золотым. Моя мать, зная, что рано или поздно случатся несчастные случаи, всегда устраивала упреждающий «разлив» – каким-то образом очень рано вечером она умудрялась опрокинуть бутылку красного вина на скатерть, после чего ни один гость не был бы смущен, если бы опрокинул бокал. Хотя я знал, что она делает это намеренно, я никогда не мог предугадать, как и когда произойдёт «авария»; это всегда выглядело абсолютно спонтанно и аутентично. (Она тут же посыпала винное пятно солью, и оно становилось гораздо бледнее, почти исчезая; я удивлялся, почему соль обладает такой силой.)
В отличие от службы в синагоге, которая произносилась как можно быстрее и была в основном непонятна мне, седерная служба шла не спеша, с длинными обсуждениями и рассуждениями и вопросами о символизме различных блюд – яйца, солёной воды, горькой травы, харосета. Четыре мальчика, упомянутые в службе – Мудрый, Злой, Простой и Слишком Молодой, чтобы Задавать Вопросы, – всегда ассоциировались у меня с нами четырьмя, хотя это было особенно несправедливо по отношению к Давиду, который был не более и не менее порочен, чем любой другой пятнадцатилетний мальчик. Мне нравился ритуал омовения рук, четыре бокала вина, декламация десяти казней (при этом, произнося их, один касался указательным пальцем вина при каждой казни; затем, после десятой казни, убийства первенцев, один выплёскивал вино с кончиков пальцев через плечо). Я, как самый младший, декламировал Четыре Вопроса дрожащим дискантом; а позже пытался увидеть, где отец прячет средний мацот, афикомен (но я не мог его застать за этим так же, как не мог застать мать, устраивающую разлив вина).
Я любил песни и декламации седера, ощущение воспоминания, ритуала, который совершался тысячелетиями – историю рабства в Египте, младенца Моисея в тростнике, спасаемого дочерью фараона, Обетованную Землю, текущую молоком и мёдом. Я погружался, мы все погружались в мифический мир.
Седер продолжался за полночь, иногда до часу или двух ночи, и будучи пяти- или шестилетним, я начинал клевать носом. Затем, когда он наконец заканчивался, еще одна чаша вина – пятая чаша – оставлялась для “Илии” (мне говорили, что он придет ночью и выпьет оставленное для него вино). Поскольку мое собственное еврейское имя было Элиаху, Илия, я решил, что имею право выпить вино, и на одном из последних седеров перед войной я прокрался ночью и выпил всю чашу. Меня никогда не спрашивали, и я никогда не признавался в том, что сделал, но мое похмелье на следующее утро и пустая чаша делали любое признание излишним.
Я по-разному наслаждался всеми еврейскими праздниками, но особенно Суккотом, праздником урожая, потому что здесь мы строили дом из листьев и ветвей, сукку, в саду, с крышей, увешанной овощами и фруктами, и если погода позволяла, я мог спать в сукке и смотреть сквозь увешанную фруктами крышу на созвездия над собой.
Но более серьезные праздники и посты возвращали меня к гнетущей атмосфере синагоги, атмосфере, которая достигала своего рода ужаса в День Искупления, Йом Киппур, когда все мы (как мы понимали) взвешивались на весах. У нас было десять дней между Новым годом и Днем Искупления, чтобы раскаяться и искупить свои проступки и грехи, и это покаяние достигало своего коллективного апогея в Йом Киппур. В течение этого времени, конечно, мы все постились, никакой еде или питью не позволялось пройти через наши губы в течение двадцати пяти часов. Мы били себя в грудь и причитали: “Мы сделали это, мы сделали то” – упоминались все возможные грехи (включая многие, о которых я никогда не думал), грехи совершения и упущения, грехи преднамеренные и непреднамеренные. Ужасающим было то, что никто не знал, убедительно ли для Бога наше биение в грудь, или действительно ли наши грехи вообще простительны. Никто не знал, впишет ли Он нас снова в Книгу Жизни, как говорилось в литургии, или мы умрем и будем брошены во внешнюю тьму. Интенсивные, бурные эмоции собрания выражались удивительным голосом нашего старого хаззана, Шехтера – Шехтер в молодости хотел петь в опере, но на самом деле никогда не пел за пределами синагоги. В самом конце службы Шехтер трубил в шофар, и на этом искупление заканчивалось.
Когда мне было четырнадцать или пятнадцать лет – я не уверен в году – служба Йом Киппура закончилась незабываемым образом, потому что Шехтер, который всегда вкладывал большие усилия в трубление в шофар – его лицо краснело от напряжения – произвел длинную, казалось бы, бесконечную ноту неземной красоты, а затем упал замертво перед нами на биме, возвышенной платформе, где он пел. У меня было ощущение, что Бог убил Шехтера, послал молнию, поразил его. Шок от этого для всех был смягчен размышлением о том, что если и был момент, когда душа была чиста, прощена, освобождена от всех грехов, то это был именно этот момент, когда в шофар трубили в завершение поста; и что душа Шехтера, почти наверняка, покинула его тело в этот момент и отправилась прямо к Богу. Это была святая смерть, говорили все: дай Бог, когда придет их время, они тоже могли бы умереть так.
Странно, но оба моих деда действительно умерли в Йом Киппур (хотя и не при таких драматических обстоятельствах), и в начале каждого Йом Киппура мои родители зажигали приземистые траурные свечи для них, которые медленно горели на протяжении всего поста.
***
В 1939 году старшая сестра моей матери, тетя Вайолет, приехала из Гамбурга со своей семьей. Её муж, Мориц, был учителем химии и много награжденным ветераном Первой мировой войны, который был ранен осколками снарядов и ходил с сильной хромотой. Он считал себя патриотичным немцем и не мог поверить, что его когда-либо заставят бежать из родной страны, но Хрустальная ночь наконец показала ему судьбу, которая ждала его и его семью, если они не сбегут, и весной 1939 года они добрались до Англии – едва (все их имущество было захвачено нацистами). Они жили у дяди Дэйва и недолго у нас, прежде чем отправиться в Манчестер, где открыли школу и общежитие для эвакуированных.
Занятый, поглощенный своим собственным состоянием, я в значительной степени не знал о многом, что происходило в большом мире. Я мало знал, например, об эвакуации из Дюнкерка в 1940 году, после падения Франции, о лихорадочном заполнении лодок последними беженцами, спасающимися с континента. Но в декабре 1940 года, вернувшись домой из Брейфилда на каникулы, я обнаружил, что фламандская пара, Хуберфельды, теперь жили в одной из свободных комнат в доме номер 37. Они сбежали на маленькой лодке за несколько часов до прибытия немецких войск, а затем чуть не потерялись в море. Они не знали, что случилось с их собственными родителями, и именно от них я впервые получил некоторое представление о хаосе и ужасе в Европе.
Во время войны община в значительной степени распалась – поскольку молодые мужчины шли добровольцами или призывались в армию, а сотни детей, как Майкл и я, были эвакуированы из Лондона – и она никогда по-настоящему не восстановилась после войны. Ряд прихожан погибли, либо сражаясь в Европе, либо во время бомбардировок Лондона; другие переехали из того, что было до войны почти исключительно еврейским пригородом среднего класса. До войны мои родители (и я тоже) знали почти каждый магазин и владельца магазина в Криклвуде: мистера Сильвера в его аптеке, бакалейщика мистера Брамсона, зеленщика мистера Гинзберга, пекаря мистера Гродзински, кошерного мясника мистера Уотермана – и я видел их всех на их местах в синагоге. Но все это было разрушено влиянием войны, а затем быстрыми послевоенными социальными изменениями в нашем уголке Лондона. Я сам, травмированный в Брейфилде, потерял связь, потерял интерес к религии моего детства. Я сожалею, что потерял её так рано и так резко, и это чувство печали или ностальгии странным образом смешивалось с яростным атеизмом, своего рода яростью на Бога за то, что он не существует, не заботится, не предотвратил войну, а позволил ей и всем её ужасам произойти.
***
***
Её еврейское имя было Циппора (“птица”), но для нас, для семьи, она всегда была тетей Бёрди. Мне никогда не было до конца ясно (а может быть, и никому), что случилось с Бёрди в раннем возрасте. Ходили разговоры о травме головы в младенчестве, но также о врожденном нарушении, дефекте щитовидной железы, и ей приходилось принимать большие дозы экстракта щитовидной железы на протяжении всей жизни. У Бёрди была несколько сморщенная и складчатая кожа, даже когда она была молодой женщиной; она была небольшого роста и скромного интеллекта, единственная с такими недостатками среди иначе одаренных и крепких детей моего деда. Но я не уверен, что считал её “неполноценной”; для меня она была просто тетей Бёрди, которая жила с нами, была неотъемлемой частью дома, всегда присутствовала. У неё была своя комната, рядом с комнатой моих родителей, заполненная фотографиями, открытками, трубочками с цветным песком и безделушками с семейных отпусков, начиная с начала века. В её комнате был чистый, почти щенячий запах, и она была для меня оазисом спокойствия, когда в доме царил переполох. У неё была толстая желтая ручка Parker (у моей матери была оранжевая), и она писала медленно несформировавшимся, детским почерком. Я знал, конечно, что с Бёрди было “что-то не так”, что-то медицинское, что её здоровье было хрупким, а умственные способности ограниченными, но ничто из этого на самом деле не имело значения или не было актуальным для нас. Мы знали только, что она была там, постоянное присутствие, неизменно преданная, и что она, казалось, любила нас без двойственности или оговорок.
Когда я заинтересовался химией и минералогией, она ходила и приносила мне маленькие образцы минералов; я никогда не знал, где и как она их доставала (как и то, каким образом, спросив у Майкла, какую книгу я хотел бы получить на бар-мицву, она достала мне копию “Хроник” Фруассара). В молодости Бёрди работала в фирме Raphael Tuck, которая издавала календари и открытки, как одна из армии молодых женщин, которые рисовали и раскрашивали открытки – эти деликатно раскрашенные открытки были очень популярны и часто коллекционировались десятилетиями, и казались постоянной частью жизни до 1930-х годов, когда цветная фотография и цветная печать начали вытеснять их и делать маленькую армию женщин Така лишней. В 1936 году, после почти тридцати лет работы на них, Бёрди однажды уволили без предупреждения и едва ли со словами “спасибо”, не говоря уже о пенсии или выходном пособии. Когда она вернулась тем вечером (Майкл рассказал мне годы спустя), её лицо было “пораженным”, и она никогда полностью не оправилась от этого.
Бёрди была одновременно такой тихой, такой скромной, такой вездесущей, что мы все имели тенденцию воспринимать её как должное и упускать из виду ту crucial роль, которую она играла в нашей жизни. Когда в 1951 году я получил стипендию в Оксфорд, именно Бёрди принесла мне телеграмму и обняла и поздравила меня – также проливая слезы, потому что она знала, что это означает мой отъезд из дома.
У Бёрди часто случались приступы “сердечной астмы” или острой сердечной недостаточности ночью, когда у неё появлялась одышка, сильная тревога, и ей нужно было сидеть. Поначалу этого было достаточно для её более легких приступов, но по мере их усиления мои родители попросили её держать маленький латунный колокольчик у кровати и звонить в него, как только она почувствует какое-либо недомогание. Я слышал, как маленький колокольчик звонил со все более частыми интервалами, и до меня начало доходить, что это серьезное состояние. Мои родители сразу же вставали, чтобы лечить Бёрди – теперь ей нужен был кислород и морфин, чтобы пережить приступы – а я лежал в постели, испуганно прислушиваясь, пока все не успокаивалось снова и я мог вернуться ко сну. Однажды ночью в 1951 году маленький колокольчик зазвонил, и мои родители бросились в комнату. На этот раз её приступ был чрезвычайно тяжелым: изо рта шла розовая пена – она тонула в жидкости, которая поднялась в её легкие – и она не реагировала на кислород и морфин. В качестве последней, отчаянной меры для спасения её жизни, моя мать сделала венесекцию скальпелем на руке Бёрди, пытаясь снизить давление на сердце. Но это не помогло Бёрди, и она умерла на руках у моей матери. Когда я вошел в комнату, я увидел кровь повсюду – кровь на её ночной рубашке и руках, кровь на моей матери, которая держала её. На мгновение я подумал, что моя мать убила её, прежде чем я расшифровал страшную сцену перед собой.
Это была первая смерть близкого родственника, человека, который был неотъемлемой частью моей жизни, и это повлияло на меня гораздо глубже, чем я ожидал.
***
В детстве мне казалось, что дом был полон музыки. Там было два Бехштейна, пианино и рояль, и иногда на обоих играли одновременно, не говоря уже о флейте Дэвида и кларнете Маркуса. В такие моменты дом становился настоящим аквариумом звуков, и я осознавал то один инструмент, то другой, когда ходил по дому (любопытно, что разные инструменты, казалось, не конфликтовали между собой; мое ухо, мое внимание всегда выбирало тот или иной).
Моя мать не была столь музыкальной, как остальные члены семьи, но тем не менее очень любила песни Брамса и Шуберта; она иногда пела их, а мой отец аккомпанировал ей на пианино. Она особенно любила “Nachtgesang” Шуберта, его Песню Ночи, которую она пела мягким, слегка фальшивящим голосом. Это одно из моих самых ранних воспоминаний (я никогда не знал, что означали слова, но песня странно действовала на меня). Я не могу слышать её сейчас без того, чтобы не вспомнить с почти невыносимой яркостью нашу гостиную, какой она была до войны, и фигуру и голос моей матери, когда она наклонялась над пианино и пела.
Мой отец был очень музыкальным и, возвращаясь с концертов, мог воспроизвести большую часть программы на слух, транспонируя фрагменты в разные тональности, играя с ними разными способами. У него была всеядная любовь к музыке, и он наслаждался мюзик-холлами так же, как и камерными концертами, Гилбертом и Салливаном так же, как и Монтеверди. Он особенно любил песни времен Первой мировой войны и пел их звучным басом. У него была большая библиотека партитур карманного формата, и казалось, что у него всегда была одна или две из них в карманах (и действительно, он обычно ложился спать с одной из них или со словарем музыкальных тем, который я подарил ему позже на один из его дней рождения).
Хотя он учился у известного пианиста, и всегда стремился к клавиатуре то одного, то другого пианино, пальцы моего отца были настолько широкими и короткими, что никогда не могли удобно разместиться на клавишах, поэтому он обычно довольствовался импрессионистическими фрагментами. Но он стремился, чтобы все мы чувствовали себя уверенно за пианино, и нанял для нас всех блестящего учителя фортепиано, Франческо Тиччиати. Тиччиати муштровал Маркуса и Дэвида в исполнении Баха и Скарлатти со страстной, требовательной интенсивностью (мы с Майклом, будучи младше, играли дуэты Диабелли), и временами я слышал, как он в отчаянии стучал по пианино, крича: “Нет! Нет! Нет!”, когда им не удавалось правильно сыграть. Затем он иногда садился и играл сам, и внезапно я понимал, что значит мастерство. Он привил нам особенно сильное чувство к Баху и всей скрытой структуре фуги. Говорят, когда мне было пять лет и меня спросили, какие мои любимые вещи в мире, я ответил: “копченый лосось и Бах”. (Сейчас, шестьдесят лет спустя, мой ответ был бы таким же.)
Когда я вернулся в Лондон в 1943 году, дом показался мне каким-то пустым, безмолвным. Маркус и Дэвид, теперь студенты-медики, были эвакуированы – Маркус в Лидс, Дэвид в Ланкастер; отец, когда не принимал пациентов, был занят обязанностями смотрителя бомбоубежища; мать также была занята, проводя экстренные операции до поздней ночи в больнице в Сент-Олбансе. Иногда я не ложился спать, ожидая звука её велосипедного звонка, когда она возвращалась около полуночи со станции Криклвуд.
Большим удовольствием в то время было слушать Майру Хесс, знаменитую пианистку, которая, казалось, почти в одиночку напоминала лондонцам посреди войны о вневременной, возвышенной красоте музыки. Мы часто собирались вокруг радиоприёмника в гостиной, чтобы послушать трансляции её дневных концертов.
Когда Маркус и Дэвид вернулись после войны, чтобы продолжить обучение медицине в Лондоне, флейта и кларнет были давно заброшены, но Дэвид, очевидно, обладал исключительным музыкальным талантом и действительно пошёл в нашего отца. Дэвид открыл для себя блюз и джаз, влюбился в Гершвина и принёс новый вид музыки в наш прежде “классический” дом. Дэвид уже был очень хорошим импровизатором и пианистом, с особым талантом к исполнению Листа, но теперь вдруг дом наполнился новыми именами, непохожими на всё, что я слышал раньше: “Дюк” Эллингтон, “Граф” Бейси, “Джелли Ролл” Мортон, “Фэтс” Уоллер – и из раструба его нового патефона Decca в его комнате я впервые услышал голоса Эллы Фицджеральд и Билли Холидей. Иногда, когда Дэвид садился за пианино, я не был уверен, играет ли он одного из джазовых пианистов или импровизирует что-то своё – думаю, он и сам наполовину серьёзно размышлял о том, не стать ли ему композитором.
Этот отрывок описывает сложные чувства братьев автора - Дэвида и Маркуса - по поводу их жизненного выбора. Вот перевод:
Я постепенно осознал, что хотя Дэвид и Маркус казались достаточно счастливыми и с нетерпением ждали, когда станут врачами, в них чувствовалась определенная грусть, ощущение утраты и отречения от других интересов, которые им пришлось оставить. Для Дэвида это была музыка, в то время как страстью Маркуса с раннего возраста были языки. У него были необыкновенные способности к их изучению, и его очаровывала их структура; в шестнадцать лет он уже свободно владел не только латынью, греческим и ивритом, но и арабским, который выучил самостоятельно. Он мог бы пойти по стопам своего двоюродного брата Обри и изучать восточные языки в университете, но тут началась война. Оба они - и он, и Дэвид - должны были достичь призывного возраста в 1941-42 годах, и оба стали студентами-медиками отчасти для того, чтобы отсрочить призыв. Но вместе с этим, я думаю, они отложили и свои другие стремления, и эта отсрочка казалась уже постоянной и необратимой к тому времени, когда они вернулись в Лондон.
Мистер Тиччиати, наш учитель фортепиано, погиб на войне, и когда я вернулся в Лондон в 1943 году, родители нашли мне другого учителя - миссис Сильвер, рыжеволосую женщину с десятилетним сыном Кеннетом, который родился глухим. После того как я проучился у неё пару лет, она снова забеременела. Я почти ежедневно видел беременных пациенток моей матери, когда они приходили к ней на приём в наш дом, но это был первый раз, когда я наблюдал, как кто-то настолько близкий мне проходит через всю беременность. К концу были некоторые проблемы - я слышал разговоры о “токсемии”, и, кажется, моей матери пришлось делать “поворот” ребёнка, чтобы он вышел головой вперёд. Наконец у миссис Сильвер начались роды, и её положили в больницу (моя мать обычно принимала роды на дому, но здесь, похоже, могли быть осложнения и могло потребоваться кесарево сечение). Мне и в голову не приходило, что может случиться что-то серьёзное, но когда я вернулся в тот день из школы, Майкл сообщил мне, что миссис Сильвер умерла при родах, “на столе”.
Я был потрясён и возмущён. Как могла здоровая женщина умереть вот так? Как моя мать могла допустить такую катастрофу? Я так и не узнал подробностей случившегося, но сам факт, что моя мать присутствовала при этом, породил фантазию о том, что она убила миссис Сильвер - хотя всё, что я знал, убеждало меня в профессионализме и заботливости моей матери, и в том, что она, должно быть, столкнулась с чем-то, что было выше её сил, выше человеческих возможностей контролировать.
Я беспокоился за Кеннета, глухого сына миссис Сильвер, чьё главное средство общения заключалось в самодельном языке жестов, которым он пользовался только с матерью. И я потерял желание играть на пианино - я вообще не прикасался к нему целый год - и никогда больше не брал уроков фортепиано.
***
Я никогда не думал, что по-настоящему знал или понимал своего брата Майкла, хотя он был ближе всех ко мне по возрасту и именно он поехал со мной в Брейфилд. Конечно, есть большая разница между шестью и одиннадцатью годами (наш возраст, когда мы отправились в Брейфилд), но, казалось, было в нём что-то особенное, что я (и, возможно, другие) осознавали, хотя нам было бы трудно это охарактеризовать, не говоря уже о том, чтобы понять. Он был мечтательным, рассеянным, глубоко погруженным в себя; казалось, что он (больше, чем кто-либо из нас) жил в своём собственном мире, хотя он много и постоянно читал и обладал удивительной памятью на прочитанное. Когда мы были в Брейфилде, у него развилось особое пристрастие к “Николасу Никльби” и “Дэвиду Копперфильду”, и он знал эти огромные книги наизусть, хотя никогда прямо не сравнивал Брейфилд с Дотбойс-Холлом или мистера Б. с чудовищным доктором Криклом. Но эти сравнения, несомненно, присутствовали в его сознании, неявно, возможно, даже неосознанно.
В 1941 году Майкл, которому тогда было тринадцать, покинул Брейфилд и поступил в колледж Клифтон, где подвергался безжалостной травле. Он никогда не жаловался на это, как никогда не жаловался и на Брейфилд, но признаки травмы были заметны внимательному глазу. Однажды летом 1943 года, вскоре после моего возвращения в Лондон, тётя Лен, которая гостила у нас, заметила Майкла, когда он, полуобнажённый, вышел из ванны. “Посмотрите на его спину!” - сказала она моим родителям, - “она вся в синяках и рубцах! Если это происходит с его телом”, - продолжила она, - “что происходит с его разумом?” Мои родители, казалось, были удивлены, сказали, что не замечали ничего плохого, что думали, что Майклу нравится школа, что у него нет проблем, что он “в порядке”.
Вскоре после этого у Майкла начался психоз. Ему казалось, что вокруг него смыкается магический и злонамеренный мир (я помню, как он рассказывал мне, что надпись на автобусе номер 60 до Олдвича была “преображена”, так что слово Олдвич теперь казалось написанным “ведьминскими” буквами, похожими на руны). Он стал особенно верить в то, что является “любимцем флагелломаниакального Бога”, как он выражался, подверженным особому вниманию “садистического Провидения”. И снова не было явных отсылок к нашему директору-флагелломаниаку в Брейфилде, но я не мог не чувствовать, что мистер Б. присутствовал там, теперь усиленный и возведённый в космический масштаб до чудовищного Провидения или Бога. Одновременно появились мессианские фантазии или бред – если его мучили или наказывали, то это было потому, что он был (или мог быть) Мессией, тем, кого мы так долго ждали. Разрываясь между блаженством и мучением, фантазией и реальностью, чувствуя, что сходит с ума (или, возможно, уже сошёл), Майкл больше не мог спать или отдыхать, но возбуждённо расхаживал по дому, топая ногами, сверкая глазами, галлюцинируя, крича.
Я стал бояться его, бояться за него, бояться кошмара, который становился для него реальностью, тем более что я мог узнать подобные мысли и чувства в себе самом, хотя они были скрыты, заперты в моих собственных глубинах. Что случится с Майклом, и не случится ли что-то подобное со мной? Именно в это время я устроил свою собственную лабораторию в доме и закрыл двери, закрыл уши от безумия Майкла. Именно в это время я искал (и иногда достигал) интенсивной концентрации, полного погружения в миры минералогии, химии и физики, в науку – фокусируясь на них, удерживая себя целым в хаосе. Не то чтобы я был равнодушен к Майклу; я испытывал к нему страстное сочувствие, я наполовину понимал, через что он проходит, но мне также нужно было держать дистанцию, создать свой собственный мир из нейтральности и красоты природы, чтобы меня не затянуло в хаос, безумие, соблазн его мира.
16
Сад Менделеева
В 1945 году Музей науки в Южном Кенсингтоне вновь открылся (он был закрыт большую часть войны), и я впервые увидел там гигантскую периодическую таблицу. Сама таблица, занимавшая целую стену в верхней части лестницы, представляла собой шкаф из тёмного дерева с примерно девяноста ячейками, в каждой из которых были указаны название, атомный вес и химический символ соответствующего элемента. И в каждой ячейке находился образец самого элемента (по крайней мере, тех элементов, которые были получены в чистом виде и которые можно было безопасно выставлять). Она была подписана “Периодическая классификация элементов – по Менделееву”.
Первое, что я увидел, были металлы, десятки их в самых разных формах: стержни, куски, кубики, проволока, фольга, диски, кристаллы. Большинство были серыми или серебристыми, некоторые имели голубоватый или розоватый оттенок. У нескольких были отполированные поверхности, которые светились слабым жёлтым светом, а ещё там были богатые цвета меди и золота.
В правом верхнем углу находились неметаллы – сера в эффектных жёлтых кристаллах и полупрозрачные красные кристаллы селена; фосфор, похожий на бледный пчелиный воск, хранившийся под водой; и углерод в виде крошечных алмазов и блестящего чёрного графита. Там был бор, коричневатый порошок, и ребристый кристаллический кремний с насыщенным чёрным блеском, как у графита или галенита.
Слева находились щелочные и щёлочноземельные металлы – металлы Хэмфри Дэви – все (кроме магния) в защитных ваннах с нефтью. Меня поразил литий в верхнем углу, который из-за своей лёгкости плавал на поверхности нефти, а также цезий, расположенный ниже, который образовывал сверкающую лужицу под нефтью. Цезий, как я знал, имел очень низкую температуру плавления, а день был жарким. Но я не вполне осознавал, глядя на те крошечные, частично окисленные кусочки, которые я видел раньше, что чистый цезий был бледно-золотистым – сначала он давал лишь проблеск, вспышку золота, казалось, переливаясь золотистым блеском; затем, под другим углом, он становился чисто золотым и выглядел как позолоченное море или золотая ртуть.
Были и другие элементы, которые до этого момента были для меня просто названиями (или, что почти столь же абстрактно, названиями, связанными с некоторыми физическими свойствами и атомными весами), и теперь впервые я увидел всё разнообразие и реальность их воплощений. При этом первом, чувственном взгляде таблица представилась мне роскошным пиршеством, огромным столом, уставленным более чем восемьюдесятью различными блюдами.
К этому времени я уже был знаком со свойствами многих элементов и знал, что они образуют несколько естественных семейств, таких как щелочные металлы, щёлочноземельные металлы и галогены. Эти семейства (Менделеев называл их “группами”) образовывали вертикали таблицы: щелочные и щёлочноземельные металлы слева, галогены и инертные газы справа, а всё остальное – в четырёх промежуточных группах между ними. “Групповая природа” этих промежуточных групп была несколько менее очевидна – так, в Группе VI я видел серу, селен и теллур. Я знал, что эти три элемента (мои “вонючки”) были очень похожи, но что делал кислород во главе группы? Должен был существовать какой-то более глубокий принцип – и действительно, он существовал. Он был напечатан в верхней части таблицы, но в своём нетерпении рассмотреть сами элементы я совсем не обратил на него внимания. Более глубоким принципом, как я увидел, была валентность. Термин “валентность” нельзя было найти в моих ранних викторианских книгах, поскольку он был должным образом разработан только в конце 1850-х годов, и Менделеев был одним из первых, кто ухватился за него и использовал как основу для классификации, чтобы обеспечить то, что никогда прежде не было ясным: обоснование, базис для факта, что элементы, казалось, образуют естественные семейства, имеют глубокие химические и физические аналогии друг с другом. Менделеев теперь выделил восемь таких групп элементов на основе их валентностей.
Так, элементы Группы I, щелочные металлы, имели валентность 1: один атом этих элементов соединялся с одним атомом водорода, образуя соединения типа LiH, NaH, KH и так далее. (Или с одним атомом хлора, образуя соединения типа LiCl, NaCl или KCl). Элементы Группы II, щёлочноземельные металлы, имели валентность 2 и поэтому образовывали соединения типа CaCl2, SrCl2, BaCl2 и так далее. Элементы Группы VIII имели максимальную способность к соединению, равную 8.
Но в то время как Менделеев организовывал элементы по валентности, его также завораживали атомные веса и тот факт, что они были уникальными и специфичными для каждого элемента, что они были, в некотором смысле, атомной подписью каждого элемента. И если мысленно он начал индексировать элементы по их валентностям, то он делал это в равной степени и по их атомным весам. И тут, как по волшебству, эти два принципа соединились. Потому что если расположить элементы просто по порядку их атомных весов в горизонтальных “периодах”, как он их назвал, можно было увидеть повторение одних и тех же свойств и валентностей через регулярные интервалы.
Каждый элемент повторял свойства того, что находился над ним, был немного более тяжёлым членом того же семейства. Та же мелодия, так сказать, проигрывалась в каждом периоде – сначала щелочной металл, затем щёлочноземельный металл, затем ещё шесть элементов, каждый со своей валентностью или тоном – но проигрывалась в другом регистре (было невозможно не думать об октавах и гаммах здесь, поскольку я жил в музыкальном доме, и гаммы были той периодичностью, которую я слышал ежедневно).
Именно восьмеричность доминировала в периодической таблице передо мной, хотя можно было также видеть, что в нижней части таблицы дополнительные элементы были вставлены внутрь основных октетов: по десять дополнительных элементов в Периодах 4 и 5, и десять плюс четырнадцать в Периоде 6.
Так поднимались вверх, каждый период завершал себя и вёл к следующему в серии головокружительных петель – по крайней мере, такую форму приняло моё воображение, так что строгая, прямоугольная таблица передо мной мысленно преобразовывалась в спирали или петли. Таблица была своего рода космической лестницей или лестницей Иакова, поднимающейся к пифагорейским небесам и спускающейся с них.
Я внезапно и остро ощутил, насколько поразительной должна была казаться периодическая таблица тем, кто увидел её впервые – химикам, глубоко знакомым с семью или восемью химическими семействами, но никогда не осознававшим основу этих семейств (валентность), ни то, как все они могли быть объединены в единую всеобъемлющую схему. Я задумался, реагировали ли они так же, как я, на это первое откровение: “Конечно! Как очевидно! Почему я сам до этого не додумался?”
Думал ли человек с точки зрения вертикалей или с точки зрения горизонталей – в любом случае получалась одна и та же сетка. Это было похоже на кроссворд, к которому можно было подойти либо через подсказки “по вертикали”, либо “по горизонтали”, за исключением того, что кроссворд был произвольным, чисто человеческим конструктом, в то время как периодическая таблица отражала глубокий порядок в природе, показывая все элементы, расположенные в фундаментальной взаимосвязи. У меня было ощущение, что она скрывает чудесную тайну, но это была криптограмма без ключа – почему эта взаимосвязь была именно такой?
Я едва мог уснуть от волнения в ночь после того, как увидел периодическую таблицу – мне казалось невероятным достижением привести весь огромный и, казалось бы, хаотичный мир химии к всеобъемлющему порядку. Первые великие интеллектуальные прояснения произошли с определением элементов Лавуазье, с открытием Пруста, что элементы соединяются только в определённых пропорциях, и с представлением Дальтона о том, что элементы имеют атомы с уникальными атомными весами. С этим химия достигла зрелости и стала химией элементов. Но сами элементы не виделись находящимися в каком-либо порядке; их можно было перечислять только в алфавитном порядке (как это сделал Пеппер в своей “Книге металлов”) или с точки зрения изолированных локальных семейств или групп. Ничего большего не было возможно до достижения Менделеева. Увидеть общую организацию, всеобъемлющий принцип, объединяющий и связывающий все элементы, имело качество чудесного, гениального. И это дало мне впервые ощущение трансцендентной силы человеческого разума и того факта, что он может быть способен открывать или расшифровывать глубочайшие тайны природы, читать мысли Бога.
Я продолжал грезить о периодической таблице в возбуждённой полудрёме той ночи – мне снилось, что она как сверкающее, вращающееся колесо или огненное колесо, а затем как великая туманность, идущая от первого элемента к последнему и кружащаяся за пределами урана, в бесконечность. На следующий день я едва мог дождаться открытия музея и помчался на верхний этаж, где находилась таблица, как только открылись двери.
***
При втором посещении я обнаружил, что смотрю на таблицу почти в географических терминах, как на царство, королевство с различными территориями и границами. Видение таблицы как географической области позволило мне подняться над отдельными элементами и увидеть определённые общие градиенты и тенденции. Металлы давно признавались особой категорией элементов, и теперь можно было увидеть одним синоптическим взглядом, как они занимали три четверти царства – всю западную сторону, большую часть юга – оставляя лишь небольшую область, в основном на северо-востоке, для неметаллов. Зубчатая линия, как стена Адриана, отделяла металлы от остальных, с несколькими “полуметаллами”, металлоидами – мышьяком, селеном – оседлавшими эту стену. Можно было видеть градиенты кислот и оснований, как оксиды “западных” элементов реагировали с водой, образуя щёлочи, а оксиды “восточных” элементов, в основном неметаллов, образовывали кислоты. Можно было увидеть, опять же одним взглядом, как элементы на обеих границах царства – щелочные металлы и галогены, например натрий и хлор – проявляли наибольшее сродство друг к другу и соединялись со взрывной силой, образуя кристаллические соли с высокими температурами плавления, которые растворялись с образованием электролитов; в то время как те, что в середине, образовывали совершенно другой тип соединений – летучие жидкости или газы, которые сопротивлялись электрическому току. Можно было видеть, вспоминая, как Вольта, Дэви и Берцелиус ранжировали элементы в электрический ряд, как наиболее сильно электроположительные элементы были все слева, а наиболее сильно электроотрицательные – справа. Таким образом, при взгляде на таблицу бросались в глаза не только расположение отдельных элементов, но и тенденции всех видов.
Увидеть таблицу, “понять” её изменило мою жизнь. Я стал посещать её так часто, как только мог. Я скопировал её в свою тетрадь и носил её повсюду; я так хорошо узнал её – визуально и концептуально – что мог мысленно прослеживать её пути во всех направлениях, поднимаясь по группе, затем поворачивая вправо по периоду, останавливаясь, спускаясь на один, но всегда зная, где я нахожусь. Это было как сад, сад чисел, который я любил в детстве – но в отличие от него, это было реально, это был ключ к вселенной. Теперь я проводил часы, очарованный, полностью поглощённый, блуждая, делая открытия в зачарованном саду Менделеева.40
***
Рядом с периодической таблицей в музее была фотография Менделеева; он выглядел как нечто среднее между Фейгином и Свенгали, с огромной массой волос и бороды и пронзительными, гипнотическими глазами. Дикая, экстравагантная, варварская фигура – но по-своему такая же романтичная, как байронический Хэмфри Дэви. Мне нужно было узнать о нём больше и прочитать его знаменитые “Основы”, в которых он впервые опубликовал свою периодическую таблицу.
Его книга, его жизнь не разочаровали меня. Он был человеком энциклопедических интересов. Он также был любителем музыки и близким другом Бородина (который тоже был химиком). И он был автором самого восхитительного и яркого учебника химии из когда-либо опубликованных – “Основ химии”.41
Как и у моих собственных родителей, у Менделеева была огромная семья – я прочитал, что он был младшим из четырнадцати детей. Его мать, должно быть, распознала его раннюю одарённость, и когда ему исполнилось четырнадцать, чувствуя, что без надлежащего образования он будет потерян, она прошла с ним тысячи миль из Сибири – сначала в Московский университет (куда его, как сибиряка, не приняли), а затем в Санкт-Петербург, где он получил грант на обучение учительскому делу.
(Сама она, которой тогда было около шестидесяти, по-видимому, умерла от истощения после этого невероятного усилия. Менделеев, глубоко привязанный к ней, позже посвятил “Основы” её памяти.)
Ещё будучи студентом в Санкт-Петербурге, Менделеев проявлял не только ненасытное любопытство, но и жажду к организующим принципам всех видов. Линней в восемнадцатом веке классифицировал животных и растения, а также (гораздо менее успешно) минералы. Дана в 1830-х годах заменил старую физическую классификацию минералов химической классификацией примерно из дюжины основных категорий (самородные элементы, оксиды, сульфиды и так далее). Но для самих элементов такой классификации не существовало, а известно их было уже около шестидесяти. Некоторые элементы, действительно, казалось, почти невозможно было категоризировать. Куда отнести уран или тот загадочный, сверхлёгкий металл, бериллий? Некоторые из самых недавно открытых элементов были особенно трудными – таллий, например, открытый в 1862 году, был в чём-то похож на свинец, в чём-то на серебро, в чём-то на алюминий, а в чём-то на калий.
От первого интереса Менделеева к классификации до появления его периодической таблицы в 1869 году прошло почти двадцать лет. Это долгое размышление и вынашивание (столь похожее, в некотором роде, на то, что было у Дарвина перед публикацией “О происхождении видов”) было, возможно, причиной того, почему, когда Менделеев наконец опубликовал свои “Основы”, он смог привнести объём знаний и понимания, далеко превосходящий любого из его современников – некоторые из них тоже имели чёткое представление о периодичности, но никто из них не мог привести такое ошеломляющее количество деталей, как он.
Менделеев описывал, как он записывал свойства и атомные веса элементов на карточках и постоянно размышлял над ними и перетасовывал их во время своих долгих железнодорожных путешествий по России, играя своего рода в пасьянс или (как он это называл) “химический солитер”, нащупывая порядок, систему, которая могла бы придать смысл всем элементам, их свойствам и атомным весам.
Был и другой решающий фактор. В течение десятилетий существовала значительная путаница относительно атомных весов многих элементов. Только когда это наконец прояснилось на конференции в Карлсруэ в 1860 году, Менделеев и другие смогли даже подумать о создании полной таксономии элементов. Менделеев ездил в Карлсруэ с Бородиным (это было как музыкальное, так и химическое путешествие, поскольку они останавливались во многих церквях по пути, пробуя местные органы). Со старыми, докарлсруэскими атомными весами можно было получить представление о локальных триадах или группах, но нельзя было увидеть, что существует числовая связь между самими группами.42 Только когда Канниццаро показал, как можно получить надёжные атомные веса, и продемонстрировал, например, что правильные атомные веса для щёлочноземельных металлов (кальция, стронция и бария) были 40, 88 и 137 (а не 20, 44 и 68, как считалось ранее), стало ясно, насколько они близки к весам щелочных металлов – калия, рубидия и цезия. Именно эта близость, а в свою очередь и близость атомных весов галогенов – хлора, брома и йода – побудила Менделеева в 1868 году создать небольшую сетку, сопоставляющую эти три группы:
CI 35.5 K 39 Ca 40
Br 80 Rb 85 Sr 88
I 127 Cs 133 Ba 137
И именно в этот момент, увидев, что расположение трёх групп элементов в порядке атомного веса создаёт повторяющийся паттерн – галоген, за которым следует щелочной металл, за которым следует щёлочноземельный металл – Менделеев, чувствуя, что это должно быть частью более крупного паттерна, пришёл к идее периодичности, управляющей всеми элементами – Периодического закона.
Первую небольшую таблицу Менделеева нужно было заполнить, а затем расширить во всех направлениях, как если бы заполнялся кроссворд; это само по себе требовало некоторых смелых предположений. Какой элемент, размышлял он, химически родственен щёлочноземельным металлам, но следует за литием по атомному весу? Такого элемента, казалось, не существовало – или это мог быть бериллий, обычно считавшийся трёхвалентным, с атомным весом 14,5? Что если он был двухвалентным, и, следовательно, его атомный вес был не 14,5, а 9? Тогда он следовал бы за литием и идеально вписывался бы в пустое место.
Двигаясь между сознательным расчётом и догадкой, между интуицией и анализом, Менделеев за несколько недель пришёл к табуляции более тридцати элементов в порядке возрастания атомного веса, табуляции, которая теперь предполагала повторение свойств каждого восьмого элемента. И в ночь на 16 февраля 1869 года, как говорят, ему приснился сон, в котором он увидел почти все известные элементы, расположенные в великой таблице. На следующее утро он перенёс это на бумагу.43
Логика и структура таблицы Менделеева были настолько ясны, что определённые аномалии сразу бросались в глаза. Некоторые элементы, казалось, находились не на своих местах, в то время как для некоторых мест элементов не было вовсе. На основе своих обширных химических знаний он переместил полдюжины элементов, пренебрегая их общепринятой валентностью и атомными весами. Делая это, он проявил дерзость, которая шокировала некоторых его современников (Лотар Мейер, например, считал чудовищным менять атомные веса просто потому, что они не “вписывались”).
В акте высшей уверенности Менделеев оставил в своей таблице несколько пустых мест для элементов “пока неизвестных”. Он утверждал, что, экстраполируя свойства элементов сверху и снизу (а также, в некоторой степени, тех, что по бокам), можно сделать уверенное предсказание о том, какими будут эти неизвестные элементы. Именно это он и сделал в своей таблице 1871 года, предсказав в деталях новый элемент (“эка-алюминий”), который должен был находиться под алюминием в Группе III. Четыре года спустя именно такой элемент был найден французским химиком Лекоком де Буабодраном и назван (то ли патриотически, то ли с лукавой отсылкой к себе, gallus – петух) галлием.
Точность предсказания Менделеева была поразительной: он предсказал атомный вес 68 (Лекок получил 69.9) и удельный вес 5.9 (Лекок получил 5.94) и правильно угадал множество других физических и химических свойств галлия – его плавкость, его оксиды, его соли, его валентность. Были некоторые первоначальные расхождения между наблюдениями Лекока и предсказаниями Менделеева, но все они были быстро разрешены в пользу Менделеева. Действительно, говорили, что Менделеев лучше понимал свойства галлия – элемента, которого он никогда даже не видел – чем человек, который его фактически открыл.
Внезапно Менделеева перестали воспринимать как простого спекулянта или мечтателя, а стали видеть в нём человека, открывшего фундаментальный закон природы, и теперь периодическая таблица превратилась из красивой, но недоказанной схемы в бесценное руководство, позволяющее координировать огромное количество прежде не связанной химической информации. Она также могла быть использована для предложения всевозможных направлений будущих исследований, включая систематический поиск “отсутствующих” элементов. “До провозглашения этого закона”, – скажет Менделеев почти двадцать лет спустя, – “химические элементы были лишь фрагментарными, случайными фактами в Природе; не было особых причин ожидать открытия новых элементов”.
Теперь, с периодической таблицей Менделеева, можно было не только ожидать их открытия, но и предсказывать их свойства. Менделеев сделал ещё два столь же детальных предсказания, и они также подтвердились с открытием скандия и германия несколько лет спустя.44 Здесь, как и в случае с галлием, он делал свои предсказания на основе аналогии и линейности, предполагая, что физические и химические свойства этих неизвестных элементов и их атомные веса будут находиться между свойствами соседних элементов в их вертикальных группах.45
Любопытно, что краеугольный камень всей таблицы не был предвиден Менделеевым, и, возможно, не мог быть предвиден, поскольку речь шла не о недостающем элементе, а о целом семействе или группе. Когда в 1894 году был открыт аргон – элемент, который, казалось, нигде не вписывался в таблицу – Менделеев сначала отрицал, что это может быть элемент, и думал, что это более тяжёлая форма азота (N3, аналогичная озону, O3). Но затем стало очевидно, что для него есть место, прямо между хлором и калием, и действительно, для целой группы, располагающейся между галогенами и щелочными металлами в каждом периоде. Это понял Лекок, который затем предсказал атомные веса других ещё не открытых газов – и они, действительно, были открыты вскоре. С открытием гелия, неона, криптона и ксенона стало ясно, что эти газы образуют совершенную периодическую группу, группу настолько инертную, скромную, незаметную, что она целое столетие ускользала от внимания химиков.46 Инертные газы были идентичны в своей неспособности образовывать соединения; казалось, их валентность равна нулю.47
Периодическая таблица была невероятно красивой, самой красивой вещью, которую я когда-либо видел. Я никогда не мог адекватно проанализировать, что я имел в виду под красотой – простоту? связность? ритм? неизбежность? Или, возможно, это была симметрия, всеобъемлемость каждого элемента, прочно закреплённого на своём месте, без пробелов, без исключений, где всё подразумевало всё остальное.
Я был встревожен, когда один чрезвычайно эрудированный химик, Дж.У. Меллор, в чей обширный трактат по неорганической химии я начал заглядывать, говорил о периодической таблице как о “поверхностной” и “иллюзорной”, не более истинной и не более фундаментальной, чем любая другая специальная классификация. Это повергло меня в краткую панику и сделало необходимым выяснить, подтверждается ли идея периодичности какими-либо способами помимо химического характера и валентности.
Исследование этого увело меня из моей лаборатории к новой книге, которая сразу стала моей библией – Справочнику по физике и химии CRC, толстой, почти кубической книге почти в три тысячи страниц, содержащей таблицы всех мыслимых физических и химических свойств, многие из которых я одержимо выучил наизусть.
Я выучил плотности, температуры плавления, температуры кипения, показатели преломления, растворимости и кристаллические формы всех элементов и сотен их соединений. Я увлёкся построением их графиков, нанося атомные веса против каждого физического свойства, которое только мог придумать. Я становился всё более и более взволнованным, восторженным, чем больше исследовал, потому что почти всё, что я рассматривал, показывало периодичность: не только плотность, температура плавления, температура кипения, но и теплопроводность и электропроводность, кристаллическая форма, твёрдость, изменения объёма при плавлении, расширение при нагревании, электродные потенциалы и так далее. Значит, дело было не только в валентности, но и в физических свойствах тоже. Сила, универсальность периодической таблицы возросла для меня благодаря этому подтверждению.
В тенденциях, показанных в периодической таблице, были исключения, аномалии – некоторые из них глубокие. Почему, например, марганец был таким плохим проводником электричества, когда элементы по обе стороны от него были довольно хорошими проводниками? Почему сильный магнетизм был ограничен железными металлами? И всё же эти исключения, я был почему-то убеждён, отражали особые дополнительные механизмы в действии и ни в коем случае не делали недействительной всю систему.48
***
Используя периодическую таблицу, я тоже попробовал себя в предсказаниях, пытаясь предсказать свойства пары всё ещё неизвестных элементов, как это сделал Менделеев для галлия и других. Я заметил, когда впервые увидел музейную таблицу, что в ней было четыре пропуска. Последний из щелочных металлов, элемент 87, всё ещё отсутствовал, как и последний из галогенов, элемент 85. Элемент 43, находящийся под марганцем, также отсутствовал, хотя в этом месте было написано “?Мазурий” без атомного веса.49 Наконец, отсутствовал и редкоземельный элемент 61.
Было легко предсказать свойства неизвестного щелочного металла, поскольку все щелочные металлы были очень похожи, и нужно было только экстраполировать от других элементов в группе. 87-й, я рассчитал, должен был быть самым тяжёлым, самым легкоплавким, самым реактивным из всех; он должен был быть жидким при комнатной температуре и, как цезий, иметь золотистый отблеск. Действительно, он мог быть лососево-розовым, как расплавленная медь. Он должен был быть ещё более электроположительным, чем цезий, и показывать ещё более сильный фотоэлектрический эффект. Как и другие щелочные металлы, он должен был окрашивать пламя в яркий цвет – вероятно, в голубоватый, поскольку цвета пламени от лития до цезия имели тенденцию к этому направлению.
Было также легко предсказать свойства неизвестного галогена, поскольку галогены тоже были очень похожи, и группа показывала простые, линейные тенденции.
Но предсказание свойств элементов 43 и 61 было бы сложнее, поскольку это были не “типичные” элементы (по выражению Менделеева). И именно с такими нетипичными элементами у Менделеева возникли проблемы, что привело его к пересмотру первоначальной таблицы. Переходные металлы обладали своего рода однородностью. Все они были металлами, все тридцать, и большинство из них, как железо, были твёрдыми и прочными, плотными и тугоплавкими. Особенно это касалось тяжёлых переходных элементов, таких как платиновые металлы и металлы для нитей накаливания, с которыми меня познакомил дядя Дейв. Мой интерес к цвету выявил ещё один факт: если соединения типичных элементов обычно были бесцветными, как поваренная соль, то соединения переходных металлов часто имели яркие цвета: розовые минералы и соли марганца и кобальта, зелёный цвет солей никеля и меди, многочисленные цвета ванадия; вместе с их многочисленными цветами шли и их многочисленные валентности. Все эти свойства показывали мне, что переходные элементы были особым видом, отличным по природе от типичных элементов.
Тем не менее, можно было рискнуть предположить, что элемент 43 будет иметь некоторые характеристики марганца и рения, других металлов в его группе (например, он будет иметь максимальную валентность 7 и образовывать цветные соли); но он также будет в целом похож на соседние переходные металлы в своём периоде – ниобий и молибден слева и лёгкие платиновые металлы справа. Поэтому можно было также предсказать, что это будет блестящий, твёрдый, серебристый металл с плотностью и температурой плавления, похожими на их. Это был бы как раз тот тип металла, который полюбил бы дядя Вольфрам, и как раз тот тип металла, который был бы открыт Шееле в 1770-х годах – то есть, если бы он существовал в заметных количествах.
Самым сложным было бы подробное предсказание для элемента 61, отсутствующего редкоземельного металла, поскольку эти элементы во многих отношениях были самыми загадочными из всех.
***
Я думаю, я впервые услышал о редкоземельных металлах от моей матери, которая была заядлой курильщицей и зажигала сигарету за сигаретой маленькой зажигалкой Ronson. Однажды она показала мне “кремень”, вытащив его, и сказала, что это на самом деле не кремень, а металл, который производит искры при царапании. Этот “мишметалл” – в основном церий – был смесью полудюжины различных металлов, все они были очень похожи, все они были редкоземельными. Это странное название, редкоземельные металлы, звучало мифически или как из сказки, и я представлял себе редкоземельные элементы не только редкими и драгоценными, но и обладающими особыми, тайными качествами, которых не было ни у чего другого.
Позже дядя Дейв рассказал мне о необычайных трудностях, с которыми столкнулись химики при разделении отдельных редкоземельных элементов – их было дюжина или больше – поскольку они были поразительно похожи, порой неразличимы по своим физическим и химическим свойствам. Их руды (которые по какой-то причине все, казалось, происходили из Швеции) никогда не содержали единственный редкоземельный элемент, а целый их кластер, как будто сама природа с трудом различала их. Их анализ составил целую сагу в истории химии, сагу о страстных исследованиях (и частых разочарованиях) за более чем сто лет, потребовавшихся для их идентификации. Разделение последних нескольких редкоземельных элементов, действительно, было за пределами возможностей химии девятнадцатого века, и только с использованием физических методов, таких как спектроскопия и дробная кристаллизация, они были наконец разделены. Не менее пятнадцати тысяч дробных кристаллизаций, использующих бесконечно малые различия в растворимости между их солями, потребовалось для разделения последних двух, иттербия и лютеция – предприятие, занявшее годы.
Тем не менее были химики, которые были очарованы неподатливыми редкоземельными элементами и провели всю свою жизнь, пытаясь изолировать их, чувствуя, что их изучение может пролить неожиданный свет на все элементы и их периодичность:
“Редкоземельные элементы [писал Уильям Крукс] озадачивают нас в наших исследованиях, ставят в тупик в наших размышлениях и преследуют нас даже в наших снах. Они простираются перед нами как неизвестное море, насмехаясь, мистифицируя и нашёптывая странные откровения и возможности.”
Если редкоземельные элементы озадачивали, насмехались и преследовали химиков, то Менделеева они просто сводили с ума, когда он пытался найти им место в своей периодической таблице. Когда он создавал свою первую таблицу в 1869 году, было известно только пять редкоземельных элементов, но затем в последующие десятилетия открывались всё новые и новые, и с каждым открытием проблема росла, потому что все они, со своими последовательными атомными весами, принадлежали (казалось) к одному месту в таблице, как бы втиснутые между двумя соседними элементами в Периоде 6. Другие тоже боролись с размещением этих мучительно похожих элементов, ещё больше расстраиваясь из-за глубокой неуверенности в том, сколько редкоземельных элементов в конечном итоге может оказаться.
Многие химики к концу девятнадцатого века были склонны помещать как переходные, так и редкоземельные элементы в отдельные “блоки”, поскольку требовалась периодическая таблица с большим пространством, большим количеством измерений, чтобы вместить эти “дополнительные” элементы, которые, казалось, прерывали основные восемь групп таблицы. Я сам пытался создавать различные формы периодической таблицы, чтобы разместить эти блоки, экспериментируя со спиральными и трёхмерными версиями. Многие другие, как я позже узнал, делали то же самое: более сотни версий таблицы появилось при жизни Менделеева.
***
Все таблицы, которые я создавал, все таблицы, которые я видел, заканчивались неопределённостью, заканчивались вопросительным знаком, сосредоточенным вокруг “последнего” элемента, урана. Меня чрезвычайно интересовал этот вопрос, касающийся Периода 7, который начинался с ещё не открытого щелочного металла, элемента 87, но доходил только до урана, элемента 92. Почему, думал я, он должен остановиться здесь, после всего лишь шести элементов? Разве не могло быть больше элементов за ураном?
Сам уран был помещён Менделеевым под вольфрамом, самым тяжёлым из переходных элементов Группы VI, поскольку химически он был очень похож на вольфрам. (Вольфрам образовывал летучий гексафторид, очень плотный пар, и уран тоже – это соединение, UF6, использовалось во время войны для разделения изотопов урана.) Уран казался переходным металлом, казался эка-вольфрамом – и всё же я чувствовал какой-то дискомфорт по этому поводу и решил провести небольшое исследование, изучить плотности и температуры плавления всех переходных металлов. Как только я это сделал, я обнаружил аномалию, потому что там, где плотности металлов неуклонно увеличивались через Периоды 4, 5 и 6, они неожиданно снижались, когда доходили до элементов в Периоде 7. Уран фактически был менее плотным, чем вольфрам, хотя можно было ожидать, что он будет более плотным (торий, аналогично, был менее плотным, чем гафний, а не более плотным, как можно было ожидать). То же самое было и с их температурами плавления: они достигали максимума в Периоде 6, а затем внезапно снижались.
Я был взволнован этим; я чувствовал, что сделал открытие. Возможно ли, что несмотря на все сходства между ураном и вольфрамом, уран на самом деле не принадлежал к той же группе, даже не был переходным металлом вообще? Могло ли это также относиться к другим элементам Периода 7, торию и протактинию, и (воображаемым) элементам за ураном? Могло ли быть, что эти элементы были вместо этого началом второй серии редкоземельных элементов, точно аналогичной первой серии в Периоде 6? Если это так, то эка-вольфрамом был бы не уран, а ещё не открытый элемент, который появился бы только после того, как вторая редкоземельная серия завершила бы себя. В 1945 году это всё ещё было немыслимо, материал для научной фантастики.
Я был в восторге, вскоре после войны, узнав, что я угадал правильно, когда было раскрыто, что Гленн Сиборг и его сотрудники в Беркли успешно создали ряд трансурановых элементов – элементы 93, 94, 95 и 96 – и обнаружили, что они действительно были частью второй серии редкоземельных элементов (которые, по аналогии с первой редкоземельной серией, лантаноидами, он назвал актиноидами).50 [50]
Количество элементов во второй серии редкоземельных элементов, утверждал Сиборг, по аналогии с первой серией, также должно быть четырнадцать, и после четырнадцатого (элемента 103) можно было ожидать десять переходных элементов, и только затем завершающие элементы Периода 7, заканчивающиеся инертным газом на элементе 118. За этим, предположил Сиборг, начался бы новый период, начинающийся, как и все остальные, со щелочного металла, элемента 119.
Казалось, что периодическая таблица могла быть таким образом расширена до новых элементов далеко за пределами урана, элементов, которые могли даже не существовать в природе. Было неясно, существует ли какой-либо предел для таких трансурановых элементов: возможно, атомы таких элементов стали бы слишком большими, чтобы держаться вместе. Но принцип периодичности был фундаментальным и, казалось, мог быть расширен бесконечно.
***
В то время как Менделеев рассматривал периодическую таблицу в первую очередь как инструмент для организации и предсказания свойств элементов, он также чувствовал, что она воплощает фундаментальный закон, и время от времени размышлял о “невидимом мире химических атомов”. Ибо периодическая таблица, было ясно, смотрела в обе стороны: наружу к явным свойствам элементов и внутрь к какому-то ещё неизвестному атомному свойству, которое определяло их.
В той первой, долгой, захватывающей встрече в Музее науки я был убеждён, что периодическая таблица не была ни произвольной, ни поверхностной, а была представлением истин, которые никогда не будут опровергнуты, но, напротив, будут постоянно подтверждаться, показывать новые глубины с новыми знаниями, потому что она была такой же глубокой и простой, как сама природа. И осознание этого вызвало в моём двенадцатилетнем “я” своего рода экстаз, ощущение (словами Эйнштейна), что “приподнялся уголок великой завесы”.
17
Карманный спектроскоп
До войны мы всегда праздновали Ночь Гая Фокса, запуская фейерверки. Бенгальские огни, горящие ярко-зелёным или красным цветом, были моими любимыми. Зелёный цвет, как сказала мне мама, был обусловлен элементом под названием барий, а красный – стронцием. В то время я понятия не имел, что такое барий и стронций, но их названия, как и их цвета, остались в моей памяти.
Когда мама увидела, как я был очарован этими огнями, она показала мне, как при броске щепотки соли на плиту газовое пламя внезапно вспыхивало и становилось ярко-жёлтым – это происходило из-за присутствия другого элемента, натрия (даже римляне, сказала она, использовали его, чтобы придать своим кострам и факелам более насыщенный цвет). Так что, в некотором смысле, я познакомился с “пламенными пробами” ещё до войны, но только через несколько лет, в лаборатории дяди Дейва, я узнал, что они были неотъемлемой частью химической жизни, мгновенным способом обнаружения определённых элементов, даже если они присутствовали в минутных количествах.
Нужно было только поместить крупинку элемента или одного из его соединений на петлю платиновой проволоки и поместить её в бесцветное пламя горелки Бунзена, чтобы увидеть производимые окраски. Я исследовал целый ряд цветов пламени. Был лазурно-голубой огонь, производимый хлоридом меди. И был светло-голубой – “ядовитый” светло-голубой, как я его считал – производимый свинцом, мышьяком и селеном. Было много зелёных огней: изумрудно-зелёный с большинством других соединений меди; желтовато-зелёный с соединениями бария, некоторыми соединениями бора тоже – боран, борогидрид, был легко воспламеняющимся и горел своим собственным жутковатым зелёным пламенем. Затем были красные: карминовое пламя соединений лития, алое стронция, желтовато-кирпичный красный кальция. (Позже я прочитал, что радий тоже окрашивал пламя в красный цвет, но этого, конечно, я никогда не видел. Я представлял его как красный самого сияющего блеска, своего рода предельный, фатальный красный. Химик, который первым увидел его, как я себе представлял, вскоре после этого ослеп, и радиоактивный, разрушающий сетчатку красный цвет радия был последним, что он когда-либо видел.)
Эти пламенные пробы были очень чувствительными – гораздо более чувствительными, чем многие химические реакции, “мокрые” тесты, которые также проводились для анализа веществ – и они укрепляли ощущение элементов как фундаментальных, сохраняющих свои уникальные свойства, как бы они ни соединялись. Можно было подумать, что натрий “теряется”, когда соединяется с хлором, образуя соль – но характерное присутствие натриевого жёлтого в пламенной пробе напоминало, что он всё ещё там.
Тётя Лен подарила мне книгу Джеймса Джинса “Звёзды в их движении” на мой десятый день рождения, и я был опьянён воображаемым путешествием, которое Джинс описывал в сердце солнца, и его обыденным упоминанием о том, что солнце содержит платину, серебро и свинец, большинство элементов, которые у нас есть на земле.
Когда я упомянул об этом дяде Эйбу, он решил, что пришло время познакомить меня со спектроскопией. Он дал мне книгу 1873 года “Спектроскоп” Дж. Нормана Локьера и одолжил мне свой маленький спектроскоп. В книге Локьера были очаровательные иллюстрации, показывающие не только различные спектроскопы и спектры, но и бородатых викторианских учёных в сюртуках, исследующих пламя свечи с помощью нового прибора, и она дала мне очень личное ощущение истории спектроскопии, от первых экспериментов Ньютона до новаторских наблюдений самого Локьера за спектрами солнца и звёзд.
Спектроскопия действительно началась на небесах, с разложения Ньютоном солнечного света призмой в 1666 году, показавшего, что он состоит из лучей “по-разному преломляемых”. Ньютон получил спектр солнца как непрерывную светящуюся полосу цвета, идущую от красного до фиолетового, как радуга. Сто пятьдесят лет спустя Йозеф Фраунгофер, молодой немецкий оптик, используя гораздо более точную призму и узкую щель, смог увидеть, что вся длина спектра Ньютона прерывалась странными тёмными линиями, “бесконечным числом вертикальных линий различной толщины” (в конце концов он смог насчитать более пятисот).
Для получения спектра требовался яркий свет, но это не обязательно должен был быть солнечный свет. Это мог быть свет свечи, известковый свет или цветное пламя щелочных или щелочноземельных металлов. К 1830-м и 1840-м годам их тоже начали исследовать, и был обнаружен совершенно другой тип спектра. В то время как солнечный свет создавал светящуюся полосу со всеми спектральными цветами, свет испаренного натрия давал только одну желтую линию, очень узкую линию большой яркости на фоне чернильной черноты. Подобная картина наблюдалась и в спектрах пламени лития и стронция, только у них было множество ярких линий, в основном в красной части спектра.
Каково было происхождение темных линий, которые Фраунгофер увидел в 1814 году? Была ли какая-то связь между ними и яркими спектральными линиями горящих элементов? Эти вопросы возникали у многих умов того времени, но оставались без ответа до 1859 года, когда молодой немецкий физик Густав Кирхгоф объединил усилия с Робертом Бунзеном. Бунзен к тому времени был выдающимся химиком и плодовитым изобретателем – он изобрел фотометры, калориметры, угольно-цинковый элемент (который все еще использовался практически без изменений в батарейках, которые я разбирал в 1940-х годах) и, конечно же, горелку Бунзена, которую он усовершенствовал для более тщательного исследования цветовых явлений. Они были идеальной парой: Бунзен – превосходный экспериментатор, практичный, технически блестящий, изобретательный, а Кирхгоф обладал теоретической мощью и математическими способностями, которых, возможно, не хватало Бунзену.
В 1859 году Кирхгоф провел простой и изящно спланированный эксперимент, который показал, что спектры с яркими линиями и спектры с темными линиями – эмиссионные и абсорбционные спектры – были одним и тем же явлением, соответствующими противоположностями одного феномена: способности элементов излучать свет характерной длины волны при испарении или поглощать свет точно такой же длины волны при освещении. Таким образом, характерную линию натрия можно было наблюдать либо как яркую желтую линию в его эмиссионном спектре, либо как темную линию в точно таком же положении в его абсорбционном спектре.
Направив свой спектроскоп на солнце, Кирхгоф обнаружил, что одна из бесчисленных темных линий Фраунгофера в солнечном спектре находилась точно в том же положении, что и яркая желтая линия натрия – и, следовательно, на солнце должен присутствовать натрий. В первой половине девятнадцатого века преобладало мнение, что мы никогда не узнаем о звездах ничего, кроме того, что можно получить путем простого наблюдения – что их состав и химия, в частности, останутся навсегда неизвестными, поэтому открытие Кирхгофа было встречено с изумлением.51
Кирхгоф и другие (и особенно сам Локьер) продолжили идентифицировать множество других земных элементов на солнце, и теперь загадка Фраунгофера – сотни черных линий в солнечном спектре – могла быть объяснена как абсорбционные спектры этих элементов во внешних слоях солнца, просвечиваемых изнутри. С другой стороны, было предсказано, что солнечное затмение, когда центральная яркость солнца скрыта и видна только его яркая корона, будет производить вместо этого ослепительные эмиссионные спектры, соответствующие темным линиям.
Теперь, с помощью дяди Эйба – у него была небольшая обсерватория на крыше дома, и один из его телескопов был постоянно соединен со спектроскопом – я увидел это сам. Вся видимая вселенная – планеты, звезды, далекие галактики – представилась для спектроскопического анализа, и я испытал головокружительное, почти экстатическое удовлетворение, увидев знакомые земные элементы в космосе, увидев то, что я раньше знал только теоретически: что элементы были не только земными, но и космическими, действительно являясь строительными блоками вселенной.
В этот момент Бунзен и Кирхгоф отвернулись от небес, чтобы посмотреть, смогут ли они найти какие-либо новые или неоткрытые элементы на земле, используя свой новый метод. Бунзен уже заметил огромную способность спектроскопа разделять сложные смеси – фактически, проводить оптический анализ химических соединений. Если, например, литий присутствовал в небольших количествах вместе с натрием, не было способа обнаружить его с помощью обычного химического анализа. Цвета пламени тоже не помогали в этом случае, поскольку яркое желтое пламя натрия имело тенденцию заглушать другие цвета пламени. Но со спектроскопом характерный спектр лития можно было увидеть немедленно, даже если он был смешан с натрием в соотношении один к десяти тысячам.
Это позволило Бунзену показать, что некоторые минеральные воды, богатые натрием и калием, также содержали литий (это было совершенно неожиданно, поскольку до этого единственными источниками считались некоторые редкие минералы). Могли ли они содержать и другие щелочные металлы? Когда Бунзен сконцентрировал свою минеральную воду, выпарив 600 квинталов (около 44 тонн) до нескольких литров, он увидел среди линий многих других элементов две замечательные синие линии, расположенные близко друг к другу, которых никогда раньше не видели. Он почувствовал, что это должна быть сигнатура нового элемента. “Я назову его цезием из-за его прекрасной синей спектральной линии”, - написал он, объявляя о своем открытии в ноябре 1860 года.
Через три месяца Бунзен и Кирхгоф открыли еще один новый щелочной металл; они назвали его рубидием от “великолепного темно-красного цвета его лучей”.
В течение нескольких десятилетий после открытий Бунзена и Кирхгофа с помощью спектроскопии было открыто еще двадцать элементов – индий и таллий (которые также были названы за их ярко окрашенные спектральные линии), галлий, скандий и германий (три элемента, предсказанные Менделеевым), все оставшиеся редкоземельные элементы и, в 1890-х годах, инертные газы.
Но, пожалуй, самая романтичная история из всех, определенно та, которая больше всего привлекала меня в детстве, была связана с открытием гелия. Именно Локьер во время солнечного затмения 1868 года смог увидеть яркую желтую линию в солнечной короне, линию рядом с желтыми линиями натрия, но явно отличную от них. Он предположил, что эта новая линия должна принадлежать неизвестному на Земле элементу, и назвал его гелием (он дал ему металлический суффикс -ium, потому что предполагал, что это металл). Это открытие вызвало большое удивление и волнение, и некоторые даже предполагали, что у каждой звезды могут быть свои особые элементы. Только через двадцать пять лет было обнаружено, что некоторые земные (урановые) минералы содержат странный, легкий газ, легко высвобождающийся, и когда его подвергли спектроскопии, оказалось, что это тот самый гелий.
Чудо спектрального анализа, анализа на расстоянии, имело также и литературные отголоски. Я читал “Наш общий друг” (написанный в 1864 году, всего через четыре года после того, как Бунзен и Кирхгоф положили начало спектроскопии), где Диккенс представил себе “моральную спектроскопию”, с помощью которой обитатели далеких галактик и звезд могли бы анализировать свет с Земли, чтобы оценить её добро и зло, моральный спектр её обитателей.
“Я почти не сомневаюсь”, - писал Локьер в конце своей книги, - “что со временем… спектроскоп станет… карманным спутником каждого из нас”. Маленький спектроскоп стал моим постоянным спутником, моим мгновенным анализатором мира, который я доставал по разным поводам: посмотреть на новые флуоресцентные лампы, которые начали появляться на станциях лондонского метро, изучать растворы и пламя в моей лаборатории или угольные и газовые огни в доме.
Я также исследовал абсорбционные спектры различных соединений, от простых неорганических растворов до крови, листьев, мочи и вина. Меня fascinated открытие того, насколько характерным был спектр крови даже в засушенном виде и как мало её требовалось для такого анализа – можно было идентифицировать слабое пятно крови более чем пятидесятилетней давности и отличить его от пятна ржавчины. Меня заинтриговали криминалистические возможности этого метода; я задавался вопросом, использовал ли Шерлок Холмс, наряду со своими химическими исследованиями, также и спектроскоп. (Я особенно любил рассказы о Шерлоке Холмсе, и еще больше истории о профессоре Челленджере, которые Конан Дойл написал позже – я отождествлял себя с Челленджером; я не мог отождествлять себя с Холмсом. В “Ядовитом поясе” спектроскопия играет решающую роль, поскольку именно изменение линий Фраунгофера в спектре солнца предупреждает Челленджера о приближении ядовитого облака.)
Но я всегда возвращался к ярким линиям, блестящим цветам, эмиссионным спектрам. Я помню, как ходил на Пикадилли-Серкус и Лестер-сквер со своим карманным спектроскопом и рассматривал новые натриевые лампы, которые использовались для уличного освещения, алые неоновые рекламы и другие газоразрядные трубки – желтые, синие, зеленые, в зависимости от используемого газа – которые теперь превращали Вест-Энд в великолепие цветных огней после долгого затемнения военного времени. Каждый газ, каждое вещество имело свой уникальный спектр, свою собственную подпись.
Бунзен и Кирхгоф считали, что положение спектральных линий было не только уникальной подписью каждого элемента, но и проявлением его фундаментальной природы. Они казались “свойством столь же неизменным и фундаментальным, как атомный вес”, действительно проявлением – пока еще иероглифическим и неразгаданным – самой их конституции.
Сложность спектров (например, спектр железа содержал несколько сотен линий) сама по себе предполагала, что атомы вряд ли могли быть теми маленькими, плотными массами, которые представлял себе Дальтон, отличающимися только своими атомными весами и почти ничем более.
Один химик, У.К. Клиффорд, писал в 1870 году, выражая эту сложность через музыкальную метафору:
“…рояль должен быть очень простым механизмом по сравнению с атомом железа. Потому что в спектре железа существует почти бесчисленное богатство отдельных ярких линий, каждая из которых соответствует четкому определенному периоду вибрации атома железа. Вместо сотни с небольшим звуковых вибраций, которые может издавать рояль, единственный атом железа, похоже, испускает тысячи определенных световых вибраций.”
В то время существовало множество подобных музыкальных образов и метафор, все они касались соотношений, гармоник, которые, казалось, скрывались в спектрах, и возможности выразить их формулой. Природа этих “гармоник” оставалась неясной до 1885 года, когда Бальмер смог найти формулу, связывающую положение четырех линий в видимом спектре водорода, формулу, которая позволила ему правильно предсказать существование и положение дополнительных линий в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Бальмер тоже мыслил музыкальными терминами и задавался вопросом, “возможно ли интерпретировать колебания отдельных спектральных линий как обертоны, так сказать, одной определенной основной ноты.” То, что Бальмер натолкнулся на что-то фундаментально важное, а не на какую-то нумерологическую чепуху, было сразу признано, но значение его формулы оставалось полностью загадочным – столь же загадочным, как открытие Кирхгофа о том, что эмиссионные и абсорбционные линии элементов были одинаковыми.
18
Холодный огонь
Мои многочисленные дяди, тети и кузены служили своего рода архивом или справочной библиотекой, и меня направляли к разным из них с конкретными проблемами: чаще всего к тете Лен, моей тете-ботанику, которая сыграла такую спасительную роль в мрачные дни Брейфилда, или к дяде Дэйву, моему дяде-химику и минералогу, но был также дядя Эйб, мой дядя-физик, который приобщил меня к спектроскопии. К дяде Эйбу обращались довольно редко поначалу, поскольку он был одним из старших дядей, на шесть лет старше дяди Дэйва и на пятнадцать лет старше моей матери. Его считали самым блестящим из восемнадцати детей его отца. Он был интеллектуально грозной фигурой, хотя его знания пришли через своего рода осмос, а не через формальное обучение. Как и Дэйв, он вырос с интересом к физическим наукам, и как и Дэйв, в молодости уехал заниматься геологией в Южную Африку.
Великие открытия рентгеновских лучей, радиоактивности, электрона и квантовой теории все произошли в его формативные годы и оставались центральными интересами до конца его жизни; у него также была страсть к астрономии и теории чисел. Но он также прекрасно мог направить свой ум на практические и коммерческие цели. Он участвовал в разработке Marmite, широко используемого витаминизированного дрожжевого экстракта, разработанного в начале века (моя мать обожала его; я ненавидел), а во время Второй мировой войны, когда обычное мыло было труднодоступно, он помог разработать эффективное безжировое мыло.
Хотя Эйб и Дэйв были в чем-то похожи (у обоих было широкое лицо Ландау с широко расставленными глазами и безошибочно узнаваемый, резонирующий голос Ландау – характеристики, все еще заметные у правнуков моего деда), в другом они сильно различались. Дэйв был высоким и крепким, с военной осанкой (он служил в Первой мировой войне, а до этого в Бурской войне), всегда тщательно одетый. Он носил стоячий воротничок и начищенные до блеска ботинки даже когда работал за лабораторным столом. Эйб был меньше ростом, несколько сутулый и согбенный (в те годы, когда я его знал), смуглый и седоватый, как старый шикари, с хриплым голосом и хроническим кашлем; его мало заботило, во что он одет, и обычно он носил что-то вроде помятого лабораторного халата.
Формально они были связаны как содиректора компании Tungstalite, хотя Эйб оставил коммерческую часть Дэйву и все свое время посвящал исследованиям. Именно он разработал безопасный и эффективный способ “жемчужной” обработки электрических лампочек с помощью плавиковой кислоты в начале 1920-х годов – он спроектировал машины для этого на фабрике в Хокстоне. Он также работал над использованием “геттеров” в вакуумных трубках – высокореактивных, жадных до кислорода металлов, таких как цезий и барий, которые могли удалять последние следы воздуха из трубки – а ранее он запатентовал использование герцита, своего синтетического кристалла, для кристаллических радиоприемников.
Он разработал и запатентовал светящуюся краску, которая использовалась в военных прицелах во время Первой мировой войны (это могло быть решающим фактором, как он мне рассказывал, в Ютландском сражении). Его краски также использовались для подсветки циферблатов часов Ingersoll. У него, как и у дяди Дэйва, были большие, умелые руки, но если руки дяди Дэйва были испещрены вольфрамом, то руки дяди Эйба были покрыты радиевыми ожогами и злокачественными бородавками от долгого, небрежного обращения с радиоактивными материалами.
И дядя Дэйв, и дядя Эйб, как и их отец, очень интересовались светом и освещением; но Дэйва интересовал “горячий” свет, а Эйба – “холодный”. Дядя Дэйв познакомил меня с историей накаливания, редкоземельных элементов и металлических нитей, которые ярко светились и накалялись при нагревании. Он ввел меня в энергетику химических реакций – как тепло поглощалось или выделялось в ходе этих реакций; тепло, которое иногда становилось видимым в виде огня и пламени.
Через дядю Эйба я погрузился в историю “холодного” света – люминесценции – которая началась, возможно, еще до появления языка для записи явлений, с наблюдений за светлячками и фосфоресцирующими морями; за блуждающими огоньками, этими странными, блуждающими, слабыми шарами света, которые, согласно легендам, заманивали путников на погибель. И огни святого Эльма – жуткие светящиеся разряды, которые могли струиться с корабельных мачт в штормовую погоду, вызывая у моряков ощущение колдовства. Были также полярные сияния, северные и южные, с их занавесями цвета, мерцающими высоко в небе. Ощущение сверхъестественного, таинственного, казалось, присуще этим явлениям холодного света – в противоположность успокаивающей привычности огня и теплого света.
***
Существовал даже элемент, фосфор, который светился спонтанно. Фосфор странным образом, опасно притягивал меня из-за своей светимости – я иногда прокрадывался ночью в свою лабораторию, чтобы экспериментировать с ним. Как только я установил вытяжной шкаф, я поместил кусочек белого фосфора в воду и вскипятил его, притушив свет, чтобы видеть пар, выходящий из колбы, светящийся мягким зеленовато-голубым светом. Другим, довольно красивым экспериментом было кипячение фосфора с едким калием в реторте – я был удивительно беспечен в отношении кипячения таких ядовитых веществ – и это производило фосфористый водород (старый термин) или фосфин. Когда пузырьки фосфина выделялись, они самопроизвольно воспламенялись, образуя красивые кольца белого дыма.
Я мог поджечь фосфор в колоколе (используя увеличительное стекло), и колокол наполнялся “снегом” пентоксида фосфора. Если делать это над водой, пентоксид шипел, как раскаленное железо, при соприкосновении с водой и растворялся, образуя фосфорную кислоту. Или, нагревая белый фосфор, я мог превратить его в его аллотропную модификацию – красный фосфор, фосфор спичечных коробков.52 Еще ребенком я узнал, что алмаз и графит являются разными формами, аллотропами одного и того же элемента. Теперь в лаборатории я мог сам осуществлять некоторые из этих превращений, превращая белый фосфор в красный, а затем (путем конденсации его паров) обратно. Эти превращения заставляли меня чувствовать себя волшебником.53
Но особенно меня снова и снова притягивала именно светимость фосфора. Его легко можно было растворить в гвоздичном или коричном масле, или в спирте (как это делал Бойль) – это не только устраняло его чесночный запах, но и позволяло безопасно экспериментировать с его светимостью, поскольку такой раствор мог содержать всего одну часть фосфора на миллион, и все равно светиться. Можно было нанести немного этого раствора на лицо или руки, и они светились в темноте, как призрак. Это свечение не было равномерным, а казалось (как выразился Бойль) “сильно дрожащим, а иногда… вспыхивающим внезапными вспышками.”
***
Хенниг Брандт из Гамбурга был первым, кто получил этот удивительный элемент в 1669 году. Он дистиллировал его из мочи (видимо, имея в виду какие-то алхимические цели), и он обожал это странное, светящееся вещество, которое он выделил, и назвал его холодным огнем (kaltes Feuer), или, в более нежном настроении, mein Feuer (мой огонь).
Брандт довольно небрежно обращался со своим новым элементом и, видимо, был удивлен, обнаружив его смертоносные свойства, как он написал в письме Лейбницу 30 апреля 1679 года:
“Когда в эти дни у меня в руке был немного того самого огня, и я не сделал ничего более, как подул на него своим дыханием, огонь, видит Бог, сам воспламенился; кожа на моей руке была обожжена поистине до каменной твердости, так что мои дети плакали и говорили, что это ужасно видеть.”
Но хотя все ранние исследователи сильно обжигались фосфором, они также видели в нем магическое вещество, которое, казалось, несло в себе сияние светлячков, возможно, луны, свое собственное тайное, необъяснимое сияние. Лейбниц, переписываясь с Брандтом, задавался вопросом, нельзя ли использовать светящийся свет фосфора для освещения комнат ночью (это, как сказал мне Эйб, было, возможно, первым предложением использовать холодный свет для освещения).
Никто не был более заинтригован этим, чем Бойль, который сделал подробные наблюдения его люминесценции – как она тоже требовала присутствия воздуха, как странно она колебалась. Бойль уже провел обширные исследования “люциферных” явлений, от светлячков до светящейся древесины и испорченного мяса, и тщательно сравнивал такой “холодный” свет со светом тлеющих углей (для обоих, как он обнаружил, требовался воздух, чтобы поддерживать их).
Однажды Бойля вызвал из его спальни испуганный и изумленный слуга, сообщивший, что какое-то мясо ярко светится в темной кладовой. Бойль, очарованный этим, немедленно встал и начал исследование, которое завершилось его очаровательной статьей “Некоторые наблюдения о светящемся мясе, как телятине, так и курятине, причем без какого-либо заметного гниения в этих телах.” (Свечение, вероятно, было вызвано люминесцентными бактериями, но в времена Бойля такие организмы не были известны и даже не подозревались.)
***
Дядя Эйб тоже был очарован такой химической люминесценцией и много экспериментировал с ней в молодости, а также с люциферинами – светопроизводящими химическими веществами светящихся животных. Он размышлял, можно ли их использовать в практических целях, чтобы создать действительно яркую светящуюся краску. Химическая светимость действительно могла быть ослепительно яркой; единственная проблема заключалась в том, что она была по своей природе эфемерной, преходящей, исчезающей, как только реагенты расходовались – если только не могло быть (как у светлячков) постоянного производства люциферных химических веществ. Если химия не была ответом, тогда нужна была какая-то другая форма энергии, что-то, что могло бы превращаться в видимый свет.
Интерес Эйба к люминесценции был стимулирован в юности светящейся краской, использовавшейся в их старом доме на Леман-стрит – она называлась Светящейся Краской Бальмейна – для покраски замочных скважин, газовых и электрических приборов, всего, что нужно было найти в темноте. Эйбу казались удивительными эти светящиеся замочные скважины и выключатели, то, как они мягко светились часами после воздействия света. Этот вид фосфоресценции был открыт в семнадцатом веке сапожником из Болоньи, который собрал некоторые камешки, обжег их с древесным углем, а затем заметил, что они светятся в темноте часами после воздействия дневного света. Этот “болонский фосфор”, как его называли, был сульфидом бария, полученным восстановлением минерала барита. Сульфид кальция было легче получить – его можно было сделать путем нагревания устричных раковин с серой – и это, “легированное” различными металлами, было основой Светящейся Краски Бальмейна. (Эти металлы, рассказывал мне Эйб, добавленные в минутных количествах, “активировали” сульфид кальция и придавали ему различные цвета. Парадоксально, но абсолютно чистый сульфид кальция не светился.)
В то время как некоторые вещества медленно излучали свет в темноте после воздействия дневного света, другие светились только во время освещения. Это была флуоресценция (названная по минералу флюориту, который часто её проявлял). Эта странная светимость была впервые обнаружена ещё в шестнадцатом веке, когда обнаружили, что если направить наклонный луч света через настойки определенных пород дерева, на его пути может появиться мерцающий цвет – Ньютон приписывал это “внутреннему отражению”. Мой отец любил демонстрировать это с помощью хинной воды – тоника – которая показывала слабый голубой цвет при дневном свете и ярко-бирюзовый в ультрафиолетовом свете. Но независимо от того, было ли вещество флуоресцентным или фосфоресцентным (многие были и тем, и другим), для вызова люминесценции требовался синий или фиолетовый свет или дневной свет (который был богат светом всех длин волн) – красный свет был совершенно бесполезен. Действительно, самым эффективным освещением был невидимый – ультрафиолетовый свет, который лежал за фиолетовым концом спектра.
Мой первый опыт с флуоресценцией произошел с ультрафиолетовой лампой, которую мой отец держал в хирургическом кабинете – старой ртутной лампой с металлическим отражателем, которая излучала тусклый синевато-фиолетовый свет и невидимое сияние ультрафиолета. Она использовалась для диагностики некоторых кожных заболеваний (определенные грибки флуоресцировали в её свете) и для лечения других – хотя мои братья также использовали её для загара.
Эти невидимые ультрафиолетовые лучи были довольно опасны – можно было сильно обжечься при слишком долгом воздействии, и нужно было носить специальные очки, как у авиатора, полностью кожаные и шерстяные, с толстыми линзами из специального стекла, которое блокировало большую часть ультрафиолета (и большую часть видимого света тоже). Даже в очках нужно было избегать прямого взгляда на лампу, иначе появлялось странное, расфокусированное свечение из-за флуоресценции глазных яблок. Глядя на других людей в ультрафиолетовом свете, можно было видеть, как их зубы и глаза светились ярким белым светом.
Дом дяди Эйба, находившийся в нескольких минутах ходьбы от нашего, был волшебным местом, наполненным всевозможными приборами: трубками Гейслера, электромагнитами, электрическими машинами и моторами, батареями, динамо-машинами, катушками проводов, рентгеновскими трубками, счетчиками Гейгера и фосфоресцентными экранами, и разнообразными телескопами, многие из которых он построил своими руками. Он брал меня в свою чердачную лабораторию, особенно по выходным, и как только убедился, что я могу обращаться с приборами, он дал мне свободный доступ к своим фосфорам и флуоресцентным материалам, а также к маленькой ручной УФ-лампе Вуда, которую он использовал (с ней было гораздо легче работать, чем со старой ртутной УФ-лампой, которая была у нас дома).
У Эйба на чердаке были стеллажи с фосфорами, которые он смешивал как художник со своей палитрой – глубокий синий вольфрамата кальция, более бледный синий вольфрамата магния, красный соединений иттрия. Как и фосфоресценцию, флуоресценцию часто можно было вызвать “легированием”, добавлением различных активаторов, и это было одним из главных исследовательских интересов Эйба, поскольку флуоресцентные лампы только начинали входить в обиход, и требовались тонкие фосфоры для получения видимого света, мягкого, теплого и приятного для глаза.54 Эйба особенно привлекали очень чистые и нежные цвета, которые можно было получить, добавляя различные редкоземельные элементы в качестве активаторов – европий, эрбий, тербий. Их присутствие в определенных минералах, рассказывал он мне, даже в минутных количествах, придавало этим минералам их особую флуоресценцию.
Но были также вещества, которые флуоресцировали даже в абсолютно чистом виде, и здесь соли урана (или, точнее говоря, уранильные соли) были непревзойденными. Даже если растворить уранильные соли в воде, растворы были флуоресцентными – достаточно было одной части на миллион. Флуоресценцию также можно было передать стеклу, и урановое стекло или “канареечное стекло” было очень популярно в викторианских и эдвардианских домах (именно оно так завораживало меня в витраже нашей входной двери). Канареечное стекло пропускало желтый свет и обычно выглядело желтым на просвет, но флуоресцировало ярким изумрудно-зеленым цветом под воздействием более коротких волн дневного света, поэтому часто казалось мерцающим, переходящим между зеленым и желтым в зависимости от угла освещения. И хотя витраж в нашей входной двери был разбит взрывной волной во время Блица (его заменили неприятным пупырчатым белым стеклом), его цвета, возможно усиленные ностальгией, все еще оставались сверхъестественно яркими в моей памяти – особенно теперь, когда дядя Эйб объяснил мне его секрет.55
***
Хотя Эйб потратил много усилий на разработку светящихся красок, а позже на фосфоры для электронно-лучевых трубок, его главный интерес, как и у Дэйва, был сосредоточен на проблеме освещения. Надежда, которую он лелеял с самого начала, заключалась в том, что может быть возможно разработать форму холодного света, такого же эффективного, приятного и послушного, как горячий свет. Таким образом, в то время как мысли дяди Вольфрама были сосредоточены на накаливании, дяде Эйбу с самого начала было ясно, что действительно мощный холодный свет невозможно создать без электричества, и что электролюминесценция должна стать ключом. То, что разреженные газы и пары светятся при электрическом заряде, было известно еще с семнадцатого века, когда наблюдали, как ртуть в барометре могла наэлектризоваться от трения о стекло, и это создавало красивое голубоватое свечение в разреженных парах ртути в почти вакууме над ней.56
Используя мощные разряды от индукционных катушек, изобретенных в 1850-х годах, обнаружили, что длинный столб паров ртути можно заставить светиться (Александр-Эдмон Беккерель предложил ещё в начале, что покрытие разрядной трубки флуоресцентным веществом может сделать её более подходящей для освещения). Но когда ртутные лампы были введены для специальных целей в 1901 году, они были опасны и ненадежны, а их свет – при отсутствии флуоресцентного покрытия – был слишком синим для домашнего использования. Попытки покрыть такие трубки флуоресцентными порошками до Первой мировой войны потерпели неудачу из-за множества проблем. Тем временем испытывались другие газы и пары: углекислый газ давал белый свет, аргон – голубоватый свет, гелий – желтый свет, а неон, конечно, – малиновый свет. Неоновые трубки для рекламы стали обычным явлением в Лондоне к 1920-м годам, но только в конце 1930-х годов флуоресцентные трубки (использующие смесь паров ртути с инертным газом) начали становиться коммерчески возможными, в развитии чего Эйб сыграл значительную роль.
Дядя Дэйв, чтобы показать, что он не предвзят, установил флуоресцентное освещение на своей фабрике, и два брата, которые в молодости видели борьбу газа и электричества, иногда спорили о соответствующих достоинствах и недостатках ламп накаливания и флуоресцентных ламп. Эйб говорил, что лампы с нитью накала пойдут по пути газовых колпачков, Дэйв – что флуоресцентные лампы всегда будут громоздкими, никогда не сравнятся с удобством и дешевизной ламп накаливания. (Оба были бы удивлены, обнаружив пятьдесят лет спустя, что в то время как флуоресцентные лампы эволюционировали всевозможными способами, лампы накаливания оставались такими же популярными, как и прежде, и они сосуществовали в комфортных и братских отношениях.)
***
Чем больше дядя Эйб показывал мне, тем более таинственным становилось всё это. Я понимал определенные вещи о свете: что цвета – это то, как мы видим разные частоты или длины волн; и что цвет предметов происходит от того, как они поглощают или пропускают свет, препятствуя одним частотам и пропуская другие. Я понимал, что черные вещества поглощают весь свет, ничего не пропуская; и что с металлами и зеркалами было наоборот – волновой фронт световых частиц, как я себе представлял, ударялся о зеркало как резиновый мяч и отражался в своего рода мгновенном отскоке.
Но ни одно из этих представлений не помогало, когда дело доходило до явлений флуоресценции и фосфоресценции, потому что здесь можно было направить невидимый свет, “черный” свет, на что-то, и оно начинало светиться белым, или красным, или зеленым, или желтым, излучая свой собственный свет, частоту света, которой не было в освещающем источнике.
А затем возникал вопрос задержки. Действие света обычно казалось мгновенным. Но при фосфоресценции энергия солнечного света, по-видимому, захватывалась, сохранялась, преобразовывалась в энергию другой частоты, а затем медленно испускалась по капле в течение часов (подобные задержки, как рассказывал мне дядя Эйб, были и при флуоресценции, хотя они были намного короче, всего доли секунды). Как это было возможно?
19
Магистр гуманитарных наук
Одним летом после войны, в Борнмуте, мне удалось получить очень большого осьминога от рыбака, и я держал его в ванне в нашем гостиничном номере, которую наполнил морской водой. Я кормил его живыми крабами, которых он разрывал своим роговым клювом, и думаю, он довольно привязался ко мне. Он определенно узнавал меня, когда я заходил в ванную, и менял цвета, показывая свои эмоции. Хотя у нас дома были собаки и кошки, у меня никогда не было собственного животного. Теперь оно у меня было, и я считал своего осьминога таким же умным и ласковым, как любая собака. Я хотел привезти его обратно в Лондон, дать ему дом, огромный аквариум, украшенный морскими анемонами и водорослями, иметь его как своего собственного питомца.
Я много читал об аквариумах и искусственной морской воде – но, в итоге, решение было принято за меня, потому что однажды пришла горничная и, увидев осьминога в ванне, впала в истерику и дико тыкала в него длинной метлой. Осьминог, расстроенный, выпустил огромное облако чернил, и когда я вернулся немного позже, я нашел его мертвым, распластанным в собственных чернилах. Я с грустью препарировал его, когда вернулся в Лондон, чтобы узнать, что смогу, и хранил его разрозненные останки в формалине в своей спальне много лет.
***
Жизнь в медицинской семье, где я слышал, как родители и старшие братья обсуждали пациентов и медицинские состояния, одновременно завораживала и (иногда) вызывала отвращение. Но мой новый химический словарный запас позволял мне, в некотором смысле, с ними соперничать. Они могли говорить об эмпиеме (прекрасное, четкое, четырехсложное слово для отвратительного нагноения в грудной полости), но я мог превзойти их словом «эмпирема» – этим великолепным термином для обозначения запаха горящего органического вещества. Меня восхищал не только звук этих слов, но и их этимология – в школе я начал изучать греческий и латинский, и часами разбирался в происхождении и значении химических терминов, прослеживая извилистые и порой непрямые пути, которыми они пришли к своим современным значениям.
Оба моих родителя любили рассказывать медицинские истории — рассказы, которые могли начинаться с описания патологического состояния или операции и затем перерастать в целую биографию. Особенно моя мать любила такие рассказы — она делилась ими со своими студентами и коллегами, с гостями за ужином или с любым, кто оказался поблизости. Для неё медицинское всегда было неотделимо от человеческой жизни. Иногда я видел, как молочник или садовник стояли, словно зачарованные, слушая одну из её клинических историй.
В кабинете стоял большой книжный шкаф, полный медицинских книг, и я часто рылся в них наугад, находясь в состоянии смешанного восхищения и ужаса. К некоторым из них я возвращался снова и снова. Например, “Опухоли доброкачественные и злокачественные” Блэнд-Саттона, особенно запомнившаяся своими иллюстрациями: жуткими тератомами и опухолями, сиамскими близнецами, сросшимися в средней части тела; сиамскими близнецами с сросшимися лицами; двухголовыми телятами; младенцем с крошечной дополнительной головой рядом с ухом (головой, которая, как я прочитал, повторяла в миниатюре выражения основного лица); “трихобезоарами” – странными массами из волос и другого содержимого, проглоченными и застрявшими, иногда с фатальным исходом, в желудке; яичниковой кистой настолько огромной, что её пришлось перевозить на тележке; и, конечно, Человеком-слоном, о котором мне уже рассказывал отец (он был студентом Лондонской больницы не так уж много лет спустя после того, как там жил Джон Меррик).
Не менее ужасающим был “Атлас дермахромов”, демонстрировавший все отвратительные кожные заболевания, какие только существуют на свете. Но самой информативной и часто читаемой для меня была книга “Дифференциальная диагностика” Френча – особенно привлекали меня её крошечные линейные иллюстрации. Однако и здесь скрывались ужасы: самым пугающим для меня был раздел о прогерии, стремительно развивающейся старческой болезни, которая могла превратить десятилетнего ребёнка в хрупкое, лысое, с носом-клювом, скрипучее существо, выглядящее столь же древним, как высохшая, обезьяноподобная Гагул – трёхсотлетняя ведьма из “Копей царя Соломона”, или как безумные струдльбруги из Лаггнага.
Хотя с моим возвращением в Лондон и “ученичеством” (как я иногда это представлял) у дядей многие страхи из Брейфилда исчезли, словно дурной сон, они оставили после себя остаток страха и суеверия, ощущение, что какое-то особое несчастье может быть уготовано именно мне и может обрушиться в любой момент.
Особые опасности химии в какой-то степени, я подозреваю, намеренно искались мной как способ игры с такими страхами, убеждая себя, что с помощью осторожности и бдительности, благоразумия, предусмотрительности, можно научиться контролировать этот опасный мир или найти путь через него. И здесь, действительно, благодаря осторожности (и удаче), я никогда серьезно не травмировался и мог сохранять чувство мастерства и контроля. Но что касается жизни и здоровья в целом, на такую защиту рассчитывать не приходилось. Меня поражали разные формы тревоги и страха: я стал бояться лошадей (которых все еще использовал молочник для своей повозки), боялся, что они могут укусить меня своими большими зубами; боялся переходить дорогу, особенно после того, как нашу собаку Грету сбил мотоцикл; боялся других детей, которые (если ничего другого) могли посмеяться надо мной; боялся наступать на трещины между тротуарными плитками; и боялся, прежде всего, болезней и смерти.
Медицинские книги моих родителей питали эти страхи, подпитывали зарождающуюся склонность к ипохондрии. Примерно в двенадцать лет у меня развилось таинственное, хотя и не угрожающее жизни, кожное заболевание, которое вызывало выделение сыворотки за локтями и коленями, пятнало мою одежду и заставляло меня избегать появляться раздетым. Я со страхом задавался вопросом, не суждено ли мне получить одно из тех кожных заболеваний или чудовищных опухолей, о которых я читал – или прогерия была тем невыразимым уделом, который был предназначен для меня?
Я любил стол Моррисона, огромный железный стол, который стоял в комнате для завтрака и который был достаточно крепким, предположительно, чтобы выдержать весь вес дома, если бы нас бомбили. Было много рассказов о том, как такие столы спасали жизни людей, которые иначе были бы раздавлены или задохнулись под обломками своих собственных домов. Вся семья пряталась под столом во время воздушных налетов, и понятие этой защиты, этого укрытия, приобрело для меня почти человеческий характер. Стол защитит нас, присмотрит за нами, позаботится о нас.
Мне казалось, что там было очень уютно, почти как маленький домик внутри дома, и когда я вернулся из колледжа Святого Лаврентия в десятилетнем возрасте, я иногда заползал под него и сидел или лежал там тихо, даже когда не было воздушных налетов.
Мои родители понимали, что в это время я находился в хрупком состоянии, и они никак не комментировали, когда я уединялся и заползал под стол. Но однажды вечером, когда я вылез из-под стола, они с ужасом увидели лысый круг на моей голове – стригущий лишай был их мгновенным медицинским диагнозом. Моя мать внимательнее осмотрела меня и пошепталась с отцом. Они никогда не слышали, чтобы стригущий лишай появлялся так внезапно. Я ничего не признавал, пытался выглядеть невинным и спрятал бритву, бритву Маркуса, которую я брал с собой под стол. На следующий день они отвели меня к дерматологу, доктору Муэнде. Доктор Муэнде пронзительно взглянул на меня – я не сомневался, что он видел меня насквозь – взял образец волос с лысого места и положил под микроскоп для исследования. Через секунду он сказал: “Dermatitis artefacta”, что означало самостоятельно нанесенное повреждение, и когда он это сказал, я покраснел до корней волос. После этого не было никакого обсуждения того, почему я побрил голову или солгал.
***
Моя мать была очень застенчивой женщиной, которая с трудом переносила социальные мероприятия и замыкалась в молчании или погружалась в собственные мысли, когда её вынуждали в них участвовать. Но была и другая сторона её характера, и она могла стать открытой, жизнерадостной, актрисой, исполнительницей, когда чувствовала себя непринужденно со своими студентами. Много лет спустя, когда я принес свою первую книгу редактору в издательство Faber’s, она сказала: “Знаете, мы встречались раньше.”
“Не думаю, что помню”, - сказал я смущенно. “Я никогда не могу узнавать лица.”
“Вы и не можете помнить”, - ответила она. “Это было много лет назад, когда я была студенткой вашей матери. В тот день она читала лекцию о грудном вскармливании, и через несколько минут вдруг прервалась, сказав: ‘Нет ничего слишком сложного или смущающего в грудном вскармливании.’ Она наклонилась и достала маленького младенца, который спал, спрятанный за её столом, и, развернув ребенка, покормила его грудью перед классом. Это было в сентябре 1933 года, и вы были тем младенцем.”
У меня тоже есть материнская застенчивость, её страх перед социальными мероприятиями, а также её экстравагантность, её жизнерадостность перед аудиторией, в равной мере.
В ней был еще один уровень, более глубокий, сфера полного погружения в свою работу. Её концентрация во время операций была абсолютной (хотя она могла иногда нарушить почти религиозную тишину, рассказав шутку или поделившись рецептом с одним из своих ассистентов). У неё было острое чувство структуры, понимание того, как устроены вещи – будь то человеческие тела, растения, научные инструменты или машины. У неё все еще был микроскоп, старый Цейс, который был у неё еще со студенческих лет, и она содержала его отполированным, смазанным и в идеальном состоянии. Она по-прежнему с удовольствием делала срезы образцов, затвердевала их, фиксировала, окрашивала различными красителями – весь сложный набор методов, используемых для того, чтобы сделать срезы тканей стабильными и хорошо видимыми. Она познакомила меня с некоторыми чудесами гистологии с помощью этих препаратов, и я научился распознавать – в ярких окрасках гематоксилина и эозина, или затемненных осмием – различные клетки, как здоровые, так и злокачественные. Я мог оценить абстрактную красоту этих препаратов, не слишком беспокоясь о болезни или операции, которые привели к их появлению. Я также любил ароматные смолы и жидкости, используемые для их изготовления; запахи гвоздичного масла, кедрового масла, канадского бальзама, ксилола до сих пор ассоциируются в моей памяти с образом матери, сосредоточенно склонившейся над своим микроскопом, полностью поглощенной работой.
Хотя оба моих родителя были очень чувствительны к страданиям своих пациентов – порой даже больше, как мне казалось, чем к страданиям своих детей – их ориентации, их перспективы были принципиально различны. Мой отец все свои тихие часы проводил с книгами, в библиотеке, окруженный библейскими комментариями или иногда своими любимыми поэтами Первой мировой войны. Человеческие существа, человеческое поведение, человеческие мифы и общества, человеческий язык и религии занимали все его внимание – у него было мало интереса к нечеловеческому, к “природе”, в отличие от моей матери. Я думаю, отца привлекала медицина потому, что её практика была центральной в человеческом обществе, и он видел себя в основном в социальной и ритуальной роли. Я думаю, мать же была привлечена к медицине потому, что для неё это было частью естественной истории и биологии. Она не могла смотреть на человеческую анатомию или физиологию, не думая о параллелях и предшественниках у других приматов, других позвоночных. Это не умаляло её заботу и чувства к отдельному человеку – но всегда помещало их в более широкий контекст биологии и науки в целом.
Её любовь к структуре распространялась во всех направлениях. Наши старые дедовские часы с их сложными циферблатами и внутренним механизмом были очень хрупкими и требовали постоянного ухода. Моя мать полностью взяла это на себя, став в процессе своего рода часовщиком. То же самое было и с другими вещами в доме, даже с водопроводом. Не было ничего, что она любила больше, чем чинить протекающий кран или туалет, и услуги сторонних сантехников обычно не требовались.
Но её лучшие часы, самые счастливые часы проходили в саду, и здесь её чувство структуры и функции, её эстетическое чувство и её нежность соединялись вместе – растения, в конце концов, были живыми существами, гораздо более удивительными, но также и более нуждающимися, чем часы или цистерны. Когда годы спустя я столкнулся с фразой “чувство организма” – часто используемой генетиком Барбарой Макклинток – я понял, что это точно определяло мою мать, и что это чувство организма лежало в основе всего: от её “зеленых пальцев” в саду до тонкости и успеха её операций.
Моя мать любила сад, большие платаны, которые окаймляли Эксетер-роуд, сирень, которая наполняла его своим ароматом в мае, и вьющиеся розы, которые оплетали его кирпичные стены. Она занималась садоводством, когда только могла, и была особенно привязана к фруктовым деревьям, которые посадила – айве, груше, двум диким яблоням и ореху. Она особенно любила папоротники, и “цветочные” клумбы были почти полностью заполнены ими.
Оранжерея на дальнем конце гостиной была одним из моих любимых мест, местом, где до войны моя мать держала свои самые нежные растения. Каким-то образом она избежала разрушения во время войны, и когда расцвели мои собственные ботанические интересы, я разделил её с матерью. У меня остались нежные воспоминания о древовидном папоротнике, шерстистом циботиуме, который я пытался вырастить там в 1946 году, и цикаде, замии с жесткими картонными листьями.
***
Однажды, когда моему племяннику Джонатану было несколько месяцев, я взял пакет рентгеновских снимков с пометкой “Дж. Сакс”, который оставили в гостиной. Я начал просматривать их с любопытством, затем с недоумением, а потом с ужасом – ведь Джонатан был симпатичным маленьким малышом, и никто бы не догадался без рентгеновских снимков, что он ужасно деформирован. Его таз, его маленькие ножки – они едва ли выглядели человеческими.
Я пошел к матери со снимками, качая головой. “Бедный Джонатан…” – начал я.
Мать выглядела озадаченной. “Джонатан?” – сказала она. “С Джонатаном все в порядке.”
“Но рентгеновские снимки”, – сказал я, – “Я смотрел его рентгеновские снимки.”
Мать выглядела непонимающей, потом разразилась хохотом и смеялась, пока слезы не потекли по её лицу. “Дж” не означало Джонатан, наконец сказала она, а относилось к другому члену семьи, Иезавели. У Иезавели, нашего нового боксера, была кровь в моче, и мать отвезла её в больницу на рентген почек. То, что я принял за гротескно деформированную человеческую анатомию, на самом деле было совершенно нормальной собачьей анатомией. Как я мог сделать такую нелепую ошибку? Малейшие знания, малейший здравый смысл прояснили бы мне все – моя мать, профессор анатомии, недоверчиво покачала головой.
***
Практика моей матери, где-то в 1930-х годах, сместилась от общей хирургии к гинекологии и акушерству. Больше всего она любила сложные роды — выход руки или ягодичное предлежание, — которые удавалось успешно провести. Но иногда она приносила в дом уродливых мёртвых плодов — анэнцефалических с выпученными глазами на верхушке их безмозглых, сплющенных голов, или с расщеплением позвоночника (spina bifida), когда весь спинной мозг и ствол мозга были открыты. Некоторые из них были мертворождёнными, других она и акушерка тихо топили сразу после рождения («как котёнка», однажды сказала она), полагая, что, если они выживут, то не смогут обрести никакой осознанной или умственной жизни.
Стремясь, чтобы я изучал анатомию и медицину, она препарировала несколько таких плодов для меня, а затем настояла, хотя мне было всего одиннадцать лет, чтобы я сам их препарировал. Я думаю, она никогда не осознавала, насколько это меня травмировало, и, вероятно, предполагала, что я был так же увлечён этим, как и она. Хотя препарировать земляных червей, лягушек или своего осьминога я начал совершенно естественно, сам по себе, препарирование этих человеческих плодов вызывало у меня отвращение.
Моя мать часто рассказывала мне, как она беспокоилась о росте моего черепа, когда я был младенцем, опасаясь, что роднички закроются слишком рано и я, как следствие, стану микроцефальным идиотом. Таким образом, в этих плодах я видел (в своём воображении) то, кем и сам мог бы стать, и это мешало мне отстраниться, усиливая мой ужас.
Хотя с самого моего рождения было почти решено, что я стану врачом (и, как особенно надеялась моя мать, хирургом), эти преждевременные опыты отвратили меня от медицины. Они заставили меня мечтать об уходе в мир растений, у которых нет чувств, и особенно в мир кристаллов, минералов и элементов — они существовали в своём собственном бессмертном царстве, где болезни, страдания и патология не имели власти.
Когда мне было четырнадцать лет, моя мать договорилась с коллегой, профессором анатомии в больнице Royal Free Hospital, чтобы меня ввели в основы человеческой анатомии. Профессор Г. любезно согласилась и отвела меня в диссекционный зал. Там, на длинных козлах, лежали тела, обёрнутые в жёлтую прорезиненную ткань (чтобы открытые ткани не высыхали, когда их не препарировали). Это был мой первый опыт общения с мёртвым телом, и тела показались мне странно усохшими и маленькими. В воздухе стоял ужасный запах разложившихся тканей и консервантов, и я чуть не упал в обморок, когда вошёл внутрь: у меня потемнело в глазах, и меня внезапно охватила тошнота.
Профессор Г. сказала, что выбрала для меня тело — тело четырнадцатилетней девочки. Некоторая часть девочки уже была препарирована, но осталась хорошая, нетронутая нога, с которой я мог начать. Мне хотелось спросить, кто была эта девочка, от чего она умерла, что привело её в такое состояние, — но профессор Г. предпочитала не раскрывать никакой информации, и в каком-то смысле я был этому рад, потому что боялся узнать. Я должен был воспринимать это как просто труп, безымянную вещь из нервов, мышц, тканей и органов, которую нужно препарировать, как препарируют червя или лягушку, чтобы понять, как устроен органический механизм.
На голове стола лежало руководство по анатомии, Cunningham’s Manual; это был экземпляр, который использовали медицинские студенты, когда препарировали тела, и его страницы были пожелтевшими и пропитаны человеческим жиром.
Моя мать купила мне руководство по анатомии Cunningham за неделю до этого, так что я имел некоторую теоретическую подготовку, но это никак не подготовило меня к реальному опыту, эмоциональному переживанию препарирования моего первого тела. Профессор Г. начала с того, что сделала широкий первый разрез вдоль бедра, разделила жировую ткань и обнажила фасцию под ней. Она дала мне несколько советов, а затем вложила скальпель в мою руку – она вернётся через полчаса, сказала она, чтобы посмотреть, как у меня дела.
Мне понадобился месяц, чтобы препарировать ногу; самым сложным оказались ступня с её мелкими мышцами и тонкими сухожилиями, а также коленный сустав со всей его сложностью. Иногда я мог почувствовать, насколько всё было прекрасно устроено, мог испытать интеллектуальное и эстетическое удовольствие, подобное тому, что моя мать испытывала от хирургии и анатомии. Её собственным профессором в студенческие годы был знаменитый сравнительный анатом Фредерик Вуд-Джонс. Она обожала его книги – Arboreal Man (Древесный человек), The Hand (Рука) и The Foot (Ступня) – и бережно хранила экземпляры с его автографами. Она была поражена, когда я сказал, что не могу «понять» ступню. «Но это же арка», – сказала она и начала рисовать ступни – чертежи, которые мог бы сделать инженер, с разных ракурсов, чтобы показать, как ступня сочетает стабильность с гибкостью, насколько прекрасно она была спроектирована или эволюционировала для ходьбы (хотя при этом сохраняя очевидные следы своей изначальной хватательной функции).
Мне не хватало материных способностей к визуализации, её сильного механического и инженерного мышления, но я наслаждался, когда она рассказывала о ступне и быстро рисовала подряд ступни ящериц и птиц, копыта лошадей, лапы львов и серию ступней приматов. Однако это удовольствие от понимания и восхищения анатомией почти полностью терялось в ужасе от препарирования, и чувство, связанное с диссекционным залом, проникало в жизнь за его пределами. Я не знал, смогу ли когда-нибудь любить тёплые, живые тела после того, как столкнулся, ощущал запах, резал тело девушки моего возраста, пропитанное формалином.
20
Проникающие лучи
Именно на чердаке у Эйба я впервые познакомился с катодными лучами. У него был высокоэффективный вакуумный насос и индукционная катушка – цилиндр длиной в два фута, обмотанный милями и милями плотно намотанной медной проволоки и установленный на махагониевом основании. Над катушкой располагались два больших подвижных латунных электрода, и когда катушка включалась, между ними проскакивала внушительная искра, миниатюрная молния, словно из лаборатории доктора Франкенштейна. Дядя показал мне, как он мог раздвигать электроды, пока они не оказывались слишком далеко друг от друга для искрового разряда, а затем подключать их к метровой вакуумной трубке. Когда он понижал давление в электрифицированной трубке, внутри неё появлялась серия необычайных явлений: сначала мерцающий свет с красными струями, похожими на миниатюрное северное сияние, затем яркий столб света, заполняющий всю трубку. При дальнейшем понижении давления столб разбивался на световые диски, разделенные тёмными промежутками. Наконец, при одной десятитысячной атмосферы, внутри трубки снова всё становилось тёмным, но конец трубки начинал светиться ярким флуоресцентным светом. Трубка теперь была заполнена, как говорил дядя, катодными лучами – маленькими частицами, вылетающими из катода со скоростью одной десятой скорости света, настолько энергичными, что если их сфокусировать с помощью катода в форме блюдца, они могли раскалить платиновую фольгу докрасна. Я немного боялся этих катодных лучей (как в детстве боялся ультрафиолетовых лучей в операционной), поскольку они были одновременно мощными и невидимыми, и я задавался вопросом, не могут ли они просочиться из трубки и незаметно устремиться к нам на затемнённом чердаке.
Дядя Эйб заверил меня, что катодные лучи могли проходить только два-три дюйма в обычном воздухе – но существовал другой вид лучей, гораздо более проникающих, которые Вильгельм Рентген открыл в 1895 году во время экспериментов с такой же катодно-лучевой трубкой. Рентген покрыл трубку цилиндром из чёрного картона, чтобы предотвратить утечку катодных лучей, и был поражён, заметив, что экран, покрытый флуоресцентным веществом, ярко освещался при каждом разряде трубки, хотя находился на другом конце комнаты.
Рентген немедленно решил отложить все свои другие исследовательские проекты, чтобы изучить это совершенно неожиданное и почти невероятное явление, повторяя эксперимент снова и снова, чтобы убедиться в подлинности эффекта. (Он сказал своей жене, что если бы он заговорил об этом без самых убедительных доказательств, люди бы сказали: “Рентген сошёл с ума”.) В течение следующих шести недель он исследовал свойства этих необычайно проникающих новых лучей и обнаружил, что, в отличие от видимого света, они, по-видимому, не преломлялись и не дифрагировали. Он проверил их способность проходить через всевозможные твёрдые тела и обнаружил, что они могли в той или иной степени проходить через большинство обычных материалов и всё ещё активировать флуоресцентный экран. Когда Рентген поместил свою руку перед флуоресцирующим экраном, он был поражён, увидев призрачный силуэт её костей. Аналогично, металлические гири стали видны сквозь их деревянную коробку – дерево и плоть были более прозрачны для лучей, чем металл или кость. Он также обнаружил, что лучи воздействуют на фотопластинки, так что в своей первой статье он смог опубликовать фотографии, сделанные с помощью рентгеновских лучей, как он их назвал – включая рентгеновский снимок руки своей жены, где её обручальное кольцо окружало скелетный палец.
1 января 1896 года Рентген опубликовал свои находки и первые рентгенограммы в небольшом академическом журнале. В течение нескольких дней основные мировые газеты подхватили эту историю. Сенсационное влияние его открытия ужаснуло скромного Рентгена, и после своей первоначальной статьи и устного доклада в том же месяце он больше никогда не обсуждал рентгеновские лучи, а вернулся к тихой работе над разнообразными научными интересами, которые занимали его в годы до 1896 года. (Даже когда ему присудили первую Нобелевскую премию по физике в 1901 году за открытие рентгеновских лучей, он отказался произносить нобелевскую речь.)
Но полезность этой новой технологии была очевидна, и рентгеновские установки быстро появились по всему миру для медицинского использования – для обнаружения переломов, инородных тел, желчных камней и т.д. К концу 1896 года появилось более тысячи научных статей о рентгеновских лучах. Реакция на лучи Рентгена, действительно, была не только медицинской и научной, но и захватила общественное воображение различными способами. За доллар или два можно было купить рентгеновскую фотографию девятинедельного младенца, “показывающую с прекрасными деталями кости скелета, стадию окостенения, расположение печени, желудка, сердца и т.д.”
Считалось, что рентгеновские лучи могут обладать способностью проникать в самые интимные, скрытые, тайные части жизни людей. Шизофреники чувствовали, что их мысли можно прочитать или повлиять на них с помощью рентгеновских лучей; другие чувствовали, что ничто не в безопасности. “Вы можете видеть кости других людей невооруженным глазом”, - гремела одна редакционная статья, “и также через восемь дюймов цельного дерева. О возмутительной непристойности этого нет нужды распространяться”. В продажу поступило нижнее белье с свинцовой подкладкой, чтобы защитить интимные места людей от всевидящих лучей. В журнале “Фотография” появилось шутливое стихотворение, заканчивающееся словами:
“Я слышал, они будут глазеть
сквозь плащ и платье – и даже корсет,
эти непослушные, непослушные лучи Рентгена.”
Мой дядя Ицхак, после совместной практики с моим отцом во время месяцев великой эпидемии гриппа, увлёкся радиологией вскоре после Первой мировой войны. Как рассказывал мне отец, он развил в себе удивительные способности в рентгеновской диагностике, умея почти бессознательно улавливать малейшие признаки любого патологического процесса.
В его консультационных кабинетах, которые я посещал несколько раз, дядя Ицхак показал мне кое-что из своей аппаратуры и её применения. Рентгеновская трубка в его аппарате уже не была видна, как в ранних машинах, а была заключена в чёрный металлический короб с клювом и горбом – она выглядела довольно опасно и хищно, как голова гигантской птицы. Дядя Ицхак провёл меня в тёмную комнату, чтобы показать, как он проявляет только что сделанный рентгеновский снимок. В тусклом красном свете я увидел полупрозрачные, красивые очертания бедренной кости на большой плёнке. Дядя указал мне на крошечный волосяной перелом, едва заметный как серая линия.
“Ты видел рентгеновское просвечивание”, - сказал дядя Ицхак, - “в обувных магазинах, где показывают, как движутся кости сквозь плоть.57 [57] Мы также можем использовать специальные контрастные вещества, чтобы увидеть некоторые другие ткани в теле – это чудесно!”
Дядя Ицхак спросил, не хочу ли я посмотреть на это. “Помнишь мистера Шпигельмана, механика? Твой отец подозревает у него язву желудка и направил его ко мне, чтобы выяснить. Ему предстоит ‘обед’ с барием.”
«Мы используем сульфат бария, – продолжил дядя, размешивая густую белую пасту, – потому что ионы бария тяжёлые и почти непрозрачные для рентгеновских лучей». Этот комментарий заинтриговал меня и заставил задуматься, почему нельзя использовать ещё более тяжёлые ионы. Возможно, можно было бы попробовать «обед» из свинца, ртути или таллия – у всех этих элементов ионы исключительно тяжёлые, хотя, конечно, такие «обеды» были бы смертельно опасны. «Обед» из золота или платины был бы интересным, но слишком дорогим. «А как насчёт вольфрамового обеда?» – предложил я. «Атомы вольфрама тяжелее бария, а сам вольфрам нетоксичен и недорог».
Мы вошли в смотровую комнату, и дядя представил меня мистеру Шпигельману – он вспомнил меня с одного из наших воскресных обходов. «Это младший доктор Сакс, Оливер – он хочет стать учёным!» Дядя поставил мистера Шпигельмана между рентгеновским аппаратом и флуоресцентным экраном и дал ему «бариевый обед». Мистер Шпигельман взял ложку пасты, поморщился и начал её проглатывать, а мы наблюдали за этим на экране. Когда барий проходил через горло и попадал в пищевод, я видел, как он заполняет и медленно извивается, продвигая этот комок в желудок. Я мог видеть, хоть и слабее, призрачный фон – лёгкие, которые расширялись и сжимались с каждым вдохом. Но самое тревожное – я видел некий мешочек, который пульсировал. «Это, – сказал дядя, указывая, – сердце».
Я иногда задумывался о том, каково было бы иметь другие органы чувств. Моя мать рассказывала мне, что летучие мыши используют ультразвук, насекомые видят ультрафиолет, а гремучие змеи могут чувствовать инфракрасное излучение. Но теперь, наблюдая за внутренностями мистера Шпигельмана, открытыми рентгеновскому “глазу”, я был рад, что у меня самого нет рентгеновского зрения, и что природа ограничила меня небольшой частью спектра.
Как и дядя Дэйв, дядя Ицхак сохранял сильный интерес к теоретическим основам своего предмета и его историческому развитию, и у него тоже был небольшой “музей”, в данном случае старых рентгеновских и катодно-лучевых трубок, включая хрупкие трёхконтактные, которые использовались в 1890-х годах. Ранние трубки, говорил Ицхак, не обеспечивали защиты от рассеянной радиации, да и опасности излучения в первые дни не были полностью осознаны. И всё же, добавлял он, рентгеновские лучи показали свою опасность с самого начала: ожоги кожи наблюдались уже через несколько месяцев после их внедрения, и сам лорд Листер, первооткрыватель антисептики, выпустил предупреждение ещё в 1896 году – но это было предупреждение, которому никто не внял.58
Также с самого начала было очевидно, что рентгеновские лучи несли значительную энергию и генерировали тепло везде, где они поглощались. Тем не менее, несмотря на свою проникающую способность, рентгеновские лучи не имели слишком большого радиуса действия в воздухе. Обратное было верно для беспроводных волн, радиоволн, которые при правильном направлении могли перепрыгнуть через Ла-Манш со скоростью света. Они тоже несли энергию. Я задумался, не подсказали ли эти странные, порой опасные родственники видимого света Г.Дж. Уэллсу идею зловещего теплового луча, используемого марсианами в “Войне миров”, опубликованной всего через два года после открытия Рентгена. Марсианский тепловой луч, писал Уэллс, был “призраком светового луча”, “невидимым, но интенсивно нагретым пальцем”, “невидимым, неотвратимым мечом тепла”. Направляемый параболическим зеркалом, он размягчал железо, плавил стекло, заставлял свинец течь как воду, заставлял воду мгновенно взрываться паром. И его прохождение по местности, добавлял Уэллс, было “столь же быстрым, как прохождение света”.
В то время как рентгеновские лучи получили развитие, порождая бесчисленные практические применения и, возможно, равное количество фантазий, они вызвали совершенно иной ход мыслей у Анри Беккереля. Беккерель уже был известен во многих областях оптических исследований и происходил из семьи, где страстный интерес к люминесценции был центральным на протяжении шестидесяти лет.59 Он заинтересовался, когда в начале 1896 года услышал первые новости о рентгеновских лучах и о том факте, что они, казалось, исходили не от самого катода, а от флуоресцентного пятна, где катодные лучи попадали в конец вакуумной трубки. Он задался вопросом, не могли ли невидимые рентгеновские лучи быть особой формой энергии, сопровождающей видимую фосфоресценцию – и не могла ли вообще вся фосфоресценция сопровождаться излучением рентгеновских лучей.
Поскольку никакие вещества не флуоресцировали ярче, чем соли урана, Беккерель достал образец урановой соли, уранилсульфата калия, выставил его на солнце на несколько часов, а затем положил на фотопластинку, завёрнутую в чёрную бумагу. Он был очень взволнован, обнаружив, что пластинка почернела от урановой соли даже через бумагу, точно так же, как при воздействии рентгеновских лучей, и что “радиограмму” монеты можно было легко получить.
Беккерель хотел повторить свой эксперимент, но (это была середина парижской зимы, и небо оставалось пасмурным) он не смог выставить урановую соль на солнце, поэтому она пролежала нетронутой в ящике неделю, поверх фотопластинки, завёрнутой в чёрную бумагу, с маленьким медным крестом между ними. Но затем, по какой-то причине – был ли это случай или предчувствие? – он всё равно проявил фотопластинку. Она оказалась затемнённой так же сильно, как если бы уран подвергался воздействию солнечного света, даже сильнее, и показала чёткий силуэт медного креста.
Беккерель открыл новую и гораздо более загадочную силу, чем лучи Рентгена – способность урановой соли излучать проникающую радиацию, которая могла засвечивать фотопластинку, причём это никак не было связано с воздействием света, рентгеновских лучей или, казалось бы, любого другого внешнего источника энергии. Беккерель, как позже писал его сын, был “ошеломлён” этим открытием (“Henri Becquerel fut stupefait”) – как и Рентген своими рентгеновскими лучами – но затем, как и Рентген, он исследовал “невозможное”. Он обнаружил, что лучи сохраняли всю свою силу, даже если урановая соль хранилась два месяца в ящике; и что они обладали способностью не только затемнять фотопластинки, но также ионизировать воздух, делая его проводящим, так что электрически заряженные тела поблизости теряли свой заряд. Это действительно обеспечило очень чувствительный способ измерения интенсивности лучей Беккереля с помощью электроскопа.
Исследуя другие вещества, он обнаружил, что этой способностью обладали не только урановые соли, но и закисные соединения урана, хотя они не были фосфоресцирующими или флуоресцирующими. С другой стороны, сульфид бария, сульфид цинка и некоторые другие флуоресцентные или фосфоресцентные вещества такой способностью не обладали. Таким образом, “урановые лучи”, как теперь называл их Беккерель, не имели ничего общего с флуоресценцией или фосфоресценцией как таковой – но имели всё общее с элементом ураном. Они обладали, как и рентгеновские лучи, значительной способностью проникать через непрозрачные для света материалы, но в отличие от рентгеновских лучей, они, по-видимому, испускались спонтанно. Что это было? И как уран мог продолжать излучать их, без видимого ослабления, в течение месяцев?
Дядя Эйб поощрил меня повторить открытие Беккереля в моей собственной лаборатории, дав мне кусок урановой смолки, богатой оксидом урана. Я принёс домой этот тяжёлый кусок, завёрнутый в свинцовую фольгу, в своём школьном портфеле. Урановая смолка была аккуратно разрезана посередине, чтобы показать её структуру, и я положил срезанную поверхность плоской стороной на плёнку – я выпросил лист специальной рентгеновской плёнки у дяди Ицхака и хранил её завёрнутой в тёмную бумагу. Я оставил урановую смолку лежать на закрытой плёнке на три дня, затем отнёс её к нему для проявки. Я был безумно взволнован, когда дядя Ицхак проявил её при мне, потому что теперь можно было увидеть свечение радиоактивности в минерале – излучение и энергию, о существовании которых без плёнки никогда бы не догадались.
Я был вдвойне взволнован этим, потому что фотография становилась моим хобби, и теперь у меня был первый снимок, сделанный невидимыми лучами! Я читал, что торий тоже радиоактивен, и, зная, что газовые мантии содержат его, я отделил дома одну из хрупких, пропитанных торием мантий от её основания и осторожно расстелил её на другом куске рентгеновской плёнки. На этот раз мне пришлось ждать дольше, но через две недели я получил прекрасную “авторадиографию” – тонкая текстура мантии была прорисована ториевыми лучами.
Хотя уран был известен с 1780-х годов, потребовалось более века, прежде чем была открыта его радиоактивность. Радиоактивность могла быть открыта, возможно, ещё в восемнадцатом веке, если бы кто-нибудь случайно поместил кусок урановой смолки рядом с заряженной лейденской банкой или электроскопом. Или она могла быть открыта в середине девятнадцатого века, если бы кусок урановой смолки или какой-либо другой урановой руды или соли случайно оказался вблизи фотопластинки. (Это на самом деле произошло с одним химиком, который, не понимая, что случилось, отправил пластинки обратно производителю с возмущённой запиской, говоря, что они “испорчены”.) Однако если бы радиоактивность была открыта раньше, она рассматривалась бы просто как любопытное явление, причуда, игра природы, а её огромное значение осталось бы полностью незамеченным. Её открытие было бы преждевременным в том смысле, что не существовало бы связующей сети знаний, контекста, который придал бы ей смысл. Действительно, когда радиоактивность была наконец открыта в 1896 году, сначала практически не было никакой реакции, поскольку даже тогда её значение едва могло быть осознано. Таким образом, в отличие от открытия Рентгеном рентгеновских лучей, которое мгновенно захватило внимание общественности, открытие Беккерелем урановых лучей было практически проигнорировано.
21
Элемент мадам Кюри
Моя мать работала во многих больницах, включая больницу Марии Кюри в Хэмпстеде, специализировавшуюся на радиевой терапии и радиотерапии. В детстве я не очень понимал, что такое радий, но знал, что он обладает целебными свойствами и может использоваться для лечения различных заболеваний. Мама говорила, что в больнице была радиевая “бомба”. Я видел изображения бомб и читал о них в моей детской энциклопедии, и представлял эту радиевую бомбу как нечто большое и крылатое, что могло взорваться в любой момент. Менее пугающими были радоновые “зёрна”, которые имплантировали пациентам – маленькие золотые иглы, наполненные таинственным газом – и пару раз она приносила домой использованные. Я знал, что моя мать очень восхищалась Марией Кюри – она однажды встречалась с ней и рассказывала мне, даже когда я был совсем маленьким, как супруги Кюри открыли радий, и как это было сложно, потому что им пришлось переработать тонны и тонны тяжёлой минеральной руды, чтобы получить мельчайшую крупицу радия.
Биография Марии Кюри, написанная её дочерью Евой, – которую моя мать подарила мне, когда мне было десять лет – была первым жизнеописанием учёного, которое я прочитал, и оно произвело на меня глубокое впечатление.60 Это было не сухое перечисление жизненных достижений, а книга, полная выразительных, трогательных образов – Мария Кюри, погружающая руки в мешки с остатками урановой смолки, всё ещё смешанными с сосновыми иглами из Иоахимстальской шахты; вдыхающая кислотные пары, стоя среди огромных дымящихся чанов и тиглей, помешивая их железным прутом почти с неё ростом; превращающая огромные смолистые массы в высокие сосуды с бесцветными растворами, становившимися всё более радиоактивными, и постепенно концентрирующая их в своём продуваемом сарае, где пыль и песок постоянно попадали в растворы и сводили на нет бесконечную работу. (Эти образы были подкреплены фильмом “Мадам Кюри”, который я посмотрел вскоре после прочтения книги.)
Несмотря на то, что остальное научное сообщество проигнорировало новость о лучах Беккереля, супруги Кюри были воодушевлены этим: это было явление без прецедента или аналогов, открытие нового, таинственного источника энергии; и никто, по-видимому, не обращал на него внимания. Они сразу же задались вопросом, существуют ли какие-либо вещества, помимо урана, излучающие подобные лучи, и начали систематический поиск (не ограничиваясь, как Беккерель, только флуоресцентными веществами) всего, что могли найти, включая образцы практически всех семидесяти известных элементов в той или иной форме. Они обнаружили только одно вещество, помимо урана, которое излучало лучи Беккереля – другой элемент с очень высоким атомным весом – торий. Тестируя различные чистые соли урана и тория, они обнаружили, что интенсивность радиоактивности, казалось, была связана только с количеством присутствующего урана или тория; таким образом, один грамм металлического урана или тория был более радиоактивным, чем один грамм любого из их соединений.
Но когда они расширили свое исследование на некоторые распространенные минералы, содержащие уран и торий, они обнаружили любопытную аномалию: некоторые из них были фактически более активными, чем сам элемент. Образцы урановой смолки, например, могли быть до четырех раз более радиоактивными, чем чистый уран. Могло ли это означать, предположили они в минуту озарения, что присутствует еще один, пока неизвестный элемент в небольших количествах, который был гораздо более радиоактивным, чем сам уран?
В 1897 году супруги Кюри приступили к сложному химическому анализу урановой смолки, разделяя многочисленные содержащиеся в ней элементы на аналитические группы: соли щелочных металлов, щелочноземельных элементов, редкоземельных элементов – группы, в основном схожие с теми, что в периодической таблице – чтобы увидеть, имеет ли неизвестный радиоактивный элемент химическое сродство с какими-либо из них. Вскоре стало ясно, что значительную часть радиоактивности можно было сконцентрировать путём осаждения с висмутом.
Они продолжали перерабатывать остатки урановой смолки, и в июле 1898 года им удалось получить висмутовый экстракт в четыреста раз более радиоактивный, чем сам уран. Зная, что спектроскопия может быть в тысячи раз чувствительнее традиционного химического анализа, они обратились к выдающемуся спектроскописту по редкоземельным элементам Эжену Демарсе, чтобы получить спектроскопическое подтверждение существования их нового элемента. К разочарованию, на этом этапе не удалось получить новую спектральную подпись; но, тем не менее, супруги Кюри написали:
“…мы полагаем, что вещество, которое мы извлекли из урановой смолки, содержит ещё не обнаруженный металл, родственный висмуту по своим аналитическим свойствам. Если существование этого нового металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием, по названию родной страны одного из нас”.
Более того, они были убеждены, что должен существовать ещё один радиоактивный элемент, ожидающий открытия, поскольку висмутовое извлечение полония объясняло лишь часть радиоактивности урановой смолки.
Они не торопились – в конце концов, казалось, что никто больше даже не интересовался явлением радиоактивности, кроме их хорошего друга Беккереля – и в этот момент отправились в неспешный летний отпуск. (Они не знали тогда, что был ещё один увлечённый и пристальный наблюдатель лучей Беккереля – блестящий молодой новозеландец Эрнест Резерфорд, приехавший работать в лабораторию Дж.Дж. Томсона в Кембридже.) В сентябре супруги Кюри вернулись к поискам, сосредоточившись на осаждении с барием – это казалось особенно эффективным в поглощении оставшейся радиоактивности, предположительно из-за близкого химического сродства со вторым, ещё не открытым элементом, который они теперь искали. События развивались быстро, и через шесть недель у них был раствор хлорида бария, свободный от висмута (и предположительно от полония), который был почти в тысячу раз более радиоактивным, чем уран. Снова обратились за помощью к Демарсе, и на этот раз, к их радости, он обнаружил спектральную линию (а позже несколько линий: “две прекрасные красные полосы, одну линию в сине-зелёной области и две слабые линии в фиолетовой”), не принадлежащую ни одному известному элементу. Воодушевлённые этим, супруги Кюри заявили о втором новом элементе за несколько дней до конца 1898 года. Они решили назвать его радием, и поскольку его была лишь крошечная примесь, смешанная с барием, они полагали, что его радиоактивность “должна быть, следовательно, огромной”.
Было легко заявить о новом элементе: в течение девятнадцатого века было сделано более двухсот таких заявлений, большинство из которых оказались случаями ошибочной идентификации – либо “открытиями” уже известных элементов, либо смесями элементов. Теперь, за один год, супруги Кюри заявили о существовании не одного, а двух новых элементов, основываясь исключительно на повышенной радиоактивности и её материальной связи с висмутом и барием (и, в случае радия, единственной новой спектральной линии). Тем не менее, ни один из их новых элементов не был выделен даже в микроскопических количествах.
Пьер Кюри был в первую очередь физиком и теоретиком (хотя и ловким и изобретательным в лаборатории, часто создавая новые и оригинальные приборы – одним из таких был электрометр, другим – точные весы, основанные на новом пьезоэлектрическом принципе – оба впоследствии использовались в их исследованиях радиоактивности). Для него невероятного феномена радиоактивности было достаточно – это открывало огромную новую область исследований, новый континент, где можно было проверить бесчисленные новые идеи.
Но для Марии акцент был другим: она явно была очарована физической природой радия так же, как и его странными новыми свойствами; она хотела увидеть его, почувствовать его, включить его в химические соединения, найти его атомный вес и его место в периодической таблице.
До этого момента работа супругов Кюри была по существу химической, удаляя кальций, свинец, кремний, алюминий, железо и дюжину редкоземельных элементов – все элементы, кроме бария – из урановой смолки. Наконец, после года такой работы, наступило время, когда одних только химических методов стало недостаточно. Казалось, не было химического способа отделить радий от бария, поэтому Мария Кюри начала искать физические различия между их соединениями. Представлялось вероятным, что радий будет щелочноземельным элементом как барий и поэтому может следовать тенденциям группы. Хлорид кальция высоко растворим; хлорид стронция менее растворим; хлорид бария ещё менее растворим – хлорид радия, предсказала Мария Кюри, будет практически нерастворимым. Возможно, можно было использовать это для разделения хлоридов бария и радия, используя метод дробной кристаллизации. Когда тёплый раствор охлаждается, менее растворимое вещество кристаллизуется первым, и это была техника, разработанная химиками, работающими с редкоземельными элементами, стремящимися разделить элементы, которые были химически почти неразличимы. Это требовало большого терпения, так как могли потребоваться сотни, даже тысячи дробных кристаллизаций, и именно этот повторяющийся и мучительно медленный процесс теперь растянул месяцы на годы.
Супруги Кюри надеялись выделить радий к 1900 году, но потребовалось почти четыре года с момента объявления о его вероятном существовании, чтобы получить чистую соль радия – дециграмм хлорида радия – менее чем одну десятимиллионную часть исходного материала. Борясь со всевозможными физическими трудностями, борясь с сомнениями и скептицизмом большинства их коллег, а иногда и с собственной безнадёжностью и истощением; борясь (хотя они не знали об этом) с коварным воздействием радиоактивности на их собственные тела, супруги Кюри наконец восторжествовали и получили несколько крупинок чистого белого кристаллического хлорида радия – достаточно, чтобы вычислить атомный вес радия (226) и дать ему законное место под барием в периодической таблице.
Получить дециграмм элемента из нескольких тонн руды было достижением, не имеющим прецедента; никогда ещё элемент не был столь труден для получения. Одна химия не могла бы в этом преуспеть, как не могла бы и одна спектроскопия, поскольку руду нужно было сконцентрировать в тысячу раз, прежде чем можно было даже увидеть первые слабые спектральные линии радия. Потребовался совершенно новый подход – использование самой радиоактивности – чтобы идентифицировать бесконечно малую концентрацию радия в его огромной массе окружающего материала и отслеживать его, пока он медленно, неохотно приводился в состояние чистоты.
С этим достижением общественный интерес к супругам Кюри взорвался, распространяясь в равной степени на их волшебный новый элемент и на романтическую, героическую команду мужа и жены, которые полностью посвятили себя его исследованию. В 1903 году Мария Кюри обобщила работу предыдущих шести лет в своей докторской диссертации, и в том же году она получила (вместе с Пьером Кюри и Беккерелем) Нобелевскую премию по физике.
Её диссертация была немедленно переведена на английский язык и опубликована (Уильямом Круксом в его “Chemical News”), и у моей матери была копия в виде небольшой брошюры. Мне нравились подробные описания сложных химических процессов, которые проводили супруги Кюри, тщательное, систематическое исследование свойств радия, и особенно ощущение интеллектуального волнения и удивления, которое, казалось, скрывалось под ровным научным стилем. Всё было приземлённым, даже прозаическим – но это была также своего рода поэзия. И меня привлекали объявления на обложках о радии, тории, полонии, уране – все они были свободно доступны любому для развлечения или экспериментов.
Было объявление от A.C. Cossor на Фаррингдон-роуд, в нескольких дверях от заведения дяди Вольфрама, продающего “чистый бромид радия (когда имеется в наличии), урановую смолку… высоковакуумные трубки Крукса, показывающие флуоресценцию различных минералов… [и] другие научные материалы”. Братья Харрингтон (в Оливер-ярд, неподалёку) продавали различные соли радия и урановые минералы. J.J. Griffin and Sons (позже ставшие Griffin & Tatlock, куда я ходил за своими химическими припасами) продавали “Кунцит – новый минерал, в высокой степени реагирующий на эманации радия”, в то время как Armbrecht, Nelson & Co. (на ступень выше остальных, на Гросвенор-сквер) имели сульфид полония (в трубках по одному грамму, двадцать один шиллинг) и экраны из флуоресцентного виллемита (шесть пенсов за квадратный дюйм). “Наши недавно изобретённые ториевые ингаляторы”, добавляли они, “можно взять напрокат”. Что такое, думал я, ториевый ингалятор? Почувствуешь ли себя бодрым, укреплённым, вдыхая радиоактивный элемент?
Никто, похоже, не имел представления об опасности этих веществ в то время.61 Сама Мария Кюри упоминала в своей диссертации, как “если радиоактивное вещество поместить в темноте вблизи закрытого глаза или виска, глаз наполняется ощущением света”, и я часто пробовал это сам, используя один из светящихся часов в нашем доме, их цифры и стрелки были покрашены светящейся краской дяди Эйба.
Меня особенно тронуло описание в книге Евы Кюри о том, как её родители, беспокойные однажды вечером и любопытные узнать, как продвигается дробная кристаллизация, поздно ночью вернулись в свой сарай и увидели в темноте волшебное свечение повсюду, от всех трубок, сосудов и чаш, содержащих концентраты радия, и впервые осознали, что их элемент спонтанно светится. Свечение фосфора требовало присутствия кислорода, но свечение радия возникало полностью изнутри, от его собственной радиоактивности. Мария Кюри писала в лирических выражениях об этом свечении:
“Одной из наших радостей было приходить в нашу рабочую комнату ночью, когда мы замечали слабо светящиеся силуэты бутылок и капсул, содержащих наши продукты… Это было действительно прекрасное зрелище и всегда новое для нас. Светящиеся трубки выглядели как слабые волшебные огоньки.”
У дяди Эйба всё ещё был радий в его владении, оставшийся от его работы над светящейся краской, и он показывал мне его, доставая флакон с несколькими миллиграммами бромида радия – он выглядел как крупинка обычной соли – на дне. У него было три маленьких экрана, покрытых платиноцианидами – лития, натрия и бария платиноцианида – и когда он махал трубкой с радием (зажатой в щипцах) возле затемнённых экранов, они внезапно загорались, превращаясь в листы красного, затем жёлтого, затем зелёного огня, каждый внезапно угасал, когда он снова отодвигал трубку.
“Радий оказывает множество интересных воздействий на окружающие вещества”, - сказал он. “Фотографические эффекты ты знаешь, но радий также коричневит бумагу, прожигает её, делает её похожей на дуршлаг. Радий разлагает атомы воздуха, и затем они рекомбинируют в разные формы – поэтому ты чувствуешь запах озона и диоксида азота рядом с ним. Он влияет на стекло – окрашивает мягкое стекло в синий цвет, а твёрдое – в коричневый; он также может окрашивать алмазы и превращать каменную соль в глубокий, насыщенный фиолетовый цвет.” Дядя Эйб показал мне кусок плавикового шпата, который он подвергал воздействию радия несколько дней. Его первоначальный цвет был фиолетовым, сказал он, но теперь он стал бледным, заряженным странной энергией. Он немного нагрел плавиковый шпат, намного ниже красного каления, и тот внезапно испустил яркую вспышку, словно был раскалён добела, и вернулся к своему первоначальному фиолетовому цвету.
Другой эксперимент, который показал мне дядя Эйб, заключался в электризации шёлковой кисточки – он делал это, потирая её куском резины – так что её нити, теперь заряженные электричеством, отталкивались друг от друга и разлетались. Но как только он подносил радий, нити опадали, их электричество разряжалось. Это происходило потому, что радиоактивность делала воздух проводящим, сказал он, так что кисточка больше не могла удерживать свой заряд. Крайне утончённой формой этого был электроскоп с золотыми листочками в его лаборатории – прочная банка с металлическим стержнем через пробку для проведения заряда и двумя крошечными золотыми листочками, подвешенными к нему. Когда электроскоп заряжался, золотые листочки разлетались в стороны, как нити кисточки. Но если поднести радиоактивное вещество к банке, он немедленно разряжался, и листочки опадали. Чувствительность электроскопа к радию была удивительной – он мог обнаружить одну тысячемиллионную долю грана, в миллионы раз меньше количества, которое можно было обнаружить химически, и он был в тысячи раз чувствительнее даже спектроскопа.
Мне нравилось наблюдать за радиевыми часами дяди Эйба, которые в основном представляли собой электроскоп с золотыми листочками с небольшим количеством радия внутри, в отдельном тонкостенном стеклянном сосуде. Радий, испуская отрицательные частицы, постепенно заряжался положительно, и золотые листочки начинали расходиться – пока не ударялись о стенку сосуда и не разряжались; затем цикл начинался заново. Эти “часы” открывали и закрывали свои золотые листочки каждые три минуты более тридцати лет, и они продолжали бы делать это тысячу лет или больше – это была самая близкая вещь к вечному двигателю, как говорил дядя Эйб.
***
То, что было лёгкой загадкой с ураном, стало гораздо более острой проблемой с выделением радия, в миллион раз более радиоактивного. В то время как уран мог затемнять фотопластинку (хотя это занимало несколько дней) или разряжать сверхчувствительный электроскоп с золотыми листочками, радий делал это за долю секунды; он спонтанно светился от ярости собственной активности; и, как становилось всё более очевидным в новом веке, он мог проникать через непрозрачные материалы, озонировать воздух, окрашивать стекло, вызывать флуоресценцию и обжигать и разрушать живые ткани тела способом, который мог быть как терапевтическим, так и разрушительным.
При излучении любого другого типа, от рентгеновских лучей до радиоволн, энергия должна была поставляться из внешнего источника; но радиоактивные элементы, по-видимому, обладали собственной силой и могли излучать энергию без уменьшения в течение месяцев или лет, и ни тепло, ни холод, ни давление, ни магнитные поля, ни облучение, ни химические реагенты не оказывали ни малейшего влияния на это.
Откуда бралось это огромное количество энергии? Самыми твёрдыми принципами в физических науках были принципы сохранения – что материя и энергия не могут ни создаваться, ни разрушаться. Никогда не было серьёзных предположений, что эти принципы могут быть нарушены, и всё же радий поначалу, казалось, делал именно это – был вечным двигателем, бесплатным обедом, постоянным и неисчерпаемым источником энергии.
Одним из выходов из этой дилеммы было предположение, что энергия радиоактивных веществ имела внешний источник; именно это первоначально предположил Беккерель по аналогии с фосфоресценцией – что радиоактивные вещества поглощают энергию от чего-то, откуда-то, а затем медленно переизлучают её своим собственным способом. (Он придумал термин гиперфосфоресценция для этого явления.)
Представления о внешнем источнике – возможно, подобном рентгеновским лучам излучении, окутывающем Землю – некоторое время рассматривались супругами Кюри, и они отправили образец концентрата радия Гансу Гейтелю и Юлиусу Эльстеру в Германию. Эльстер и Гейтель были близкими друзьями (их называли “Кастор и Поллукс физики”), и они были блестящими исследователями, которые уже показали, что радиоактивность не подвержена влиянию вакуума, катодных лучей или солнечного света. Когда они спустили образец в шахту глубиной в тысячу футов в горах Гарца – место, куда не могли проникнуть никакие рентгеновские лучи – они обнаружили, что его радиоактивность не уменьшилась.
Могла ли энергия радия поступать из Эфира, того таинственного, нематериального вещества, которое, как предполагалось, заполняло каждый уголок вселенной и обеспечивало распространение света, гравитации и всех других форм космической энергии? Таково было мнение Менделеева, когда он посетил супругов Кюри, хотя он придал ему особый химический оттенок, поскольку считал, что Эфир состоит из очень лёгкого “эфирного элемента”, инертного газа, способного проникать через всю материю без химической реакции, с атомным весом примерно вдвое меньше водорода. (Этот новый элемент, полагал он, уже наблюдался в солнечной короне и был назван коронием.) Более того, Менделеев предполагал существование сверхлёгкого эфирного элемента с атомным весом менее миллиардной части водорода, который пронизывал космос. Атомы этих эфирных элементов, как он полагал, притягивались к тяжёлым атомам урана и тория и, поглощаясь ими каким-то образом, наделяли их своей собственной эфирной энергией.62
(Я был озадачен, когда впервые столкнулся с упоминанием об Эфире – часто пишется как Эфир, с заглавной буквы – путая его с воспламеняющейся, подвижной, резко пахнущей жидкостью, которую моя мать держала в своей анестезиологической сумке. “Светоносный” Эфир был постулирован Ньютоном как среда, в которой распространяются световые волны, но, как рассказал мне дядя Эйб, даже в его молодости люди уже начали сомневаться в его существовании. Максвелл смог обойтись без него в своих уравнениях, а знаменитый эксперимент в начале 1890-х годов не смог показать никакого “эфирного дрейфа”, никакого влияния движения Земли на скорость света, которого можно было бы ожидать, если бы Эфир существовал. Но очевидно, что идея Эфира всё ещё была очень сильна в умах многих учёных в то время, когда была открыта радиоактивность, и было естественно, что они обратились к ней в первую очередь для объяснения её таинственных энергий.)63
Но если было возможно – едва – представить, что медленное просачивание энергии, подобное урановому излучению, могло приходить из внешнего источника, такое представление становилось труднее поддерживать при столкновении с радием, который (как показали Пьер Кюри и Альбер Лаборд в 1903 году) был способен нагреть свой собственный вес воды от точки замерзания до кипения за час.64 Ещё труднее было объяснить это при столкновении с ещё более интенсивно радиоактивными веществами, такими как чистый полоний (небольшой кусочек которого спонтанно раскалялся докрасна) или радон, который был в 200 000 раз более радиоактивным, чем сам радий – настолько радиоактивным, что пинта его мгновенно испарила бы любой сосуд, в котором содержалась. Такая тепловая мощность была необъяснима любой эфирной или космической гипотезой.
При отсутствии правдоподобного внешнего источника энергии супруги Кюри были вынуждены вернуться к своей первоначальной мысли, что энергия радия должна иметь внутреннее происхождение, быть “атомным свойством” – хотя основа для этого едва ли была представима. Ещё в 1898 году Мария Кюри добавила более смелую, даже дерзкую мысль, что радиоактивность могла происходить от распада атомов, что это могло быть “излучение материи, сопровождающееся потерей веса радиоактивных веществ” – гипотеза, казавшаяся ещё более странной, чем альтернативные. Ведь в науке было аксиомой, фундаментальным предположением, что атомы неразрушимы, неизменны, неделимы – вся химия и классическая физика были построены на этой вере. По словам Максвелла:
“Хотя в течение веков на небесах происходили и могут ещё произойти катастрофы, хотя древние системы могут разрушаться и новые системы могут возникать из их руин, [атомы], из которых построены эти системы – краеугольные камни материальной вселенной – остаются нерушимыми и неизношенными. Они продолжают существовать и по сей день такими, какими были созданы – совершенными в числе, мере и весе.”
Вся научная традиция, от Демокрита до Дальтона, от Лукреция до Максвелла, настаивала на этом принципе, и можно легко понять, как после своих первых смелых мыслей об атомном распаде Мария Кюри отступила от этой идеи и (используя необычно поэтический язык) закончила свою диссертацию о радии словами: “причина этого спонтанного излучения остаётся тайной… глубокой и удивительной загадкой.”
22
Консервный ряд
Летом после войны мы поехали в Швейцарию, потому что это была единственная страна на континенте, не разорённая войной, и мы жаждали нормальности после шести лет бомбёжек, нормирования, строгости и ограничений. Перемена была очевидна, как только мы пересекли границу – форма швейцарских таможенников была новой и блестящей, в отличие от потрёпанной формы на французской стороне. Сам поезд, казалось, стал чище и ярче, двигался с новой эффективностью и скоростью. По прибытии в Люцерн нас встретил электрический экипаж. Высокий, прямой, с огромными окнами из зеркального стекла, экипаж, подобный тому, что видели, но никогда не ездили в нём мои родители в своём детстве, бесшумно доставил нас в отель “Швейцерхоф”, отель более обширный и великолепный, чем всё, что я когда-либо представлял. Мои родители обычно выбирали относительно скромное жильё, но на этот раз их инстинкты повели их в противоположном направлении, к самому роскошному, самому шикарному, самому богатому отелю в Люцерне – экстравагантность, которую они считали допустимой после шести лет войны.
“Швейцерхоф” остаётся в моей памяти по другой причине, потому что именно здесь я дал первый (и последний) концерт в своей жизни. Прошло чуть больше года с тех пор, как умерла миссис Сильвер, моя учительница фортепиано, год, в течение которого я не прикасался к пианино, но теперь что-то солнечное, что-то освобождающее вывело меня, заставило внезапно захотеть играть снова, и для других людей. Хотя я воспитывался на Бахе и Скарлатти, я полюбил (под влиянием миссис Сильвер) романтиков – особенно Шумана и стремительные, жизнерадостные мазурки Шопена. Многие из них были технически за пределами моих возможностей, но я знал их все, все пятьдесят с лишним, наизусть, и мог по крайней мере (я льстил себе) передать ощущение их настроения и жизненной силы. Это были миниатюры, но каждая, казалось, содержала целый мир.
Каким-то образом мои родители убедили отель организовать концерт в своём салоне, позволить мне использовать рояль (он был больше любого из тех, что я когда-либо видел, это был Bosendorfer с дополнительными клавишами, которых не было у нашего Bechstein), и объявить, что в следующий четверг состоится концерт “молодого английского пианиста Оливера Сакса”. Это меня ужаснуло, и я становился всё более нервным по мере приближения этого дня. Но когда наступил вечер, я надел свой лучший костюм (его сшили для моей бар-мицвы месяцем ранее), вошёл в салон, поклонился, изобразил улыбку на лице и (почти теряя самообладание от страха) сел за пианино. После начальных тактов первой мазурки я увлёкся ею и довёл её до эффектного завершения. Были аплодисменты, улыбки, прощение моих ошибок, так что я смело перешёл к следующей пьесе, и к следующей, закончив в итоге посмертным опусом (который я смутно представлял как-то завершённым уже после смерти Шопена).
В этом выступлении было особое, редкое удовольствие. Моя химия, минералогия и наука были все частными, разделёнными с моими дядями, но ни с кем больше. Концерт, напротив, был открытым и публичным, с признанием, обменом, отдачей и получением. Это было начало чего-то нового, начало общения.
Мы бесстыдно наслаждались роскошью отеля Schweizerhof, часами, казалось, лежали в огромных мраморных ваннах, объедались до тошноты в шикарном ресторане. Но в конце концов мы устали от чрезмерного потворства своим желаниям и начали бродить по старому городу с его кривыми улочками и внезапно открывающимися видами на горы и озеро. Мы поднялись на фуникулёре по зубчатой колее на вершину горы Риги – для меня это был первый опыт поездки на фуникулёре и подъёма в горы. А затем мы переехали в альпийскую деревню Ароза, где воздух был прохладным и сухим, и я впервые увидел эдельвейсы и генцианы, и крошечные церкви из расписного дерева, и услышал, как альпийский рог разносится от долины к долине. Именно в Арозе, я думаю, даже больше чем в Люцерне, меня наконец охватило внезапное чувство радости, ощущение свободы и освобождения, чувство сладости жизни, будущего, обещания. Мне было тринадцать – тринадцать! – разве не вся жизнь была впереди?
На обратном пути мы остановились в Цюрихе (городе, где, как однажды сказал мне дядя Эйб, родился математик Эйлер). И эта остановка, хотя в остальном ничем не примечательная, осталась в моей памяти по особой причине. Мой отец, который всегда искал бассейн, где бы он ни останавливался, обнаружил большой городской бассейн. Он сразу же начал плавать, демонстрируя мощный кроль, которым в совершенстве владел, а я, в более ленивом настроении, нашёл пробковую доску, взобрался на неё и решил впервые позволить ей просто держать меня на плаву. Я потерял счёт времени, пока плавал, неподвижно лёжа на доске или слегка подгребая. Странное умиротворение, своего рода восторг охватил меня – чувство, которое я иногда испытывал во снах. Я и раньше плавал на пробковых досках, или резиновых кругах, или нарукавниках, но на этот раз происходило что-то волшебное: медленно нарастающая, огромная волна радости, которая поднимала меня всё выше и выше, казалось, длилась бесконечно, а затем, наконец, утихла в томном блаженстве. Это было самое прекрасное, умиротворяющее чувство, которое я когда-либо испытывал.
Только когда я снял плавки, я понял, что, должно быть, испытал оргазм. Мне не пришло в голову связать это с “сексом” или с другими людьми; я не чувствовал ни тревоги, ни вины — но я никому об этом не рассказывал, воспринимая это как магию, нечто личное, благословение или милость, которые сошли на меня спонтанно, без всякого моего поиска. Я почувствовал, будто открыл великую тайну.
***
В январе 1946 года я перешёл из моей подготовительной школы в Хэмпстеде, The Hall, в гораздо более крупную школу, Сент-Полс, в Хаммерсмите. Именно здесь, в библиотеке Уокера, я впервые встретил Джонатана Миллера: я прятался в углу, читая книгу девятнадцатого века по электростатике – читал, по какой-то причине, об “электрических яйцах” – когда тень упала на страницу. Я поднял глаза и увидел удивительно высокого, нескладного мальчика с очень подвижным лицом, блестящими, озорными глазами и пышной копной рыжеватых волос. Мы разговорились и с тех пор остаёмся близкими друзьями.
До этого времени у меня был только один настоящий друг, Эрик Корн, которого я знал практически с рождения. Эрик последовал за мной из The Hall в Сент-Полс годом позже, и теперь мы с ним и Джонатаном образовали неразлучное трио, связанное не только личными, но и семейными узами (наши отцы тридцатью годами ранее вместе учились на медицинском факультете, и наши семьи оставались близки). Джонатан и Эрик не разделяли моей любви к химии – хотя они участвовали в эксперименте с бросанием натрия и ещё в паре других – но они страстно интересовались биологией, и было неизбежно, что когда пришло время, мы оказались вместе в одном классе биологии, и все мы влюбились в нашего учителя биологии, Сида Паска.
До этого времени у меня был только один настоящий друг, Эрик Корн, которого я знал практически с рождения. Эрик последовал за мной из The Hall в Сент-Полс годом позже, и теперь мы с ним и Джонатаном образовали неразлучное трио, связанное не только личными, но и семейными узами (наши отцы тридцатью годами ранее вместе учились на медицинском факультете, и наши семьи оставались близки). Джонатан и Эрик не разделяли моей любви к химии – хотя они участвовали в эксперименте с бросанием натрия и ещё в паре других – но они страстно интересовались биологией, и было неизбежно, что когда пришло время, мы оказались вместе в одном классе биологии, и все мы прониклись глубоким уважением к нашему учителю биологии, Сиду Паску.
Сид был превосходным учителем. При этом он был ограниченным, фанатичным, страдал от ужасного заикания (которое мы бесконечно передразнивали) и отнюдь не был исключительно умным. Путём отговоров, иронии, насмешек или силы мистер Паск отвращал нас от всех других занятий – от спорта и романтических увлечений, от религии и семьи, и от всех других школьных предметов. Он требовал, чтобы мы были такими же целеустремлёнными, как он сам.
Большинство его учеников считали его невозможно требовательным и взыскательным наставником. Они делали всё возможное, чтобы избежать мелочной тирании этого педанта, как они это воспринимали. Борьба продолжалась какое-то время, а потом внезапно сопротивление прекращалось – они становились свободны. Паск больше не придирался к ним, больше не предъявлял нелепых требований к их времени и энергии.
Однако некоторые из нас каждый год откликались на вызов Паска. В ответ он отдавал нам всего себя – всё своё время, всю свою преданность биологии. Мы оставались с ним допоздна в Музее естественной истории (я однажды спрятался в галерее и сумел провести там ночь). Мы жертвовали каждыми выходными ради экспедиций по сбору растений. Мы вставали на рассвете в морозные зимние дни, чтобы отправиться на его январский курс по пресноводной биологии. И раз в год – воспоминание об этом до сих пор вызывает почти невыносимо сладкое чувство – мы ездили с ним в Миллпорт на три недели изучать морскую биологию.
Миллпорт, расположенный у западного побережья Шотландии, имел прекрасно оборудованную станцию морской биологии, где нам всегда оказывали дружелюбный приём и привлекали к текущим экспериментам. (В то время там проводились фундаментальные наблюдения за развитием морских ежей, и лорд Ротшильд проявлял бесконечное терпение к восторженным школьникам, которые толпились вокруг и заглядывали в его чашки Петри с прозрачными личинками плутеус.) Мы с Джонатаном и Эриком вместе сделали несколько трансект на скалистом берегу, подсчитывая всех животных и морские водоросли, которых могли найти на последовательных участках площадью в квадратный фут, начиная от покрытой лишайником вершины скалы (Xanthoria parietina было благозвучным названием этого лишайника) до береговой линии и приливных бассейнов внизу. Эрик был особенно находчив и остроумен: однажды, когда нам нужен был отвес для определения истинной вертикали, но мы не знали, как его подвесить, он отделил блюдечко от основания скалы, поместил под него конец отвеса и крепко прикрепил его наверху как естественную кнопку.
Мы все выбрали для себя определённые зоологические группы: Эрик увлёкся морскими огурцами, голотуриями; Джонатан – переливающимися щетинковыми червями, полихетами; а я – кальмарами и каракатицами, осьминогами, головоногими – самыми умными и, на мой взгляд, самыми красивыми из беспозвоночных. Однажды мы все отправились на морское побережье, в Хайт в Кенте, где родители Джонатана сняли дом на лето, и вышли на день в море на коммерческом траулере. Рыбаки обычно выбрасывали обратно каракатиц, попадавших в их сети (они не были популярной едой в Англии). Но я фанатично настаивал, чтобы они сохраняли их для меня, и к моменту возвращения на палубе их должно было быть несколько десятков. Мы принесли всех каракатиц обратно в дом в вёдрах и тазах, поместили их в большие банки в подвале и добавили немного спирта для консервации. Родителей Джонатана не было дома, поэтому мы не колебались. Мы сможем забрать всех каракатиц обратно в школу, к Сиду – мы представляли его удивлённую улыбку, когда мы их принесём – и каждому в классе достанется по каракатице для вскрытия, по две-три штуки для энтузиастов головоногих. Я сам собирался сделать небольшой доклад о них в Полевом клубе, рассказывая об их интеллекте, больших мозгах, глазах с прямостоящей сетчаткой, их быстро меняющейся окраске.
Через несколько дней, в день, когда родители Джонатана должны были вернуться, мы услышали глухие удары, доносящиеся из подвала, и, спустившись, чтобы разобраться, мы столкнулись с гротескной сценой: осьминог, недостаточно сохранённый, разложился и заплесневел, а образовавшиеся газы взорвали банки, раскидав огромные куски осьминога по стенам и полу; даже обрывки осьминога прилипли к потолку. Интенсивный запах гниения был ужасен до невозможности. Мы изо всех сил пытались отскрести с стен и удалить взорвавшиеся, вонзившиеся в них куски осьминога. Мы поливали подвал водой, задыхаясь от вони, но запах не исчезал, и когда мы открыли окна и двери, чтобы проветрить подвал, вонь распространилась за пределы дома, образуя своего рода миазмы на расстоянии пятидесяти ярдов во все стороны.
Эрик, всегда находчивый, предложил замаскировать запах или заменить его ещё более сильным, но приятным ароматом – мы решили, что кокосовая эссенция подойдёт для этой цели. Мы объединили наши средства и купили большую бутылку эссенции, которой мы обрызгали подвал, а затем щедро распределили по всему дому и прилегающей территории.
Родители Джонатана прибыли час спустя и, приближаясь к дому, столкнулись с ошеломляющим запахом кокоса. Но когда они подошли ближе, они попали в зону, где преобладал запах испортившихся морских обитателей – два запаха, два испарения по какой-то странной причине организовались в чередующиеся зоны шириной примерно пять-шесть футов. К тому времени, как они добрались до места нашего происшествия, нашего преступления – подвала, запах был невыносим даже в течение нескольких секунд. Мы все трое оказались в большой немилости из-за этого инцидента, особенно я, поскольку всё началось с моей жадности (разве не хватило бы одного образца?) и моей глупости, не понявшей, сколько им нужно консерванта. Родителям Джонатана пришлось сократить свой отпуск и покинуть дом (мы слышали, что дом оставался непригодным для жилья в течение нескольких месяцев). Но моя любовь к морской биологии осталась непоколебимой.
Возможно, для этого была как химическая, так и биологическая причина, поскольку у морских моллюсков (как и у многих других моллюсков и ракообразных) была голубая кровь, а не красная, потому что они развили совершенно иную систему транспортировки кислорода, чем у нас, позвоночных. В то время как наш красный дыхательный пигмент, гемоглобин, содержал железо, их голубовато-зеленый пигмент, гемоцианин, содержал медь. И железо, и медь обладали отличным восстановительным потенциалом: они могли легко поглощать кислород, переходя в более высокое окислительное состояние, а затем отдавать его, восстанавливаясь по мере необходимости.
Я размышлял, использовались ли их соседи по периодической таблице (некоторые с еще большим окислительно-восстановительным потенциалом) когда-либо в качестве дыхательных пигментов, и очень воодушевился, когда услышал, что некоторые асцидии были чрезвычайно богаты элементом ванадием и имели специальные клетки, ванадоциты, предназначенные для его хранения. Почему они содержали их, оставалось загадкой; они, похоже, не были частью системы транспорта кислорода.
Нелепо и дерзко я думал, что смог бы разгадать эту тайну во время одной из наших ежегодных экскурсий в Миллпорт. Но я не продвинулся дальше сбора корзины асцидий (с той же жадностью, что и в случае с моллюсками). Я думал, что мог бы сжечь их и измерить содержание ванадия в их пепле (я читал, что оно может превышать 40 процентов у некоторых видов). И это подало мне единственную коммерческую идею, которая у меня когда-либо была: открыть ванадиевую ферму – акры морских лугов, засеянных асцидиями. Я бы заставил их извлекать драгоценный ванадий из морской воды, как они эффективно делали последние 300 миллионов лет, а затем продавал бы его по 500 фунтов за тонну. Единственной проблемой, осознал я в ужасе от своих геноцидных мыслей, был бы настоящий холокост асцидий, который для этого потребовался бы.
***
Биологические процессы, со всеми своими сложностями, входили в мою собственную жизнь, преобразуя меня в крепостях моего собственного тела. Внезапно я начал расти очень быстро; волосы появились на моем лице, в подмышках, вокруг гениталий; и мой голос — который всё ещё был чистым высоким тоном, когда я читал хафтору — начал ломаться, меняя тональность непредсказуемо. На биологии в школе я внезапно почувствовал сильный интерес к репродуктивным системам животных и растений, особенно «низших» — беспозвоночных и голосеменных. Меня удивляла сексуальность саговников и гингко, то, как они сохраняли ещё подвижные сперматозоиды, как папоротники, но при этом имели такие большие и хорошо защищённые семена. А головоногие моллюски, кальмары, были ещё более интересны, потому что самцы на самом деле вставляли модифицированную конечность с сперматофорами в мантийную полость самки. Я всё ещё был далёк от человеческой сексуальности, своей собственной сексуальности, но начал находить сексуальность как тему чрезвычайно увлекательной, почти такой же интересной, как валентность или периодичность.
Но, несмотря на нашу любовь к биологии, никто из нас не мог быть таким мономаничным, как мистер Пэск. Были все влечения юности, подросткового возраста, и вся энергия умов, стремящихся исследовать во всех направлениях, ещё не готовых к обязательствам.
Моё настроение на протяжении четырёх лет было в основном научным; страсть к порядку, к формальной красоте влекла меня — красота периодической таблицы, красота атомов Дальтона. Квантовый атом Бора казался мне чем-то небесным, как бы созданным, чтобы существовать вечно. Иногда я чувствовал своего рода экстаз от формальной интеллектуальной красоты вселенной. Но теперь, с появлением других интересов, я иногда ощущал противоположное — некую пустоту или сухость внутри, потому что красота, любовь к науке, больше не удовлетворяли меня полностью, и я стал жаждать человеческого, личного.
Именно музыка особенно пробуждала этот голод и утоляла его; музыка, которая заставляла меня трепетать, хотеть плакать или выть; музыка, которая, казалось, проникала в самую мою суть, отзывалась на моё состояние – хотя я не мог сказать, о чём она была, почему она так на меня действовала. Моцарт, прежде всего, вызывал чувства почти невыносимой интенсивности, но определить эти чувства было выше моих сил, возможно, выше возможностей самого языка.
Поэзия стала важной по-новому, личностно. Мы “проходили” Мильтона и Поупа в школе, но теперь я начал открывать их для себя сам. У Поупа были строки потрясающей нежности – “Умереть от розы в ароматной боли” – которые я снова и снова шептал себе, пока они не переносили меня в другой мир.
Мы с Джонатаном и Эриком выросли с любовью к чтению и литературе: мать Джонатана была писательницей и биографом, а Эрик, самый одарённый из нас, читал поэзию с восьми лет. Мои собственные читательские интересы больше склонялись к истории и биографиям, особенно к личным повествованиям и дневникам. (К тому времени я тоже начал вести свой дневник.) Поскольку мои вкусы были (как они считали) несколько ограниченными, Эрик и Джонатан познакомили меня с более широким кругом литературы – Джонатан с Сельмой Лагерлёф и Прустом (я знал только о Жозефе-Луи Прусте, химике, но не о Марселе), а Эрик с Т.С. Элиотом, чья поэзия, как он утверждал, превосходила шекспировскую. И именно Эрик привёл меня в ресторан “Космо” на Финчли-роуд, где за лимонным чаем и штруделем мы слушали, как молодой студент-медик и поэт Дэнни Абс читает свои только что написанные стихи.
Мы трое дерзко решили создать в школе Литературное общество; правда, одно уже существовало – Общество Мильтона – но оно много лет пребывало в бездействии. Джонатан должен был стать нашим секретарём, Эрик – казначеем, а я (хотя чувствовал себя самым невежественным из троих, а также самым застенчивым) – его президентом.
Мы объявили о первой ознакомительной встрече, и пришла любопытная группа. Возникло сильное желание приглашать внешних докладчиков – поэтов, драматургов, романистов, журналистов – и мне, как президенту, выпала задача уговаривать их прийти. Удивительно большое количество писателей действительно приходило на наши встречи – их привлекала (я полагаю) сама эксцентричность приглашений, их нелепая смесь детскости и взрослости, и, возможно, идея встречи с толпой восторженных мальчишек, которые действительно читали некоторые их произведения и жаждали с ними познакомиться. Самым большим успехом мог бы стать Бернард Шоу – но он прислал мне очаровательную открытку, написанную дрожащей рукой, говоря, что хотя он и хотел бы прийти, он слишком стар для путешествий (ему было девяносто три и три четверти года, как он написал). С нашими приглашёнными докладчиками и бурными обсуждениями, которые следовали за их выступлениями, мы стали очень популярны, и иногда на наши еженедельные встречи приходило от пятидесяти до семидесяти мальчиков, намного больше, чем когда-либо появлялось на степенных собраниях Общества Мильтона. Кроме того, мы издавали нечёткий, отпечатанный фиолетовыми чернилами на мимеографе журнал “Колючая груша”, который включал работы студентов и иногда одного из учителей, а очень редко – “настоящих” внешних писателей.
Но наш успех, и возможно другие, никогда явно не высказанные мысли – что мы насмехаемся над авторитетами, что у нас подрывные намерения, что мы “убили” Общество Мильтона (которое теперь в ответ приостановило свои и без того нечастые встречи), и что мы кучка неприятных, шумных, умных еврейских мальчиков, которых нужно осадить – привели к нашему закрытию. Директор вызвал меня однажды и сказал без церемоний: “Сакс, вы распущены.”
“Что вы имеете в виду, сэр?” - пробормотал я. “Вы не можете просто так ‘распустить’ нас.”
“Сакс, я могу делать всё, что захочу. Ваше литературное общество распущено с этого момента.”
“Но почему, сэр?” - спросил я. “Каковы ваши причины?”
“Я не обязан объяснять их вам, Сакс. Мне не нужны причины. Можете идти, Сакс. Вы не существуете. Вас больше не существует.” С этими словами он щёлкнул пальцами – жест отстранения, уничтожения – и вернулся к своей работе.
Я принёс эти новости Эрику и Джонатану и другим членам нашего общества. Мы были возмущены и озадачены, но чувствовали себя совершенно беспомощными. Директор имел власть, абсолютную власть, и мы ничего не могли сделать, чтобы сопротивляться или противостоять ему.
***
“Консервный ряд” был опубликован в 1945 или 1946 году, и я, должно быть, прочитал его вскоре после этого – возможно, в 1948 году, когда я изучал биологию в школе, и морская биология была добавлена к списку моих интересов. Мне нравился образ Дока, его поиски маленьких осьминогов в приливных заводях около Монтерея, его распитие пивных коктейлей с ребятами, идиллическая лёгкость и сладость его жизни. Я думал, что тоже хотел бы иметь такую жизнь, как у него, жить в волшебной, мифической Калифорнии (которая уже тогда, благодаря ковбойским фильмам, была для меня страной фантазий). Америка всё чаще появлялась в моих мыслях, когда мне было за тринадцать – она была нашим великим союзником в войне; её сила, её ресурсы казались почти безграничными. Разве не она создала первую в мире атомную бомбу? Американские солдаты в увольнении ходили по улицам Лондона – их жесты, их речь, казалось, излучали уверенность в себе, непринуждённость, лёгкость, почти невообразимую для нас после шести лет войны. Журнал Life в своих больших разворотах показывал горы, каньоны, пустыни, пейзажи такой просторности и великолепия, которых не было в Европе, а также американские города, полные улыбающихся, энергичных, хорошо накормленных людей, их сверкающие дома, заполненные товарами магазины, наслаждающихся жизнью в изобилии и веселье, невообразимыми для нас, всё ещё живущих с жёстким нормированием продуктов и стеснённым сознанием военных лет. К этой гламурной картине заокеанской беззаботности и масштабнее-чем-жизнь непосредственности и великолепия, мюзиклы вроде “Энни получает своё ружьё” и “Оклахома!” добавляли дополнительную мифотворческую силу. Именно в этой атмосфере романтического преувеличения “Консервный ряд” и (несмотря на его слащавость) его продолжение “Сладкий четверг” произвели на меня такое сильное впечатление.
Если раньше (во времена моего пребывания в Сент-Лоренсе) я иногда представлял себе мифическое прошлое, то теперь я начал фантазировать о будущем, воображая себя учёным или натуралистом на побережьях или в великой глубинке Америки. Я читал рассказы о путешествии Льюиса и Кларка, читал Эмерсона и Торо, и прежде всего, я читал Джона Мьюра. Я влюбился в возвышенные и романтические пейзажи Альберта Бирштадта и прекрасные, чувственные фотографии Энселя Адамса (временами я фантазировал о том, чтобы самому стать фотографом-пейзажистом).
Когда мне было шестнадцать или семнадцать лет, уже глубоко влюблённому в морскую биологию, я написал в лаборатории морской биологии по всем Штатам – в Вудс-Хоул в Массачусетсе, в Институт Скриппса в Ла-Хойя, в Аквариум Золотых Ворот в Сан-Франциско и, конечно, в Консервный ряд в Монтерее (к тому времени я знал, что “Док” был реальным человеком, Эдом Рикеттсом). Я получил, думаю, дружелюбные ответы от всех, приветствовавшие мой интерес и энтузиазм, но также очень чётко указывавшие, что мне нужны реальные квалификации, и что мне стоит подумать о повторном обращении к ним, когда у меня будет степень по биологии (когда я наконец попал в Калифорнию десять лет спустя, это было не в качестве морского биолога, а в качестве невролога).
23
Освобождённый мир
Кюри с самого начала заметили, что их радиоактивные вещества обладали странной способностью “индуцировать” радиоактивность вокруг себя. Они находили это одновременно интригующим и раздражающим, поскольку загрязнение их оборудования делало практически невозможным измерение радиоактивности самих образцов:
“Различные предметы, используемые в химической лаборатории [писала Мария в своей диссертации]… вскоре приобретают радиоактивность. Частицы пыли, воздух в комнате, одежда – всё становится радиоактивным. Воздух в комнате становится проводником. В нашей лаборатории проблема стала острой, и у нас больше нет должным образом изолированных приборов.”65
Читая этот отрывок, я думал о нашем собственном доме и доме дяди Эйба, размышляя, не стали ли и они, в своей мягкой форме, радиоактивными – не индуцируют ли циферблаты часов дяди Эйба, покрытые радиевой краской, радиоактивность во всём вокруг них и не наполняют ли воздух, беззвучно, проникающими лучами.
Кюри (как и Беккерель) сначала были склонны приписывать эту “индуцированную радиоактивность” чему-то нематериальному или рассматривать её как “резонанс”, возможно, аналогичный фосфоресценции или флуоресценции. Но были также признаки материального излучения. Они обнаружили ещё в 1897 году, что если торий держать в плотно закрытой бутылке, его радиоактивность увеличивалась, возвращаясь к прежнему уровню, как только бутылку открывали. Но они не продолжили это наблюдение, и именно Эрнест Резерфорд первым осознал необычайное значение этого: что возникало новое вещество, порождаемое торием; вещество гораздо более радиоактивное, чем его родитель.
Резерфорд заручился помощью молодого химика Фредерика Содди, и они смогли показать, что “эманация” тория была на самом деле материальным веществом, газом, который можно было изолировать. Его можно было сжижать почти так же легко, как хлор, но он не реагировал ни с одним химическим реагентом; фактически он был таким же инертным, как аргон и другие недавно открытые инертные газы. В этот момент Содди подумал, что “эманация” тория может быть аргоном, и он был (как он написал позже):
“…переполнен чем-то большим, чем радость – я не могу это хорошо выразить – своего рода восторгом… Я очень хорошо помню, как стоял там застывший, как будто оглушённый колоссальным значением этого, и выпалил – или так казалось в тот момент: ‘Резерфорд, это трансмутация: торий распадается и превращается в газообразный аргон’.”
Ответ Резерфорда был типично практичным: “Ради бога, Содди, не называй это трансмутацией. Нас обезглавят как алхимиков.”
Но новый газ не был аргоном; это был совершенно новый элемент со своим уникальным спектром ярких линий. Он очень медленно диффундировал и был чрезвычайно плотным – в 111 раз плотнее водорода, тогда как аргон был только в 20 раз плотнее. Предполагая, что молекула нового газа была моноатомной, содержащей только один атом, как другие инертные газы, его атомный вес должен был быть 222. Таким образом, он был самым тяжёлым и последним в ряду инертных газов и как таковой мог занять своё место в периодической таблице как последний член нулевой группы Менделеева. Резерфорд и Содди временно назвали его тороном или Эманацией.
Торон исчезал с большой скоростью – половина его исчезала за минуту, три четверти за две минуты, а через десять минут его уже нельзя было обнаружить. Именно быстрота этого распада (и появление радиоактивного осадка на его месте) позволила Резерфорду и Содди понять то, что не было ясно с ураном или радием – что действительно происходит непрерывный распад атомов радиоактивных элементов и вместе с этим их превращение в другие атомы.
Они обнаружили, что каждый радиоактивный элемент имел свою характерную скорость распада, свой собственный “период полураспада”. Период полураспада элемента мог быть определён с необычайной точностью, так что период полураспада одного изотопа радона, например, мог быть вычислен как 3,8235 дня. Но жизнь отдельного атома невозможно было предсказать совершенно. Я становился всё более озадаченным этой мыслью и продолжал перечитывать описание Содди:
“Вероятность того, распадётся ли атом в любой конкретный момент или нет, фиксирована. Она не имеет никакого отношения к каким-либо известным нам внешним или внутренним факторам и, в частности, не увеличивается из-за того, что атом уже просуществовал какое-то время… Всё, что можно сказать, это то, что непосредственная причина атомного распада, по-видимому, обусловлена случайностью.”
Продолжительность жизни отдельного атома, очевидно, могла варьироваться от нуля до бесконечности, и не было ничего, что отличало бы атом, “готовый” к распаду, от того, которому оставался ещё миллиард лет.
Я находил это глубоко загадочным и тревожащим, что атом мог распасться в любой момент без какой-либо “причины”. Казалось, это выводило радиоактивность из области непрерывности или процесса, из понятной, причинной вселенной – и намекало на область, где законы классического типа не имели абсолютно никакого значения.
Период полураспада радия был намного длиннее, чем у его эманации, радона – около 1600 лет. Но это было всё ещё очень мало по сравнению с возрастом Земли – почему же тогда, если он постоянно распадался, весь земной радий не исчез давным-давно? Ответ, как предположил Резерфорд и вскоре смог продемонстрировать, заключался в том, что сам радий производился элементами с гораздо более длительным периодом полураспада, целой цепочкой веществ, которые он мог проследить до родительского элемента, урана. У урана, в свою очередь, период полураспада составлял четыре с половиной миллиарда лет, примерно возраст самой Земли. Другие каскады радиоактивных элементов происходили от тория, который имел даже более длительный период полураспада, чем уран. Таким образом, Земля всё ещё жила, с точки зрения атомной энергии, за счёт урана и тория, которые присутствовали при её формировании.
Эти открытия оказали решающее влияние на давние споры о возрасте Земли. Великий физик Кельвин, писавший в начале 1860-х годов, вскоре после публикации “Происхождения видов”, утверждал, что, основываясь на скорости её охлаждения и предполагая отсутствие других источников тепла кроме Солнца, Земля не может быть старше двадцати миллионов лет, и что через ещё пять миллионов лет она станет слишком холодной для поддержания жизни. Этот расчёт был не только удручающим сам по себе, но и невозможным для согласования с ископаемыми свидетельствами, которые указывали, что жизнь существовала сотни миллионов лет – и всё же, казалось, не было способа опровергнуть его. Дарвин был очень обеспокоен этим.
Только с открытием радиоактивности эта загадка была решена. Говорили, что молодой Резерфорд, нервно обращаясь к знаменитому лорду Кельвину, которому тогда было восемьдесят лет, предположил, что расчёт Кельвина был основан на ложном допущении. Существовал другой источник тепла помимо Солнца, сказал Резерфорд, и очень важный для Земли. Радиоактивные элементы (главным образом уран и торий и продукты их распада, а также радиоактивный изотоп калия) служили для поддержания тепла Земли в течение миллиардов лет и защищали её от преждевременной тепловой смерти, которую предсказывал Кельвин. Резерфорд поднял кусок урановой смолки, возраст которой он оценил по количеству содержащегося в ней гелия. Этот кусок Земли, сказал он, был по меньшей мере 500 миллионов лет.
***
Резерфорд и Содди в конечном итоге смогли определить три отдельных радиоактивных каскада, каждый из которых содержал около дюжины продуктов распада, происходящих от распада исходных родительских элементов. Могли ли все эти продукты распада быть разными элементами? В периодической таблице не было места для трёх дюжин элементов между висмутом и торием – возможно, для полудюжины, но не более того. Только постепенно стало ясно, что многие из элементов были просто версиями друг друга; эманации радия, тория и актиния, например, хотя и имели сильно различающиеся периоды полураспада, были химически идентичны, все были одним и тем же элементом, хотя и с немного разными атомными весами. (Позже Содди назвал их изотопами.) И конечные точки каждой серии были схожими – так называемые радий G, актиний E и торий E были все изотопами свинца.
Каждое вещество в этих каскадах радиоактивности имело свою уникальную радиоподпись, период полураспада фиксированной и неизменной продолжительности, а также характерное радиационное излучение, и именно это позволило Резерфорду и Содди разобраться во всём этом и тем самым основать новую науку радиохимию.
Идею атомного распада, впервые выдвинутую, а затем отвергнутую Марией Кюри, больше нельзя было отрицать. Было очевидно, что каждое радиоактивное вещество распадается в процессе выделения энергии и превращается в другой элемент, что трансмутация лежит в основе радиоактивности.
Я любил химию отчасти потому, что это была наука превращений, бесчисленных соединений, основанных на нескольких десятках элементов, самих по себе неизменных и вечных. Ощущение стабильности и неизменности элементов было психологически важно для меня, потому что я воспринимал их как фиксированные точки, как якоря в нестабильном мире. Но теперь, с радиоактивностью, появились превращения самого невероятного рода. Какой химик мог бы представить, что из урана, твёрдого, вольфрамоподобного металла, могут получиться щёлочноземельный металл вроде радия; инертный газ вроде радона; теллуроподобный элемент, полоний; радиоактивные формы висмута и таллия; и, наконец, свинец – представители почти каждой группы периодической таблицы?
Ни один химик не мог бы это представить (хотя алхимик мог), потому что эти превращения лежали за пределами сферы химии. Никакой химический процесс, никакая химическая атака не могли изменить сущность элемента, и это относилось и к радиоактивным элементам тоже. Радий, химически, вёл себя подобно барию; его радиоактивность была совершенно другим свойством, полностью не связанным с его химическими или физическими свойствами. Радиоактивность была чудесным (или ужасным) дополнением к ним, совершенно иным свойством (и тем, что иногда раздражало меня, потому что я любил вольфрамоподобную плотность металлического урана и флуоресценцию и красоту его минералов и солей, но чувствовал, что не могу долго безопасно с ними работать; точно так же меня приводила в ярость интенсивная радиоактивность радона, который в противном случае был бы идеальным тяжёлым газом).
Радиоактивность не изменила реальности химии или понятия элементов; она не поколебала представление об их стабильности и идентичности. То, что она сделала – это намекнула на существование двух областей в атоме: относительно поверхностной и доступной области, управляющей химической реактивностью и соединениями, и более глубокой области, недоступной для всех обычных химических и физических агентов с их относительно малыми энергиями, где любое изменение приводило к фундаментальному изменению идентичности элемента.
***
У дяди Эйба в доме был “спинтарископ”, точно такой же, как те, что рекламировались на обложке диссертации Марии Кюри. Это был удивительно простой инструмент, состоящий из флуоресцентного экрана и увеличительного окуляра, и внутри - бесконечно малая крупица радия. Глядя через окуляр, можно было видеть десятки сцинтилляций в секунду – когда дядя Эйб передал мне его, и я поднёс его к глазу, я нашёл это зрелище очаровательным, волшебным, как будто смотрел на бесконечный показ метеоров или падающих звёзд.
Спинтарископы, стоившие несколько шиллингов каждый, были модными научными игрушками в эдвардианских гостиных – новое и уникально присущее двадцатому веку приобретение, рядом со стереоскопами и трубками Гейслера, унаследованными от викторианских времён. Но если они и появились как своего рода игрушка, быстро стало понятно, что они также показывали что-то фундаментально важное, потому что крошечные искры или сцинтилляции, которые можно было видеть, происходили от распада отдельных атомов радия, от отдельных альфа-частиц, выстреливаемых при его взрыве. Никто бы не мог представить, говорил дядя Эйб, что мы когда-нибудь сможем увидеть эффекты от отдельных атомов, не говоря уже о том, чтобы подсчитывать их по отдельности.
“Здесь меньше миллионной доли миллиграмма радия, и всё же на маленькой области экрана происходят десятки сцинтилляций в секунду. Представь, сколько их было бы, если бы у нас был грамм радия – в тысячу миллионов раз больше этого количества.”
“Сто тысяч миллионов”, - подсчитал я.
“Близко”, - сказал дядя. “Сто тридцать шесть тысяч миллионов, если быть точным – это число никогда не меняется. Каждую секунду сто тридцать шесть тысяч миллионов атомов в грамме радия распадаются, выстреливают свои альфа-частицы – и если подумать, что это происходит тысячи лет, ты получишь некоторое представление о том, сколько атомов содержится в одном грамме радия.”
Эксперименты на рубеже века показали, что радий испускает не только альфа-лучи, но и несколько других видов лучей. Большинство явлений радиоактивности можно было приписать этим различным видам лучей: способность ионизировать воздух была особенно характерна для альфа-лучей, в то время как способность вызывать флуоресценцию или воздействовать на фотопластинки была более выражена у бета-лучей. Каждый радиоактивный элемент имел свои характерные излучения: так, препараты радия испускали как альфа-, так и бета-лучи, тогда как препараты полония испускали только альфа-лучи. Уран воздействовал на фотопластинку быстрее, чем торий, но торий был более эффективен в разрядке электроскопа.
Альфа-частицы, испускаемые при радиоактивном распаде (позже было показано, что это ядра гелия), были положительно заряжены и относительно массивны – в тысячи раз массивнее бета-частиц или электронов – и они двигались по неотклоняющимся прямым линиям, проходя прямо через вещество, игнорируя его, без какого-либо рассеяния или отклонения (хотя они могли терять часть своей скорости при этом). По крайней мере, так казалось, хотя в 1906 году Резерфорд заметил, что иногда могли происходить небольшие отклонения. Другие игнорировали это, но для Резерфорда эти наблюдения были чреваты возможным значением. Разве не были бы альфа-частицы идеальными снарядами, снарядами атомных размеров, которыми можно было бы бомбардировать другие атомы и исследовать их структуру? Он попросил своего молодого ассистента Ганса Гейгера и студента Эрнеста Марсдена установить сцинтилляционный эксперимент, используя экраны из тонкой металлической фольги, чтобы можно было подсчитать каждую альфа-частицу, которая бомбардировала их. Стреляя альфа-частицами в кусок золотой фольги, они обнаружили, что примерно одна из восьми тысяч частиц показывала массивное отклонение – более 90 градусов, а иногда даже 180 градусов. Позже Резерфорд сказал: “Это было самое невероятное событие, которое когда-либо случалось со мной в жизни. Это было почти так же невероятно, как если бы вы выстрелили пятнадцатидюймовым снарядом в кусок папиросной бумаги, а он вернулся и ударил вас.”
Резерфорд размышлял над этими любопытными результатами почти год, и затем, однажды, как записал Гейгер, он “вошёл в мою комнату, явно в прекраснейшем настроении, и сказал мне, что теперь он знает, как выглядит атом и что означают странные рассеяния.”
Резерфорд осознал, что атомы не могли быть однородным желе из положительного заряда с вкраплёнными электронами, как изюминки (как предполагал Дж.Дж. Томсон в своей модели атома “пудинга с изюмом”), потому что тогда альфа-частицы всегда проходили бы сквозь них. Учитывая большую энергию и заряд этих альфа-частиц, нужно было предположить, что они иногда отклонялись чем-то, имеющим ещё больший положительный заряд, чем они сами. Однако это происходило только один раз из восьми тысяч. Остальные 7999 частиц могли пролетать насквозь, без отклонения, как будто большая часть атомов золота состояла из пустого пространства; но восьмитысячная останавливалась, отбрасывалась назад по своей траектории, как теннисный мяч, ударяющийся о шар из твёрдого вольфрама. Масса атома золота, заключил Резерфорд, должна была быть сконцентрирована в центре, в крошечном пространстве, в которое нелегко попасть – в ядре почти невообразимой плотности. Атом, предположил он, должен состоять преимущественно из пустого пространства, с плотным, положительно заряженным ядром размером всего в стотысячную его диаметра, и относительно немногими отрицательно заряженными электронами, вращающимися вокруг этого ядра – по сути, миниатюрная солнечная система.
***
Эксперименты Резерфорда, его ядерная модель атома, обеспечили структурную основу для огромных различий между радиоактивными и химическими процессами, миллионократной разницы в задействованной энергии (Содди демонстрировал это в своих публичных лекциях, поднимая в одной руке банку оксида урана весом в один фунт – это, говорил он, содержало энергию ста шестидесяти тонн угля).
Химические изменения или ионизация включали добавление или удаление одного-двух электронов, и это требовало лишь скромной энергии в два-три электрон-вольта, которую можно было легко получить – с помощью химической реакции, тепла, света или простой 3-вольтовой батареи. Но радиоактивные процессы затрагивали ядра атомов, и поскольку они удерживались вместе гораздо большими силами, их распад мог высвобождать энергию гораздо большей величины – несколько миллионов электрон-вольт.
Содди ввёл термин “атомная энергия” вскоре после начала двадцатого века, за десять или более лет до открытия ядра. Никто не знал и не мог даже примерно предположить, как солнце и звёзды могли излучать так много энергии и продолжать делать это миллионы лет. Химической энергии было бы смехотворно недостаточно – солнце, состоящее из угля, выгорело бы за десять тысяч лет. Могла ли радиоактивность, атомная энергия, дать ответ?
“Предположим [писал Содди]… наше солнце… было бы сделано из чистого радия… не было бы никаких трудностей в объяснении его излучения энергии.”
Содди задавался вопросом, можно ли искусственно произвести трансмутацию, которая естественным образом происходит в радиоактивных веществах.66 Эта мысль возносила его к восторженным, тысячелетним и почти мистическим высотам:
“Радий научил нас, что количество энергии в мире безгранично… Раса, которая могла бы осуществлять трансмутацию материи, едва ли нуждалась бы в том, чтобы зарабатывать свой хлеб в поте лица… Такая раса могла бы преобразить пустынный континент, растопить замёрзшие полюса и превратить весь мир в один цветущий Райский сад… Открылась совершенно новая перспектива. Наследие человека увеличилось, его стремления возвысились, и его судьба облагородилась в степени, которую мы сейчас не в силах предсказать… Однажды он обретёт силу регулировать для своих целей первичные источники энергии, которые Природа сейчас так ревностно сохраняет для будущего.”
Я прочитал книгу Содди “Интерпретация радия” в последний год войны, и я был восхищён его видением бесконечной энергии, бесконечного света. Вдохновенные слова Содди дали мне ощущение того опьянения, чувства силы и искупления, которые сопровождали открытие радия и радиоактивности в начале века.
Но наряду с этим Содди также говорил и о тёмных возможностях. Действительно, эти мысли были у него почти с самого начала, и ещё в 1903 году он говорил о Земле как о “складе, набитом взрывчатыми веществами, невообразимо более мощными, чем любые известные нам”. Эта тема часто звучала в “Интерпретации радия”, и именно мощное видение Содди вдохновило Г.Дж. Уэллса вернуться к своему раннему научно-фантастическому стилю и опубликовать в 1914 году “Освобождённый мир” (Уэллс фактически посвятил свою книгу “Интерпретации радия”). Здесь Уэллс представил новый радиоактивный элемент под названием Каролиний, высвобождение энергии которого было почти как цепная реакция:67
“Всегда прежде в развитии военного дела снаряды и ракеты были лишь мгновенно взрывчатыми, они взрывались в одно мгновение раз и навсегда… но Каролиний… однажды запущенный процесс его распада продолжал яростное излучение энергии, и ничто не могло его остановить.”
Я вспомнил пророчества Содди и Уэллса в августе 1945 года, когда мы услышали новости о Хиросиме. Мои чувства по поводу атомной бомбы были странно смешанными. Наша война, в конце концов, закончилась, День Победы в Европе прошёл; в отличие от американцев, мы не пережили Пёрл-Харбор или ужасные сражения на Гуаме и Сайпане; мы не были в прямом столкновении с японцами. Атомные бомбардировки казались в некотором смысле ужасным постскриптумом к войне, жуткой демонстрацией, в которой, возможно, не было необходимости.
И всё же у меня также было, как и у многих, чувство ликования от научного достижения расщепления атома, и я был захвачен Отчётом Смита, который вышел в августе 1945 года и давал полное описание создания бомбы. Весь ужас бомбы не дошёл до меня до следующего лета, когда “Хиросима” Джона Херси была опубликована в специальном одностатейном выпуске The New Yorker (говорили, что Эйнштейн купил тысячу экземпляров этого выпуска) и вскоре после этого транслировалась BBC на Третьей программе. До этого момента химия и физика были для меня источником чистого восторга и удивления, и я, возможно, недостаточно осознавал их негативные возможности. Атомные бомбы потрясли меня, как и всех. Атомная или ядерная физика, чувствовалось, никогда больше не сможет двигаться с той же невинностью и беззаботностью, как во времена Резерфорда и Кюри.
24
Блестящий Свет
Сколько элементов понадобилось бы Богу для создания вселенной? К 1815 году было известно около пятидесяти элементов; и, если Дальтон был прав, это означало пятьдесят различных видов атомов. Но наверняка Богу не понадобилось бы пятьдесят разных строительных блоков для Его вселенной – наверняка Он спроектировал бы её более экономно. Уильям Праут, лондонский врач с химическим складом ума, заметив, что атомные веса были близки к целым числам и, следовательно, были кратны атомному весу водорода, предположил, что водород на самом деле был первичным элементом, и что все остальные элементы были построены из него. Таким образом, Богу нужно было создать только один вид атома, а все остальные могли быть получены из него путём естественной “конденсации”.
К сожалению, оказалось, что некоторые элементы имели дробные атомные веса. Можно было округлить вес, который был немного меньше или немного больше целого числа (как это делал Дальтон), но что можно было сделать с хлором, например, с его атомным весом 35.5? Это делало гипотезу Праута трудной для поддержания, и дальнейшие трудности возникли, когда Менделеев создал периодическую таблицу. Было ясно, например, что теллур в химическом отношении шёл перед йодом, но его атомный вес, вместо того чтобы быть меньше, был больше. Это были серьёзные трудности, и всё же на протяжении девятнадцатого века гипотеза Праута никогда по-настоящему не умирала – она была настолько красивой, настолько простой, считали многие химики и физики, что должна была содержать существенную истину.
Возможно, существовало какое-то атомное свойство, более целостное, более фундаментальное, чем атомный вес? Этот вопрос нельзя было рассмотреть, пока не появился способ “прозондировать” атом, в частности, его центральную часть – ядро. В 1913 году, спустя столетие после Праута, Гарри Мозли, блестящий молодой физик, работавший с Резерфордом, начал исследовать атомы с помощью только что разработанной техники рентгеновской спектроскопии. Его экспериментальная установка была очаровательно простой: используя маленький поезд, каждый вагончик которого нёс разный элемент, движущийся внутри метровой вакуумной трубки, Мозли бомбардировал каждый элемент катодными лучами, заставляя их испускать характерные рентгеновские лучи. Когда он построил график квадратных корней частот относительно атомных номеров элементов, он получил прямую линию; и, построив график другим способом, он смог показать, что увеличение частоты демонстрировало резкие, дискретные шаги или скачки при переходе от одного элемента к другому. Мозли считал, что это должно отражать фундаментальное атомное свойство, и этим свойством мог быть только ядерный заряд.
Открытие Мозли позволило ему (по словам Содди) “провести перекличку” элементов. В последовательности не могло быть пропусков, только равномерные, регулярные шаги. Если был пропуск, это означало, что элемент отсутствует.
Теперь точно знали порядок элементов и что существует девяносто два элемента и только девяносто два, от водорода до урана. И теперь стало ясно, что есть семь недостающих элементов, и только семь, которые ещё предстояло найти. “Аномалии”, связанные с атомными весами, были разрешены: теллур мог иметь немного больший атомный вес, чем йод, но он был элементом номер 52, а йод был 53. Именно атомный номер, а не атомный вес, был решающим.
Блестящая и стремительная работа Мозли, которая была полностью выполнена за несколько месяцев 1913-14 годов, вызвала неоднозначную реакцию среди химиков. Кто такой этот молодой выскочка, считали некоторые старшие химики, который осмелился завершить периодическую таблицу и исключить возможность открытия любых новых элементов, кроме тех, что он обозначил? Что он знал о химии – или о долгих, кропотливых процессах дистилляции, фильтрации, кристаллизации, которые могли быть необходимы для концентрации нового элемента или анализа нового соединения? Но Урбен, один из величайших аналитических химиков – человек, который провел пятнадцать тысяч фракционных кристаллизаций для выделения лютеция – сразу оценил масштаб достижения и увидел, что Мозли, вместо того чтобы нарушить автономию химии, фактически подтвердил периодическую таблицу и восстановил её центральное значение. “Закон Мозли… за несколько дней подтвердил выводы моей двадцатилетней кропотливой работы.”
Атомные номера использовались и раньше для обозначения порядковой последовательности элементов, ранжированных по их атомному весу, но Мозли придал атомным номерам реальный смысл. Атомный номер указывал на заряд ядра, определял идентичность элемента, его химическую идентичность абсолютным и определенным образом. Существовало, например, несколько форм свинца – изотопов – с разными атомными весами, но все они имели один и тот же атомный номер, 82. Свинец был по существу, в своей квинтэссенции, номером 82, и он не мог изменить свой атомный номер, не переставая быть свинцом. Вольфрам неизбежно и обязательно был элементом 74. Но как его “74-ость” наделяла его идентичностью?
***
Хотя Мозли показал истинное число и порядок элементов, другие фундаментальные вопросы всё ещё оставались – вопросы, которые мучили Менделеева и учёных его времени, вопросы, которые мучили дядю Эйба в молодости, и вопросы, которые теперь мучили меня, когда восторг от химии, спектроскопии и экспериментов с радиоактивностью уступил место неистовому “Почему? Почему? Почему?” Почему вообще существовали элементы, и почему они обладали именно такими свойствами? Что делало щелочные металлы и галогены, каждые по-своему, такими бурно реактивными? Что объясняло схожесть редкоземельных элементов и красивые цвета и магнитные свойства их солей? Что создавало уникальные и сложные спектры элементов и числовые закономерности, которые Бальмер обнаружил в них? И что, самое главное, позволяло элементам быть стабильными, сохранять себя неизменными на протяжении миллиардов лет не только на Земле, но, по-видимому, и на Солнце, и в звёздах? Это были те вопросы, над которыми мучился дядя Эйб в молодости, сорок лет назад – но в 1913 году, как он мне сказал, все эти вопросы и десятки других были, в принципе, отвечены, и внезапно открылся новый мир понимания.
Резерфорд и Мозли в основном занимались ядром атома, его массой и единицами электрического заряда. Но именно орбитальные электроны, предположительно, их организация и связи определяли химические свойства элемента и (как казалось) многие его физические свойства тоже. И здесь, с электронами, модель атома Резерфорда терпела неудачу. Согласно классической физике Максвелла, такой атом по типу солнечной системы не мог работать, поскольку электроны, вращающиеся вокруг ядра более триллиона раз в секунду, должны были создавать излучение в форме видимого света, и такой атом испускал бы мгновенную вспышку света, а затем схлопывался бы внутрь, когда его электроны, потеряв энергию, врезались бы в ядро. Но в действительности (за исключением радиоактивности) элементы и их атомы существовали миллиарды лет, фактически существовали вечно. Как же тогда атом мог быть стабильным, сопротивляясь тому, что, казалось бы, должно было быть почти мгновенной участью?
Необходимо было привлечь или изобрести совершенно новые принципы, чтобы примириться с этой невозможностью. Узнать об этом было третьим экстазом в моей жизни, по крайней мере, в моей “химической” жизни – первым было знакомство с Дальтоном и атомной теорией, а вторым – с Менделеевым и его периодической таблицей. Но третий, я думаю, был в некотором смысле самым ошеломляющим из всех, потому что он противоречил (или казалось, что противоречил) всей классической науке, которую я знал, и всему, что я знал о рациональности и причинности.
***
Именно Нильс Бор, также работавший в лаборатории Резерфорда в 1913 году, преодолел это невозможное, объединив атомную модель Резерфорда с квантовой теорией Планка. Представление о том, что энергия поглощается или излучается не непрерывно, а дискретными порциями, “квантами”, лежало безмолвно, как часовая бомба, с тех пор как Планк предложил его в 1900 году. Эйнштейн использовал эту идею применительно к фотоэлектрическим эффектам, но в остальном квантовая теория и её революционный потенциал странным образом игнорировались, пока Бор не ухватился за неё, чтобы обойти невозможности атома Резерфорда. Классический взгляд, модель солнечной системы, допускал бесконечное количество орбит электронов, все нестабильные, все врезающиеся в ядро. Бор, напротив, постулировал атом, имеющий ограниченное число дискретных орбит, каждая с определённым энергетическим уровнем или квантовым состоянием. Наименее энергетичную из них, ближайшую к ядру, Бор назвал “основным состоянием” – электрон мог оставаться здесь, вращаясь вокруг ядра, не излучая и не теряя энергию, вечно. Это был постулат потрясающей, вызывающей дерзости, подразумевающий, что классическая теория электромагнетизма может быть неприменима в микроскопической области атома.
В то время не было никаких доказательств этому; это был чистый скачок вдохновения, воображения – подобный тем скачкам, которые он теперь постулировал для самих электронов, когда они перепрыгивали, без предупреждения или промежуточных состояний, с одного энергетического уровня на другой. Ибо, помимо основного состояния электрона, постулировал Бор, существовали орбиты с более высокой энергией, более высокоэнергетические “стационарные состояния”, в которые электроны могли временно перемещаться. Таким образом, если атом поглощал энергию правильной частоты, электрон мог перейти из своего основного состояния на орбиту с более высокой энергией, хотя рано или поздно он вернулся бы в своё исходное основное состояние, излучая энергию точно той же частоты, которую он поглотил – это происходило при флуоресценции или фосфоресценции, и это объясняло идентичность спектральных линий излучения и поглощения, что было загадкой более пятидесяти лет.
Атомы, в представлении Бора, не могли поглощать или излучать энергию иначе как через эти квантовые скачки – и дискретные линии их спектров были просто выражением переходов между их стационарными состояниями. Приращения между энергетическими уровнями уменьшались с расстоянием от ядра, и эти интервалы, как рассчитал Бор, точно соответствовали линиям в спектре водорода (и формуле Бальмера для них). Это совпадение теории и реальности было первым великим триумфом Бора. Эйнштейн считал, что работа Бора была “огромным достижением”, и, оглядываясь назад тридцать пять лет спустя, он писал: “[это] даже сегодня кажется мне чудом… Это высшая форма музыкальности в сфере мысли.” Спектр водорода – спектры в целом – были такими же красивыми и бессмысленными, как узоры на крыльях бабочек, заметил Бор; но теперь можно было видеть, что они отражали энергетические состояния внутри атома, квантовые орбиты, в которых электроны вращались и пели. “Язык спектров, – писал великий спектроскопист Арнольд Зоммерфельд, – оказался атомной музыкой сфер.”
Могла ли квантовая теория быть распространена на более сложные, многоэлектронные атомы? Могла ли она объяснить их химические свойства, объяснить периодическую таблицу? Это стало главным направлением работы Бора после того, как научная жизнь возобновилась после Первой мировой войны.68
***
По мере увеличения атомного номера, с увеличением ядерного заряда или числа протонов в ядре, требовалось добавлять равное количество электронов для сохранения нейтральности атома. Но добавление этих электронов в атом, как представлял Бор, было иерархическим и упорядоченным. Хотя сначала он занимался потенциальными орбитами единственного электрона водорода, теперь он распространил свою концепцию на иерархию орбит или оболочек для всех элементов. Эти оболочки, предположил он, имели свои определённые и дискретные энергетические уровни, так что при добавлении электронов по одному они сначала занимали бы доступную орбиту с наименьшей энергией, и когда та заполнялась, следующую по энергии орбиту, затем следующую, и так далее. Оболочки Бора соответствовали периодам Менделеева, так что первая, самая внутренняя оболочка, как и первый период Менделеева, вмещала два элемента, и только два. Как только эта оболочка заполнялась двумя электронами, начиналась вторая оболочка, которая, как второй период Менделеева, могла вместить восемь электронов и не более. То же самое относилось к третьему периоду или оболочке. Посредством такого построения, или aufbau, считал Бор, все элементы могли быть систематически сконструированы и естественным образом заняли бы свои надлежащие места в периодической таблице.
Таким образом, положение каждого элемента в периодической таблице представляло количество электронов в его атомах, и реакционную способность и связи каждого элемента теперь можно было рассматривать с точки зрения электронов, в соответствии с заполнением внешней оболочки электронов, так называемых валентных электронов. Инертные газы имели заполненные внешние валентные оболочки с полным комплектом из восьми электронов, что делало их практически нереакционноспособными. Щелочные металлы в Группе I имели только один электрон в своей внешней оболочке и были крайне склонны избавиться от него, чтобы достичь стабильности конфигурации инертного газа; галогены в Группе VII, наоборот, с семью электронами в валентной оболочке, стремились приобрести дополнительный электрон и также достичь конфигурации инертного газа. Таким образом, когда натрий вступал в контакт с хлором, происходило немедленное (действительно взрывное) соединение, каждый атом натрия отдавал свой лишний электрон, а каждый атом хлора с радостью его принимал, оба при этом ионизировались.
Размещение переходных элементов и редкоземельных элементов в периодической таблице всегда создавало особые проблемы. Бор предложил элегантное и оригинальное решение: переходные элементы, по его предположению, содержали дополнительную оболочку из десяти электронов каждый; редкоземельные элементы - дополнительную оболочку из четырнадцати. Эти внутренние оболочки, глубоко спрятанные в случае редкоземельных элементов, не влияли на химический характер так сильно, как внешние оболочки; отсюда относительное сходство всех переходных элементов и крайнее сходство всех редкоземельных элементов.
Электронная периодическая таблица Бора, основанная на атомной структуре, была по существу такой же, как эмпирическая таблица Менделеева, основанная на химической активности (и практически идентичная блочным таблицам, разработанным в доэлектронную эпоху, таким как пирамидальная таблица Томсена и сверхдлинная таблица Вернера 1905 года). Независимо от того, выводили ли периодическую таблицу из химических свойств элементов или из электронных оболочек их атомов, приходили к одному и тому же результату.69 Мозли и Бор абсолютно четко показали, что периодическая таблица основана на фундаментальной числовой последовательности, определяющей количество элементов в каждом периоде: два в первом периоде, по восемь во втором и третьем, по восемнадцать в четвертом и пятом; тридцать два в шестом и, возможно, также в седьмом. Я повторял эту последовательность – 2, 8, 8, 18, 18, 32 – снова и снова про себя.
В этот момент я начал снова посещать Музей науки и часами разглядывать гигантскую периодическую таблицу, на этот раз сосредоточившись на атомных номерах, вписанных красным цветом в каждую ячейку. Я смотрел, например, на ванадий – в его ячейке был блестящий самородок – и думал о нем как об элементе 23, состоящем из 5 + 18: пять электронов во внешней оболочке вокруг “ядра” аргона из восемнадцати. Пять электронов – отсюда его максимальная валентность 5; но три из них образовывали неполную внутреннюю оболочку, и именно такая неполная оболочка, как я теперь узнал, приводила к характерным цветам и магнитной восприимчивости ванадия. Это количественное понимание не заменило конкретное, феноменологическое восприятие ванадия, а усилило его, потому что теперь я видел в атомных терминах объяснение того, почему ванадий обладал именно такими свойствами. Качественное и количественное слились в моем сознании; теперь к пониманию “ванадиевости” можно было подойти с любой стороны.
Вместе Бор и Мозли вернули мне арифметику, предоставив существенную, прозрачную арифметику периодической таблицы, которая была намечена, хотя и нечетко, атомными весами. Характер и идентичность элементов, по крайней мере большую их часть, теперь можно было вывести из их атомных номеров, которые указывали не только на ядерный заряд, но и представляли саму архитектуру каждого атома. Все это было божественно красиво, логично, просто, экономно – словно работали божественные счёты.
***
Что делало металлы металлическими? Электронная структура объясняла, почему металлическое состояние казалось фундаментальным, столь отличным по характеру от любого другого. Некоторые механические свойства металлов, их высокая плотность и температура плавления, теперь можно было объяснить силой связи электронов с ядром. Очень прочно связанный атом с высокой “энергией связи”, похоже, был связан с необычайной твердостью, плотностью и высокой температурой плавления. Именно поэтому мои любимые металлы – тантал, вольфрам, рений, осмий: металлы для нитей накаливания – имели самые высокие энергии связи среди всех элементов. (Таким образом, как я с удовольствием узнал, существовало атомное обоснование их исключительных качеств – и моих собственных предпочтений.)
Проводимость металлов приписывалась “газу” свободных и подвижных электронов, легко отделяющихся от своих родительских атомов – это объясняло, почему электрическое поле могло создавать ток подвижных электронов через проводник. Такой океан свободных электронов на поверхности металла также мог объяснить его особый блеск, поскольку, сильно осциллируя при воздействии света, они рассеивали или отражали свет обратно по его пути. Теория электронного газа также подразумевала, что при экстремальных условиях температуры и давления все неметаллические элементы, вся материя, могли быть приведены в металлическое состояние. Это уже было достигнуто с фосфором в 1920-х годах, и в 1930-х годах предсказывалось, что при давлении свыше миллиона атмосфер это может быть достигнуто и с водородом – предполагалось, что металлический водород может существовать в центре газовых гигантов, таких как Юпитер. Идея о том, что все может быть “металлизировано”, я находил глубоко удовлетворительной.70
***
Меня долго озадачивали особые свойства синего или фиолетового света, коротковолнового излучения, в противоположность красному или длинноволновому свету. Это было очевидно в фотолаборатории: можно было использовать довольно яркий рубиновый безопасный свет, который не засвечивал проявляемую пленку, тогда как малейший намек на белый свет, дневной свет (который, конечно, содержал синий), засвечивал её мгновенно. Это было очевидно и в лаборатории, где, например, хлор можно было безопасно смешивать с водородом при красном свете, но смесь взрывалась при малейшем присутствии белого света. И это было заметно в минералогическом шкафу дяди Дейва, где можно было вызвать фосфоресценцию или флуоресценцию синим или фиолетовым светом, но не красным или оранжевым. Наконец, были фотоэлементы у дяди Эйба в доме; они могли активироваться малейшим лучом синего света, но не реагировали даже на поток красного света.
Как могло получиться, что огромное количество красного света было менее эффективным, чем крошечное количество синего? Только после того, как я узнал кое-что о Боре и Планке, я понял, что ответ на эти кажущиеся парадоксы должен лежать в квантовой природе излучения и света, и квантовых состояниях атома. Свет или излучение приходили в минимальных единицах или квантах, энергия которых зависела от их частоты. Квант коротковолнового света – так сказать, синий квант – имел больше энергии, чем красный, а квант рентгеновских или гамма-лучей имел еще больше энергии. Каждый тип атома или молекулы – будь то соль серебра в фотографической эмульсии, или водород или хлор в лаборатории, или цезий или селен в фотоэлементах дяди Эйба, или сульфид или вольфрамат кальция в минералогическом шкафу дяди Дейва – требовал определенного специфического уровня энергии для получения отклика; и это могло быть достигнуто даже одним высокоэнергетическим квантом, тогда как тысяча низкоэнергетических квантов не могла вызвать такой эффект.
***
В детстве я думал, что свет имеет форму и размер, цветкоподобные формы пламени свечей, похожие на нераскрывшиеся магнолии, светящиеся многоугольники в вольфрамовых лампочках моего дяди. Только когда дядя Эйб показал мне свой спинтарископ, и я увидел в нем отдельные вспышки, я начал понимать, что свет, весь свет, исходит от атомов или молекул, которые сначала возбуждались, а затем, возвращаясь в основное состояние, отдавали свою избыточную энергию в виде видимого излучения. При нагреве твердого тела, такого как раскаленная добела нить, излучались энергии многих длин волн; при свечении пара, например натрия в натриевом пламени, излучались только определенные, очень специфические длины волн. (Синий свет в пламени свечи, который так завораживал меня в детстве, как я узнал позже, генерировался охлаждающимися молекулами дикарбона, когда они излучали энергию, поглощенную при нагревании.)
Но солнце и звезды были не похожи ни на какие земные источники света. Они обладали яркостью и белизной, превосходящей самые горячие лампы накаливания (некоторые, как Сириус, были почти синими). По излучаемой солнцем энергии можно было определить температуру его поверхности около 6000 градусов. Никто в его молодости, напоминал мне дядя Эйб, не имел представления о том, что могло обеспечивать такое огромное свечение и энергию солнца. Слово “накаливание” едва ли было подходящим, поскольку не было никакого горения или сгорания в обычном смысле – большинство химических реакций, собственно, прекращались при температуре выше 1000 градусов.
Могла ли гравитационная энергия, энергия, генерируемая сжатием гигантской массы, поддерживать существование солнца? Это тоже, казалось, было совершенно недостаточным для объяснения пылающего жара и энергии солнца и звёзд, не угасающих миллиарды лет. Радиоактивность также не была правдоподобным источником энергии, поскольку радиоактивные элементы не присутствовали в звёздах в достаточных количествах, а их выработка энергии была слишком медленной и неускоряемой.
Только в 1929 году была выдвинута другая идея: предположение о том, что при колоссальных температурах и давлениях внутри звезды атомы легких элементов могут сливаться вместе, образуя более тяжелые атомы – что атомы водорода, для начала, могут сливаться, образуя гелий; что источником космической энергии, одним словом, являются термоядерные реакции. Огромное количество энергии должно было быть затрачено на то, чтобы заставить легкие ядра слиться вместе, но после достижения слияния выделялось еще больше энергии. Это, в свою очередь, нагревало и заставляло сливаться другие легкие ядра, производя еще больше энергии, и это поддерживало термоядерную реакцию. Внутри солнца достигаются огромные температуры, порядка двадцати миллионов градусов. Мне было трудно представить такую температуру – печь при такой температуре (писал Джордж Гамов в “Рождении и смерти Солнца”) уничтожила бы все вокруг на сотни миль.
При таких температурах и давлениях атомные ядра – голые, лишенные электронов – носились бы с огромной скоростью (средняя энергия их теплового движения была бы сходна с энергией альфа-частиц) и постоянно сталкивались бы друг с другом без смягчения, сливаясь с образованием ядер более тяжелых элементов.
“Мы должны представлять себе внутреннюю часть Солнца [писал Гамов] как своего рода гигантскую природную алхимическую лабораторию, где превращение различных элементов друг в друга происходит почти так же легко, как обычные химические реакции в наших земных лабораториях.”
Превращение водорода в гелий производило огромное количество тепла и света, поскольку масса атома гелия была немного меньше массы четырех атомов водорода – и эта небольшая разница в массе полностью преобразовывалась в энергию согласно знаменитой формуле Эйнштейна e = mc². Для производства энергии, генерируемой солнцем, сотни миллионов тонн водорода должны были превращаться в гелий каждую секунду, но солнце состоит преимущественно из водорода, и его масса настолько огромна, что за время существования земли была израсходована лишь малая её часть. Если бы скорость слияния уменьшилась, солнце сжалось бы и нагрелось, восстанавливая скорость слияния; если бы скорость слияния стала слишком большой, солнце расширилось бы и остыло, замедляя её. Таким образом, как отмечал Гамов, солнце представляло собой “самый гениальный и, возможно, единственно возможный тип ‘ядерной машины’”, саморегулирующуюся печь, в которой взрывная сила ядерного синтеза идеально уравновешивалась силой гравитации. Слияние водорода в гелий не только обеспечивало огромное количество энергии, но и создавало новый элемент в мире. А атомы гелия при достаточном нагреве могли сливаться, образуя более тяжелые элементы, а эти элементы, в свою очередь, образовывали еще более тяжелые элементы.
Таким образом, благодаря захватывающему совпадению, одновременно были решены две древние проблемы: сияние звёзд и создание элементов. Бор представлял себе aufbau (построение) всех элементов, начиная с водорода, как чисто теоретическую конструкцию – но такое построение реализовывалось в звёздах. Водород, элемент I, был не только топливом вселенной, он был конечным строительным блоком вселенной, первичным атомом, как думал Праут еще в 1815 году. Это казалось очень элегантным и удовлетворительным – то, что все, что нужно было для начала, это первый, простейший из атомов.71
***
Атом Бора казался мне невыразимо, трансцендентно красивым – электроны, вращающиеся триллионы раз в секунду, вечно кружащие по предопределенным орбитам, настоящая машина вечного движения, ставшая возможной благодаря неделимости кванта и тому факту, что вращающийся электрон не тратил энергию, не совершал работы.
А более сложные атомы были еще прекраснее, потому что в них десятки электронов прокладывали отдельные пути, но организованные, как крошечные луковицы, в оболочки и подоболочки. Они казались мне не просто красивыми, эти воздушные, но неразрушимые вещи, но совершенными по-своему, такими же совершенными, как уравнения (которые действительно могли их выразить) в их балансировке чисел, сил, экранирования и энергий. И ничто, никакое обычное воздействие не могло нарушить их совершенство. Атомы Бора, несомненно, были близки к оптимальному миру Лейбница.
“Бог мыслит числами”, – говорила тетя Лен. “Числа – это то, как устроен мир”. Эта мысль никогда не покидала меня, и теперь казалось, что она охватывает весь физический мир. К этому времени я начал немного читать философию, и Лейбниц, насколько я мог его понять, особенно привлекал меня. Он говорил о “Божественной математике”, с помощью которой можно было создать самую богатую реальность самыми экономными средствами, и это, как мне теперь казалось, было очевидно повсюду: в прекрасной экономии, благодаря которой миллионы соединений могли быть созданы из нескольких десятков элементов, а сотня с лишним элементов – из самого водорода; экономии, благодаря которой весь диапазон атомов был составлен из двух или трех частиц; и в том, как их стабильность и идентичность гарантировались квантовыми числами самого атома – все это было достаточно прекрасно, чтобы быть работой Бога.
25
Конец одного романа
К тому времени, когда мне исполнилось четырнадцать, было “решено”, что я стану врачом; мои родители были врачами, братья учились в медицинской школе. Мои родители были терпимы и даже довольны моим ранним интересом к науке, но теперь, как им казалось, время игр закончилось. Один случай четко остался в моей памяти. Это было в 1947 году, пару лет после войны, и я был с родителями в нашем новом “Хамбере”, путешествуя по югу Франции. Сидя на заднем сиденье, я говорил о таллии, без конца рассуждая о нем: как его открыли вместе с индием в 1860-х годах по яркой зеленой линии в его спектре; как некоторые его соли при растворении могли образовывать растворы почти в пять раз плотнее воды; как таллий действительно был утконосом среди элементов, с парадоксальными свойствами, которые вызывали неопределенность в отношении его правильного размещения в периодической таблице – мягкий, тяжелый и легкоплавкий как свинец, химически родственный галлию и индию, но с темными оксидами как у марганца и железа, и бесцветными сульфатами как у натрия и калия. Соли таллия, как и соли серебра, были чувствительны к свету – можно было бы создать целую фотографию на основе таллия!
Таллиевый ион, продолжал я, имел большое сходство с ионом калия – сходство, которое было увлекательным в лаборатории или на производстве, но совершенно смертельным для организма, поскольку, будучи биологически почти неотличимым от калия, таллий проникал во все роли и пути калия и саботировал теперь беспомощный организм изнутри. Пока я болтал весело, нарциссически и слепо, я не замечал, что мои родители на переднем сиденье полностью замолчали, их лица стали скучающими, напряженными и неодобрительными – пока через двадцать минут они не могли больше терпеть, и мой отец резко выпалил: “Хватит о таллии!”
***
Но это не было внезапно – я не проснулся однажды утром и не обнаружил, что химия умерла для меня; это было постепенно, это подкрадывалось ко мне понемногу. Сначала это происходило, я думаю, даже без моего осознания. Где-то в пятнадцать лет я заметил, что больше не просыпаюсь с внезапным возбуждением – “Сегодня я получу раствор Клеричи! Сегодня я буду читать о Хамфри Дэви и электрических рыбах! Сегодня я наконец пойму диамагнетизм, возможно!” Я, казалось, больше не получал этих внезапных озарений, этих эпифаний, тех возбуждений, которые Флобер (которого я тогда читал) называл “эрекциями разума”. Эрекции тела – да, это была новая, экзотическая часть жизни – но те внезапные восторги разума, те внезапные пейзажи славы и озарения, казалось, покинули или оставили меня. Или это я, на самом деле, оставил их? Ведь я больше не ходил в свою маленькую лабораторию; я осознал это только когда однажды забрел туда и увидел легкий слой пыли на всем. Я почти не видел дядю Дейва или дядю Эйба месяцами и перестал носить с собой карманный спектроскоп.
Бывали времена, когда я сидел в Научной библиотеке, зачарованный на часы, полностью забыв о течении времени. Бывали моменты, когда мне казалось, что я вижу “силовые линии” или электроны, танцующие, парящие на своих орбиталях, но теперь эта полугаллюцинаторная способность тоже исчезла. Я стал менее мечтательным, более сосредоточенным, говорили школьные отчеты – таково было, возможно, производимое мной впечатление – но то, что я чувствовал, было совершенно иным; я чувствовал, что внутренний мир умер и был отнят у меня.
Я часто думал о рассказе Уэллса о двери в стене, волшебном саду, куда маленького мальчика впускают, и его последующем изгнании или исключении из него. Он не замечает сначала, в суете жизни и внешних достижений, что потерял что-то, затем осознание этого начинает расти в нем, разъедая и в конце концов уничтожая его. Бойль называл свою лабораторию “Элизиумом”; Герц говорил о физике как о “зачарованной сказочной стране”. Я чувствовал, что теперь нахожусь вне этого Элизиума, что двери сказочной страны теперь закрыты для меня, что я был изгнан из сада чисел, сада Менделеева, волшебных игровых царств, куда у меня был доступ в детстве.
***
С “новой” квантовой механикой, разработанной в середине 1920-х годов, уже нельзя было видеть электроны как маленькие частицы на орбите, теперь их нужно было рассматривать как волны; нельзя было больше говорить о положении электрона, только о его “волновой функции”, вероятности найти его в определенном месте. Нельзя было одновременно измерить его положение и скорость. Электрон, казалось, мог быть (в некотором смысле) везде и нигде одновременно. Все это заставляло мой разум кружиться. Я искал в химии, в науке порядок и определенность, и вдруг все это исчезло.72 Я оказался в состоянии шока, и я уже перерос своих дядей, и оказался один в глубокой воде.73
Эта новая квантовая механика обещала объяснить всю химию. И хотя я чувствовал восторг от этого, я также ощущал определенную угрозу. “Химия”, – писал Крукс, – “будет установлена на совершенно новой основе… Мы будем освобождены от необходимости эксперимента, зная a priori, каким должен быть результат каждого эксперимента”. Я не был уверен, что мне нравится, как это звучит. Означало ли это, что химикам будущего (если они будут существовать) никогда не придется фактически работать с химическими веществами; возможно, никогда не увидят цвета солей ванадия, никогда не почувствуют запах селенистого водорода, никогда не восхитятся формой кристалла; возможно, будут жить в бесцветном, лишенном запахов математическом мире? Для меня это казалось ужасной перспективой, потому что мне, по крайней мере, нужно было нюхать, трогать и чувствовать, помещать себя, свои чувства в центр мира восприятия.74
Я мечтал стать химиком, но химия, которая действительно волновала меня, была любовно детализированной, натуралистической, описательной химией девятнадцатого века, а не новой химией квантового века. Химия, какой я её знал, химия, которую я любил, либо закончилась, либо меняла свой характер, продвигаясь за пределы моего (или так я думал в то время). Я чувствовал, что пришел к концу пути, по крайней мере, своего пути, что я прошел свое путешествие в химию настолько далеко, насколько мог.
***
Я жил (как мне кажется в ретроспективе) в своего рода сладком промежутке, оставив позади ужасы и страхи Брейфилда. Меня направили в область порядка и страсти к науке два очень мудрых, любящих и понимающих дяди. Мои родители были поддерживающими и доверяющими, позволили мне собрать лабораторию и следовать своим прихотям. Школа, к счастью, была в значительной степени безразлична к тому, чем я занимался – я делал свою школьную работу, а в остальном был предоставлен самому себе. Возможно, также был биологический передых, особое спокойствие латентного периода.
Но теперь все это изменилось: другие интересы теснились, возбуждая меня, соблазняя, тянув в разные стороны. Жизнь стала шире, богаче в каком-то смысле, но также стала более поверхностной. Того спокойного глубокого центра, моей прежней страсти, больше не было. Подростковый возраст обрушился на меня, как тайфун, обрушивая меня ненасытными желаниями. В школе я покинул нетребовательную классическую “сторону” и вместо этого перешел на напряженную научную сторону. Я был избалован, в некотором смысле, моими двумя дядями и свободой и спонтанностью моего ученичества. Теперь в школе меня заставляли сидеть на уроках, делать записи и сдавать экзамены, использовать учебники, которые были плоскими, безличными, мертвыми. То, что было весельем, восторгом, когда я делал это по-своему, стало отвращением, испытанием, когда я должен был делать это по приказу. То, что было для меня святым предметом, полным поэзии, превращалось в прозаическое, профанное.
Был ли это, стало быть, конец химии? Мои собственные интеллектуальные ограничения? Подростковый период? Школа? Был ли это неизбежный ход событий, естественная история увлечения, что оно горит жарко, ярко, как звезда, некоторое время, а затем, исчерпав себя, угасает и исчезает? Означало ли это, что я нашел, по крайней мере в физическом мире и физической науке, ощущение стабильности и порядка, которое я так отчаянно искал, так что теперь мог расслабиться, чувствовать себя менее одержимым, двигаться дальше? Или, возможно, все было проще - я взрослел, и это взросление заставляет забыть лирические, мистические восприятия детства, о славе и свежести которых писал Вордсворт, так что они блекнут в свете обыденного дня?
Послесловие
К концу 1997 года Роальд Хоффман – мы были друзьями с тех пор, как я прочитал его “Химию воображаемую” несколько лет назад – зная кое-что о моем химическом детстве, прислал мне интригующую посылку. В ней был большой плакат периодической таблицы с фотографиями каждого элемента; химический каталог, чтобы я мог заказать несколько вещей; и маленький брусок очень плотного, сероватого металла, который упал на пол, когда я открывал пакет, приземлившись с резонирующим стуком. Я сразу узнал его по ощущению и звуку (“звук спеченного вольфрама”, говорил мой дядя, “ничего подобного нет”).
Я достал свои старые книги (и купил много новых), поставил маленький брусок вольфрама на крошечный пьедестал и обклеил кухню химическими таблицами. Я читаю списки космического распространения элементов в ванной. В холодные, мрачные субботние дни я могу свернуться калачиком с толстым томом Словаря прикладной химии Торпа – это была одна из любимых книг дяди Вольфрама – открывая его где угодно и читая наугад.
Страсть к химии, которую я считал умершей в четырнадцать лет, явно выжила глубоко внутри меня на протяжении всех промежуточных лет. Хотя моя жизнь пошла в другом направлении, я с волнением следил за новыми открытиями в химии. В мое время элементы заканчивались на номере 92, уране, но я внимательно наблюдал, как создавались новые элементы – элементы вплоть до 118! Эти новые элементы, вероятно, существуют только в лаборатории и не встречаются больше нигде во вселенной, но я был рад узнать, что самые последние из них, хотя и все еще радиоактивные, как считается, принадлежат к долгожданному “острову стабильности”, где атомные ядра почти в миллион раз стабильнее, чем у предшествующих элементов.
Астрономы теперь размышляют о гигантских планетах с ядрами из металлического водорода, звездах из алмаза и звездах с корой из железного гелида. Инертные газы удалось заставить вступать в соединения, и я видел фториды ксенона – почти немыслимые, фантастические для меня в 1940-х годах. Редкоземельные элементы, которые так любили и дядя Вольфрам, и дядя Эйб, теперь стали обычными и находят бесчисленные применения в флуоресцентных материалах, фосфорах всех цветов, высокотемпературных сверхпроводниках и крошечных магнитах невероятной силы. Возможности синтетической химии стали поразительными: теперь мы можем создавать молекулы практически с любой структурой, любыми свойствами, какими пожелаем.
Вольфрам, благодаря своей плотности и твердости, нашел новое применение в дротиках и теннисных ракетках и – что тревожно – в покрытии снарядов и ракет. Но также оказалось – это больше по моему вкусу – что он незаменим для некоторых примитивных бактерий, которые получают энергию, метаболизируя соединения серы в гидротермальных источниках океанских глубин. Если (как теперь предполагается) такие бактерии были первыми организмами на земле, то вольфрам мог быть решающим для возникновения жизни.
Старый энтузиазм всплывает время от времени в странных ассоциациях и импульсах: внезапное желание подержать шарик кадмия или почувствовать холод алмаза на своем лице. Номерные знаки машин сразу напоминают элементы, особенно в Нью-Йорке, где так много их начинается с U, V, W и Y – то есть урана, ванадия, вольфрама и иттрия. Это дополнительное удовольствие, бонус, благодать, если за символом элемента следует его атомный номер, как в W74 или Y39. Цветы тоже напоминают об элементах: цвет сирени весной для меня – это цвет двухвалентного ванадия. Редиска для меня вызывает запах селена.
Свет – старая семейная страсть – продолжает развиваться удивительным образом. Натриевые лампы, желтое великолепие, стали широко распространены в 1950-х, а кварц-йодные лампы, яркие галогенные лампы, появились в 1960-х. Если я бродил с карманным спектроскопом двенадцатилетним мальчиком по Пикадилли после войны, я вновь открыл ту же радость сейчас, гуляя с карманным спектроскопом по Таймс-сквер, видя городские огни Нью-Йорка как атомные эмиссии.
И я часто вижу химические сны ночью, сны, которые смешивают прошлое и настоящее, сетка периодической таблицы превращается в сетку Манхэттена. Расположение вольфрама на пересечении Группы VI и Периода 6 становится здесь синонимом пересечения Шестой авеню и Шестой улицы. (Такого пересечения в Нью-Йорке, конечно, нет, но оно существует, заметно, в Нью-Йорке моих снов.) Я вижу во сне, как ем гамбургеры из скандия. Иногда я также вижу во сне непонятный язык олова (возможно, путаное воспоминание о его жалобном “крике”). Но мой любимый сон – о походе в оперу (я Гафний), разделяя ложу в Метрополитен-опера с другими тяжелыми переходными металлами – моими старыми и ценными друзьями – Танталом, Рением, Осмием, Иридием, Платиной, Золотом и Вольфрамом.
Благодарности
Я в огромном долгу перед моими братьями, кузенами и, не в последнюю очередь, моими старыми друзьями, которые поделились воспоминаниями, письмами, фотографиями и памятными вещами всех видов; я не смог бы восстановить события столь давнего времени без них. Я писал о них и других с некоторой тревогой: “Всегда опасно”, как заметил Примо Леви, “превращать человека в персонажа”.
Кейт Эдгар, мой ассистент и редактор многих моих предыдущих книг, была фактически соавтором этой книги, не только редактируя бесчисленные черновики, которые я создавал, но и встречаясь с химиками вместе со мной, спускаясь в шахты, терпя запахи и взрывы, электрические разряды и случайные радиоактивные излучения, и мирясь с офисом, все больше заполнявшимся периодическими таблицами, спектроскопами, кристаллами, свисающими в перенасыщенных растворах, катушками проволоки, батареями, химикатами и минералами. Эта книга все еще была бы двухмиллионным словесным раскопом, если бы не её способности к дистилляции.
Шерил Картер, также работавшая со мной, открыла для меня чудеса Интернета (я компьютерно неграмотен и делаю все свои записи ручкой или на старой пишущей машинке) и нашла книги, статьи, научные инструменты и игрушки всех видов, которые я никогда не смог бы достать сам.
В 1993 году я написал рецензию-эссе в New York Review of Books на книгу Дэвида Найта о Хамфри Дэви, которая во многом возродила мой давно дремавший интерес к химии. Я благодарен Бобу Силверсу за поддержку в этом.
Моя статья “Brilliant Light”, ранний фрагмент этой книги, появившаяся в The New Yorker, была блестяще отредактирована (и озаглавлена) моим редактором там, Джоном Беннетом; а Дэн Франк в Knopf сыграл решающую роль в помощи направить книгу к её нынешней форме.
Вскоре после начала работы над этой книгой я имел огромное удовольствие встретиться с героем моего детства, Гленном Сиборгом, и впоследствии встречался или переписывался с химиками по всему миру. Эти химики, слишком многочисленные, чтобы называть их всех, были удивительно гостеприимны к постороннему, бывшему юному энтузиасту, и показали мне чудеса, которые не могла бы представить самая дикая научная фантастика моего детства, такие как “видение” настоящих атомов (через вольфрамовый наконечник атомно-силового микроскопа), а также потакали некоторым ностальгическим желаниям увидеть снова, среди прочего, глубокую синеву натрия, растворенного в жидком аммиаке; и крошечные магниты, левитирующие над сверхпроводниками, охлажденными жидким азотом, - магическое, бросающее вызов гравитации парение, о котором я мечтал в детстве.
Но прежде всего именно Роальд Хоффман был бесконечно вдохновляющим и поддерживающим, и сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы показать мне то чудесное явление, которым является химия сейчас – и именно Роальду, поэтому, я посвящаю эту книгу.
Notes
Идеальный Металл
1
Только один человек остался: мисс Леви, секретарь моего отца. Она работала у него с 1930 года, и хотя была несколько сдержанной и формальной (было бы немыслимо называть её по имени; она всегда была мисс Леви) и всегда занятой, она иногда позволяла мне сидеть у газового камина в её маленькой комнате и играть, пока она печатала письма моего отца. (Я любил стук клавиш пишущей машинки и маленький звоночек, который звенел в конце каждой строки.) Мисс Леви жила в пяти минутах ходьбы (на Шут-Ап Хилл, название, которое, как мне казалось, больше подходило для Тумстоуна, чем для Килберна), и она приходила ровно в девять часов каждое будничное утро; она никогда не опаздывала, никогда не была в плохом настроении или взволнована, никогда не болела за все годы, что я её знал. Её расписание, её ровное присутствие оставались постоянными на протяжении всей войны, даже когда всё остальное в доме изменилось. Она казалась невосприимчивой к превратностям жизни.
Мисс Леви, которая была на пару лет старше моего отца, продолжала работать по пятьдесят часов в неделю, пока ей не исполнилось девяносто, без видимых уступок возрасту. Выход на пенсию был для неё немыслим, как и для моих родителей.
2
Во время Бурской войны все беспокоились за африканских родственников, и это, должно быть, глубоко впечатлило мою мать, потому что даже сорок лет спустя она все еще пела или декламировала детский стишок той эпохи:
Раз, два, три – освобождение Кимберли
Четыре, пять, шесть – освобождение Ледисмита
Семь, восемь, девять – освобождение Блумфонтейна
3 В девятнадцатом веке было много попыток создать искусственные алмазы, самые известные из которых принадлежат Анри Муассану, французскому химику, который первым выделил фтор и изобрел электрическую печь. Сомнительно, получил ли Муассан какие-либо алмазы на самом деле – крошечные твердые кристаллы, которые он принял за алмазы, вероятно, были карбидом кремния (который теперь называется муассанитом). Атмосфера этого раннего алмазного производства, с его волнениями, опасностями и безудержными амбициями, ярко передана в рассказе Герберта Уэллса “Производитель алмазов”.
4
Братья д’Элюйар, Хуан Хосе и Фаусто, были членами Баскского общества друзей своей страны, общества, посвященного развитию искусств и наук, которое собиралось каждый вечер, обсуждая математику по понедельникам, экспериментируя с электрическими машинами и воздушными насосами по вторникам, и так далее. В 1777 году братья были отправлены за границу, один изучать минералогию, другой – металлургию. Их путешествия охватили всю Европу, и один из них, Хуан Хосе, посетил Шееле в 1782 году.
После возвращения в Испанию братья исследовали тяжелый черный минерал вольфрамит и получили из него плотный желтый порошок (“вольфрамовую кислоту”), который, как они поняли, был идентичен вольфрамовой кислоте, полученной Шееле из минерала “тунг-стен” в Швеции, и который, как он был убежден, содержал новый элемент. Они пошли дальше, чего не сделал Шееле, нагрев его с древесным углем, и получили чистый новый металлический элемент (который они назвали вольфрамием) в 1783 году.
Страна Стибнита
5 Криолит был основным минералом в огромной пегматитовой массе в Ивигтуте, Гренландия, и эта руда добывалась непрерывно более century. Шахтеры, которые приплыли из Дании, иногда брали глыбы прозрачного криолита, чтобы использовать их в качестве якорей для своих лодок, и так и не привыкли к тому, как эти глыбы исчезали, становились невидимыми в тот момент, когда опускались под поверхность воды.
6
Помимо примерно сотни названий существующих элементов, было по меньшей мере вдвое больше названий для элементов, которые так и не появились - элементов, существование которых предполагалось или заявлялось на основе уникальных химических или спектроскопических характеристик, но позже оказавшихся известными элементами или смесями. Многие были названы в честь мест, часто экзотических, и были отброшены, поскольку элементы оказались ложными: “флорентий”, “молдавий”, “норвегий” и “гельвеций”, “австрий” и “руссий”, “иллиний”, “виргиний” и “алабамин”, и великолепно названный “богемий”.
Меня странным образом трогали эти вымышленные элементы и их названия, особенно те, что были названы в честь звёзд. Самыми красивыми на мой слух были “альдебараний” и “кассиопей” (названия Ауэра для реально существующих элементов - иттербия и лютеция) и “денебий” для мифического редкоземельного элемента. Были также “космий” и “нейтроний” (“элемент о”), не говоря уже об “архонии”, “астерии”, “эфирии” и пра-элементе “анодии”, из которого предположительно были построены все остальные элементы.
Иногда для новых открытий существовали конкурирующие названия. Андрес дель Рио открыл ванадий в Мексике в 1800 году и назвал его “панхромием” из-за разнообразия его многоцветных солей. Но другие химики сомневались в его открытии, и он в конце концов отказался от своих претензий, а элемент был переоткрыт и переименован только тридцать лет спустя шведским химиком, на этот раз в честь Ванадис, скандинавской богини красоты. Другие устаревшие или дискредитированные названия также относились к реальным элементам: так, великолепный “жаргоний”, элемент, предположительно присутствующий в цирконах и циркониевых рудах, скорее всего, был реальным элементом гафнием.
Химические рекреации
7
Томас Манн представляет прекрасное описание силикатных садов в “Докторе Фаустусе”:
“Я никогда не забуду это зрелище. Сосуд… был на три четверти наполнен слегка мутной водой – то есть разбавленным жидким стеклом – и с песчаного дна поднимался причудливый маленький ландшафт из разноцветных образований: беспорядочная растительность из голубых, зеленых и коричневых побегов, напоминающих водоросли, грибы, прикрепленные полипы, а также мхи, затем ракушки, стручки плодов, маленькие деревца или веточки деревьев, местами – конечности. Это было самое удивительное зрелище, которое я когда-либо видел, и удивительное не столько своим видом, каким бы странным и поразительным он ни был, сколько своей глубоко меланхоличной природой. Когда отец Леверкюн спросил нас, что мы об этом думаем, и мы робко ответили, что это могут быть растения, он возразил: ‘Нет, это не они, они только действуют так. Но не думайте о них хуже из-за этого. Именно потому, что они так поступают, потому что они стараются изо всех сил, они достойны всяческого уважения.’”
8 Гриффин был не только педагогом на многих уровнях - он написал “Радикальную теорию в химии” и “Систему кристаллографии”, оба более технические, чем его “Развлечения” - но также производителем и поставщиком химического оборудования: его “химические и философские приборы” использовались по всей Европе. Его фирма, позже ставшая Griffin & Tatlock, все еще оставалась крупным поставщиком столетие спустя, когда я был мальчиком.
Вонь и Взрывы
9
Я могу предоставить перевод этого короткого отрывка из книги Джона Херси “Хиросима”:
“Когда он пробрался сквозь кусты, он увидел около двадцати человек, и все они находились в одинаковом кошмарном состоянии: их лица были полностью обожжены, глазницы пусты, жидкость из расплавленных глаз стекала по щекам. (Должно быть, их лица были обращены вверх, когда взорвалась бомба…)”
10
Такие мысли о “настройке”, как я позже прочитал, впервые были высказаны в восемнадцатом веке математиком Эйлером, который приписывал цвет объектов наличию на их поверхности “маленьких частиц” – атомов – настроенных реагировать на свет различных частот. Таким образом, объект выглядел красным потому, что его “частицы” были настроены вибрировать, резонировать с красными лучами в падающем на него свете:
“Природа излучения, благодаря которому мы видим непрозрачный объект, зависит не от источника света, а от колебательного движения очень маленьких частиц [атомов] на поверхности объекта. Эти маленькие частицы подобны натянутым струнам, настроенным на определенную частоту, которые вибрируют в ответ на подобные колебания воздуха, даже если никто их не дергает. Подобно тому, как натянутая струна возбуждается тем же звуком, который она издает, частицы поверхности начинают вибрировать в унисон с падающим излучением и излучать собственные волны во всех направлениях.”
Дэвид Парк в своей книге “Огонь внутри глаза: Исторический очерк о природе и значении света” пишет о теории Эйлера:
“Я думаю, это был первый случай, когда кто-либо из верящих в атомы предположил, что они имеют вибрирующую внутреннюю структуру. Атомы Ньютона и Бойля – это скопления твердых маленьких шариков, атомы Эйлера подобны музыкальным инструментам. Его ясновидческое прозрение было заново открыто намного позже, и когда это произошло, никто не помнил, кто первым высказал эту идею.”
11
Теперь, конечно, ни один из этих химикатов нельзя купить, и даже школьные или музейные лаборатории все больше ограничиваются реагентами, которые менее опасны – и менее интересны.
Лайнус Полинг в автобиографическом очерке описал, как он тоже получил цианид калия (для морилки) у местного аптекаря:
“Только подумайте о различиях сегодня. Молодой человек интересуется химией и получает химический набор. Но в нем нет цианида калия. В нем даже нет сульфата меди или чего-либо еще интересного, потому что все интересные химикаты считаются опасными веществами. Поэтому у этих начинающих молодых химиков нет шанса сделать что-либо увлекательное со своими химическими наборами. Оглядываясь назад, я думаю, довольно удивительно, что мистер Циглер, этот друг семьи, так легко передал мне, одиннадцатилетнему мальчику, треть унции цианида калия.”
Когда я недавно посетил старое здание в Финчли, которое было домом Griffin & Tatlock полвека назад, его уже не было. Такие магазины, такие поставщики, которые обеспечивали химикатами и простыми приборами и предоставляли невообразимые удовольствия для поколений, теперь практически исчезли.
Домашние визиты
12
Много лет спустя, когда я прочитал замечательное описание Ллойда Джорджа, сделанное Кейнсом (в “Экономических последствиях мира”), оно странным образом напомнило мне тетю Лину. Кейнс говорит о “безошибочной, почти медиумической чувствительности” британского премьер-министра “ко всем, кто находился рядом с ним”.
“Видеть [его], наблюдающего за компанией с помощью шести или семи чувств, недоступных обычным людям, оценивающего характер, мотивы и подсознательные импульсы, понимающего, о чем каждый думает и даже что каждый собирается сказать дальше, составляющего с телепатическим инстинктом аргументы или обращения, наилучшим образом подходящие к тщеславию, слабости или личной выгоде его непосредственного собеседника, – значило понять, что бедный Президент [Вильсон] будет играть в жмурки на этой встрече.”
Химический язык
13
Сам Гук стал чудом научной энергии и изобретательности, чему способствовали его механический гений и математические способности. Он вел объемные, детально проработанные журналы и дневники, которые дают несравненную картину не только его собственной непрерывной умственной деятельности, но и всей интеллектуальной атмосферы науки семнадцатого века. В своей “Микрографии” Гук проиллюстрировал свой составной микроскоп, наряду с рисунками сложных, никогда ранее не виданных структур насекомых и других существ (включая знаменитую картину бробдиньягской вши, прикрепленной к человеческому волосу толщиной с шест баржи). Он определял частоту взмахов крыльев мух по их музыкальному тону. Он впервые интерпретировал ископаемые как останки и отпечатки вымерших животных. Он проиллюстрировал свои проекты измерителя ветра, термометра, гигрометра, барометра. И он проявлял интеллектуальную смелость, иногда даже большую, чем у Бойля, как, например, в его понимании горения, которое, по его словам, “осуществляется веществом, присущим и смешанным с воздухом”. Он отождествил это со “свойством воздуха, которое он теряет в легких”. Эта идея о веществе, присутствующем в ограниченных количествах в воздухе, которое необходимо для горения и дыхания и расходуется в этих процессах, гораздо ближе к концепции химически активного газа, чем теория Бойля об огненных частицах.
Многие идеи Гука были почти полностью проигнорированы и забыты, так что один ученый заметил в 1803 году: “Я не знаю более необъяснимой вещи в истории науки, чем полное забвение этой теории доктора Гука, столь ясно выраженной и столь способной привлечь внимание”. Одной из причин этого забвения была непримиримая вражда Ньютона, который развил такую ненависть к Гуку, что не соглашался занять пост президента Королевского общества, пока Гук был жив, и делал все возможное, чтобы уничтожить репутацию Гука. Но глубже этого, возможно, лежит то, что Гюнтер Стент называет “преждевременностью” в науке - многие идеи Гука (и особенно те, что касались горения) были настолько радикальными, что оказались неусваиваемыми, даже непонятными для принятого мышления его времени.
14
В своей биографии Лавуазье Дуглас Макки включает исчерпывающий список научной деятельности Лавуазье, который ярко рисует картину его времени не меньше, чем его собственный замечательный диапазон мышления: “Лавуазье участвовал,” пишет Макки,
“…в подготовке отчетов о водоснабжении Парижа, тюрьмах, месмеризме, фальсификации сидра, размещении общественных скотобоен, недавно изобретенных ‘аэростатических машинах Монгольфье’ (воздушных шарах), отбеливании, таблицах удельного веса, гидрометрах, теории цветов, лампах, метеоритах, бездымных каминах, изготовлении гобеленов, гравировке гербов, бумаге, ископаемых, инвалидном кресле, водяных мехах, винном камне, серных источниках, выращивании капусты и рапса и извлекаемых из них маслах, терке для табака, разработке угольных шахт, белом мыле, разложении селитры, производстве крахмала… хранении пресной воды на кораблях, фиксированном воздухе, сообщении о наличии масла в родниковой воде… удалении масла и жира с шелка и шерсти, приготовлении азотного эфира путем дистилляции, эфирах, отражательном очаге, новых чернилах и чернильнице, к которым нужно было только добавлять воду для поддержания запаса чернил…, определении щелочи в минеральных водах, пороховом складе для Парижского Арсенала, минералогии Пиренеев, пшенице и муке, выгребных ямах и исходящем из них воздухе, предполагаемом наличии золота в золе растений, мышьяковой кислоте, разделении золота и серебра, основе английской соли, наматывании шелка, растворе олова, используемом в крашении, вулканах, гниении, огнетушащих жидкостях, сплавах, ржавлении железа, предложении использовать ‘воспламеняющийся воздух’ в публичном фейерверке (это по просьбе полиции), угольных пластах, дефлогистированной морской кислоте, фитилях для ламп, естественной истории Корсики, мефитических испарениях парижских колодцев, предполагаемом растворении золота в азотной кислоте, гигрометрических свойствах соды, железных и соляных разработках Пиренеев, серебросодержащих свинцовых рудниках, новом виде бочек, производстве листового стекла, топливе, превращении торфа в древесный уголь, строительстве мельниц, производстве сахара, необычайных эффектах удара молнии, вымачивании льна, минеральных отложениях Франции, плакированной кухонной посуде, образовании воды, чеканке монет, барометрах, дыхании насекомых, питании растений, пропорциях компонентов в химических соединениях, вегетации и многих других предметах, слишком многочисленных, чтобы описать их здесь даже в самых кратких выражениях.”
15 Бойль экспериментировал с горением металлов за сто лет до этого и хорошо знал, что они увеличивались в весе при сгорании, образуя окалину или золу, которая была тяжелее исходного материала. Но его объяснения увеличения веса были механическими, а не химическими: он рассматривал это как поглощение “частиц огня”. Аналогично, он рассматривал сам воздух не в химических терминах, а скорее как особый вид упругой жидкости, используемой в своего рода механической вентиляции для вымывания примесей из легких. Результаты не были последовательными в столетие, последовавшее за Бойлем, отчасти потому, что гигантские “зажигательные стекла”, которые использовались, были такой мощности, что вызывали частичное испарение или возгонку некоторых металлических оксидов, приводя к потерям, а не к увеличению веса. Но еще чаще взвешивания вообще не производилось, поскольку аналитическая химия в то время все еще была в основном качественной.
16
В этом же месяце Лавуазье получил письмо от Шееле, описывающее получение того, что Шееле называл Огненным Воздухом (кислородом), смешанным с Фиксированным Воздухом (углекислым газом), путем нагревания карбоната серебра; Шееле получил чистый Огненный Воздух из оксида ртути даже раньше, чем Пристли. Но в итоге Лавуазье заявил об открытии кислорода как о своем собственном и едва признал открытия своих предшественников, считая, что они не осознавали, что именно они наблюдали.
Все это, и вопрос о том, что составляет “открытие”, исследуется в пьесе “Кислород”, написанной Роальдом Хоффманном и Карлом Джерасси.
17 Замена концепции флогистона на концепцию окисления имела немедленные практические последствия. Теперь стало ясно, например, что горящему топливу требовалось как можно больше воздуха для полного сгорания. Франсуа-Пьер Арган, современник Лавуазье, быстро воспользовался новой теорией горения, разработав лампу с плоским ленточным фитилем, изогнутым так, чтобы поместиться внутри цилиндра, благодаря чему воздух мог поступать к нему как изнутри, так и снаружи, и с дымоходом, который создавал восходящий поток воздуха. Горелка Аргана была хорошо отработана к 1783 году; до этого не существовало столь эффективной или яркой лампы.
18 Список элементов Лавуазье включал три газа, которые он назвал (кислород, азот [nitrogen] и водород), три неметалла (серу, фосфор и углерод) и семнадцать металлов. Он также включал муриатические, фтористые и борные “радикалы” и пять “земель”: мел, магнезию, барит, глинозем и кремнезем. Эти радикалы и земли, как он предполагал, были соединениями, содержащими новые элементы, которые, по его мнению, вскоре будут получены (все они действительно были получены к 1825 году, за исключением фтора, выделение которого не удавалось еще шестьдесят лет). Его последними двумя “элементами” были Свет и Теплота – как будто он не смог полностью освободиться от призрака флогистона.
19 Более чем пятьдесят лет спустя (на мой шестьдесят пятый день рождения) я смог осуществить эту детскую фантазию и имел, помимо обычных гелиевых шаров, несколько ксеноновых шаров поразительной плотности – настолько близких к “свинцовым шарам”, насколько это возможно (гексафторид вольфрама, хотя и более плотный, было бы слишком опасно использовать – он гидролизуется влажным воздухом, производя фтористоводородную кислоту). Если покрутить эти ксеноновые шары в руке, а затем остановить, тяжелый газ по инерции продолжал вращаться около минуты, почти как если бы это была жидкость.
Хамфри Дэви: Поэт-химик
20
Хотя Кавендиш первым заметил, что водород и кислород при взрыве вместе создают воду, он интерпретировал их реакцию в терминах теории флогистона. Лавуазье, услышав о работе Кавендиша, повторил эксперимент, правильно переосмыслив результаты, и заявил об открытии как о своем собственном, не признав заслуг Кавендиша. Кавендиша это не тронуло, поскольку он был совершенно безразличен к вопросам приоритета и, в сущности, ко всем чисто человеческим или эмоциональным вопросам.
В то время как Бойль, Пристли и Дэви были в высшей степени человечными и привлекательными личностями, а также блестящими учеными, Кавендиш был совершенно другой фигурой. Диапазон его достижений был поразительным: от открытия водорода и его прекрасных исследований тепла и электричества до его знаменитого (и удивительно точного) взвешивания Земли. Не менее поразительными и уже при его жизни ставшими легендарными были его практически полная изоляция (он редко с кем-либо разговаривал и настаивал, чтобы слуги общались с ним письменно), его безразличие к славе и богатству (хотя он был внуком герцога и большую часть жизни был самым богатым человеком в Англии), его простодушие и непонимание всех человеческих отношений. Я был глубоко тронут, но еще больше озадачен, когда прочитал о нем больше.
“Он не любил; он не ненавидел; он не надеялся; он не боялся; он не поклонялся, как другие [писал его биограф Джордж Уилсон в 1851 году]. Он отделил себя от своих собратьев и, по-видимому, от Бога. В его природе не было ничего искреннего, восторженного, героического или рыцарского, и столь же мало было в ней чего-либо подлого, низменного или неблагородного. Он был практически бесстрастен. Все, что требовало для своего понимания больше, чем чистый интеллект, или требовало проявления фантазии, воображения, привязанности или веры, было неприятно Кавендишу. Мыслящая интеллектуальная голова, пара удивительно острых наблюдающих глаз и пара очень умелых рук, проводящих эксперименты или ведущих записи, – вот все, что я осознаю, читая его мемуары. Его мозг, кажется, был лишь вычислительной машиной; его глаза – приемниками зрения, а не источниками слез; его руки – инструментами манипуляций, которые никогда не дрожали от эмоций и не складывались вместе в поклонении, благодарности или отчаянии; его сердце было лишь анатомическим органом, необходимым для циркуляции крови…”
Тем не менее, продолжал Уилсон:
“Кавендиш не держался в стороне от других людей из гордости или высокомерия, отказываясь считать их своими собратьями. Он чувствовал себя отделенным от них огромной пропастью, которую ни они, ни он не могли преодолеть, и через которую было бесполезно протягивать руки или обмениваться приветствиями. Чувство изоляции от своих собратьев заставляло его избегать их общества и присутствия, но он делал это как человек, осознающий свой недостаток, а не хвастающийся превосходством. Он был подобен глухонемому, сидящему в стороне от круга людей, чьи взгляды и жесты показывают, что они произносят и слушают музыку и красноречие, в создании или восприятии которых он не может участвовать. Поэтому он мудро жил отдельно и, попрощавшись с миром, принял самоналоженные обеты Научного Отшельника и, подобно монахам древности, заперся в своей келье. Это было достаточным для него королевством, и из его узкого окна он видел столько Вселенной, сколько хотел видеть. У него также был трон, с которого он раздавал королевские дары своим собратьям. Он был одним из тех неотблагодаренных благодетелей своей расы, который терпеливо учил человечество и служил ему, в то время как люди сторонились его холодности или насмехались над его особенностями… Он не был Поэтом, Священником или Пророком, а только холодным, ясным Разумом, излучающим чистый белый свет, который все освещал, на что падал, но ничего не согревал – Звезда по крайней мере второй, если не первой величины на Интеллектуальном Небосводе.”
Много лет спустя я перечитал удивительную биографию Уилсона и задумался, чем (в клинических терминах) “страдал” Кавендиш. Эмоциональные особенности Ньютона – его ревность и подозрительность, его интенсивная враждебность и соперничество – указывали на глубокий невроз; но отстраненность и простодушие Кавендиша гораздо больше указывали на аутизм или синдром Аспергера. Теперь я думаю, что биография Уилсона может быть самым полным описанием жизни и разума уникального гения-аутиста, которое мы когда-либо сможем иметь.
21 Легкость получения водорода и кислорода путем электролиза, в идеально воспламеняемых пропорциях, сразу привела к изобретению кислородно-водородной паяльной горелки, которая создавала более высокие температуры, чем когда-либо достигались прежде. Это позволило, например, плавить платину и нагревать известь до температуры, при которой она излучала самый яркий продолжительный свет, когда-либо виденный.
22 Менделеев, шестьдесят лет спустя, говорил об открытии Дэви натрия и калия как об “одном из величайших открытий в науке” – великом в том, что оно принесло новый и мощный подход к химии, в определении существенных качеств металла и в демонстрации парности и аналогии элементов, что подразумевало существование фундаментальной химической группы.
23 Огромная химическая активность калия сделала его мощным новым инструментом в выделении других элементов. Сам Дэви использовал его всего через год после его открытия для получения элемента бора из борной кислоты, и он пытался получить кремний тем же методом (Берцелиус преуспел здесь в 1824 году). Алюминий и бериллий несколько лет спустя также были выделены с использованием калия.
24 Мэри Шелли в детстве была очарована вступительной лекцией Дэви в Королевском институте, и годы спустя в “Франкенштейне” она смоделировала лекцию профессора Вальдмана по химии довольно близко к словам Дэви, когда он, говоря о гальваническом электричестве, сказал: “было открыто новое влияние, которое позволило человеку получать из комбинаций мертвой материи эффекты, которые прежде вызывались только животными органами.”
25
Дэвид Найт в своей блестящей биографии Дэви говорит о страстном параллелизме, почти мистическом чувстве близости и взаимопонимания, которое испытывали Колридж и Дэви, и о том, как они в какой-то момент планировали вместе создать химическую лабораторию. В своей книге “Друг” Колридж писал:
“Вода и пламя, алмаз, уголь… созываются и братаются теорией химика… Это ощущение принципа связи, данного разумом и подтвержденного соответствием природы… Если в Шекспире мы находим природу, идеализированную в поэзию через созидательную силу глубокой, но наблюдательной медитации, так через медитативное наблюдение Дэви… мы находим поэзию как бы воплощенной и реализованной в природе: да, сама природа раскрывается нам… как одновременно поэт и поэма!”
Колридж был не единственным писателем, кто “обновлял свой запас метафор” образами из химии. Химическому термину “избирательное сродство” Гёте придал эротический оттенок; Китс, получивший медицинское образование, упивался химическими метафорами. Элиот в “Традиции и индивидуальном таланте” использует химические метафоры от начала до конца, кульминацией которых становится величественная, в духе Дэви, метафора для разума поэта: “Аналогия здесь - катализатор… Разум поэта - это кусочек платины.”
26
Великий химик Юстус фон Либих ярко писал об этом чувстве в своей автобиографии:
“[Химия] развила во мне способность, которая свойственна химикам больше, чем другим естествоиспытателям, – мыслить в терминах явлений; нелегко дать ясное представление о явлениях тому, кто не может воссоздать в своем воображении мысленную картину того, что он видит и слышит, как это делают, например, поэт и художник… У химика существует такая форма мышления, при которой все идеи становятся видимыми в уме, как звуки воображаемого музыкального произведения…
Способность мыслить явлениями может быть развита только при постоянной тренировке ума, и в моем случае это достигалось тем, что я стремился выполнить, насколько позволяли мои средства, все эксперименты, описание которых я читал в книгах… Я повторял такие эксперименты… бесчисленное количество раз,… пока не узнал досконально каждый аспект представляющегося явления… память чувства, то есть зрения, ясное восприятие сходства или различий вещей или явлений, что впоследствии очень мне пригодилось.”
27 Дэви продолжал свои исследования пламени и через год после создания защитной лампы опубликовал “Некоторые философские исследования пламени”. Более чем сорок лет спустя Фарадей вернется к этой теме в своих знаменитых лекциях в Королевском институте о “Химической истории свечи”.
28 Развивая наблюдения Дэви о катализе, Дёберейнер обнаружил в 1822 году, что платина, если она тонко измельчена, не только раскаляется добела, но и воспламеняет поток водорода, проходящий над ней. На этой основе он создал лампу, состоящую в основном из плотно закупоренной бутылки, содержащей кусок цинка, который можно было опускать в серную кислоту, генерируя водород. Когда кран бутылки открывался, водород устремлялся в маленький контейнер, содержащий кусочек платиновой губки, и мгновенно вспыхивал пламенем (несколько опасным пламенем, потому что оно было практически невидимым, и нужно было быть осторожным, чтобы избежать ожогов). В течение пяти лет в Германии и Англии использовалось двадцать тысяч ламп Дёберейнера, так что Дэви имел удовольствие видеть катализ в действии, ставший незаменимым в тысячах домов.
Изображения
29 Меня также интриговала (хотя я никогда ей не занимался) кинофотография. И здесь опять именно Уолтер заставил меня осознать, что в фильме нет реального движения, а только последовательность неподвижных изображений, которые мозг синтезирует, создавая впечатление движения. Он продемонстрировал это мне на своем кинопроекторе, замедляя его, чтобы показать мне только неподвижные изображения, а затем ускоряя его до тех пор, пока внезапно не возникала иллюзия движения. У него был зоетроп с изображениями, нарисованными на внутренней стороне колеса, и тауматроп с рисунками на стопке карточек, которые при вращении или быстром перелистывании создавали ту же иллюзию. Так что у меня появилось ощущение, что движение тоже конструируется мозгом, аналогично тому, как это происходит с цветом и глубиной.
30 Упоминание Уэллсом о неизвестном элементе марсиан также заинтриговало меня позже, когда я узнал о спектрах, поскольку он описал его в начале книги как “дающий группу из четырех линий в синей части спектра”, хотя впоследствии – перечитывал ли он то, что написал? – как дающий “яркую группу из трех линий в зеленой части”.
Круглые деревяшки мистера Далтона
31
Однако взгляды Пруста оспаривались Клодом-Луи Бертолле. Старший химик большой известности, ярый сторонник Лавуазье (и его соавтор по “Номенклатуре”), Бертолле открыл химическое отбеливание и сопровождал Наполеона как ученый в его экспедиции в Египет в 1798 году. Он заметил, что различные сплавы и стекла явно имели весьма разнообразный химический состав; поэтому, утверждал он, соединения могли иметь непрерывно меняющийся состав. Он также отметил при обжиге свинца в своей лаборатории поразительное, непрерывное изменение цвета – не подразумевало ли это непрерывное поглощение кислорода с бесконечным числом стадий? Это правда, возражал Пруст, что нагретый свинец непрерывно поглощал кислород и менял при этом цвет, но это происходило, как он полагал, из-за образования трех отчетливо окрашенных оксидов: желтого монооксида, затем сурика, затем шоколадного цвета диоксида – смешанных как краски, в различных пропорциях, в зависимости от степени окисления. Сами оксиды могли быть смешаны в любой пропорции, считал он, но каждый из них сам по себе имел постоянный состав.
Бертолле также задавался вопросом о таких соединениях, как сульфид железа, который никогда не содержал точно одинаковых пропорций железа и серы. Пруст не смог дать здесь четкого ответа (и действительно, ответ стал ясен только с последующим пониманием кристаллических решеток и их дефектов и замещений – так, сера может замещать железо в решетке сульфида железа в переменной степени, так что его эффективная формула варьируется от Fe7S8 до Fe8S9. Такие нестехиометрические соединения стали называться бертоллидами).
Таким образом, и Пруст, и Бертолле были по-своему правы, но подавляющее большинство соединений были прустовскими, с постоянным составом. (И, возможно, было необходимо, чтобы взгляд Пруста стал предпочтительным, поскольку именно закон Пруста должен был вдохновить глубокие прозрения Дальтона.)
32
Хотя Ньютон намекнул в своем последнем вопросе на нечто, что почти кажется предвосхищением концепции Дальтона:
“Бог способен создавать частицы материи различных размеров и форм, и в различных пропорциях к занимаемому ими пространству, и, возможно, различной плотности и силы.”
33
Дальтон представлял атомы элементов как круги с внутренними узорами, иногда напоминающими символы алхимии или планет; в то время как сложные атомы (которые мы теперь называем “молекулами”) имели все более сложные геометрические конфигурации – первое предчувствие структурной химии, которая не развивалась еще пятьдесят лет.
Хотя Дальтон говорил о своей атомной “гипотезе”, он был убежден, что атомы действительно существуют – отсюда его яростное возражение против терминологии, которую должен был ввести Берцелиус, где элемент обозначался одной или двумя буквами его названия, а не его собственным символическим знаком. Страстное противостояние Дальтона символике Берцелиуса (которая, как он считал, скрывала реальность атомов) длилось до конца его жизни, и действительно, когда он умер в 1844 году, это произошло от внезапного апоплексического удара после бурного спора в защиту реальности его атомов.
Линии силы
34 Эти названия для металлических деревьев происходили из алхимического представления о соответствии между солнцем, луной и пятью (известными) планетами с семью металлами древности. Так, золото символизировало солнце, серебро – луну (и богиню луны, Диану), ртуть – Меркурия, медь – Венеру, железо – Марса, олово – Юпитера (Иова), а свинец – Сатурна.
35
Открытие, которое почему-то особенно заинтересовало меня, было обнаружение Фарадеем диамагнетизма в 1845 году. Он экспериментировал с очень мощным новым электромагнитом, помещая различные прозрачные вещества между его полюсами, чтобы увидеть, может ли поляризованный свет подвергаться воздействию магнита. Оказалось, что может, и Фарадей обнаружил, что очень тяжелое свинцовое стекло, которое он использовал для некоторых экспериментов, фактически двигалось при включении магнита, выравниваясь под прямым углом к магнитному полю (это был первый раз, когда он использовал термин “поле”). До этого все известные магнитные вещества – железо, никель, магнетит и т.д. – выравнивались вдоль магнитного поля, а не под прямым углом к нему. Заинтригованный, Фарадей продолжил тестировать магнитную восприимчивость всего, что попадалось ему под руку – не только металлов и минералов, но также стекла, пламени, мяса и фруктов.
Когда я рассказал об этом дяде Эйбу, он позволил мне поэкспериментировать с очень мощным электромагнитом, который был у него на чердаке, и я смог повторить многие открытия Фарадея и обнаружить, как и он, что диамагнитный эффект был особенно силен у висмута, который сильно отталкивался обоими полюсами магнита. Было fascinating наблюдать, как тонкий осколок висмута (максимально приближенный к игле, насколько это было возможно с хрупким металлом) выравнивался, почти насильственно, перпендикулярно магнитному полю. Я задумался, можно ли было бы, при достаточно деликатном балансе, сделать висмутовый компас, который указывал бы на восток-запад. Я экспериментировал с кусочками мяса и рыбы и думал о том, чтобы поэкспериментировать и с живыми существами. Сам Фарадей писал: “Если бы человек мог оказаться в магнитном поле, как гроб Магомета, он бы поворачивался, пока не встал поперек магнитного поля”. Я думал о том, чтобы поместить маленькую лягушку или, возможно, насекомое в поле магнита дяди Эйба, но опасался, что это может заморозить движение их крови или нарушить их нервную систему, оказаться изощренной формой убийства. (Мне не стоило беспокоиться: сейчас лягушек подвешивают на минуты в магнитных полях, и они, по-видимому, никак от этого не страдают. С огромными магнитами, доступными сейчас, можно было бы подвесить целый полк.)
36 Он был отвлечен, и в творческом плане тоже, множеством конкурирующих интересов и обязательств в это время: исследованием сталей, изготовлением специальных высокопреломляющих оптических стекол, сжижением газов (которое он первым осуществил), открытием бензола, своими многочисленными лекциями по химии и другим наукам в Королевском институте, а также публикацией в 1827 году книги «Химические манипуляции».
37
Не обладая высшей математикой, в отличие от дяди Эйба, я находил большую часть работ Максвелла недоступными для понимания, тогда как труды Фарадея я хотя бы мог читать и ощущать, что улавливаю их суть, несмотря на то, что он никогда не использовал математических формул. Максвелл, выражая свою признательность Фарадею, говорил о том, как его идеи, хотя и были фундаментальными, могли быть выражены в нематематической форме:
«Возможно, это было на пользу науке, что Фарадей, хотя и был прекрасно осведомлен о фундаментальных формах пространства, не был профессиональным математиком… и не считал необходимым… приводить свои результаты к форме, приемлемой для математического вкуса того времени… Таким образом, у него оставалось время для выполнения своей настоящей работы — согласования своих идей с фактами и выражения их на естественном, ненагруженном техническими терминами языке… [Однако, продолжал Максвелл,] Когда я углублялся в изучение трудов Фарадея, я замечал, что его способ осмысления явлений также был математическим, хотя и не представленным в общепринятой форме математических символов».
Домашняя жизнь
38
Сэр Рональд Сторрс, британский губернатор Иерусалима того времени, описал свою первую встречу с Энни в своих мемуарах 1937 года “Ориентации”:
Когда в начале 1918 года в мой кабинет была проведена дама, не похожая на театральную Женщину Судьбы тем, что она не была ни высокой, ни темноволосой, ни худой, с выражением равного добродушия и решительности на лице, я сразу понял, что новая планета вплыла в поле моего зрения. Мисс Энни Ландау была в течение всей войны в изгнании… от своей любимой… школы для девочек и требовала немедленного возвращения в неё. На мои жалкие мольбы о том, что её школа используется как военный госпиталь, она ответила стальной настойчивостью: и прошло совсем немного минут, прежде чем я сдал ей в аренду огромное пустое здание, известное как Абиссинский дворец. Мисс Ландау быстро стала гораздо больше, чем просто директрисой лучшей еврейской школы для девочек в Палестине. Она была более британской, чем англичане… она была более еврейской, чем сионисты – никаких ответов на её телефон в Шаббат, даже от прислуги. До войны она дружила с турками и арабами; так что её щедрое гостеприимство на протяжении многих лет было почти единственной нейтральной территорией, где британские чиновники, пылкие сионисты, мусульманские беи и христианские эфенди могли встречаться в атмосфере взаимного веселья.
39
“Состав, образующий фимиам,” - предписывал Талмуд почти в стехиометрических терминах, -
“…состоял из бальзама, онихи, гальбанума и ладана, каждого по семьдесят манехов; мирры, кассии, нарда и шафрана, каждого по шестнадцать манехов веса; костуса двенадцать, ароматической коры три и корицы девять манехов; щелочи, полученной из вида лука, девять кабов; кипрского вина три сеа и три каба: хотя, если кипрское вино было недоступно, можно было использовать старое белое вино; соли Содомской четверть каба, и травы Маалех Ашан небольшое количество. Р. Натан говорит, что также требовалось небольшое количество душистой травы Циппат, которая росла на берегах Иордана; однако, если кто-то добавлял мед в смесь, он делал фимиам непригодным для священного использования, а тот, кто при приготовлении пропускал один из необходимых ингредиентов, подлежал смертной казни.”
Сад Менделеева
40
Годы спустя, когда я читал К.П. Сноу, я обнаружил, что его реакция на первое знакомство с периодической таблицей была очень похожа на мою:
“Впервые я увидел, как беспорядочное нагромождение фактов выстроилось в линию и порядок. Вся путаница, рецепты и мешанина неорганической химии моего детства, казалось, уложились в схему перед моими глазами – как будто стоишь рядом с джунглями, и они внезапно превращаются в голландский сад.”
41 В своей самой первой сноске, в предисловии, Менделеев говорил о том, “как довольна, свободна и радостна жизнь в царстве науки” – и можно было видеть в каждом предложении, насколько это было верно для него. “Основы” росли как живой организм при жизни Менделеева, каждое издание становилось больше, полнее, зрелее своих предшественников, каждое было наполнено бурными и разрастающимися сносками (сноски стали такими огромными, что в последних изданиях они занимали больше страниц, чем сам текст; действительно, некоторые занимали девять десятых страницы – я думаю, моя собственная любовь к сноскам, к отступлениям, которые они позволяют, была частично определена чтением “Основ”).
42
Менделеев не был первым, кто увидел определенное значение в атомных весах элементов. Когда Берцелиус установил атомные веса щелочноземельных металлов, Дёберейнера поразил тот факт, что атомный вес стронция находился ровно посередине между весами кальция и бария. Было ли это случайностью, как думал Берцелиус, или указанием на что-то важное и общее? Сам Берцелиус только что открыл селен в 1817 году и сразу понял, что (с точки зрения химических свойств) он “принадлежал” между серой и теллуром. Дёберейнер пошел дальше и выявил также количественную зависимость, поскольку атомный вес селена находился ровно посередине между их весами. И когда литий был открыт позже в том же году (также в лабораторной кухне Берцелиуса), Дёберейнер заметил, что он завершил еще одну триаду щелочных металлов: литий, натрий и калий. Более того, чувствуя, что разрыв в атомном весе между хлором и йодом слишком велик, Дёберейнер предположил (как и Дэви до него), что должен существовать третий элемент, аналогичный им, галоген, с атомным весом посередине между ними. (Этот элемент, бром, был открыт несколько лет спустя.)
Реакции на “триады” Дёберейнера, с их предположением о корреляции между атомным весом и химическим характером, были неоднозначными. Берцелиус и Дэви сомневались в значимости такой “нумерологии”, как они это называли; но другие были заинтригованы и задавались вопросом, не скрывается ли в цифрах Дёберейнера некий неясный, но фундаментальный смысл.
43 Это, по крайней мере, общепринятый миф, который позже распространял сам Менделеев, подобно тому, как Кекуле описывал свое собственное открытие бензольного кольца годы спустя, как результат сна о змеях, кусающих свои хвосты. Но если посмотреть на реальную таблицу, которую набросал Менделеев, можно увидеть, что она полна перестановок, зачеркиваний и расчетов на полях. Она показывает самым наглядным образом творческую борьбу за понимание, которая происходила в его сознании. Менделеев не проснулся от своего сна со всеми готовыми ответами, но, что, возможно, более интересно, проснулся с чувством озарения, так что в течение нескольких часов он смог решить многие вопросы, которые занимали его годами.
44
В сноске 1889 года – даже его лекции имели сноски, по крайней мере в их печатных версиях – он добавил: “Я предвижу еще несколько новых элементов, но не с той же уверенностью, что раньше”. Менделеев хорошо осознавал пробел между висмутом (с атомным весом 209) и торием (232) и предполагал, что должно существовать несколько элементов, чтобы его заполнить. Он был наиболее уверен в элементе, непосредственно следующем за висмутом – “элементе, аналогичном теллуру, который мы можем назвать дви-теллуром”. Этот элемент, полоний, был открыт супругами Кюри в 1898 году, и когда он был наконец выделен, он обладал почти всеми свойствами, предсказанными Менделеевым. (В 1899 году Менделеев посетил Кюри в Париже и приветствовал радий как свой “эка-барий”.)
В последнем издании “Основ” Менделеев сделал много других предсказаний – включая два более тяжелых аналога марганца – “эка-марганец” с атомным весом около 99 и “три-марганец” с атомным весом 188; к сожалению, он никогда их не увидел. “Три-марганец” – рений – не был открыт до 1925 года, став последним из обнаруженных природных элементов; в то время как “эка-марганец”, технеций, стал первым искусственно созданным новым элементом в 1937 году.
Он также предвидел, по аналогии, некоторые элементы, следующие за ураном.
45
Это замечательный пример синхронистичности, что в десятилетие после Карлсруэской конференции появилось не одна, а шесть таких классификаций, все совершенно независимые друг от друга: де Шанкуртуа во Франции, Одлинга и Ньюлендса в Англии, Лотара Мейера в Германии, Хинрикса в Америке и, наконец, Менделеева в России, все указывающие на периодический закон.
Де Шанкуртуа, французский минералог, был первым, кто разработал такую классификацию, и в 1862 году – всего через восемнадцать месяцев после Карлсруэ – он расположил символы двадцати четырех элементов по спирали вокруг вертикального цилиндра на высотах, пропорциональных их атомным весам, так что элементы с похожими свойствами оказывались один под другим. Теллур занимал среднюю точку спирали; поэтому он назвал её “теллурическим винтом”, vis tellurique. Но Comptes Rendu при публикации его статьи умудрились – гротескным образом – пропустить важнейшую иллюстрацию, и это, среди прочих проблем, погубило всё предприятие, из-за чего идеи де Шанкуртуа были проигнорированы.
Ньюлендсу в Англии едва ли повезло больше. Он тоже расположил известные элементы по возрастанию атомного веса и, заметив, что каждый восьмой элемент, по-видимому, был аналогичен первому, предложил “Закон октав”, утверждая, что “восьмой элемент, начиная с данного, является своего рода повторением первого, как 8-я нота в музыкальной октаве”. (Если бы инертные газы были известны в то время, это был бы, конечно, каждый девятый элемент, похожий на первый.) Слишком буквальное сравнение с музыкой и даже предположение, что эти октавы могли быть своего рода “космической музыкой”, вызвали саркастическую реакцию на заседании Химического общества, где Ньюлендс представил свою теорию; было сказано, что он мог бы с таким же успехом расположить элементы в алфавитном порядке.
Нет сомнений, что Ньюлендс, даже больше чем де Шанкуртуа, был очень близок к периодическому закону. Как и Менделеев, Ньюлендс имел смелость инвертировать порядок определенных элементов, когда их атомный вес не соответствовал тому, что казалось их правильным положением в его таблице (хотя он не сделал никаких предсказаний неизвестных элементов, как это сделал Менделеев).
Лотар Мейер также присутствовал на Карлсруэской конференции и был одним из первых, кто использовал пересмотренные там атомные веса в периодической классификации. В 1868 году он создал сложную шестнадцатиколонную периодическую таблицу (но её публикация была отложена до появления таблицы Менделеева). Лотар Мейер уделял особое внимание физическим свойствам элементов и их связи с атомными весами, и в 1870 году он опубликовал знаменитый график, отображающий атомные веса известных элементов относительно их “атомных объемов” (отношение атомного веса к плотности). График показывал высокие точки для щелочных металлов и низкие точки для плотных металлов с малыми атомами VIII группы (платиновые и железные металлы), при этом все остальные элементы красиво располагались между ними. Этот график стал мощнейшим аргументом в пользу периодического закона и значительно способствовал признанию работы Менделеева.
Но в момент открытия своей “Естественной системы” Менделеев либо не знал, либо отрицал знание о каких-либо сопоставимых попытках. Позже, когда его имя и слава утвердились, он стал более осведомленным, возможно, более великодушным, менее обеспокоенным идеей о соавторах или предшественниках. Когда в 1889 году его пригласили прочитать Фарадеевскую лекцию в Лондоне, он воздал взвешенную дань уважения тем, кто был до него.
46 Кавендиш, однако, проводя искровой разряд через смесь азота и кислорода воздуха, заметил в 1785 году, что небольшое количество (’’не более 1/120 части целого’’) было полностью устойчиво к соединению, но никто не обращал на это внимания до 1890-х годов.
47
Думаю, я иногда отождествлял себя с инертными газами, а иногда очеловечивал их, представляя их одинокими, отрезанными, жаждущими связи. Была ли связь, соединение с другими элементами, абсолютно невозможна для них? Не мог ли фтор, самый активный, самый неистовый из галогенов – настолько жаждущий соединений, что более века не поддавался попыткам выделить его – не мог ли фтор, если дать ему шанс, хотя бы соединиться с ксеноном, самым тяжелым из инертных газов? Я изучал таблицы физических констант и решил, что такое соединение в принципе возможно.
В начале 1960-х годов я был безмерно рад узнать (хотя мои мысли к тому времени переключились на другие вещи), что американскому химику Нилу Бартлетту удалось получить такое соединение – тройное соединение платины, фтора и ксенона. Впоследствии были получены фториды и оксиды ксенона.
Фримен Дайсон написал мне, описывая свою юношескую любовь к периодической таблице и инертным газам – он тоже видел их в колбах в Музее науки в Южном Кенсингтоне – и как он был взволнован годы спустя, когда ему показали образец ксената бария, увидев неуловимый, нереакционноспособный газ, прочно и красиво запертый в кристалле:
“Для меня тоже периодическая таблица была страстью… Будучи мальчиком, я часами стоял перед витриной, думая, как удивительно, что каждая из этих металлических фольг и колб с газом имела свою собственную отчетливую индивидуальность… Одним из незабываемых моментов моей жизни было, когда Уиллард Либби приехал в Принстон с маленькой банкой, полной кристаллов ксената бария. Стабильное соединение, похожее на обычную соль, но намного тяжелее. Это была магия химии – видеть ксенон, пойманный в кристалл.”
48 Эффектная аномалия обнаружилась с гидридами неметаллов – неприятной группой, настолько враждебной к жизни, насколько это возможно. Гидриды мышьяка и сурьмы были очень ядовитыми и зловонными; гидриды кремния и фосфора были самовоспламеняющимися. В своей лаборатории я получил гидриды серы (H₂S), селена (H₂Se) и теллура (H₂Te), все элементы VI группы, все опасные и дурно пахнущие газы. Можно было бы предположить по аналогии, что гидрид кислорода, первого элемента VI группы, тоже будет зловонным, ядовитым, воспламеняющимся газом, конденсирующимся в неприятную жидкость около -100°C. А вместо этого это была вода, H₂O – стабильная, пригодная для питья, без запаха, безвредная, и с множеством особых, действительно уникальных свойств (её расширение при замерзании, высокая теплоёмкость, способность быть ионизирующим растворителем и т.д.), которые сделали её незаменимой для нашей водной планеты, незаменимой для самой жизни. Что делало её такой аномалией? Свойства воды не подрывали для меня положение кислорода в периодической таблице, но вызывали интенсивное любопытство относительно того, почему она так отличается от своих аналогов. (Этот вопрос, как я обнаружил, был разрешен только недавно, в 1930-х годах, когда Лайнус Полинг описал водородную связь.)
49 Ида Таке Ноддак была одной из команды немецких ученых, которые нашли элемент 75, рений, в 1925-26 годах. Ноддак также заявляла, что обнаружила элемент 43, который она назвала мазурием. Но это утверждение не могло быть подтверждено, и она была дискредитирована. В 1934 году, когда Ферми облучал уран нейтронами и думал, что получил элемент 93, Ноддак предположила, что он ошибается, что он на самом деле расщепил атом. Но поскольку она была дискредитирована с элементом 43, никто не обратил на неё внимания. Если бы её послушали, Германия, вероятно, получила бы атомную бомбу, и история мира была бы другой. (Эту историю рассказал Гленн Сиборг, представляя свои воспоминания на конференции в ноябре 1997 года.)
50 Хотя элементы 93 и 94, нептуний и плутоний, были созданы в 1940 году, их существование не было обнародовано до окончания войны. Когда их впервые получили, им дали временные названия “экстремиум” и “ультимиум”, потому что считалось невозможным создать какие-либо более тяжелые элементы. Однако элементы 95 и 96 были созданы в 1944 году. Их открытие было обнародовано не обычным способом – в письме в Nature или на заседании Химического общества – а во время детской радиовикторины в ноябре 1945 года, когда двенадцатилетний мальчик спросил: “Мистер Сиборг, вы создали в последнее время какие-нибудь новые элементы?”
Карманный спектроскоп
51
Огюст Конт писал в своем “Курсе позитивной философии” 1835 года:
“Что касается звезд, все исследования, которые в конечном счете не сводятся к простым визуальным наблюдениям… обязательно недоступны нам. Хотя мы можем представить возможность определения их форм, размеров и движений, мы никогда не сможем никакими средствами изучить их химический состав или минералогическое содержание.”
Холодный огонь
52
Дядя Эйб рассказал мне кое-что об истории спичек, о том, как первые спички нужно было окунать в серную кислоту, чтобы зажечь их, прежде чем в 1830-х годах были введены “люциферы” – фрикционные спички, и как это привело к огромному спросу на белый фосфор в течение следующего столетия. Он рассказал мне об ужасных условиях, в которых работали работницы спичечных фабрик, и о страшной болезни “фосфорной челюсти”, которой они часто заболевали, пока использование белого фосфора не было запрещено в 1906 году. (В дальнейшем использовался только красный фосфор, гораздо более стабильный и безопасный.)
Эйб также говорил об адских фосфорных бомбах, использовавшихся в Первой мировой войне, и о том, как было движение за их запрет, как был запрещен ядовитый газ. Но теперь, в 1943 году, они снова свободно использовались, и тысячи людей с обеих сторон сгорали заживо самым мучительным образом.
53 Фосфор, медленно окисляясь, был не единственным элементом, который светился при контакте с воздухом. Натрий и калий тоже делали это, когда их свежесрезали, но теряли свою светимость через несколько минут, когда срезанные поверхности тускнели. Я обнаружил это случайно, когда работал в своей лаборатории поздним днем, когда постепенно темнело – я еще не включил свет.
54
Не менее важными были электронно-лучевые трубки, которые теперь разрабатывались для телевидения. У самого Эйба был один из оригинальных телевизоров 1930-х годов, огромная громоздкая вещь с крошечным круглым экраном. Его трубка, говорил он, не сильно отличалась от электронно-лучевых трубок, которые Крукс разработал в 1870-х годах, за исключением того, что её поверхность была покрыта подходящим фосфором.
Электронно-лучевые трубки, используемые в медицинской или электронной аппаратуре, часто покрывались силикатом цинка, виллемитом, который испускал яркий зеленый свет при бомбардировке, но для телевидения требовались фосфоры, дающие чистый, белый свет – а если предстояло разработать цветное телевидение, потребовались бы три отдельных фосфора с точно правильным балансом цветовых излучений, как три пигмента в цветной фотографии. Старые добавки, используемые в светящихся красках, были совершенно непригодны для этого; требовались гораздо более тонкие и точные цвета.
55
Дядя Эйб также показал мне другие типы холодного света. Можно было взять различные кристаллы – например, кристаллы уранилнитрата или даже обычного тростникового сахара – и измельчить их ступкой с пестиком или между двумя пробирками (или даже зубами), ударяя кристаллы друг о друга – это заставляло их светиться. Это явление, называемое триболюминесценцией, было известно еще в восемнадцатом веке, когда отец Джамбаттиста Беккариа записал:
“Вы можете в темноте напугать простых людей, просто жуя куски сахара и держа при этом рот открытым, который покажется им полным огня; к этому добавьте, что свет от сахара тем обильнее, чем чище сахар.”
Даже кристаллизация могла вызывать люминесценцию; Эйб предложил мне сделать насыщенный раствор бромата стронция и затем дать ему медленно остыть в темноте – сначала ничего не происходило, а потом я начал видеть сцинтилляции, маленькие вспышки света, когда на дне колбы формировались зазубренные кристаллы.
56 То же явление, как я прочитал, изобретательно использовалось для создания самосветящихся буев – они были окружены кольцами из прочных стеклянных трубок, содержащих ртуть под пониженным давлением, которая взбалтывалась о стекло и электризовалась движением волн.
Проникающие лучи
57 В моем детстве обувные магазины повсюду были оборудованы рентгеновскими аппаратами, флюороскопами, чтобы можно было видеть, как кости ног располагаются в новой обуви. Я любил эти машины, потому что можно было пошевелить пальцами ног и увидеть, как множество отдельных костей в стопе движутся в унисон в своей почти прозрачной оболочке из плоти.
58 Стоматологи подвергались особому риску, держа маленькие рентгеновские пленки во рту пациентов, часто по несколько минут за раз, поскольку оригинальные эмульсии были очень медленными. Многие стоматологи потеряли пальцы из-за такого воздействия рентгеновских лучей.
59 Дед Анри Беккереля, Антуан Эдмон Беккерель, начал систематическое изучение фосфоресценции в 1830-х годах и опубликовал первые изображения фосфоресцентных спектров. Сын Антуана, Александр-Эдмон, помогал в исследованиях отца и изобрел “фосфороскоп”, который позволял ему измерять флуоресценцию, длящуюся всего лишь тысячную долю секунды. Его книга 1867 года “Свет” была первым всесторонним исследованием фосфоресценции и флуоресценции (и единственным в течение следующих пятидесяти лет).
Элемент мадам Кюри
60 В 1998 году я выступал на встрече, посвященной столетию открытия полония и радия. Я сказал, что получил эту книгу, когда мне было десять лет, и что это была моя любимая биография. Когда я говорил, я заметил в аудитории очень пожилую даму с высокими славянскими скулами и улыбкой от уха до уха. Я подумал: “Не может быть!” Но это была она – это была Ева Кюри, и она подписала свою книгу для меня через шестьдесят лет после её публикации, через пятьдесят пять лет после того, как я её получил.
61
Беккерель первым отметил возможность получения травм от радиоактивности – он обнаружил ожог на себе после того, как носил высокорадиоактивный концентрат в кармане жилета. Пьер Кюри исследовал этот вопрос, намеренно допустив радиевый ожог на своей руке. Тем не менее, он и Мария никогда полностью не осознавали опасности радия, их “ребенка”. Говорили, что их лаборатория светилась в темноте, и оба, возможно, умерли от его воздействия. (Пьер, ослабленный, погиб в дорожной аварии; Мария, тридцать лет спустя, от апластической анемии.) Радиоактивные образцы свободно отправлялись по почте и обрабатывались с минимальной защитой. Фредерик Содди, работавший с Резерфордом, считал, что обращение с радиоактивными материалами сделало его бесплодным.
И все же существовала двойственность, поскольку радиоактивность также считалась благотворной, целебной. Помимо ингаляторов с торием, была зубная паста с торием, производимая компанией Auer (тетя Энни хранила свои зубные протезы на ночь в стакане с “радиевыми палочками”), и Радиоэндокринатор, содержащий радий и торий, который нужно было носить вокруг шеи для стимуляции щитовидной железы или вокруг мошонки для стимуляции либидо. Люди ездили на курорты, чтобы пить радиевую воду.
Самая серьезная проблема возникла в Соединенных Штатах, где врачи прописывали питье радиоактивных растворов, таких как Радитор, в качестве омолаживающих средств, а также для лечения рака желудка или психических заболеваний. Тысячи людей пили такие зелья, и только широко освещенная смерть в 1932 году Эбена Байерса, видного сталелитейного магната и светского человека, положила конец радиевому безумию. После употребления ежедневного радиевого тоника в течение четырех лет у Байерса развилась тяжелая лучевая болезнь и рак челюсти; он умер гротескным образом, когда его кости разрушались, как у месье Вальдемара в рассказе Эдгара Аллана По.
62 Сохраняя гибкость ума до последнего, Менделеев отрекся от своей гипотезы Эфира за год до смерти и признал свое принятие “немыслимого” – трансмутации – как источника радиоактивной энергии.
63 Эфир использовался и во многих других целях. Для Оливера Лоджа, писавшего в 1924 году, он все еще был необходимой средой для электромагнитных волн и гравитации, хотя теория относительности к тому времени была широко известна. Также для Лоджа это была среда, обеспечивающая континуум, матрицу, в которой могли быть встроены дискретные частицы, атомы и электроны. Наконец, для него (как и для Дж.Дж. Томсона и многих других) Эфир принял также религиозную или метафизическую роль – он стал средой, царством, где обитали духи и Разум-в-целом, где жизненная сила умерших поддерживала своего рода квази-существование (и, возможно, могла быть вызвана усилиями медиумов). Томсон и многие другие физики его поколения стали активными членами, основателями Британского общества психических исследований – возможно, как реакция против материализма того времени и воспринимаемой или воображаемой смерти Бога.
64
После прочтения об этом я задумался, действительно ли какие-либо радиоактивные вещества ощущаются теплыми на ощупь. У меня были маленькие бруски урана и тория, но они ощущались такими же холодными, как любые другие металлические бруски. Однажды я держал в руке маленькую пробирку дяди Эйба с десятью миллиграммами бромида радия, но радий был не больше песчинки, и я не чувствовал никакого тепла через стекло.
Мне было очень интересно узнать от Джереми Бернштейна, что он однажды держал в руках шар из плутония – не больше и не меньше как ядро атомной бомбы – и обнаружил, что он жутковато теплый на ощупь.
Освобождённый мир
65 Лабораторные тетради самой Марии Кюри, спустя столетие, все еще считаются слишком опасными для обращения и хранятся в коробках со свинцовой защитой.
66 Содди предвидел эту искусственную трансмутацию за пятнадцать лет до того, как Резерфорд осуществил её, и представлял взрывной или контролируемый атомный распад задолго до открытия деления или синтеза.
67 Именно чтение “Освобожденного мира” в 1930-х годах побудило Лео Силарда задуматься о цепных реакциях и получить секретный патент на них в 1936 году; в 1940 году он убедил Эйнштейна отправить свое знаменитое письмо Рузвельту о возможностях атомной бомбы.
Блестящий Свет
68 К 1914 году ученые Британии, Франции, Германии и Австрии были так или иначе вовлечены в Первую мировую войну. Чистая химия и физика были в значительной степени приостановлены на время войны, и прикладная наука, военная наука, заняла их место. Резерфорд прекратил свои фундаментальные исследования, и его лаборатория была реорганизована для работы над обнаружением подводных лодок. Гейгер и Марсден, которые наблюдали отклонения альфа-частиц, приведшие к созданию атома Резерфорда, оказались на Западном фронте по разные стороны. Чедвик и Эллис, более молодые коллеги Резерфорда, были военнопленными в Германии. А Мозли, в возрасте двадцати восьми лет, был убит пулей в голову при Галлиполи. Мой отец часто говорил о молодых поэтах, интеллектуалах, цвете поколения, трагически погибшем в Великой войне. Большинство имен, которые он упоминал, были мне неизвестны, но имя Мозли я знал, и о нем я скорбел больше всего.
69 Это дало Бору также предсказательную силу. Мозли заметил, что элемент 72 отсутствует, но не мог сказать, будет ли это редкоземельным элементом или нет (элементы 57-71 были редкоземельными, а 73, тантал, был переходным элементом, но никто не был уверен, сколько будет редкоземельных элементов). Бор, имея четкое представление о количестве электронов в каждой оболочке, смог предсказать, что элемент 72 не будет редкоземельным элементом, а будет более тяжелым аналогом циркония. Он предложил своим коллегам в Дании искать этот новый элемент в циркониевых рудах, и он был быстро найден (и назван гафнием, в честь старого названия Копенгагена). Это был первый раз, когда существование и свойства элемента были предсказаны не на основе химической аналогии, а на чисто теоретической основе его электронной структуры.
70 В начале двадцатого века также возник вопрос о том, что может произойти с “электронным газом” в металлах, если их охладить до температур, близких к абсолютному нулю – “заморозит” ли это все электроны, превратив металл в полный изолятор? То, что обнаружили, используя ртуть, было совершенно противоположным: ртуть становилась идеальным проводником, сверхпроводником, внезапно теряя все свое сопротивление при температуре 4,2 градуса выше абсолютного нуля. Таким образом, можно было иметь кольцо из ртути, охлажденное жидким гелием, с электрическим током, текущим по нему без уменьшения, в течение дней, вечно.
71
Вселенная началась, как представлял Гамов, будучи почти бесконечно плотной – возможно, не больше кулака. Гамов и его студент Ральф Алфер продолжили развивать идею (в знаменитой статье 1948 года, которая стала известна как статья альфа-бета-гамма после того, как Ганса Бете пригласили добавить свое имя), что эта первичная вселенная размером с кулак взорвалась, положив начало пространству и времени, и что в этом взрыве (который Хойл насмешливо назвал Большим Взрывом) были созданы все элементы.
Но здесь он ошибался; только самые легкие элементы – водород и гелий и, возможно, немного лития – возникли в результате Большого Взрыва. Только в 1950-х годах стало ясно, как образовались более тяжелые элементы. Средней звезде может потребоваться миллиарды лет, чтобы израсходовать весь свой водород, но более массивные звезды, далекие от угасания в этот момент, могли сжиматься, становясь еще горячее, и начинать дальнейшие ядерные реакции, сливая свой гелий для производства углерода, затем сливая его для производства кислорода, а затем кремния, фосфора, серы, натрия, магния – вплоть до железа. За пределами железа дальнейшее слияние не могло высвобождать энергию, поэтому оно накапливалось как конечная точка в нуклеосинтезе. Отсюда его замечательное изобилие во вселенной, изобилие, отраженное в металлических метеоритах и в железном ядре Земли. (Более тяжелые элементы, те, что за пределами железа, оставались загадкой дольше; они, по-видимому, возникают только при взрывах сверхновых.)
Конец одного романа
72 Этот вопрос снова резонировал для меня, когда я прочитал замечательную книгу Примо Леви “Периодическая система”, особенно главу под названием “Калий”. Здесь Леви говорит о своем собственном поиске, будучи студентом, “источников уверенности”. Решив стать физиком, Леви покинул химическую лабораторию и поступил в ученики к физическому факультету – в частности, к астрофизику. Это не сработало так, как он надеялся, потому что хотя некоторые окончательные истины действительно можно было найти в звездной физике, такие истины, хотя и возвышенные, были абстрактными и далекими от повседневной жизни. Более душенаполняющими, ближе к жизни, были красоты практической химии. “Когда я понимаю, что происходит внутри реторты,” однажды заметил Леви, “я счастливее. Я немного расширил свои знания. Я не понял истину или реальность. Я просто реконструировал сегмент, маленький сегмент мира. Это уже большая победа внутри заводской лаборатории.”
73
Я был не совсем один. Важнейшим проводником для меня в этот момент был Георгий Гамов, ученый-писатель большой разносторонности и обаяния, чью книгу “Рождение и смерть Солнца” я уже прочитал. В своих книгах о “Мистере Томпкинсе” (“Мистер Томпкинс в Стране чудес” и “Мистер Томпкинс исследует атом”, опубликованных в 1945 году), Гамов использует прием изменения физических констант на много порядков, чтобы сделать иначе невообразимые миры хотя бы наполовину вообразимыми. Теория относительности становится комически представимой, если предположить, что скорость света составляет всего тридцать миль в час, а квантовая механика становится такой же понятной, если представить постоянную Планка увеличенной на двадцать восемь порядков, так что можно наблюдать квантовые эффекты в “реальной” жизни – например, квантовые тигры, размазанные в квантовых джунглях, находятся нигде и везде одновременно.
Я иногда задавался вопросом, существуют ли какие-либо “макроквантовые” явления, можно ли когда-нибудь увидеть при необычных условиях квантовый мир собственными глазами. Одним из незабываемых опытов в моей жизни было именно это – когда меня познакомили с жидким гелием, и я увидел, как он внезапно меняет свои свойства при критической температуре, превращаясь из обычной жидкости в странный сверхтекучий материал без вязкости, без какой-либо энтропии, способный проходить сквозь стенки, выбираться из стакана, и обладающий теплопроводностью в три миллиона раз выше, чем у обычного жидкого гелия. Это невозможное состояние материи можно было понять только с точки зрения квантовой механики: атомы теперь находились так близко друг к другу, что их волновые функции перекрывались и сливались, так что фактически получался один гигантский атом.
74 Жаль, что я не осознавал – хотя это было бы нелегко для меня как для мальчика – что Крукс ошибался, что новое понимание атома, которое побудило его к таким мыслям (он писал это в 1915 году, всего через два года после Бора), послужило бы, после его усвоения, не к уменьшению или уничтожению химии, как он опасался, а к её огромному расширению и обогащению. Подобные опасения существовали и в отношении первой атомной теории: многие химики, включая Хэмфри Дэви, считали, что принятие представлений Дальтона об атомах и атомных весах опасно, что это может увести химию от её конкретности и реальности в сухую, обедненную, метафизическую область.