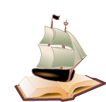| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Септимий Север. Африканец на Палатине (fb2)
 - Септимий Север. Африканец на Палатине [litres] 2200K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Игорь Олегович Князький
- Септимий Север. Африканец на Палатине [litres] 2200K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Игорь Олегович КнязькийИгорь Князький
Септимий Север. Африканец на Палатине

Новая античная библиотека. Исследования

Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор В.П. Буданова
кандидат исторических наук, доцент Ю. В. Куликова

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© И. О. Князький, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
Глава I
В эпоху лучших Антонинов
Римская провинция Проконсульская Африка. Город Лептис Магна. 11 апреля 146 года. В этот, казалось бы, совсем непримечательный день у местных жителей Публия Септимия Геты и Фульвии Пии родился сын, получивший имя Луций Септимий Север. Ему было суждено стать первым африканцем на Палатине и основать новую династию правителей Римской империи.
Отец Луция – потомок карфагенян, каковых римляне традиционно именовали пунами. Судьба самого великого города, могущественного соперника Рима, как известно, оказалась крайне печальной. Но, поскольку Лептис находился на западной окраине пунических владений и безропотно римлянам покорился, то сохранил те же права свободного городского самоуправления, которые имел и под протекторатом Карфагена. В 46 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь включил Лептис в состав провинции Африка, а при императоре Траяне (98 – 117 гг.) город обрёл статус римской колонии и население получило римское гражданство. Септимии, очевидно, были в значительной мере романизованы, так как вошли в состав всаднического сословия. В то же время они сохраняли свои африканские корни, и основным языком в семье оставался пунический – карфагенский вариант финикийского языка. Мать Луция имела италийские корни. Дело в том, что в годы гражданских войн в Риме после гибели Гая Юлия Цезаря (44–31 гг. до н. э.) из Италии в Северную Африку хлынуло множество переселенцев, вынужденных покинуть родную землю из-за кровавых междоусобиц и жестоких проскрипций вождей Второго Триумвирата. Большая часть их поселилась в бывших собственно карфагенских владениях (нынешний Тунис), отличавшихся замечательным плодородием земель и высоким уровнем развития сельского хозяйства. Но часть италиков добралась и до Лептиса, где они в основном вошли в торговое сословие, иные из них стали менялами (банкирами)1. К лептиским италикам принадлежала и семья матери Луция Септимия Севера Фульвии Пии. Право на вхождение во всадническое сословие было даровано ещё деду Публия Септимия Геты. Мать Луция вышла из очевидно не бедной среды, но, тем не менее, историк Аврелий Виктор писал о происхождении нашего героя, что «он родился в скромной семье»2. В то же время двоюродные братья его отца – Публий Септимий Апр и Гай Септимий Север – сумели достичь консульских должностей3.
Должность консула в те времена, конечно же, не шла ни в какое сравнение с магистратурой республиканских времён. Основатель Принципата Август лишил консулат каких-либо действительных властных полномочий, но оставил консулам почёт и умножил их число. Доступность достижения этой должности, расположение императора, уважение в обществе консулы эпохи Империи сочли достойной компенсацией за утрату властного статуса. Главное – консульство, безусловно, по-прежнему означало принадлежность к верхушке римской элиты. Потому столичные успехи двоюродных дядюшек для будущего Луция имели немаловажное значение. Без родственной протекции такого уровня сделать карьеру в Риме было мудрено.
Впрочем, мы не знаем, имели ли родители Луция изначально намерения отправить сына не просто на родину предков матери, но в столицу Империи. Ведь провинция Африка была далеко не худшим местом в Римской державе. Великолепно развитое сельское хозяйство сделало былые владения самого лютого врага Рима главной житницей Вечного Города и всей Италии. Провинция Африка справедливо считалась самой преуспевающей частью Империи. Об уровне её процветания говорит тот факт, что по объёму годового дохода она в три раза превосходила Египет, также бывший одной из плодороднейших житниц Римского государства4. Неудивительно, что владыки Империи уделяли этой провинции, получившей со временем название Проконсульская Африка, ибо управлять ею стали назначаемые из Рима проконсулы, особое внимание. Исключительную значимость её пахотных земель отметил великий географ Страбон5. Здесь было проложено и прокладывалось множество дорог, велось большое строительство в городах.
Лептис также не избежал счастливого для него внимания римских императоров. Ещё Гай Юлий Цезарь, сокрушитель Республики, в самом начале 46 г. до н. э. «достиг свободного и независимого города Лептиса», где его встретили городские послы с обещанием исполнять, причём охотно, все его пожелания6. Цезарь оценил это благорасположение. Но, когда в дальнейшем выяснилось, что правители Лептиса на всякий случай втайне от него заключили союз с его врагом нумидийским царём Юбой, которого при этом ещё и снабжали оружием, солдатами и деньгами, то доблестный Юлий наказал город. Он потребовал ежегодной поставки в Рим трёх миллионов фунтов оливкового масла7. Этот факт – важное историческое свидетельство, что Лептис и его округа славились производством в изобилии столь ценного продукта. А значит, в этой местности было множество оливковых рощ. Не обделил вниманием Лептис и император Август. При нём началась перепланировка города, и пошло большое строительство. Лептис стал принимать черты подлинно римского города, что, однако, не помешало ему сохранить свою пуническую сущность.
Покровительство имперских властей способствовало обогащению местной аграрной элиты. И в середине I века всего шесть богатейших землевладельцев обладали половиной всех пахотных угодий провинции! Правда, столь непомерное богатство счастья им не принесло. Нерон, испытывавший после знаменитого пожара Рима и его восстановления и строительства своего знаменитого Золотого дворца сильнейшие финансовые трудности, расправился с чрезмерно богатыми латифундистами, присвоив себе их собственность. Это поспособствовало расширению в Проконсульской Африке земель, принадлежавших императору и государству. В то же время власти далеко не всегда удавалось добиваться их полноценного использования. Многие и многие плодородные угодья оставались не возделанными, иные, конфискованные у землевладельцев, оказавшихся в немилости, приходили в упадок. На Палатине всё это не могло оставаться незамеченным в силу растущей угрозы для продовольственного благополучия Рима и Италии. Династия Флавиев (70–96 гг.), сменившая ушедших в небытие после гибели Нерона Юлиев-Клавдиев, приняла закон, вошедший в историю как lex Manciana (закон Манция), направленный на улучшение дел в сельском хозяйстве Африки. Он касался как раз не возделываемых земель, находившихся в императорской и государственной собственности. Согласно ему всякий желающий мог использовать эти угодья, чтобы вести на них своё хозяйство. Пока они возделывались, земледелец считался их собственником. А если он прекращал обработку земли, и в течение определённого времени она оставалась заброшенной, то такие угодья возвращались в собственность императора или государства8.
Третий император династии Антонинов (96 – 192 гг.) Адриан (117–138 гг.) пошёл ещё дальше в заботе о процветании столь важной экономически провинции Империи. Он не только сохранил действие принятого еще при Веспасиане (70–79 гг.) закона Манция, но и дал право долгосрочным собственникам, решившимся обрабатывать не возделываемые земли, завещать их своим наследникам. При условии, само собой, что те продолжат труды на этих угодьях и будут добросовестно выполнять все положенные обязательства перед цезарем и государством. Такая политика императора увенчалась заметным успехом. Прежде всего, в Африке стал складываться широкий слой крепких и умелых земледельцев, ощущавших себя подлинными собственниками (possessores) своих угодий. И здесь должно вспомнить знаменитого римского ученого I века Плиния Старшего, автора «Естественной истории». Он пришёл к выводу, что земля будет давать изобильный урожай лишь тогда, когда её возделывают свободные люди, собственники небольших имений. Мы не знаем, основывал ли Адриан свои экономические преобразования в Африке и иных провинциях Империи на суждениях Плиния Старшего, но успех их только подтвердил правоту славного учёного.
Особое внимание император уделил выращиванию на пустовавших землях масличных культур и фруктов9. В результате ещё шире распространились оливковые рощи и увеличилось производство инжира, чем Африка славилась со времён Карфагенской державы10. Поскольку Лептис и ранее был крупным центром производства оливкового масла, то едва ли стоит сомневаться, что аграрная политика Адриана хорошо поспособствовала всё большему экономическому процветанию и самого города, и его округи. Лептис удостоился внимания этого неутомимого, «беспокойного императора»11. По повелению Адриана здесь был сооружён великолепный комплекс терм. Если учитывать наличие в Лептисе форума, римских храмов, среди которых следует выделить храмы богини Ромы и божественного Августа, прямую планировку улиц, театра, то этот город по праву заслужил прозвание «Рим в Африке».
Такой вот богатый, успешно развивающийся край, процветающий город, не раз облагодетельствованный властелинами Рима, и был родиной Луция Септимия Севера. Он не мог не проникнуться здесь римским духом, чему совсем не мешало его пуническое происхождение. Да, говорил он с детства на языке Гамилькара и Ганнибала, как и большинство разноплеменного населения Лептиса. Проживали здесь и потомки пунов, и ливийцы, и нумидийцы, и греки, и италики… И всё свободное население города являлось римскими гражданами. Таковы были реалии римских провинций эпохи расцвета Империи.
К сожалению, у нас крайне мало сведений о том, как протекали детские годы Луция. Его биограф Элий Спартиан сообщает очень скудные данные. Известно, что в раннем детстве Луций не приступал к изучению греческой и латинской литературы, но языки эти, возможно, уже начинал учить, ибо впоследствии стал «особенно сведущ» в обеих великих литературах12. Мы знаем также, что на восемнадцатом году жизни он впервые выступил с речью13. Надо полагать, спич сей был произнесён на родном языке, поскольку Аврелий Виктор сообщает, что более всего Луций Септимий Север преуспел именно в пуническом красноречии14. Родители едва ли могли особо заботиться о его образовании, хотя необходимый минимум такового он, разумеется, получил. Отец будущего императора не был интеллектуалом, родной край никогда не покидал и являл собою пример недалёкого провинциала, вполне скромным своим положением удовлетворённого и ни на что большее не притязающего15.
Об интеллектуальных увлечениях самого Луция, в детские и юные годы в Лептисе проведённые, ничего не известно. Биограф сообщает лишь, что «он играл с мальчиками только в одну игру – в судьи: тут перед ним носили связки с топорами, он восседал, окружённый отрядом мальчиков, и творил суд»16.
Такие игровые пристрастия дают достаточно красноречивые представления о складывавшемся характере юного Севера. Совершенно очевидны рано проявившееся честолюбие, стремление первенствовать в своей среде и чувство превосходства над окружающими – ему нравится судить чужие проступки и деяния. Безусловные лидерские качества у честолюбивого юнца – сверстники принимают его условия игры и вполне охотно ему подчиняются. И это невзирая на то, что происходил он из скромной семьи и едва ли своим статусом друзей детства превосходил.
Очевидно, что Луций Септимий Север с младых ногтей не походил на своего отца. Честолюбие, стремление к лидерству, уверенность в своей правоте, умение подчинять себе людей и организовывать их – залог вполне возможного незаурядного будущего.
Не исключено, что его авторитету среди сверстников способствовало следующее: «хотя ростом он был невысок, но обладал немалой силой». Это свидетельство Диона Кассия17. А вот Элий Спартиан писал иначе: «Он был красив, огромного роста».18 Поскольку Дион Кассий не просто современник Септимия Севера, но и многократно встречался с ним, а Элий Спартиан жил много позже, то первая характеристика представляется более точной.
Ещё один поздний автор (VI века) Иоанн Малала утверждал, что Север имел тёмную кожу, то есть, был, возможно, негроидного происхождения19. Однако на единственно дошедшем до нас цветном портрете Север выглядит совершенно очевидно принадлежащим к белой расе, типичным уроженцем Средиземноморья20. Да и то, что известно о его родителях, никак не похоже на свидетельство происхождения Луция и его предков из глубин Африки. Пуны, к каковым принадлежал его отец, – потомки семитов-финикийцев. Если с кем и смешивались они в Лептисе, так это с ливийцами. А те как раз выделялись белой кожей, светлыми и рыжими волосами, чаще всего голубыми глазами. У матери же Луция Фульвии Пии были италийские корни, но никак не глубинно африканские.
Честолюбивые мечтания ощущавшего свою незаурядность подростка естественным образом переросли в карьерные устремления. И они никак не были связаны с родным городом. Да, Лептис исторически обладал самоуправлением, что неизбежно предполагало гражданскую активность населения. Расположение к городу императорской власти, статус колонии, римское гражданство только укрепляли эти настроения. Но перед юным Луцием были примеры и иного уровня. Главным здесь стоит счесть жизнь его деда, носившего имя Луций Септимий Север, каковое и внук получил при рождении. Тот проживал в Италии с юных лет, и пуническое происхождение не помешало ему стать истинным римлянином. О степени его романизации говорит то, что писал он стихи на латинском языке и был участником модных литературных кружков в Риме21. Известности как поэт Луций Септимий Север-дедушка не получил, но, главное, в культурной среде столицы стал своим человеком. Не забудем, что и двое дядюшек юного Луция в эти же годы делали весьма успешную сенатскую карьеру22. Примеры и вдохновляющие, и имеющие практическое значение! Но и весомая протекция могла не помочь, ибо до сих пор образование Луция оставляло желать много лучшего. По латыни он до приезда в Рим говорил плохо. Возможно, к примеру, подобно многим другим потомкам пунов Луций произносил звук «с» как «ш», то есть, он мог сам себя именовать Шептимий Шевер23. Известно, что, даже овладев со временем и латынью, и «божественной эллинской речью», Север всё же сохранил лёгкий пунический акцент.
Итак, молодой Луций прибыл в Вечный Город примерно в середине шестидесятых годов II века. Первейшей его задачей было получение подлинно римского образования. Без этого и помышлять о вхождении в политическую элиту Империи в те времена было невозможно. Стандарты образования в столице были очень высоки24. Но Луция отличало сильнейшее стремление стать вровень с высокообразованными людьми Рима, и он в постижении обоих языков, римской и греческой литератур вполне преуспел. Изучал он, конечно же, и философию, и риторику – непременные предметы тогдашнего римского высшего образования.
Уровень образованности, достигнутый Севером, римские историки оценивали по-разному. Аврелий Виктор утверждал, что «он был предан философии, красноречию и вообще всем изящным искусствам, и сам описал деяния столь же красиво, как и правдиво»25. Евтропий писал, что Север «имел известность в делах гражданских и литературных, а также хорошо разбирался в философии»26. На любовь Севера к наукам указывал Элий Спартиан: «Достаточно много времени он отдавал занятиям философией и ораторским искусством и отличался необыкновенным рвением к наукам».27 Но вот Дион Кассий – современник Септимия Севера – был более критичен: «Что касается образованности, то к ней он скорее стремился, нежели имел, и поэтому был богаче мыслями, нежели словами».28
К сожалению, написанная самим Луцием Септимием Севером его подробная автобиография до потомков не дошла. Потому у историков нет возможности оценить её красоту и правдивость, произведшие столь благоприятное впечатление на Секста Аврелия Виктора.
Теперь обратимся к эпохе, когда прошли детство и юность нашего героя, и в которой ему предстояло бороться за место под солнцем в столице римской Империи.
Родился Луций в правление императора Антонина Пия (138–161 гг.). Его именем принято называть императоров, правивших с 96 по 192 год: династия Антонинов. Династия здесь понятие условное, ибо за исключением двух последних её представителей – Марка Аврелия (161 – 18о гг.) и сына его Коммода (18о – 192 гг.) – все остальные императоры в прямом родстве не состояли. Надо сказать, что в Римской империи за всю её многовековую историю так и не утвердилось чёткая, определённая законом форма наследования высшей власти. Об этом обстоятельно писал в XIX веке великий французский историк Эрнест Ренан. Он упрекал основателя Принципата Августа, что тот «не исполнил долга истинного политика, оставив будущее на произвол судьбы. Без твердо установленного права престолонаследия, без точных законов об усыновлении, без закона об избрании императора, без всяких конституционных ограничений цезаризм оказался слишком тяжёлым грузом на этом корабле без балласта. Самые ужасные взрывы были неизбежны».29
Будем справедливы к Августу. Он был совсем не прочь сохранить высшую власть в Риме для своего потомства. Но оба его внука – Гай и Луций – скончались в молодом возрасте, и первому принцепсу пришлось передать бразды правления в державе своему пасынку Тиберию Клавдию Нерону. Императорская власть, однако, вплоть до 68 года оставалась в руках представителей одной семьи – Юлиев-Клавдиев. Последним из таковых стал Нерон (54–68 гг.). После его гибели в Риме утвердился новый император Гальба, к Юлиям-Клавдиям прямого отношения не имевший. Осознавая непривычность для римлян такого положения и будучи весьма преклонного возраста, разменявшим восьмой десяток, он решил установить новую систему передачи императорской власти в Римской империи. Гальба открыто объявил Луция Кальпурния Пизона, ни в каком родстве с ним не состоящего, своим преемником. Вот его слова: «Если Август искал преемника в пределах своей семьи, то я ищу их в пределах всего государства».30 Далее он пояснил: «При Тиберии, при Гае и при Клавдии мы представляли собой как бы наследственное достояние одной семьи. Теперь, когда правление Юлиев и Клавдиев кончилось, глава государства будет усыновлять наиболее достойного».31
Жизнь как самого Гальбы, так и избранного им наследника вскоре трагически оборвалась. В гражданской войне победил Веспасиан. Новый император – выходец из весьма не знатного рода Флавиев – тем не менее, возжелал установить в Империи прямую наследственную форму правления, заявив в сенате, что наследовать ему будут или его сыновья Тит и Домициан, или никто32. Последний из Флавиев Домициан пал жертвой заговора. К власти пришёл любезный сенату Нерва, который, по сути, и претворил в жизнь завет злосчастного Гальбы. Можно уверенно сказать, что принцип выбора правителем своего преемника из числа наиболее достойных привёл к славной череде «пяти хороших императоров» – так у многих историков принято именовать годы правления цезарей, начиная с Нервы и заканчивая Марком Аврелием (98 – 18о гг.).
Честь наиболее удачного выбора преемника, безусловно, принадлежит Адриану. 15 февраля 138 года им был усыновлён 51-летний Антонин. Более того, дабы подстраховать свой выбор надёжнее, Адриан повелел Антонину усыновить 16-летнего Марка Антония Вера, вошедшего в историю под именем Марка Аврелия. Оба избранника Адриана будут стоять во главе Империи 42 года! В правление этих двух достойных императоров и прошли 34 года жизни нашего героя Луция Септимия Севера – его детство, юность, возмужание и вхождение в зрелый возраст.
Жизнь молодого римлянина с давних времён делилась на три семилетия, именуемые infans, puer, iuvenis. Первое из них он проводил «in gremio ас sinu matris educari» – будучи «воспитанным на груди и лоне матери»33. Второе семилетие знаменовалось началом учёбы, третье – её завершением и подготовкой к вступлению во взрослую жизнь. Римские три возрастных этапа, можно сказать, вполне соответствуют привычным для нас понятиям – детства, отрочества, юности. Было у римлян ещё и четвёртое семилетие, именуемое «adulescens». Это возраст молодого мужчины (21–28 лет), который уже получил право участвовать в государственной и общественной деятельности, находиться на военной службе.
Первые два семилетия Луция Септимия Севера прошли в правление Антонина Пия. При нём наш герой, как и все римляне, на пятнадцатом году поменял детскую тогу на взрослую. Что же это было за время для Римской империи? Как уже упоминалось, Антонин Пий возглавил державу в 51 год. Возраст достаточно немолодой, но иные цезари оказывались на Палатине и в более почтенные годы. Тиберий сменил Августа, будучи на середине шестого десятка, Гальбе было хорошо за семьдесят, Нерве – первому из «хороших императоров» – 66 лет.
Сразу же отметим, что титульный правитель, давший имя условной династии Антонинов, снискал просто замечательное расположение римских историков. «На нём не было почти ни одного пятна порока. Он принадлежал к весьма древнему роду из муниципия Ланувия, был сенатором столицы. Он был настолько справедлив и обладал таким добрым нравом, что ясно этим доказал, что ни мир, ни продолжительный досуг не портят некоторых характеров и что города могут благоденствовать, если только управление их будет разумно. Итак, в продолжение всех двадцати лет своего управления, в течение которого он с большой пышностью отпраздновал девятисотый юбилейный год города Рима, он оставался все таким же».34
«Лишённый честолюбия и всего показного, он был до того кроток, что, когда сенаторы настаивали на преследовании лиц, составивших против него заговор, он прекратил следствие, сказав при этом, что нет надобности преследовать упорно людей, замысливших совершить над ним преступление, чтобы не обнаружилось, скольким людям он ненавистен, если их окажется еще больше, чем предполагалось».35
Это суждения Секста Аврелия Виктора. А вот мнение Евтропия: «Муж известного рода, но не очень древнего, достойный управлять государством. Его часто сравнивали с Нумой Помпилием, как в свое время Траяна – с Ромулом. Будучи частным лицом, он пользовался большим уважением; когда стал императором – еще большим. Ни к кому не был жесток, ко всем милостив. В делах военных стяжал посредственную славу, стремясь больше оборонять провинции, чем расширять их. При управлении своём старался выдвигать мужей справедливых, добрым воздавал почести, неспособных же удалял без всякой жестокости».36
Биограф Антонина Юлий Капитолин отмечал: «Он выделялся своей наружностью, славился своими добрыми нравами, отличался благородным милосердием, имел спокойное выражение лица, обладал необыкновенными дарованиями, блестящим красноречием, превосходно знал литературу, был трезв, прилежно занимался возделыванием полей, был мягким, щедрым, не посягал на чужое, – при всем этом у него было большое чувство меры и отсутствие всякого тщеславия. Наконец, он во всех отношениях был достоин похвалы, и его вполне заслуженно сравнивают – на основании суждения хороших людей – с Нумой Помпилием. Он получил от сената прозвание «Пий» либо за то, что на глазах сената протянул руку, чтобы поддержать своего тестя, удручённого возрастом (что, впрочем, не может служить доказательством великого благочестия, так как скорее был бы нечестивым тот, кто этого не сделал бы, чем проявил благочестие тот, кто этим выполнил свой долг); либо за то, что сохранил жизнь тем, кого во время своей болезни велел казнить Адриан; либо за то, что после смерти Адриана он – наперекор общему настроению – постановил оказать ему бесконечные и безмерные почести; либо за то, что когда Адриан хотел наложить на себя руки, он не допустил этого, установив необыкновенно тщательное наблюдение за ним; либо, наконец, за то, что он был от природы действительно очень милосердным и во время своего правления не совершил ни одного жестокого поступка».37
К сожалению, не сохранились страницы «Римской истории» Диона Кассия, посвящённые Антонину Пию. Это засвидетельствовал византийский писатель Иоанн Ксифилин (втор, пол. XI – нач. XII в.), перу которого принадлежит переложение книг знаменитого римского автора38.
Самые лестные суждения о личности Антонина Пия и его правлении высказывали многие историки-антиковеды. Так Эдуард Гиббон писал, что этот достойный император умело поддерживал порядок и спокойствие в Империи, и что отличительной чертой его была любовь к религии, справедливости и миру39. Британский же историк Эдуард Брайант отмечал лёгкую доступность Антонина для подданных, готовность принимать делегации из самых разных провинций и городов Империи40. Немецкий исследователь Карл Крист писал, что, если население Империи в эту эпоху жаждало уже не новых завоеваний, как во времена Августа и Траяна, но желало мира, благосостояния и счастья, то Антонин Пий идеально стремления народа оправдал. «Его большой успех как правителя, всеобщая любовь к нему основаны на том, что требования и желания его времени совпадали с его собственными намерениями».41
Выдающейся признаётся роль Антонина Пия в развитии в его правление римской юриспруденции. Есть мнение, что он подготовил почву для расцвета римского права в начале III в.42 А случится расцвет сей как раз в правление нашего героя.
В то же время английский историк Д.Б. Бьюри достаточно критичен в оценке правления Антонина Пия в целом, указывая, что достижения его коренятся, прежде всего, в успешном царствовании Адриана. Мол, сам он мог только ими пользоваться, но не развивать. Д.Б. Бьюри отказывает Антонину в какой-либо оригинальности как правителю. Более того, этот исследователь полагает, что стремление любой ценой сохранить мир и привело при преемнике Антонина Пия Марке Аврелии к череде тяжелейших для Империи войн43.
Из новейших исследований, где дана оценка значения для римской истории 23-летнего правления Антонина Пия, должно выделить фундаментальный труд Юлия Берковича Циркина «Политическая история Римской империи»44. Он отмечал, что Антонин уделял большое внимание развитию провинций и провинциальных городов. При нём было упорядочено управление в городах, укреплены те из них, которые были подвержены внешней опасности45. Сам выходец из провинциальной знати, император стремился ускорить давно уже идущий процесс полного её включения в правящую имперскую элиту46. Всё шире и шире распространялось римское гражданство, итогом чего становилось расширение самого понятия «римский народ». Теперь оно переставало означать господствующую силу над другими народами Империи, а всё более и более становилось обозначением всего населения Римской державы47.
Законодательство Антонина коснулось непосредственно и самих римских граждан. Таковые и ранее делились на две категории: низкие (humiliores) и почётные (honestiores). Теперь же они стали официально юридическими наименованиями двух резко разделённых групп граждан, что было чётко определено правовым образом. Отныне в первую категорию входили представители сенатского сословия, римские всадники, декурионы – представители городской муниципальной верхушки, выборные магистраты городов, обладавших римским и латинским правом. Ветераны вооружённых сил также относились к honestiores. Вторую категорию составляли все прочие римские граждане48. Применение закона к honestiores и humiliores стало жёстко различным. За одни и те же преступления и проступки теперь назначались разные наказания. Это означало окончательный разрыв с наследием республиканских времён, с важнейшим его принципом юридического равенства римских граждан. Здесь нововведения Антонина никак нельзя признать милосердными.
В то же время при этом императоре продолжилась начатая Адрианом политика гуманизации отношения к рабам. Была упрощена процедура их освобождения49. Убийство хозяином раба приравняли к обычному убийству, то есть, оно однозначно стало преступлением. Рабы, бежавшие из господского дома в страхе перед гневом хозяина и обретшие убежище в храмах и у статуй императора, получали законное право не возвращаться к прежнему ненавистному господину.
Совершенно мирными 23 года правления Антонина Пия, конечно же, не были. Случались мятежи в Британии, Дакии, Мавретании, Египте, Иудее. Но они достаточно быстро и без чрезвычайных усилий подавлялись. Потому время Антонина несопоставимо с теми трудностями, с которыми пришлось столкнуться его преемнику Марку Аврелию. Именно он оставил лучший литературный памятник своему предшественнику50. Вот строки из его сочинения «К самому себе»: «Во всем будь учеником Антонина. Подражай его настойчивости в деятельности, согласной с разумом, никогда не изменявшей ему уравновешенности и благочестию, ясности его чела, вежливости в обращении, презрению к суетной славе и рвению в познании вещей. Он никогда не проходил мимо чего-нибудь, не рассмотрев его внимательно и не отдав себе в нём ясного отчёта. Как терпеливо переносил он несправедливые упрёки, не отвечая на них тем же! Как ни в чём не обнаруживал он опрометчивости и как невосприимчив он был к клевете! Как тщательно исследовал он характеры и поступки! Как далёк он был от желания всё хулить, от пугливости, подозрительности и софистики! Как скромны были его требования, когда подымался вопрос о помещении, ложе, одежде, еде, услугах, и как он был трудолюбив и сдержан! Благодаря своему простому образу жизни он мог оставаться в одном месте до вечера, а естественные нужды удовлетворять лишь в определённые часы. Как он был верен и ровен в своих дружеских отношениях! Как терпеливо выслушивал он тех, которые откровенно высказывались против его мнения, и как радовался, если кто-нибудь предлагал лучшее! Как он был благочестив и в то же время чужд суеверия! Пусть свой последний час ты встретишь с такой же спокойной совестью, как он!»51
Антонин скончался 7 марта 161 года. Чувствуя приближение смерти, он распорядился перенести в комнату своего зятя и приёмного сына Марка Аврелия золотую статую Фортуны, которая всегда должна была находиться в покоях императора. Тем самым он исполнил свой долг, передавая власть в руки преемника, каковой был определён ему Адрианом ещё в 138 году. Новым властелином Рима стал Император Цезарь Марк Аврелий Антонин Август.
«В славе наилучшего из государей Антонин не имел бы себе соперника, если бы не назначил своим преемником человека, равного ему по доброте и скромности, но сверх того одарённого блеском, талантом, прелестью, которые дают образу жизнь в памяти человечества» – писал об этом событии Эрнест Ренан52.
Начальные годы правления пятого, последнего из «хороших императоров» и предпоследнего из Антонинов стали временем, когда Луций Септимий Север вступил в свою самостоятельную жизнь в столице Империи. Если полагаться на точность сообщения Элия Спартиана, то Луцию посчастливилось предстать перед самим Марком Аврелием с дерзкой для его юного возраста просьбой о латиклаве – широкой пурпурной полосе на тоге53. Она означала принадлежность к сенатскому сословию и давала молодому человеку возможность не просто начать политическую карьеру, но со временем претендовать на самые высокие магистратуры в Риме. Разумеется, юноша мог удостоиться такой аудиенции только благодаря высокой и авторитетной в глазах цезаря протекции. Биограф называет имя человека, такое покровительство оказавшего54. Это двоюродный дядя Луция Гай Септимий Север, побывавший на высоких должностях в Вечном Городе вплоть до консульской магистратуры в правление Антонина Пия. Очевидно, Марк Аврелий был расположен к почтенному консуляру, поскольку латиклаву молодой человек, из скромной всаднической семьи происходивший и из неблизкой Африки явившийся, получил. Возможно, Луций сумел произвести на цезаря-интеллектуала нужное впечатление. Мы помним, как горячо он рвался к знаниям, что мог заметить и оценить философ на троне.
Должно напомнить, что покровительство провинциалам, рвущимся к политической жизни в Риме, было характерной чертой эпохи Антонинов. Все они, начиная с Марка Ульпия Траяна, «наилучшего принцепса», либо сами были выходцами из провинций, либо имели, как Адриан, провинциальные корни. Отсюда сознательное с их стороны покровительство продвижению во властные структуры уроженцев мест, от столицы Италии весьма отдалённых55. Со временем эта политика принесла хорошие плоды. Ведь, когда у Империи стали возникать серьёзные внешние угрозы, то как раз провинциальная аристократия, независимо от своего разноэтничного происхождения, взвалила на себя тяжкое бремя организации обороны рубежей Римской державы56.
В случае со столь успешным ранним вступлением в политическую жизнь Империи Луция Септимия Севера надо помнить, что помимо родственников он мог опираться и на доброе расположение, а, когда возникала необходимость, то и на помощь своих многочисленных земляков, давно уже в Италии и самой столице пребывавших. Таковых было немало даже в верхах Империи57. Более того, среди них были люди, близкие к самим властелинам Вечного Города. К примеру, нумидиец по происхождению Марк Петроний Мамертин достиг высокой должности префекта претория (правой руки императора!) при Адриане и сохранил её при Антонине Пие. Его родственник Марк Корнелий Фронтон, знаменитый оратор и, что особенно важно, один из наставников Марка Аврелия, оставался другом своего ставшего цезарем ученика и в дальнейшем. Также из Нумидии, из города Цитры, происходил выдающийся военачальник Квинт Лолий Урбан. Публий Сальвий Юлиан, уроженец африканского города Гадрумета, не только стал сенатором и удостоился консульской магистратуры, но заслуженно признаётся величайшим юристом эпохи Антонинов58.
Не одними видными политиками, полководцами, юристами прославили себя африканские выходцы во II веке. Из города Мадавра провинции Проконсульская Африка вышел один из знаменитейших представителей римской литературы Апулей (125–170 гг.), чей роман «Метаморфозы», обычно именуемый «Золотой осёл», издаваем и читаем во всём мире и по сей день. Как тут не вспомнить строку Пушкина, лицейским годам посвящённую: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал».
Существует версия, которой придерживается Энтони Бёрли, что и славный автор «Жизни двенадцати цезарей» Гай Светоний Транквилл родился в африканском городе Гиппоне59. Но более убедительным представляется мнение сэра Рональда Сайма, что родиной этого историка был город Пизавр (совр. Пезаро в Италии)60.
Памятуя о таких достижениях выходцев из Африки в политической и культурной жизни Римской империи во втором веке, не должно удивляться, что карьера Луция Септимия Севера постоянно шла в гору. Начал таковую будущий император с того, что, завершив в столице образование, «обратился к практике форума»61. Конечно, в эпоху Империи он уже не был местом, где решались судьбы государства и с ростральной трибуны звучали речи великих ораторов, вошедших в историю. Но народу там было предостаточно. Здесь по-прежнему выступали по животрепещущим вопросам текущих дней, велись споры, обсуждались важные новости. Начинающему политику было, что послушать, да и поучаствовать в каких-либо дискуссиях не мешало. В славные времена «пяти хороших императоров» участие в спорах на политические темы не было опасно, как при Юлиях-Клавдиях, да и при Флавиях, особенно последнем.
Практика форума Луция не удовлетворила62. Он обратился к юридической работе, став адвокатом фиска63. Профессия эта появилась недавно. Со времён Адриана так назывался чиновник, отстаивающий интересы государства в суде. Очевидно, интересы финансовые, поскольку фиск – императорская казна. Она была создана ещё Августом в 6 году и называлась изначально Aerrarium militare – Военная казна. Главным её предназначением было содержание армии и регулярные выплаты денежного довольствия воинам. Насколько успешен был молодой Север в своей адвокатской деятельности, как уверенно он защищал интересы фиска в тех или иных судебных спорах, нам неизвестно. Сведения о его дальнейших трудах во благо Рима противоречивы. Если Евтропий уверенно сообщает, что, оставив работу в судах, Север стал военным трибуном64, то Элий Спартиан уверяет в обратном: «Должность военного трибуна он миновал».65
Последнему утверждению как-то не очень хочется верить. Ведь известно, что для успешного продвижения римлянина, избравшего политическую карьеру, военная служба была делом обязательным66. Важно и следующее: Луций Септимий Север уже был удостоен латиклавы, что прямо обеспечивало ему по приходу в легион должность так называемого трибунала-тиклавия. Всего в легионе было шесть военных трибунов. Пятеро из них (всадники по происхождению) носили на одежде узкую пурпурную полосу – ангустиклаву. Трибун же латиклавий стоял выше своих сослуживцев, будучи вторым по статусу старшим офицером легиона. Впервые эта должность появилась при императоре Клавдии (41–54 гг.)67. Латиклавии выделялись богато украшенными шлемами, литыми доспехами и белыми плащами. Их оружием был меч, носимый на левом бедре68. В отсутствии легата трибун-латиклавий руководил легионом и на месте службы в лагере, и на марше, а когда и в сражении69. Обычно достигнуть столь значимой военной должности можно было, имея опыт командования пехотной когортой или кавалерийской алой70. Но порой она доставалась молодому человеку, пришедшему на военную службу, уже обладая широкой пурпурной полосой. Как правило, таких новоявленных трибунов-латиклавиев соратники не очень-то почитали, да и сами вновь пришедшие имели частенько дурную славу за халатное отношение к служебным обязанностям, в армии крайне нежелательное71.
И вновь нам неведомо, как проходила служба Севера в должности военного трибуналатиклавия. Был ли он исправен, находясь в легионе, или же уподобился тем, кто обрёл высокое звание исключительно благодаря происхождению? Кто знает?! Учитывая, что со временем он сделал выдающуюся карьеру в армии, вполне уверенно можно предположить его самое серьёзное отношение к военному делу. Впрочем, на службе в легионе он надолго не задержался…
Говоря о молодых годах Луция, проведённых в столице, нельзя не обратить внимания на очень резкие слова биографа Севера: «Молодость его была полна безумств, а подчас и преступлений. Он был обвинён в прелюбодеянии и оправдан проконсулом Юлианом, преемником которого он был в проконсульстве, сотоварищем по консульству и опять-таки преемником по императорской власти».72
К «писателям истории августов» (Scriptores Historiae Augustae), к каковым и относится Элий Спартиан, у историков традиционно очень критическое отношение. Поэтому, насколько правдив биограф Севера в столь беспощадной характеристике молодости своего персонажа – вопрос, по крайней мере, спорный. Безумства, преступления… Без конкретных фактов это всего лишь слова. А вот, что касается обвинения в прелюбодеянии, то здесь Элий Спартиан мог упомянуть и о реальном событии в жизни Севера. Молодой человек, оказавшийся в городе, полном самых разных соблазнов, вполне мог стать любовником какой-нибудь не слишком блюдущей супружескую верность матроны… Сохранить однако в тайне свои отношения прелюбодеям не удалось. А наказание за это в Риме со времён Августа, когда в 18 г. до н. э. был принят закон Lex lulia de adulteris, являлось самым суровым. Дела о нарушении супружеской верности разбирались в судах как тяжкие преступления, и последствия могли быть для виновников весьма печальными. Допускались самые крайние меры: отец неверной жены имел право убить и преступную дочь, и её злосчастного возлюбленного. Муж-рогоносец мог убить только любовника. Правда, при условии, если тот принадлежал не к верхам общества или имел малопочтенную профессию. Мести обманутого супруга Луций в силу своей латиклавы мог не опасаться. Но, что, если у его любовницы был ненавидящий распутство отец, да ещё и обладающий свирепым нравом? Возможен, однако, был здесь и относительно мягкий приговор: женщина лишалась половины приданого и трети имущества, мужчина терял половину состояния. Помимо этого любовников могли сослать на мелкие и очень неуютные для проживания острова Тирренского моря. Должно быть разные и не рядом находящиеся, дабы блуд не вспыхнул с новой силой.
Нельзя не признать, что над будущим молодого Севера нависла серьёзная угроза. Даже мягкий приговор не сулил ему ничего хорошего, поскольку решительно ломал только-только начатую карьеру. Поди после такого ущерба, да и позора её возобнови! Вариант же с лютым папашей – полная погибель! Так что Марк Дидий Юлиан оказался подлинным спасителем и великим благодетелем Луция. Чем-то молодой человек сумел его к себе расположить… А может, тот и сам в былые годы пережил подобные страхи и потому с пониманием воспринял происшедшее. Кто мог тогда предполагать, что пройдут годы и облагодетельствованный и благодетель сойдутся в смертельной схватке…
Оставив трибунские обязанности, Север вступил в должность квестора. Это был высокий пост в финансовой структуре Империи. Квесторы делились на четыре категории. Одни вели дела в главном казначействе столицы. Другие направлялись в войска, где при командующих отвечали за денежное состояние в подчинённых им легионах. Третьих назначали в провинции, где они при пропреторах и проконсулах распоряжались финансами на вверенных территориях. Четвёртые квесторы курировали таможенные сборы в приморских и пограничных городах. Римлянину по обычаю ранее 27 лет квестура не должна была быть доступной. Ни дата, ни возраст Севера при обретении им оной не известны. По версии Энтони Бёрли, Луций получил квестуру в 169 году, много раньше положенного срока73. Причиной столь ускоренной карьеры молодого человека могли стать не только его немалые способности и усердие, не одно лишь покровительство влиятельных родственников и земляков. Дело в том, что в 165 году огромные территории Азии поразила чудовищная эпидемия чумы. Вскоре она пришла и в Европу, а в 167 году охватила столицу Империи. Чума не щадила никого, в Риме от неё скончались многие высокопоставленные лица. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уход из жизни одних открывал дорогу к должностям другим, эпидемией не задетым.
То ли Луций быстро оставил безумства молодости, то ли Элий Спартивн таковые сильно преувеличил, но карьеру Септимий Север начал замечательно добросовестно. Известна его старательность в исполнении квесторских обязанностей в Риме. Год спустя по жребию Луций стал квестором в провинции Бетика на юге Испании. Пребывание там Северу пришлось прервать по семейным обстоятельствам. Он должен был выехать в Африку, в родной Лептис, получив известие о смерти отца. Возникла необходимость срочно решить проблемы наследства. Ведь Луций не был единственным сыном. У него были старший брат Публий Септимий Гета и младшая сестра Октавилла. Уладив семейные дела, вернуться в Испанию Север не смог. Бетика в 172 году подверглась жестокому нашествию мавров. Исполнять квесторские обязанности в опустошаемой ими провинции было мудрено. И потому Север получил новое назначение – на Сардинию. Здесь он также себя неплохо проявил. Перевод этот объяснялся еще и тем, что Бетика, где шла война, из ранга сенатской провинции перешла под прямой контроль императора, в связи с чем тамошние должностные лица были переназначены на новые места в других сенатских наместничествах. В итоге Луций Септимий Север завершил своё квесторство на Сардинии.
Когда срок его пребывания на острове подходил к концу, то в силу вновь вступили родственные связи. Гай Септимий Север получил очередное высокое назначение. Теперь двоюродный дядя Луция стал проконсулом своей исторической родины – провинции Проконсульская Африка. Молодого родственника он, очевидно, сумел оценить по достоинству. Тот ведь на всех должностях проявил себя старательным и исполнительным, потому повышения в статусе заслуживал. Гаю не приходилось краснеть за своего протеже, для которого он не так уж и давно выпросил у Марка Аврелия латиклаву. Теперь Северу, едва достигшему 27 лет, предстояло стать легатом при наместнике провинции, главным помощником своего благодетеля.
В новой должности Луций немедленно возгордился, ибо легат в его возрасте – это выдающееся достижение. О степени обретённого им высокомерия рассказывает Элий Спартиан, приводя такой случай: «Закончив своё квесторство в Сардинии, он получил назначение быть легатом при проконсуле Африки. Когда он был там легатом, один лептинец, простой человек из одного с ним муниципия, обнял его, как старого товарища, в то время, как перед ним несли связки. Север наказал его розгами, причём глашатай объявил решение: «Не смей, простой человек, дерзко обнимать легата римского народа». Этот случай привёл к тому, что легаты, ходившие пешком, стали ездить в повозках. Тогда же, беспокоясь о своём будущем, он обратился к астрологу и под данным часом увидел великие дела; астролог сказал ему: «Дай мне сведения о своём, а не о чужом рождении», – и после того, как Север поклялся, что это его собственные данные, тот предсказал ему всё, что впоследствии сбылось».74
Должно быть в новой должности Луций отличился не только высокомерием и суровостью решений, но и оказался толковым помощником правителя провинции, что было оценено в столице Империи. В 174 году Север был удостоен должности плебейского (народного) трибуна. Такое назначение – прерогатива высшей власти. Так что Марк Аврелий высоко оценил способности молодого выходца из африканского Лептиса. Север цезаря не подвёл, обнаружив, исполняя новую должность, «исключительную строгость и энергию»75.
Очередное пребывание в Риме изменило и семейное положение Луция. Он женился на некоей Пакции Марцине, своей землячке, также уроженке Лептиса. Брак, скорее всего, был по любви, хотя позднее в своей автобиографии, как утверждает Элий Спартиан, Север ничего о первой супруге не сказал. Однако, став уже владыкой Рима, он распорядился увековечить её память. Марцине были установлены статуи.
Брак оказался счастливым, родились две дочери, которых Луций очень любил. Забегая вперёд, сообщим о том, как он впоследствии обеспечил их будущее. «Своих дочерей он выдал замуж с хорошим приданым за Проба и Аэция. Когда он предложил своему зятю Пробу должность префекта Рима, тот отказался, сказав, что, по его мнению, быть префектом Рима значит меньше, нежели быть зятем императора. Своих обоих зятьёв он сразу же сделал консулами и обоих обогатил».76
На 32 году жизни Север был намечен императором в преторы, а вскоре оказался в Испании, на сей раз на севере, в так называемой провинции Тарраконская Испания. Там он, скорее всего, пребывал в должности либо наместника, либо легата легиона. На Пиренейском полуострове Луций вновь задержался ненадолго. В 179 году он получает новое назначение – командование IV Скифским легионом. По утверждению Спартиана, Север принял его в Массилии (совр. Марсель), где таковой тогда находился77. Сообщение это не может не вызвать недоумения. IV Скифский размещался традиционно в Сирии ещё со времён царствования Нерона, с 62 года. Лагерь легиона стоял на берегу Евфрата, у города Зевгмы. Как он мог оказаться в Массилии – загадка. Если даже согласиться с предположением, что там IV Скифский легион оказался, возвращаясь из Бетики, где участвовал в отражении мавританского нашествия, то и это представляется странным. Мавры опустошили юг Испании в 172 году. Не слишком ли долго IV Скифский с ними сражался? Скорее всего, именно из Массилии Луций Септимий Север и отбыл морем в Сирию, где и принял командование над легионом, добросовестно оберегавшим римские рубежи на Евфрате. Так наш герой впервые оказался на римском Востоке, с которым впоследствии будут связаны важнейшие события в его жизни.
Наместником Сирии в это время с 178 года был Публий Гельвий Пертинакс, видный многоопытный военачальник, шагнувший уже в шестой десяток. Он был на двадцать лет старше Луция. У такого испытанного и прославленного воина относительно молодому легату было чему поучиться. Думается, Север такой возможности не упустил.
Существует предположение, что, находясь в Сирии, Луций оказался по каким-то делам в городе Эмесе, где располагался храм верховного божества финикиян Ваала. Пунические предки Луция таковому, естественно, поклонялись. В храме он познакомился с очень красивой и замечательно умной дочерью жреца этого грозного бога по имени Юлия Домна. Она якобы произвела на него огромное впечатление78.
Думается, сведения эти сугубо легендарны. Юлия Домна тогда была ещё ребёнком, даже десятилетнего возраста не достигшим. Если тридцатитрёхлетний Север и увидел её в храме, то едва ли мог бросить на неё мужской взгляд…
Пребывание в Сирии и командование IV Скифским легионом стали последней страницей жизни Луция Септимия Севера в годы правления Марка Аврелия. Этому великому цезарю-философу он и был обязан как успешным началом своей карьеры, так и её достойным продолжением. Теперь необходимо обратиться к тем событиям римской истории, которые происходили в эти годы и в которых нашему герою – их современнику прямого участия принимать не довелось. Но с последствиями таковых Септимию Северу в дальнейшей жизни придётся многократно столкнуться.
Марку Аврелию вскоре после того, как он обосновался на Палатине, пришлось встретиться с совершенно иной ситуацией на рубежах Империи, нежели той, что царила в правление двух его предшественников. Всё его царствование стало чередой непрерывных войн. Сам Марк Аврелий – философ-стоик менее всего по складу своему был расположен к военной деятельности. В произведении «К самому себе» вот что он пишет о главных своих достоинствах, которые унаследовал:
«1. От деда моего Вера – добронравие и негневливость.
2. От славной памяти, оставленной по себе родителем, скромность, мужественность.
3. От матери благочестие и щедрость, воздержание не только от дурного дела, но и от помысла такого. И еще – неприхотливость её стола, совсем не как у богачей…
…
16. От отца нестроптивость, неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено; нетщеславие в отношении так называемых почестей; трудолюбие и выносливость; выслушивание тех, кто может предложить что-либо на общую пользу, и неуклонность при воздаянии каждому по его достоинству, умение, когда нужно, напрячься или расслабиться; как он положил предел тому, что связано с любовью к мальчикам; всепонимание и разрешение друзьям даже трапезу с ним не делить, не только что не выезжать с ним в дальний путь – всегда оставался прежним с теми, кто был чем-нибудь задержан. Во время совещаний расследование тщательное и притом до конца, без спешки закончить дело, довольствуясь теми представлениями, что под рукой; дружил бережно – без безумства и без пресыщения; самодостаточность во всём, весёлость лица; предвидение издалека и обдумывание наперёд даже мелочей, притом без театральности; и как ограничил возгласы и всяческую лесть; всегда он на страже того, что необходимо для державы; и при общественных затратах, словно казначей, бережлив; и решимость перед обвинениями во всех таких вещах; а ещё то, что и к богам без суеверия, и к народу без желания как-нибудь угодить, слиться с толпою: нет, трезвость во всём, устойчивость, и без этого невежества, без новшеств. Тем, что делает жизнь более благоустроенной, если по случаю что-нибудь такое было в избытке, пользовался, без ослепления, как и без оправданий, так что покуда есть – брал непринуждённо, а нет – не нуждался. И то, что никто о нём не мог сказать, будто он софист, что доморощенный, что учёный, нет – муж зрелый, совершенный, чуждый лести, способный постоять и за своё, и за чужое. Кроме того, уважая подлинно философствующих, прочих не бранил, но уж и не поддавался им; а ещё его общительность и любезность без пресыщения; и забота о своём теле с умеренностью – не из жизнелюбия или для того, чтобы красоваться, но и без небрежения, а с тем, чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной, в лекарствах или наружных припарках. А особенно то, что он был независтлив и уступчив к тем, кто в каком-нибудь деле набрал силу – в слоге, скажем, или в законах осведомлён, нравах, ещё в чем-нибудь – таким он ревностно содействовал, чтобы каждый был прославлен тем, в чём превосходит других. Делая всё по заветам отцов, он даже и то не выставлял напоказ, что вот по заветам отцов поступает. А ещё то, что не перекидывался, не метался, а держался одних и тех же мест и тех же дел. А ещё, что после острых приступов головной боли он, снова молодой и цветущий, был при обычных занятиях, и что не много было у него тайн, а совсем мало и редко, притом всегда в связи с государственными делами; при устроении зрелищ и сооружении построек, при раздачах и тому подобном внимательность и размеренность человека, вперившего взгляд в самое то, что должно быть сделано, без мысли о славе, которая от этого произойдёт. Не из тех, кто купается не вовремя, вечно украшает дом или выдумывает какие-нибудь блюда, ткани, расцветку одежды, печётся, чтобы люди его были все как на подбор. Одежда, в которой он из Лория возвращался в город, и многое, что случалось в Ланувии; как он обошёлся в Тускуле с извиняющимся откупщиком, и прочее в этом духе. Ничего резкого, не говорю уж беззастенчивого или буйного; никогда он не был что называется «весь в поту» – нет, всё обдуманно, по порядку и будто на досуге, невозмутимо, стройно, сильно, внутренне согласно. К нему подойдёт, пожалуй, то, что рассказывают о Сократе, который мог равно воздерживаться или вкусить там, где многие и в воздержании бессильны, и в наслаждении безудержны. А вот иметь силу на это, да ещё терпеть и хранить трезвость как в том, так и в другом – это свойство человека со сдержанной и неодолимой душой, какую он явил во время болезни Максима.
17. От богов получил я хороших дедов, хороших родителей, хорошую сестру, хороших учителей, домашних, родных, друзей – всё почти. И что никому из них я по опрометчивости не сделал чего дурного – это при душевном складе, от которого мог я при случае что-нибудь такое сделать, – благодеяние богов, что не вышло стечения обстоятельств, которое меня бы изобличило. И то, что я не воспитывался дольше у наложницы деда, и что сберёг юность свою, и не стал мужчиной до поры, но ещё и прихватил этого времени. Что оказался в подчинении у принцепса и отца, отнявшего у меня всякое самоослепление и приведшего к мысли, что можно, живя во дворце, не нуждаться в телохранителях, в одеждах расшитых, в факелах и всех этих изваяниях и прочем таком треске; что можно выглядеть почти так же, как обыватели, не обнаруживая при этом приниженности или же легкомыслия в государственных делах, требующих властности. Что брат у меня был такой, который своим нравом мог побудить меня позаботиться о самом себе, а вместе радовал меня уважением и теплотой; что дети рождались здоровые и не уродливые телом. И что не пробился я далеко в риторических, пиитических и прочих занятиях, на которых я, пожалуй, и задержался бы, если бы почувствовал, что легко продвигаюсь на этом пути. Что успел я моих воспитателей окружить тем почётом, о каком, казалось мне, каждый мечтал, а не откладывал, полагаясь на то, что они ещё не стары и что попозже сделаю это. Что узнал Аполлония, Рустика, Максима. Что явственно и нередко являлось мне представление о жизни в согласии с природой, так что, поскольку это от богов зависит и даяний оттуда, от их поддержки или подсказки, ничто мне не мешало уже по природе жить, и если меня не хватает на это, так виной этому я сам и то, что не берёг божественные знаменья и чуть ли не наставления. Что тело мое столько времени выдерживало такую жизнь. Что не тронул ни Бенедикты, ни Феодота, да и потом выздоравливал от любовной страсти. Что, досадуя часто на Рустика, я не сделал ничего лишнего, в чём потом раскаивался бы. Что мать, которой предстояло умереть молодой, со мною прожила последние свои годы. Что всякий раз, когда я хотел поддержать бедствующего или нуждающегося в чём-нибудь, никогда я не слышал, что у меня нет средств для этого; и что самому мне не выпадала надобность у другого что-нибудь брать. И что жена моя – сама податливость, и сколько приветливости, неприхотливости. Что у детей довольно было хороших воспитателей. Что в сновидениях дарована мне была помощь, не в последнюю очередь против кровохарканья и головокружений, и как это поможет в Кайете. И что, возмечтав о философии, не попал я на софиста какого-нибудь и не засел с какими-нибудь сочинителями да за разбор силлогизмов; и не занялся внеземными явлениями. Ибо всё это «в богах имеет нужду и в судьбе».79
И это только часть длинного списка добродетелей, за наличие которых у себя император благодарил богов и близких. Но самое главное, что в нём нет ни слова о военных талантах, об умении руководить войной, командовать легионами… И вот этому самому не воинственному по духу владыке Империи достались жестокие войны на разных рубежах державы.
Первая военная гроза разразилась на Востоке, где соседом Рима была Парфия и правил царь Вологез III (148–192 гг.). Парфяне болезненно вспоминали вторжение Траяна в их владения в 115 _ и? гг? когда пали перед римлянами царские резиденции, а вражеские легионы пусть и ненадолго приблизились на востоке к Каспию, на юге же достигли Персидского залива. Да, поход Траяна в конечном итоге провалился, и граница между державами осталась на Евфрате. Но, тем не менее, римляне продолжали смотреть на парфян свысока. Антонин, к примеру, отказался вернуть в Парфию золотой трон царей, захваченный Траяном, хотя ещё Адриан обещал это сделать80.
И вот в 161 году, когда до Парфии дошло известие о смерти Антонина Пия и вступлении на престол Марка Аврелия с соправителем Луцием Бером, Вологез немедленно двинул свои войска на Армению, где на троне сидел римский ставленник царь Сохем. Против парфян выступил наместник Каппадокии Марк Седаций Севериан, в распоряжении которого был всего лишь один легион81. Скорее всего это был XXII Дейотаров легион82. Римский начальник крайне неосторожно двинулся навстречу явно превосходящим силам противника. Парфяне не дали римлянам вторгнуться в Месопотамию, атаковав легион на марше на открытой местности, где их конница имела все преимущества. Вооружённые луками всадники на быстрых и ловких небольших лошадях, скача галопом, умело осыпали неприятеля градом стрел, после чего стремительно уходили, лишая врага возможности нанести ответный удар83. По словам Диона Кассия, парфяне полностью уничтожили римский легион, расстреляв его из луков84. Уцелевшие воины отступили в армянский город Элегейю. Однако парфянский военачальник Хосрой осадил его, и в трёхдневном сражении римляне были уничтожены, а сам Марк Седаций Севериан покончил с собой, не имея возможности спастись и не желая доставить врагу радость пленением полководца, наместника провинции. Парфянские войска, двигаясь далее, захватили область Осроену с её главным городом Эдессой. Шаханшах (царь царей) Вологез III низложил правившего там римского ставленника Мануса и посадил на трон послушного Парфии некоего Ваала. Римский наместник Сирии Аттидий Корнениан предпочёл отвести войска от Евфрата, и парфяне уверенно обосновались на его западном берегу. Правда, на глубокое вторжение в римские владения они пока не решались. Но опасения римлян были вполне обоснованы, поскольку местное население выражало парфянам совершенно очевидное расположение. А это могло действительно привести в случае похода Вологеза на Сирию к потере важнейшей и богатейшей провинции85.
Когда новости с Востока достигли столицы Империи, то Марк Аврелий немедленно проявил должную решимость. В Сирию был направлен его младший брат Луций Вер, соправитель императора, а для действительного руководства войсками с ним туда были посланы лучшие военачальники86.
Поскольку войска, находившиеся в Сирии, где со времён Траяна никаких боевых действий не велось, пребывали в прескверном состоянии (были плохо вооружены, не имели военного опыта), на Восток срочно стали перебрасывать подкрепления с Запада, с берегов Рейна и Дуная87. Прибывшие из Европы легионы высадились в сирийском городе Лаодикее в конце 161 года. «Им предстояло быть вдали от дома следующие пять лет».88
Сам Луций Вер какими-либо военными талантами не обладал. Но, что было особенно ценно, прекрасно это осознавал. И потому он не пытался сам руководить боевыми действиями, справедливо предоставив это право сопровождавшим его на Восток действительно испытанным умелым полководцам. Руководство римским контрнаступлением соправитель Марка Аврелия поручил Гаю Авидию Кассию, назначив его наместником Сирии.
В ближайшие годы римляне не только отбросили парфян и восстановили свои позиции в Осроене, но и перенесли военные действия на территорию противника. В ходе наступления легионам не раз приходилось преодолевать водные преграды. Дион Кассий подробно описывает, как умело римляне это осуществляли. «Римлянам не составляет никакого труда перебросить мосты через речные потоки, поскольку воины постоянно занимаются этим в ряду прочих военных упражнений во время своих учений на Истре, Рене и Евфрате. Используют же они следующий способ (о котором, наверное, не всякому известно). Корабли, с помощью которых через реку возводится переправа, имеют плоское дно; их ставят на якорь немного выше по течению от того места, где должен быть мост. Затем, по условному знаку, сначала пускают вниз по течению один корабль, ближайший к занятому ими берегу. Когда же он подплывет к месту расположения будущего моста, они бросают в воду корзину, наполненную камнями и привязанную канатом, наподобие якоря, и корабль, удерживаемый таким образом, останавливается близ берега, и с помощью досок и мостков, которые в большом количестве везут на корабле, они тотчас же делают настил непосредственно в месте высадки. Потом они спускают следующий корабль на небольшое расстояние от первого, вслед за ним еще один и так далее, до тех пор, пока они не доведут мост до противоположного берега. Корабль, ближайший к вражескому берегу, снабжён башнями с бойницами, лучниками и катапультами»,89
Дион Кассий даже приводит конкретный пример такой ситуации, когда войско Авидия Кассия строило мост через Тигр: «Так как на воинов, занятых постройкой моста в большом количестве обрушивались метательные снаряды, Кассий приказал пустить в дело катапульты и начать обстрел. И после того как варвары, стоявшие в первых рядах, были поражены, остальные отступили».90
Ещё до выступления в решающий поход римские военачальники сильнейшей муштрой и непрерывными учениями восстановили боеспособность легионов Востока. Теперь они соответствовали тем, кто прибыл им в помощь с Запада. В 163 году началось большое наступление на Армению, очередной раз угодившую под власть Парфии. Парфянам пришлось отступить, и их ставленник был низложен. На армянском престоле вновь оказался проримский царь. Но только возвращением господства над Арменией римляне не ограничились. В следующем 164 году они двинулись в Месопотамию одновременно по трём направлениям. У города Дура-Европос в кровопролитном сражении парфянская армия была разгромлена. Легионам открылась дорога на Вавилонию91. Селевкия, одна из царских резиденций, была вынуждена открыть ворота неприятелю, выговорив у римлян обещание, что город избежит разграбления и насилия со стороны победителей. Те уговор не соблюли. В декабре 165 года Селевкия была жестоко разграблена. Та же участь постигла и другую царскую резиденцию – Ктесифон, где был разрушен дворец Вологеза III92. Дион Кассий отметил, что римский военачальник (Авидий Кассий) «стойко выдержал натиск Вологеза и, в конечном счете, когда царь был покинут своими союзниками и начал отступление, преследовал и гнал его вплоть до Селевкии и Ктесифона; Селевкию он обрёк пожару, а царский дворец Вологеза в Ктесифоне разрушил до основания. На обратном пути он потерял очень много воинов из-за голода и болезней, но тем не менее с оставшимися в живых воинами возвратился в Сирию».93
Поскольку официально первым лицом на Востоке был Луций Вер, то Евтропий отдал должное и ему, не забыв однако указать, что славные победы были достигнуты действиями его полководцев: «Находясь в Антиохии и у границ Армении, он совершил много славного через полководцев своих. С 40 тыс. войском взял Селевкию, знаменитейший ассирийский город, за что удостоился триумфа. И вместе с братом своим, который приходился ему ещё и тестем, отпраздновал его».94
А вот Аммиан Марцеллин, рассказывая о безжалостном разграблении Селевкии, связывает это событие с началом чудовищной эпидемии чумы: «Во время разрушения последнего города войсками императора Вера, о чём было ранее рассказано, взята была со своего места статуя Комейского Аполлона и доставлена в Рим, где жрецы поместили её в храме Аполлона Палатинского. Рассказывают, что, когда после похищения этой статуи солдаты подожгли город и обыскивали храм, они наткнулись на узкую щель. Ожидая найти какие-нибудь драгоценности, они расширили её. Тут из одного закрытого тайника халдейских таинств выскочила на свет первичная чума. Заключая в себе зародыши неисцелимых болезней, она во времена того самого Вера и Марка Антонина прошлась от самых границ Персии до Рейна и Галлии, осквернив всю землю заразой и покрыв её трупами».95
Эта эпидемия, вспыхнувшая в Месопотамии, охватила огромные территории. Известия о её невиданном размахе содержатся даже в китайских источниках96.
А христианский историк Орозий сообщает, что именно во время Парфянской войны Марк Аврелий начал в Азии и в Галлии суровые гонения на христиан, «уже четвёртые после Нерона, и многие святые приняли венец мученичества»97.
Наиболее известными среди многочисленных жертв гонений Марка Аврелия были епископ Смирны Поликарп и Юстин Философ98. Преследования последователей Христа проводились по именному императорскому повелению. Епископ Сардийский Мелитон свидетельствовал об этих распоряжениях Марка Аврелия: «Вышли новые указы, которыми преследуется род людей богобоязненных». Он оценивал таковые столь жестокими, что их «не заслуживали бы и неприязненные варвары»99. Сведения эти сохранил в «Церковной истории» Евсевий Кесарийский. К сожалению, подлинные их тексты до нас не дошли100. Причины, вызвавшие столь жестокое отношение Марка Аврелия к христианам, достаточно очевидны. Прежде всего, стоическая философия, которой он был предан и разумом, и сердцем, была глубоко враждебна к вере Христовой101. Помимо этого император должен был гнать христиан как государственный руководитель, опирающийся на языческие идейные устои своей державы102. Христиане же во всём и всегда давали понять, что их религиозная община совершенно чужда духовным ценностям Римской империи. Отсюда их столкновение с имперской властью было неизбежно. Марк Аврелий, будучи до мозга костей представителем языческой греко-римской цивилизации, не мог не стать гонителем христиан как силы, враждебной ценностям, которые он глубоко и искренне почитал, и на каковые опиралась его держава. Если Адриан был вполне терпим к христианам, не очень-то вникая в суть их учения, если толерантный Антонин Пий не издавал никаких указов против христианства, то именно просвещённейший император-философ должен быть признан первым идейно убеждённым гонителем новой веры.
Вернёмся к событиям римско-парфянской войны, где обе стороны понесли жестокий урон из-за чумы. Парфянам удалось вернуть большую часть ранее захваченных римлянами владений и оттеснить неприятеля на север Месопотамии. Там однако легионы достаточно уверенно держались. В 166 году мир между двумя великими державами был подписан. Конкретные его статьи до нас не дошли. Всё же, опираясь на исследования Теодора Моммзена, можно обозначить основные условия этого договора103. В Северной Месопотамии римлянам удалось утвердиться. Западная её часть, Осроена, стала вассалом Рима, парфянский ставленник был из Эдессы изгнан. Восточная часть, Адиабена, превратилась в пограничную территорию. К Риму отошли большие города Дура-Европос, Нисибис, Харан. Всё это давало Империи важное стратегическое преимущество, ибо с новой границы легионы могли уверенно начинать наступление на юг к Ктесифону.
Марк Аврелий и Луций Вер украсили свои имена титулом «Парфянский». Поскольку война оказалась в целом победной и принесла державе пусть и не очень большие, но важные территории, то это было оправдано. Состоялся триумф. Первый, спустя два столетия, триумф в Риме в честь действительной победы над Парфией. Впервые такового удостоился Публий Вентидий Басс в 36 г. до н. э., победивший сначала лучшего парфянского полководца Франипата, затем царевича Пакора, чью голову потом торжественно возили по городам римского Востока в отмщение за глумление парфян над головой Марка Лициния Красса. А вот триумф, проведённый Адрианом в 117 году в честь побед Траяна над парфянами, справедливо считать даже не квази, а псевдо-триумфом. Ведь римлянам тогда пришлось убираться из парфянских владений, даже толики завоеваний не сохранив.
Марку Аврелию по итогам пятилетней войны с Парфией принадлежит честь последнего расширения пределов Римской империи. Подданные оценили военные достижения императора-философа. На знаменитом конном памятнике Марку Аврелию на Капитолии не сохранилась, увы, одна немаловажная деталь. Изначально под копытом поднятой ноги лошади цезаря-победителя находилась небольшая фигурка царя Вологеза III. Символ впечатляющий!
Увы, насладиться миром после достигнутой победы, как самой Империи, так и её правителю не довелось. В 166 году германские племена лангобардов и обиев, переправившись через Дунай, вторглись в Паннонию. Римские легаты Виндекс и Кандид умело отразили нападение варваров, но, к несчастью, это столкновение стало только началом многолетней так называемой Маркоманской войны на всей дунайской границе Империи104. Римлянам в ходе её пришлось сражаться: с германскими племенами – маркоманами, свевами, квадами, вандалами, хаттами и др.; с иранцами – сарматами, язигами, аланами; с фракийцами-костобоками. Шло настоящее человеческое наводнение105. Такой войны на своих рубежах римляне ещё никогда не вели. Отсюда они справедливо уподобляли её Пунической106. В ходе этой войны варвары проникали даже в Италию, подступая к Аквилее на Адриатике. Северные фракийцы-костобоки, обитатели Восточного Прикарпатья и Попрутья, разорив Дакию, двинулись через Дунай. Пройдя Мёзию, Южную Фракию и Македонию, они вторглись в Грецию, где добрались до Аттики. Там им удалось разрушить святилище Деметры в Элевсине близ Афин!
«Перед этим чудовищным натиском всех варварских сил Марк Аврелий проявил поразительную силу. Он не любил войны и вёл её против личного желания; но, когда это оказалось необходимым, он повёл её хорошо, стал великим полководцем по обязанности».107 Как здесь не согласиться с Эрнестом Ренаном!
При этом в самое тяжёлое время непрерывных сражений цезарь-философ находил время для своих учёных трудов. Книга I его творения «К самому себе» завершается словами: «Писано в области квадов, на берегу Грануи (северный приток Дуная)»108. Марку Аврелию не только удалось отбить натиск неисчислимых полчищ варваров, но, перейдя в наступление, он перенёс военные действия на земли к северу от Дуная. Цели этого вторжения были у него самые серьёзные: он намеревался отодвинуть естественные рубежи Империи с дунайских берегов к Западным Карпатам, Бескидам. Здесь цезарь вознамерился создать две новые римские провинции Маркоманию и Сарматию109. Но расширить владения Империи не только за Евфратом, но и за Дунаем Марку Аврелию не было суждено. 17 марта 18о года император скончался от чумы в Виндобоне (совр. Вена). Луций Вер умер раньше, ещё в 169 году. Реальным соправителем он не был и делал лишь то, что старший брат ему поручал. Говоря о цезаре-философе, нельзя не отметить его удивительного для той эпохи великодушия. Яркий пример тому мятеж Авидия Кассия. Этот подлинно выдающийся военачальник в 175 году неожиданно провозгласил себя императором. До него дошли слухи, что якобы Марк Аврелий скончался… Однако войско за ним не пошло, да и вскоре стало известно, что законный правитель пребывает в добром здравии. Тогда сами воины убили взбунтовавшегося полководца. Вопреки сложившейся практике цезарь отказался от поступления конфискованного имущества и состояния мятежника в императорский фиск. Всё это поступило в эррарий – казну, контролируемую сенатом. Но главное: Марк Аврелий не стал преследовать детей и родственников Авидия Кассия! Интересен комментарий Аммиана Марцеллина о событиях 175 года: «Когда Кассий посягнул в Сирии на императорский сан, Марку была доставлена захваченная связка писем, адресованных Кассием заговорщикам, так как взят был в плен тот, кто должен был их доставить. Марк, не распечатывая, приказал тут же её сжечь, находясь ещё в Иллирике, чтобы не узнать своих противников и против воли не возненавидеть их».110
Главным памятником Марку Аврелию стала воздвигнутая в 176–193 гг. триумфальная колонна по образцу колонны Траяна высотой в тридцать метров. Площадь, где она была установлена, находясь там и поныне, так и называется Пьяцца Колонна111. Не сохранилась только статуя самого Марка Аврелия, венчавшая этот замечательный памятник. В христианскую эпоху её заменили статуей апостола Павла. Такая вот запоздалая месть ревностному гонителю христиан!
Примечания к I главе
1 Birley A.R. Septimus Severus, the African Emperor. London; New York, 1999, p. 8.
2 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX, 28.
3 Birley A.R., р.8.
4 Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону. 1997, с. 526.
5 Страбон. География. II, 5, 33.
6 Гай Юлий Цезарь. Записки. Африканская война. 7.
7 Там же. 97.
8 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи. СПб., 2000, т. I., с. 86.
9 Там же.
10 Там же.
11 Birley A.R. Hadrian. The Restless Emperor. London, New York, 1997, p. 16.
12 Элий Спартиан. Север. I. (4) – Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана и до Диоклетиана. Пер. С.П. Кондратьева; под ред. А.И. Доватура. М., 1992.
13 Элий Спартиан. Север. I. (5).
14 Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XX. (8).
15 Birley A.R. Septimus Severus, the African Emperor, p. 25.
16 Элий Спартиан. Север. I. (4).
17 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 16 (1).
18 Элий Спартиан. Север. XIX. (8).
19 Иоанн Малала. Хроники. 12.18 (291).
20 Адриан Голдсуорти. Падение Запада. Медленная смерть Римской империи. М., 2014, с. 109.
21 Birley A.R. Septimus Severus, the African Emperor, p. 34.
22 Ibidem, p. 25.
23 Адриан Голдсуорти. Падение Запада, с. 109.
24 Там же.
25 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX. (22).
26 Евтропий. Краткая история от основания города. VIII. 19.1.
27 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 16 (1).
28 Элий Спартиан. Север. XVIII. (5).
29 Ренан Эрнест. История первых веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991, с. 555.
30 Корнелий Тацит. История. 1,15.
31 Там же. 1,16.
32 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Веспасиан. 25.
33 Тацит. Диалог об ораторах. 28.
34 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XV. (1–2).
35 Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XV. (6).
36 Евтропий. Краткая история от основания города. VIII. 8.1, 2.
37 Юлий Капитолин. Антонин Пий. II.
38 Дион Кассий. Римская история. LXX. 1 (1).
39 Гиббон Эдуард. Закат и падение Римской империи. – СпБ., 2020, с. 8о.
40 Bryant Е. The Reign of Antoninus Pius. – Cambridge, 1995, p. 128.
41 Крист Карл. История времён римских императоров. Том I. Ростов-на Дону, 1997, с. 436.
42 Bury J.B. A History of the Roman Empire from its Foundation to the Death of Marcus Awrelius. London, 1893, p. 526.
43 Ibidem, p. 524.
44 Циркин Ю.Б. Политическая история Римской империи. Т – 1, 2. СПб., 2019; Т – 1, с. 319–320.
45 Там же. Т – 1, с. 319.
46 Там же.
47 Там же., с. 320.
48 Там же.
49 Bury J.B. Op. cit, р. 527.
50 Крист Карл. История времён…, с. 437.
51 Марк Аврелий. К самому себе. VI. 30.
52 Ренан Эрнест. Марк Аврелий и конец античного мира. Ярославль, 1991, с. 9.
53 Элий Спартиан. Север. I. (5).
54 Там же.
55 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 38.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem, p. 25.
59 Ibidem.
60 Syme R. Appendixes. – Tacitus, Vol. 2, Oxford, 1958, p. 780.
61 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX. (28).
62 Там же.
63 Евтропий. VIII. 18.1.
64 Там же.
65 Элий Спартиан. Север. II. (3).
66 Кравчук Александр. Галерея римских императоров. Екатеринбург-Москва, 2011, с. 375.
67 Светоний. Божественный Клавдий. 25. (1).
68 Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской империи. М., 2013, с. 45.
69 Там же.
70 Светоний. Божественный Клавдий. 25. (1).
71 ГолдсуортиА. Во имя Рима. Люди, которые создали империю. М., 2006, с. 415.
72 Элий Спартиан. Север. II. (1).
73 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 46.
74 Элий Спартиан. Север. II. (5–7).
75 Там же. III. (1).
76 Там же. VIII. (1–2).
77 Там же. III. (6).
78 Кравчук Александр. Галерея…, с. 375.
79 Марк Аврелий. К самому себе. 1.1–3; 16–17.
80 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство. М., 2019, с. 156.
81 Там же.
82 Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима…, с. 486–487.
83 Там же, с. 487.
84 Дион Кассий. Римская история. LXXI. 2. (1).
85 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 157.
86 Дион Кассий. Римская история. LXXI. 2. (2).
87 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 157.
88 Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима…, с. 488.
89 Дион Кассий. Римская история. LXXI. 3. (1).
90 Там же.
91 Малькольм Колледж. Парфяне. Последователи пророка Заратустры. М., 2004, с. 166.
92 Там же.
93 Дион Кассий. Римская история. LXXI. 2. (3).
94 Евтропий. Краткая история…, VIII. ю. 2.
95 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIII. 6. 24.
96 Малькольм Колледж. Парфяне, с. 166.
97 Орозий. История против язычников. VII. 15. 4.
98 Евсевий. Церковная история. IV. 15, 16.
99 Евсевий. Церковная история. IV. 26.
100 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. М., 1994, с. 77.
101 Ренан Эрнест. Марк Аврелий…, с. 36.
102 Лебедев А.П. Эпоха гонений…, с. 75.
103 Чернявский Станислав. Парфянская империя. М., 2019, с. 217.
104 Дион Кассий. Римская история. LXXI. 3. (1–2).
105 Ренан Эрнест. Марк Аврелий…, с. 140.
106 Евтропий. Краткая история…, VIII. 12. 2.
107 Ренан Эрнест. Марк Аврелий…, с. 141.
108 Марк Аврелий. К самому себе. 1.17.
109 Махлаюк А.В. Римские войны. М., 2003, с. 426.
110 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI. 16.11.
111 Фёдорова Е.В. Люди императорского Рима. Ростов-на-Дону, 1998, с. 186.
Глава II
Из политического небытия – к подножию власти
Марк Аврелий, будучи ответственным правителем Империи, не мог заранее не позаботиться о преемнике. Хотя сам он обрёл высшую власть согласно завещанию ещё Адриана, где он был обозначен в качестве наследника Антонина Пия, эта система передачи императорского престола, похоже, не была ему симпатична. Марк Аврелий явно предпочёл практике всех предшествовавших Антонинов, с Нервы начиная, возвращение к опыту Веспасиана, жёстко настоявшего на прямом наследовании власти и создавшего первую в чистом виде династию во главе Римской империи. Философ на троне не искал кандидатов в преемники вне своей семьи. Потому сын его Луций Аврелий Коммод со 176 года стал именоваться Цезарем, что означало его положение как соправителя и, понятное дело, грядущего наследника императорской власти. Знаковым здесь стало возвращение Марка Аврелия в столицу после успешной войны в Паннонии, когда он «отпраздновал триумф вместе со своим сыном Коммодом Антонином, который уже тогда был объявлен Цезарем»1. Триумф состоялся 3 декабря 176 года и проводился в честь победы над германцами и сарматами.
Историкам уже более восемнадцати веков свойственно упрекать Марка Аврелия в крайне неудачном выборе наследника. Но вот мог ли сам император предвидеть столь плачевный поворот дел в Империи из-за своего решения? Дион Кассий, современник тех событий, писал так: «Он Коммод не был коварным от природы, но, напротив, как и любой из людей, был рождён незлобивым, однако из-за своего простодушия, а вдобавок и боязливости стал рабом своих приятелей и их стараниями, по неведению, вначале был уведён с лучшего пути, а затем дошёл до разнузданных и кровожадных привычек, которые стали его натурой. Мне кажется, что Марк и это предвидел со свойственной ему проницательностью. Коммоду было девятнадцать лет, когда умер его отец, оставив ему многочисленных опекунов из числа лучших сенаторов».2
Биограф же Марка Аврелия Юлий Капитолин уверенно заявлял, что Коммод был порочен изначально, что отец, зная об этом, «желал смерти сына, так как предвидел, что тот будет таким, каким он и оказался после смерти отца; он боялся, как он сам говорил, что сын будет подобен Тиберию, Калигуле и Домициану»3. Как уже отмечалось, этот источник имеет далеко не лучшую славу, и многие сведения, сообщаемые его авторами, вызывают немалые сомнения в их точности. Мог ли Марк Аврелий заранее знать, насколько к худшему изменится сын после прихода к власти? Да и мог ли сам Коммод так уж откровенно проявлять при отце свои порочные наклонности, если вообще таковые в юности были ему свойственны?
Итак, в Риме появился новый девятнадцатилетний император. С этого времени он официально именовался Марк Аврелий Коммод Антонин Август. Первым его деянием стало заключение мира, завершившего четырнадцатилетнюю серию войн Империи с варварами на всём протяжении её Дунайского лимеса. «Помимо тех условий, на которых договорился с ними его отец, он поставил им новые: выдать ему перебежчиков и вернуть пленников, которых они захватили после предыдущего соглашения, а также уплачивать ежегодную дань в виде определённого количества зерна (от чего он позже их освободил). Кроме того, он получил от них кое-какое оружие и воинов – тринадцать тысяч от квадов и меньшее количество от маркоманов, за что разрешил им не поставлять контингенты ежегодно. Сверх того он потребовал, чтобы они не устраивали сходки часто и в разных местах, а собирались бы раз в месяц в одном и том же месте и в присутствии римского центуриона, а также чтобы они не воевали с язигами, бурами и вандилами. На этих условиях он заключил мир и покинул все сторожевые укрепления в их земле по ту сторону от установленной пограничной полосы».4
В Римской империи наступил долгожданный мир, и потому население приветствовало молодого императора, сумевшего завершить столь тяжёлую, кровопролитную и разорительную войну. Сам договор был вполне почётным, обеспечивая безопасность дунайских рубежей державы. Да, планы создания новых провинций Маркомании и Сарматии остались неосуществлёнными, но насколько они вообще были реальны? Удержание и оборона новых рубежей, которые ещё предстояло обустроить, потребовали бы и огромных затрат, и дополнительных легионов. А вот доходы от грядущих провинций были весьма сомнительны…
Пора вернуться к нашему герою. Как же отразилась на карьере Луция Септимия смена власти в Империи? В начале правления Коммода Север продолжал командовать IV Скифским легионом, контролировавшим главную переправу через Евфрат на Парфянской границе5. Вскоре, однако, всё поменялось, и ему пришлось военную службу оставить. Возможно, новая власть не испытывала к нему должного доверия. Не исключено, что у Луция не сложились отношения с могущественным префектом претория Тигидием Переннисом, бывшим в 182–185 годах вторым лицом в Империи.
Освободившись от службы, Север отправился путешествовать по просторам Римской державы. Прежде всего он посетил Афины. Как сообщает нам о целях прибытия в Элладу Элий Спартиан, Луций отправился туда «ради науки, святынь, сооружений и древностей»6. Как видим, стремление к познанию, к повышению уровня своего образования, интерес к культурным достижениям прошлого не иссякли у Севера и в зрелом возрасте, когда он был уже на второй половине четвёртого десятка. С самими афинянами, правда, отношения у него почему-то не сложились, и в этом славном городе Луцию Септимию были нанесены какие-то обиды. Должно быть весомые, поскольку он не пожелал о них забыть и стал врагом Афин. Спустя годы, возглавив Империю, Север припомнил афинянам былое и отомстил, уменьшив привилегии их города7.
Как частное лицо Луций вновь побывал в Сирии, но на сей раз не в расположении пограничного легиона, а в городе Апамее на Оронте, где находился крупнейший храм бога Ваала. Здесь он пожелал обратиться к храмовому оракулу высокопочитаемого его пуническими предками, да и, наверное, им самим божества. Тот выдал ему пророчество почему-то стихами Гомера из «Илиады»:
Эти строки из второй песни поэмы относятся к царю Микен Агамемнону, возглавившему поход ахеян против Трои:
Сравнение Севера с Агамемноном, главным из царей ахеян, коего Гомер уподобляет громовержцу Зевсу, богу войны Аресу, колебателю земли Посейдону (Энносегею) – более, нежели лестное. Его можно истолковать лишь однозначно: быть тебе царём! Будучи человеком суеверным, подобно множеству людей во все времена и эпохи, предававшим исключительное внимание предсказаниям и снам, Луций не мог не быть потрясён подобным пророчеством и уж конечно запомнил его. Возможно, тогда же в храме Ваала он мог познакомиться и с юной дочерью его главного жреца Юлией Домной… Греческий ответ оракула святилища семитского божества не должен удивлять. Сирия была политическим центром Селевкидской эллинистической державы, каковую часто и называли Сирийским царством. Язык эллинов получил в ней широкое распространение наряду с местным арамейским (сирийским).
В 185 году трагически оборвалась достигшая исключительных высот карьера Секста Тигидия Перенниса. Три года он держал в руках все нити государственного управления, поскольку «Коммод, целиком посвятивший себя состязаниям колесниц и всяким беспутным занятиям, можно сказать, вообще не выполнял никаких государственных обязанностей, и Перенний, будучи вынужден заниматься не только военными, но и всеми прочими делами, управлял государством. Соответственно и воины, когда происходило что-то, что им было не по нраву, возлагали вину на Перенния и таили против него злобу»10.
Заговор против временщика возглавил один из приближённых Коммода Клеандр, сумевший, очевидно, завоевать большое доверие цезаря. Поддержку перевороту оказали легионы, стоявшие в Британии. В итоге Переннис был низвергнут, убит после жестоких истязаний, а вместе с ним погибли его жена, сестра и двое сыновей. Так картину представил Дион Кассий. Справедливости ради надо сказать, что за три года до этой трагедии сам Переннис организовал низвержение и гибель своего предшественника на посту префекта претория Патерна.
Любопытно, что в других источниках иная версия гибели всесильного временщика. Согласно Геродиану, заговор опирался на поддержку легионов, дислоцированных в Паннонии11. А вот биограф Коммода Элий Лампридий объяснял гибель Перенниса местью сенаторов, которых префект отстранил от руководства легионами во время военных действий в Британии и отдал эти должности всадникам, поскольку сам принадлежал к их сословию12. Противоречия в источниках стали предметом исторического исследования13. Учитывая, что Дион Кассий не просто современник событий, но во время их ещё и находился в столице, есть смысл считать его сведения наиболее близкими к истине.
В итоге Клеандр, уроженец Малой Азии, фригиец, раб, ставший либертином, достигший в императорском дворце должности спальника и потому близкий к особе императора, оказался на вершине власти, став префектом претория. Коммод по-прежнему предавался самым разным удовольствиям.
«А императорские вольноотпущенники во главе с Клеандром после смерти Перенния стали творить всевозможное зло – продавать всё, за что можно было выручить деньги, глумиться над людьми и бесчинствовать.
Основную часть своей жизни Коммод посвящал развлечениям, лошадям, звериным травлям и гладиаторским боям. В самом деле, помимо того, что он устраивал дома, Коммод и на глазах народа часто убивал и множество людей, и многих животных. Так, в течение двух дней подряд он один, своими собственными руками прикончил пятерых гиппопотамов и двух слонов, а вдобавок убил несколько носорогов и жирафа. О таких-то вещах и написано у меня на протяжении всего рассказа о его правлении».14 Известно, что за двенадцать с небольшим лет своего царствования Коммод выходил на арену в качестве гладиатора 755 раз!
Пока происходили эти бурные события в верхах Империи, карьера Луция Септимия Севера вновь пошла в гору. Думается, это могло стать следствием гибели Перенниса. Из политического небытия его вернули на высокую должность – он стал наместником Лугдунской Галлии (Лугдун – совр. Лион). Провинция была значимой, обширной, на юго-востоке соседствовала с Италией.
В новой своей должности заскучавший должно быть от праздной жизни Север проявил себя наилучшим образом. Как пишет Элий Спартиан: «За свою строгость, внимательность и бескорыстие он стал любим галлами больше, чем кто бы то ни было другой».15 Любопытно, что Луций являл собой образец толкового, успешного и, главное, чуждого коррупции наместника в то время, когда, если доверять Диону Кассию (а не доверять особых оснований нет!), при новом префекте претория Клеандре всеобщая продажность в столице просто зашкаливала! Получается, безобразия, творившиеся на Палатине, вовсе не обязательно сказывались на жизни провинций. Конечно, среди проконсулов, пропреторов, легатов попадались очень разные люди, но, думается, дельных руководителей среди них было немало. Почему бы и не большинство?
Находясь в Лугдуне, овдовевший Север сочетался вторым браком. Его женой стала Юлия Домна. Та самая дочь жреца Ваала в Апамее, с которой он мог познакомиться во время своей поездки в Сирию. В поисках новой спутницы жизни Луций тщательно изучал гороскопы самых разных возможных невест. Не стоит иронизировать над этим, поскольку астрология не утратила популярности и среди людей XXI века… Каким-то образом Северу стал известен и гороскоп Юлии Домны, гласивший, что ей предстоит соединить свою судьбу с царём… Неудивительно, что Луций, помнивший предсказание, сделанное ему в Апамее, пригласил Юлию в Лугдун, где они сочетались браком в 184 году. У супругов родился первенец 4 апреля 188 года, получивший при рождении имя Луций Септимий Бассиан, а ещё через год родился второй сын – Публий Септимий Гета.
Пребывание в Галлии ознаменовалось для Севера не только деятельным и достойным исполнением своих служебных обязанностей, не только обустройством своей семейной жизни, но и участием в подавлении восстания некоего Матерна, причинившего немало беспокойства и проблем римским властям. Кто же он такой, и что привело к мятежным событиям в Галлии?
Согласно сообщению Геродиана: «Был некий Матерн, прежде воин, осмелившийся на многие ужасные поступки, покинувший ряды войска и уговоривший других бежать вместе с ним от тех же обязанностей; собрав в короткое время большую шайку злодеев, он сначала разбойничал, делая набеги на деревни и поля, завладев же множеством денег, он с помощью щедрых обещаний даров и участия в дележе добычи собрал большее число злодеев, так что их оценивали уже не как разбойников, а как военных преступников. Они нападали уже на крупнейшие города и, насильно взламывая имевшиеся в них тюрьмы, освобождая от оков и выпуская заключённых по любым обвинениям, обещая им безнаказанность, своими благодеяниями привлекали их к своему союзу. Опустошая всю страну кельтов и иберов, вторгаясь в крупнейшие города, частично сжигая их, прочее же подвергая разграблению, они уходили. Когда об этом было сообщено Коммоду, он рассылает наместникам провинций послания, преисполненные гнева и угроз, обвиняя их в беспечности, и приказывает им собрать против тех войско. Те, узнав, что против них стягиваются силы, удалились из тех местностей, которые они опустошали, и тайком самыми скорыми и недоступными путями небольшими группами начали проникать в Италию; Матерн стал уже задумываться об императорской власти и более великих делах. Вследствие того, что в прежних его начинаниях удача превзошла все ожидания, он счёл необходимым, совершив нечто великое, добиться успеха или, раз уже он подвергся опасности, погибнуть не незаметно и не без славы. Полагая, что сила у него не столь большая, чтобы в столкновении при равных условиях и при открытом нападении устоять против Коммода (он принимал в расчёт, что масса римского народа ещё продолжает быть преданной Коммоду, а также преданность окружавших его телохранителей), он надеялся одолеть его с помощью хитрости и ума. И он придумывает следующее. В начале весны каждого года, в определённый день римляне совершают шествие в честь матери богов, и все имеющиеся у кого бы то ни было драгоценные вещи и императорские сокровища, всё, что замечательно благодаря материалу или искусству, проносится в шествии впереди богини. Всем предоставляется неограниченная возможность всяких шуток, и каждый принимает вид, какой хочет; нет столь большого и высокого звания, облекшись в одежды которого, всякий желающий не мог бы шутить и скрывать истину, так что нелегко различить подлинного и представляемого.
Матерн решил, что это – подходящее время для незаметного осуществления его злого умысла; ведь он надеялся, приняв вид телохранителя и таким же образом вооружив своих людей, смешав их с толпой копейщиков так, чтобы их считали участниками шествия, внезапно напасть на никем не охраняемого Коммода и убить его. Однако вследствие того, что произошло предательство и некоторые из его людей раньше проникли в город и выдали его замысел (их к тому побудила зависть, так как им предстояло иметь его уже не главарём разбойников, а господином и государем), Матерн до наступления праздника был схвачен и обезглавлен, а его сообщники подверглись заслуженному наказанию. Коммод же, совершив жертвоприношение богине и пообещав благодарственные дары, с ликованием справлял торжество и сопровождал богиню. Народ одновременно с торжеством праздновал спасение государя».16
Восстание Матерна, происшедшее, скорее всего, в 186 году, представляло, как мы видим, серьёзную угрозу. Оно охватило не только все галльские провинции, но перекинулось и в Испанию. Его зачинателями стали дезертиры из римских легионов, к каковым принадлежал и сам Матерн. Они же и составили костяк вооруженных формирований бунтовщиков. Силы мятежников выросли очень быстро за счёт присоединения к ним не только освобождённых преступников, но и беглых рабов и представителей наиболее обездоленных низов населения провинций. Захват ими ряда крупных городов говорит сам за себя. Распространение мятежа, успехи повстанцев, умелое руководство Матерна, в чём нельзя усомниться, заставили имперскую власть принять самые серьёзные меры. В Галлию были посланы легионы во главе с видным военачальником Гаем Песцением Нигером. С ними должны были взаимодействовать местные силы под командованием наместника Лугдунской Галлии Луция Септимия Севера. Он и был назначен главнокомандующим. Из того, что мы знаем о жизни нашего героя, явствует, что это был его первый самостоятельный боевой опыт. И, надо сказать, успешный. После ряда сражений с мятежниками, носившими порой упорный характер, Север сумел оттеснить Матерна и его войска к Альпам. В предгорьях повстанцы были разгромлены, остатки бежали через перевалы в Италию, где их окончательно уничтожили. Насколько реален красочный рассказ Геродиана о попытке Матерна с помощью уцелевших сподвижников убить самого императора во время празднества, посвящённого матери богов, сказать сложно. Но заслуги Луция Септимия Севера в деле подавления опасного мятежа неоспоримы.
Чем было восстание Матерна? Едва ли справедливо относить его предводителя к прообразу средневековых «благородных разбойников», обиравших богатых и одаривавших бедных, как полагает польский историк Александр Кравчук17. Не стоит в этом восстании видеть и предтечу грандиозного движения ба-гаудов, охватившего Галлию в эпоху «Великого кризиса» Римской империи (235–284 гг.), как полагали в своё время советские историки.18 Багауды вели и социальную, и антиримскую освободительную войну, чего в мятеже Матерна, несмотря на его размах, всё же не просматривается.
Надо сказать, что борьба с разбойным миром не была редкостью в римской истории. В тридцатые годы I в. до н. э. в результате гражданской войны, не пощадившей и Италию, преступность там выросла до подлинно устрашающих размеров. По словам Аппиана, «сам Рим и Италия открыто разграблялись»19. После победы над Секстом Помпеем в 36 г. до н. э. триумвир Октавиан поручил военачальнику Сабину заняться беспощадным искоренением криминала. Тот замечательно добросовестно взялся за дело. Захваченные разбойники и воры безжалостно истреблялись, в городах появились отряды ночной стражи, была усилена милиция (городское ополчение). В течение года таких непрестанных усилий порядок в столице и во всей Италии восстановился. Безопасность была обеспечена20.
Разбойные мятежи происходили и в правление Тиберия (14–37 гг.)? причём, что перекликается с событиями уже 186 года, их также возглавляли дезертиры из вооружённых сил Империи. В 24 году беглый воин-преторианец Тит Куртизий «начал с тайных сборищ в Брундизии и расположенных поблизости городах, а затем в окрыто выставленных воззваниях стал побуждать к борьбе за освобождение диких и буйных сельских рабов, обитавших в отдалённых горах посреди лесных дебрей»21. Императору пришлось направить на юг Италии трибуна Спая, который подавил волнение и доставил самого вожака в Рим, где тот и его ближайшие сподвижники понесли заслуженную кару. Тиберий из происшедшего сделал серьёзные выводы. «Более всего он беспокоился о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего».22
Но много опаснее оказались восстания, поднятые дезертирами на окраинах Империи. Ещё в 17 году дезертир-нумидиец Такфаринат, служивший ранее в римском лагере во вспомогательном войске, сначала собрал под своим предводительством обычный разбойничий отряд23. Но, когда число его сторонников стало стремительно расти, то ему удалось создать настоящую армию, получившую поддержку от враждебных Риму североафриканских соседей провинции Африка. Военные действия римлянам тогда пришлось вести целых семь лет!
Ещё один мятеж, возглавленный также дезертиром, случился в правление Клавдия (41–54 гг.). Это был некий «Ганаск родом из племени канниненфатов, ранее служивший у нас во вспомогательном войске, затем перебежавший к германцам, грабил и разорял главным образом галльский берег, хорошо зная, что обитатели его богаты и невоинственны»24. Разбои Ганаска переросли для римлян в войну с поддержавшим его германским племенем хавков. С немалыми усилиями знаменитый полководец Корбулон сумел одержать победу, причём самого Ганаска удалось ликвидировать, лишь склонив людей из его окружения к измене своему предводителю. Стоит отметить, что по итогам этой войны император Клавдий «воспретил затевать в Германии новые военные предприятия, более того, повелел отвести войска на нашу сторону Рейна»25.
Как видим, дезертиры из римской армии принесли Империи немало бед, и с ними порой приходилось вести настоящие многолетние войны. Восстание Матерна даже в этом ряду выделяется своим размахом, поскольку распространилось не только в Галлии, но прихватило и часть Испании. Кроме того, если движение Тита Куртизия было пресечено в самом зародыше, а Такфаринат и Ганаск нашли опору во внешних силах, то Матерн опирался исключительно на местное население. О силе его войск говорит, к примеру, то, что в ходе восстания VIII Августов легион был осаждён мятежниками в своём лагере в Аргенторате (совр. Страсбург) на западном берегу Рейна. Римские воины, защищавшие свой стан, проявили столь незаурядную доблесть, что, когда удалось освободить легион от осады, то он получил от императора почётное прозвание «Благочестивый Верный Постоянный Коммода». Особо же отличившийся во время обороны лагеря трибун Тит Весний Виндекс был награждён почестями квестора-десигната за два года до достижения положенного возраста, когда ему было всего 23. Такие награды могли достаться легиону и тому, кто особо проявил себя в бою, только в случае противостояния с очень сильным и опасным противником. Это тем примечательнее, что достижения в войнах с внутренними врагами римляне не привыкли высоко ценить.
Из кого же состояла армия Матерна? Костяк, очевидно, из подобных предводителю дезертиров из римских легионов. Таковых могло быть немало, поскольку на Рейне стояли большие силы – десятки тысяч воинов. Бедствия, тяжёлые войны с германскими соседями, разорение в их ходе приграничных земель не могли не сказаться и на уровне жизни, и на настроениях населения провинций. Армия в ходе Маркоманских войн была вынуждена пополняться отнюдь не только желающими в ней служить. Марк Аврелий даже привлёк на Дунайскую границу 9000 гладиаторов из Рима! Логика здесь у цезаря была железная: зачем же держать в столице многие тысячи первоклассных и испытанных воинов, обязанных сражаться между собой на потеху зрителям в Колизее, когда на фронтах внешних войн совершенная нехватка солдат? Понятно, что с наступлением мира в 18о году дисциплина в армии не могла не упасть. Жалование стало поступать нерегулярно, да и многие мобилизованные в легионы службой военной (она и в мирные годы оставалась нелёгкой) весьма тяготились. Потому дезертиров, скорее всего, не безоружных, озлобленных и агрессивных было немало. А если к ним добавить массу обездоленных в результате войн и эпидемий людей? Не забудем и о готовых по определению присоединиться к мятежу рабах! Отсюда неизбежным становилось стремительное распространение бунта, в ходе которого банда разбойников неожиданно для себя и для своего предводителя превратилась в мятежную армию. Таковая оказалась способной захватывать большие города и осаждать в его собственном лагере целый легион…
Можно ли искать в восстании Матерна «идеологическую составляющую»? Думается, нет. Мятеж случился на землях, где настроения массы населения были, что называется, «социально взрывоопасны». Успешная и растущая разбойная вольница Матерна стала фитилём, поднесённым к горючему материалу. Сам предводитель восстания не имел какой-либо определённой цели мятежа. О намерениях его уже во главе восстания нам ничего не известно. Если положиться на Геродиана, то на волне успехов он якобы возмечтал об императорском престоле… Что же, Матерн был человеком определённо авантюрного склада. Потому и могли посетить его голову совершенно фантастические намерения, когда он нежданно-негаданно возглавил многотысячную армию.
В 188 году Север завершил своё наместничество в Лугдунской Галлии, а в самом начале следующего года отбыл из провинции в столицу. В Риме 1 июля 189 года он получил новое назначение, став проконсулом Сицилии. Здесь, правда, Луций Септимий совершил неосторожный поступок, грозивший ему жестокой карой. Привыкший постоянно запрашивать предсказания своего будущего у разных «мастеров» этого дела, он, прибыв в новую провинцию, не устоял, чтобы не задать опасные вопросы неким халдеям. Халдеи – семитский народ, населявший с давних времён Вавилонию. Именно его представители почитались в Римской империи как наиболее умелые предсказатели. И вот некие выходцы из Месопотамии, которых ветер судьбы занёс на Сицилию, были спрошены новым наместником о том, станет ли он императором26. Каков был ответ, источник умалчивает. Но некто, прознавший о разговоре, настрочил об этом донос. Будь его подлинность доказана, Луцию грозила бы беспощадная расправа, ибо Коммод мог воспринять такое обращение к гадателям как прямую готовность покуситься на его власть. Разбирательство проходило на самом высоком уровне. Его вели префекты претория. Достоинства и заслуги Севера были этим высшим должностным лицам Империи ведомы. Доноситель же, очевидно, ни симпатии, ни доверия не вызвал. Потому Луций был блистательно оправдан, а клеветник понёс жестокое наказание за лживый донос. Он был распят на кресте.
Авторитет Севера не был поколеблен. В конце 189 года он стал консулом. Причём Коммод наметил его на эту почётную магистратуру, имея выбор из большого числа соискателей27. Его коллегой стал Апулей Руфин. По окончании консульства Луций, правда, целый год оставался не у дел, но вскоре был за это многотерпение достойно вознаграждён. Очередной раз сыграло свою роль «африканское братство». Летом 191 года по предложению уроженца города Темы из провинции Проконсульская Африка Квинта Эмилия Лета, префекта претория, Коммод назначил Севера наместником Верхней Паннонии, где стояли три легиона28. Любопытно, что в то же время его старший брат Публий Септимий Гета возглавил нижнедунайскую провинцию Нижняя Мёзия, где он имел в подчинении два легиона. Задунайская Дакия также управлялась выходцем из Африки. Наконец, наместник далёкой Британии Деций Клодий Альбин был выходцем из африканского Гадрумета.
Столь замечательное представительство уроженцев Проконсульской Африки как в военной, так и в политической элите Римской империи к концу второго века отражало всё более возраставшую роль этой провинции в жизни державы. Прежде всего, в жизни экономической, ибо являла она собою житницу Империи29.
Север, отправляясь в Паннонию, приобрёл в собственность обширные сады близ Рима. Очевидно, и материальные дела у него шли на лад. Ведь ранее Луций владел только одним далеко не роскошным домом в Риме и скромной усадебкой на севере Италии в Венетской области30. Прибыв в новую провинцию «Север так повёл себя на этом посту, что ещё более увеличил свою уже и раньше большую славу»31.
Завоёванная Севером в Верхней Паннонии популярность окажет решающее влияние на его будущее. И, в первую очередь, не столько симпатии населения, довольного толковым умелым наместником, сколько расположение дислоцированных в провинции легионов… Успехи политической и военной карьеры Луция, явный подъём его статуса в имперской элите совпадали с закатом правления Коммода, о каковом, понятное дело, подданные не только в низах, но и в верхах не догадывались…
Царствование сына славного Марка Аврелия никак не походило на принципаты всех пяти предшествовавших ему «хороших императоров» Антонинов. С одной стороны, это было время для Империи относительно спокойное. Не было жестоких войн, сопровождавшихся глубокими вторжениями варваров в римские пределы и сотрясавших державу, как при его отце. Не было восстаний, подавление которых требовало немалых затрат и оборачивалось большими потерями, подобно Третьей Иудейской войне при Адриане. Единственный широко распространившийся по Галлии и части Испании мятеж Матерна удалось достаточно быстро подавить усилиями Септимия Севера и Песцения Нигера. Незначительны были и военные столкновения на рубежах Империи. Командующие легионами успешно справлялись со своими задачами, «…в его правление римскими легатами были побеждены мавры, побеждены даки, усмирены Паннония и Британия, причём в Германии и Дакии провинциалы отказывались подчиняться его власти; всё это было приведено в порядок его полководцами»32.
Тем не менее, назвать эти годы благополучными для Римской державы нельзя. Случались при Коммоде и новые эпидемии, уносившие великое множество жизней, частыми были неурожаи, из-за которых резко росли цены на хлеб, а угроза голода порой нависала над самим Римом.
Особо стоит отметить поворот в отношениях римской власти и христианства. Если после незначительных гонений при Траяне последователи Христа не знали преследований при толерантных императорах Адриане и Антонине Пие, то при Марке Аврелии христиане испытали самые серьёзные гонения. Уход из жизни цезаря-философа радикально изменил их положение в Империи. Гонения практически прекратились. Евсевий так писал о годах правления Коммода: «В это время дела Церкви приняли спокойное течение; Церковь, по благодати Божьей, наслаждалась миром во всей вселенной»33. И действительно в эти годы многие представители римской знати совершенно безбоязненно и, главное, совершенно безнаказанно обратились в христианскую веру34. Исследователь эпохи гонений А.П. Лебедев писал: «Как улучшилось внешнее положение христиан, это видно из того факта, что тотчас после царствования Марка Аврелия, при сыне его Коммоде, христиане состоят на службе при самом императорском дворе, пользуются щедротами государя и живут благополучно. Христиане находят себе покровительницу в лице Марции, стоявшей в самых близких отношениях к императору Коммоду».35 Марция действительно была возлюбленной императора. Коммод относился к ней с полнейшим доверием. Как сообщает Геродиан, «она жила во дворце как законная супруга и пользовалась всеми подобающими супруге императора почестями, за исключением того, что перед ней не носили огонь»36. (Огонь перед императором и императрицей носили во время торжественных церемоний.) Положение Марции при дворе особенно усилилось после смерти в 191 году законной жены Коммода Брутии Криспины. Но именно Марции предстоит сыграть роковую роль в жизни своего царственного возлюбленного…
Поведение Коммода как императора до крайности изумляло и ужасало потомков Ромула. Он как бы задался целью превзойти худших до него цезарей – Калигулу и Нерона. Если последний вызывал неудовольствие римлян, выступая в театре в качестве певца и актёра, то Коммод обожал выступать на арене цирка. Разница колоссальная! Нерон был поклонником высокого искусства Эллады. Он играл в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида… Коммод же «…обнажённый вышел на арену амфитеатра и, взяв оружие, начал сражаться как гладиатор; тогда уже народ с неодобрением смотрел на это зрелище – благородный римский император, после стольких трофеев отца и предков, не против варваров берёт оружие, подобающее римской власти, но глумится над своим достоинством, принимая позорнейший и постыдный вид. Вступая в единоборство, он легко одолевал противников, и дело доходило до ранений, так как все поддавались ему, думая о нём как об императоре, а не как о гладиаторе»37.
Если бы причуды правления Коммода исчерпывались только этим! Иные его распоряжения, как и у Калигулы, граничили с безумием. Чего стоит только указ переименовать Рим в Colonia Commodiana? Когда же он прерывал свои развлечения, то легче от этого окружающим не становилось. «Коммод, сделав передышку в своих развлечениях и состязаниях, обратился к убийствам и стал истреблять выдающихся людей».38 Современник правления недостойного сына великого отца Дион Кассий имел все основания писать, что «для римлян хуже всех болезней и любых преступлений был Коммод»39.
Понятно, что рано или поздно такому правлению должен был быть положен конец. Заговоры против Коммода возникали неоднократно, но до поры до времени были неудачными. Наконец против него решили пойти люди из ближайшего окружения. Таковыми стали префект претория Квинт Эмилий Лет, кубикулярий (спальник) Эклект и… возлюбленная императора Марция. Вот как античные авторы описывают причины возникновения рокового комплота.
Дион Кассий: «Лет и Эклект, удручённые его поведением, а к тому же напуганные, так как он произносил в их адрес угрозы, составили против него заговор».
Элий Лампридарий: «Под влиянием всего этого, хотя и слишком поздно, префект Квинт Эмилий Лет и наложница Коммода Марция составили заговор с целью убить Коммода».
Согласно же Геродиану, непосредственным толчком к решительным действиям префекта, кубикулярия и любовницы стало решение Коммода совершить торжественный императорский выход «не из дворца, а из гладиаторских казарм, и предстать перед римлянами не в благородном императорском пурпуре, но вооружённым, в сопровождении гладиаторов»40. Марция, Лет и Эклект слёзно уговаривали Коммода не унижать так достоинство цезаря и державы, но тщетно. Тот был только раздосадован. Более того, как сообщает Геродиан, он составил на табличке список ближайших жертв. Первыми там из обречённых на смерть значились как раз Лет, Эклект и Марция. По счастью для них, когда Коммод спал, его любимчик мальчик Филокоммод, прозванный так из-за привязанности к нему императора, забежал в спальный покой и, прихватив табличку в качестве игрушки, отправился с ней гулять по дворцу. Первым встреченным им человеком оказалась Марция. Отняв у ребёнка табличку, она немедленно прочла написанное… Тут же Марция разыскала сначала Эклекта, затем они поставили в известность Лета. Понимая, что времени у них мало, заговорщики незамедлительно приступили к действиям.
Этот рассказ очень напоминает описание Дионом Кассием убийства Домициана (годы правления 81–96). И потому подлинность сведений Геродиана об умерщвлении Коммода вызывает серьёзные сомнения у историков41.
Описание же самого убийства у всех трёх приведённых ранее авторов примерно схоже: Марция дала любовнику яд, который, однако, вызвал только сильную рвоту, но не привёл к смерти. Опасаясь, что Коммод может остаться в живых, заговорщики решились на крайнюю меру. Атлет по имени Нарцисс, человек сильный и решительный и императора, судя по всему, не жаловавший, ослабленного ядом цезаря задушил. «Такой конец настиг Коммода после двенадцати лет, девяти месяцев и четырнадцати дней правления. Прожил он тридцать один год и четыре месяца, и на нём закончилась императорская династия настоящих Аврелиев».42
Трагически и бесславно завершилась очередная попытка установить в Риме прямое династическое правление. Это, впрочем, не означало исключения в будущем новых устремлений со стороны удачливых правителей сохранить императорский престол в своей семье, передавая его прямым потомкам.
В оценке же самого царствования Коммода мнения большинства историков едины. Это было ужасное правление с ужасным концом. Так судили и судят о нём и современники, и учёные Нового времени, и исследователи наших дней: «Хаос эпохи Коммода был вызван им самим, именно с него начинается в глазах современного ему историка Кассия Диона эпоха «железа и ржавчины», а, по Гиббону, начало «Упадка и падения Римской империи»43.
Судьба Коммода повторила участь первого из «плохих императоров» Рима Гая Цезаря Калигулы. Любопытно, что у них был один и тот же день рождения. Возможно потому, памятуя об ужасном конце Гая, Коммод не любил проявления интереса к личности Калигулы. Говорили, что он даже безжалостно расправился с неким человеком за чтение труда Гая Светония Транквилла, описавшего жизнь и гибель Калигулы. Но вот, если после убийства Гая Цезаря в Риме поначалу царила растерянность, поскольку заговорщики не заявили немедленно о преемнике погибшего владыки, а взбодрившийся сенат стал даже обсуждать возможность возврата к республиканской форме правления, то в начале 193 года никаких подобных колебаний быть уже не могло. Монархия являлась единственным способом правления в Риме, никому в голову не приходила мысль её оспаривать. Потому, если и проводить параллель, то, скорее всего, с убийством Домициана, когда быстро был найден всех устроивший император Нерва. Убийцы Коммода также немедленно озаботились выбором достойного преемника истребленного тирана. Сразу же, пока ещё в столице никто не знал о смерти правителя, они обратились к Публию Гельвию Пертинаксу. Это был человек, в Империи известный. Прежде всего, он прославился как выдающийся полководец, многократно отличившийся ещё в царствование Марка Аврелия. Возглавлял он и ряд значимых провинций: Верхнюю и Нижнюю Мёзию, Дакию, Сирию. Как раз в последней при нём командовал легионом на Евфрате Луций Септимий Север. При Коммоде Пертинакс усмирил мятеж в Британии, управлял Африкой, а в 190 году стал префектом столицы. В 192 году он был удостоен консульской магистратуры, каковой обладал вместе с самим императором. Пертинаксу шёл уже 67 год. Успешной, можно сказать, выдающейся карьерой при двух столь несхожих императорах он был обязан исключительно своим природным способностям, явно очень незаурядным. Ведь происхождение не сулило ему сколь-либо значимых успехов в жизни. Родился он на севере Италии, в приморской области Лигурия. Отец его был вольноотпущенником44. Потому пробиваться в верхи общества Публию Пертинаксу предстояло исключительно собственными силами. Сумев проявить себя в делах, как военных, так и гражданских, он вошёл в число «почтенных друзей» Марка Аврелия45. Должно быть, именно как человека почтенного, одного из наиболее заслуженных товарищей и полководцев отца Коммод уважал его и ценил. Насколько сам Пертинакс почитал наследника цезаря-философа? Конечно, личность императора, пролившего кровь не только диких зверей на арене, но и немалого числа достойных римлян, не исключая сенаторов, внушать ему особые симпатии не могла. Но ведь служил Публий Гельвий Пертинакс не только цезарю, но прежде всего Риму. Знал ли он о заговоре, приведшем к убийству Коммода? Сведения источников противоречивы. Биограф Пертинакса Юлий Капитолин сообщает, что «Пертинакс не уклонился от участия в замысле убить Коммода, о котором ему сообщили другие»46. Согласно же Геродиану, Лет и Эклект сразу после убийства императора глубокой ночью явились к Пертинаксу. Тот поначалу принял их за своих убийц, посланных Коммодом, но Лет немедленно его успокоил, торжественно объявив: «Мы приходим, чтобы вручить тебе императорскую власть, зная, что ты в сенате выделяешься воздержанностью жизни, великим достоинством и почтенностью возраста, что народ тоскует по тебе и уважает тебя; поэтому мы и ожидаем, что совершаемое будет и для них желанным и для нас спасительным»47. Пертинакс дал себя уговорить. А, по Диону Кассию, он, выслушав Лета и Эклекта, «отправил самого доверенного из своих товарищей, чтобы тот своими глазами увидел тело Коммода. Когда же тот подтвердил рассказ о содеянном, Пертинакс был тайно доставлен в военный лагерь»48. Здесь, обратясь к преторианцам, он обещал каждому по три тысячи денариев, благодаря чему смятение среди воинов, поражённых известием о гибели императора, улеглось. Тем не менее, опасения, что ряду благ, дарованных им Коммодом, будет положен конец, сохраняли в них настороженность. Но до времени преторианцы решили сохранять спокойствие.
Затем Пертинакс прибыл в сенат. Здесь он обратился к «отцам, внесённым в списки».
Дион Кассий, будучи сенатором и, соответственно, участником этого исторического заседания, так описал обращение Пертинакса к сенату римского народа: «Покинув лагерь преторианцев, он прибыл в сенат еще затемно и радушно приветствовал нас, так что всякий, насколько это было возможно в толкотне и давке, мог подойти к нему. Затем он без подготовки обратился к нам со следующей речью: «Воины провозгласили меня императором, но я не ищу этой должности и сегодня же откажусь от неё как из-за своего преклонного возраста и слабого здоровья, так и в связи с удручающим положением государственных дел». Не успел он это сказать, как мы воздали ему искреннюю похвалу и избрали его надлежащим образом. Ведь он обладал превосходными душевными качествами и был крепок телом, если не считать того, что ему немного мешала болезнь ног49.
Согласно Геродиану, Пертинакс своим выступлением «чрезвычайно обрадовал сенат и вызвал со стороны всех славословия, получив от них всяческий почёт и знаки уважения; провожаемый в храм Юпитера и другие святилища и совершив жертвоприношения за императорскую власть, он возвратился в императорский дворец»50.
Юлий Капитолин, биограф Пертинакса, сообщает, что он первым из всех императоров получил наименование «отца отечества» в тот же день, когда был назван Августом. Жена его, Флавия Тициана, была названа Августой тогда же51.
Так впервые за всю историю Принципата по главе Римской империи оказался не просто не знатный человек (знатностью и Флавии не блистали, да и Траян с Адрианом), но сын либертина, бывшего до отпущения на волю рабом! Понятно, что представителей нобилитета, лиц сенатского сословия такое происхождение новоиспечённого владыки Рима не могло не коробить. Но он всех устраивал своим достойным военным и гражданским прошлым, а, главное, он предстал в сенате как избавитель от ужасов правления Коммода. Собственно, Пертинакс и стремился таковым быть.
В самом Вечном Городе при известии о смерти Коммода и воцарении Пертинакса все были охвачены ликованием. Погибшего императора римляне – от сенаторов до простонародья – яростно честили на все лады, как бы состязаясь в крепости выражений в адрес низвергнутого, а потому безопасного тирана. Самые воинственные тираноборцы, не удовлетворившись истреблением изображений Коммода, возжелали разорвать на куски его мёртвое тело. Пертинакс, однако, не допустил глумления над мертвецом, заявив, что труп бывшего императора уже предан земле. И действительно, тело Коммода перенесли в мавзолей Адриана, где оно и было упокоено. Огорчённые тираномахи утешились всевозможными ругательствами. Как писал Дион Кассий: «Избавившись от одного императора, они наслаждались свободой в промежутке между двумя правлениями и старались прослыть людьми вольномыслящими в безопасной обстановке того времени. И действительно, им уже было недостаточно того, что больше не надо бояться; в своей дерзости они желали выйти за всякие рамки дозволенного».52
Такое поведение римской толпы в отношении низвергнутого человека власти не было, увы, исторически оригинальным. Сразу вспоминаются строки Ювенала о глумлении черни над телом казнённого при Тиберии временщика Сеяна, а также ужасный конец императора Вителлия, растерзанного добрыми римлянами, когда борьба за высшую власть в Империи явственно завершалась торжеством легионов Веспасиана.
К чести самого Пертинакса, он держался с достоинством и отнюдь не поощрял буйств толпы. Впрочем, и укротить таковые он был не властен. Накопленный за годы правления Коммода страх и затаённая до поры ненависть неудержимо вырвались наружу.
Новопровозглашённый Август направился в императорский дворец на Палатине, где преторианский трибун, отвечавший в тот день за охрану резиденции правителя, согласно установленному порядку, попросил дать пароль. Пертинакс ответил: «Будем воинами!» Это звучало для преторианцев многозначительно. Было известно, что именно такой пароль он давал ранее «во всех тех случаях, когда командовал войском»53. Подобным образом Пертинакс высказал как бы порицание службе преторианских когорт при предшественнике, когда те заметно утратили и дисциплину, и воинские традиции. Смысл нового пароля был немедленно понят и, возможно, стал начальной точкой в становлении враждебного отношения преторианцев к новому императору. Нельзя забывать, что сколь-либо серьёзных причин испытывать недоброжелательность к Коммоду у них не было. Тот был в отношении преторианцев щедр и милостив. Многих из воинов возмутило уничтожение изображений прежнего правителя, открытое массовое глумление над памятью о нём. Перспектива же укрепления дисциплины, в чём не приходилось сомневаться, ибо Пертинакс был известен как жёсткий и требовательный военачальник, тоже не могла радовать тех, кто привык к вольготной службе при Коммоде. Единственно, чем мог новый император расположить к себе столичные когорты, так это щедрыми выплатами незаслуженных ими наградных денег. Он это понимал, будучи человеком достаточно образованным, и потому, скорее всего, знающим, какая судьба постигла сокрушителя Нерона Гальбу, имевшего неосторожность твёрдо заявить преторианцам, что он солдат не покупает54. Пертинакс пообещал всем воинам выплатить по двенадцать тысяч сестерциев (три тысячи денариев), не очень-то представляя, откуда он возьмёт столь немалую сумму. В итоге удалось выплатить только вдвое меньше, что, понятное дело, солдат, уже настроившихся на обещанные деньги, не могло не разозлить. С самого начала правления над Пертинаксом как бы нависала тень Гальбы…
А как приход к власти нового и явно неожиданного для всех императора был воспринят на просторах Империи, прежде всего в тех её провинциях, где стояли легионы? Со времён Августа в Римской державе была великолепно отлажена учреждённая им эстафетная почта. Первоклассные дороги, строительство которых неустанно велось, облегчали связь провинций со столицей. Потому, надо полагать, командующие войсками достаточно быстро узнали о внезапной перемене на Палатине. Надо сказать, что все они весть эту восприняли спокойно и никакого неудовольствия падением Коммода и воцарением Пертинакса не высказали. Новый правитель, искренне поддержанный сенатом, и в армии пользовался большим уважением. Его человеческие качества внушали доверие и обещали прекращение безобразий и произвола Коммода. Потому самые авторитетные военачальники – Клодий Альбин в Британии, Песцений Нигер в Сирии и Септимий Север в Паннонии проявили к Пертинаксу полную лояльность. Следовательно, на поддержку легионов он, безусловно, мог рассчитывать. Но беда была в том, что легионы располагались далеко от Рима и Италии. Преторианцы же гнездились в самой столице и мнение армии их мало интересовало. Поскольку императорский дворец на Палатине находился под их охраной, то многие из них вполне могли воображать, что именно они являются ныне вершителями судеб высшей власти…
Тем временем новый правитель, чьё имя и титулатура звучали теперь Император Цезарь Публий Гельвий Пертинакс Август, наделённый властью народного трибуна, дважды консул, великий понтифик, отец отчества, принцепс сената приступил к исполнению своих властных обязанностей. И оказались они крайне тяжёлыми, поскольку предшественник оставил дела в «дурном и беспорядочном состоянии»55. Особенно плачевным было финансовое положение. И Дион Кассий, и Юлий Капитолин называют просто смехотворную сумму для необъятной Империи, оставшуюся в её казне после Коммода – 250 000 денариев (1 000 000 сестерциев). Потому в первую очередь Пертинакс занялся наполнением казны. И здесь наследие того, кто так бездарно растратил финансы, помогло новому правителю их восстановить. На продажу были выставлены статуи, дорогое оружие, предметы роскоши, даже домашняя утварь Коммода. Здесь, надо сказать, Пертинакс не только наполнял через торги опустошённую казну, но и показывал всем, сколь бездарным и зловредным для государства было правление недостойного сына славного Марка Аврелия. Вот на что он растранжирил деньги державы и какой постыдный образ жизни вёл!
Особого внимания заслуживает экономическая политика Пертинакса. Он немедленно отменил «все пошлины, придуманные раньше при тирании с целью получать обильные средства – на берегах рек, в портах городов и на проездных дорогах, – он установил прежние свободные порядки»56. Такие меры, несомненно, способствовали оживлению экономической жизни Империи. Более того, Пертинакс решил вернуться к опыту знаменитых предшественников – Веспасиана и Адриана, заботившихся о восстановлении хозяйственной жизни на заброшенных землях, входивших в императорскую и государственную собственность. «Прежде всего, он позволил занимать всякому в Италии и прочих странах сколько кто хочет и может невозделанной и вообще совсем не обработанной земли, хотя бы она была собственностью императора, а проявив заботу и возделав её, – стать её хозяином; возделывающим землю он даровал освобождение от всех податей на десять лет и навеки беспрепятственное владение. Он запретил обозначать его именем императорские владения, сказав, что они являются не частной собственностью царствующего, а общей и народной собственностью Римской державы».57
Надо сказать, что такие меры, принимаемые в Империи ранее при Флавиях и Антонинах, приводили к заметному экономическому подъёму58. Подобная хозяйственная политика, апробированная предшественниками, позволяет судить о Пертинаксе как о человеке подлинно государственного ума. Отсюда едва ли можно согласиться с явно устаревшим взглядом на этого императора как на выразителя интересов прежде всего крупных землевладельцев59.
Если экономические меры Пертинакса напоминали схожие действия Веспасиана и Адриана, то, начав борьбу с политическим доносительством, новый правитель действовал в духе «лучшего из принцепсов» Марка Ульпия Траяна. Вот что писал об этом Геродиан: «Он намеревался ещё больше облагодетельствовать подвластных, как это обнаруживали его планы; ведь он подверг гонению доносчиков в Риме и приказал карать тех, кто находился в разных местах, заботясь о том, чтобы никто не терпел от них вреда и не подвергался неосновательным обвинениям. Сенат особенно, но и все остальные ожидали, что будут проводить жизнь в безопасности и счастье».60 Правда, наказания эти были не столь суровы, как при Траяне. Тот ведь повелел посадить известных римских доносчиков на утлый корабль, обречённый вскоре пойти на дно Тирренского моря… Пертинакс же поступил много мягче, назначив «каждому, навлекшему на себя обвинение в доносительстве, наказание, соответствующее его положению»61. К рабским доносам он проявил совершенную безжалостность. «Тех, кто был схвачен по ложным доносам рабов, Пертинакс после осуждения доносчиков освободил и распял таких рабов, в некоторых случаях он отомстил и за умерших».62 Эти действия нового правителя должны были расположить к нему не только сенаторов, но и остальных римлян, немало страдавших от доносчиков при Коммоде. Но вот иные постановления, проведённые в сенате по настоянию императора, не у всех представителей аристократии могли вызвать одобрение. Так на основании одного из них лица, получившие должность претора от Коммода, но в действительности преторские обязанности не исполнявшие, ныне считались ниже по положению, нежели те, кто трудился реально. Теперь эти номинальные преторы лишались заветной возможности дальнейшего карьерного роста. А ведь преторство было необходимой ступенью для обретения ряда высоких как гражданских, так и военных должностей. Таких же лже-преторов Коммод осчастливил немалое число… Потому Пертинакс неизбежно порождал к себе оппозиционные настроения у части верхов римского общества. И ещё одно решение императора не добавило ему симпатий в сенатской среде. Он распорядился пересмотреть цензовые списки, дабы проверить действительное наличие у представителей сенатского и всаднического сословий необходимой суммы в 400 000 сестерций, каковая обеспечивала право законной принадлежности к ним. В результате немалое число обедневших людей были исключены из состава высших сословий Империи, что, понятное дело, явилось для них жестоким ударом. Поневоле они начинали скорбеть о Коммоде и испытывать самые недобрые чувства к его внезапному преемнику. Наконец, по финансовым соображениям Пертинакс вынужден был сохранить чрезвычайно высокие налоги, введённые в годы правления предшественника, что, увы, шло вразрез с его обещаниями, данными вскоре после гибели Коммода. Здесь дело дошло даже до открытого протеста в сенате, с которым выступил от группы недовольных консуляр Элий Руф Лоллиан Генциан63.
Впрочем, подобные проявления неудовольствия начавшимся правлением не стоит преувеличивать. Число недовольных не являло собою большинства ни в сенате, ни в самих высших сословиях римского общества. Много опасней для Пертинакса оказалась враждебность, быстро утвердившаяся в той среде, которая профессионально обладала оружием. Это были преторианцы и прежде всего потому, что реально им выплатили вдвое меньше обещанного. Особое же недовольство этих воинов вызвало стремление императора восстановить дисциплину, совершенно утраченную гвардией после гибели Коммода. Преторианцы были избалованы привилегированным положением и фактически находились в конфликтах с гражданским населением. Об этом ещё в I веке писал Ювенал:
Дион Кассий так повествует о причинах возникновения заговора против Пертинакса: «Поскольку теперь воинам не было позволено заниматься грабежом, а императорским вольноотпущенникам – бесчинствовать, и те и другие возненавидели Пертинакса лютой ненавистью. Однако вольноотпущенники, будучи безоружными, не затевали ничего, а вот преторианцы вместе с Летом устроили против него заговор».65
Да, Квинт Эмилий Лет, префект претория при Коммоде, в благодарность за высокое назначение, как мы помним, ставший главным организатором (наряду с любовницей императора Марцией) его убийства, очень быстро начал плести нити нового заговора уже против облагодетельствованного им Пертинакса. А ведь тот сохранил за Летом высокий пост префекта претория! Что толкнуло его на это? Возможно, префект полагал, что Пертинакс предоставит и ему возможность прямо участвовать в управлении Империей, подчинится его влиянию. Но вот этого как раз и не случилось. Новый император начал решительно выстраивать собственную политику, с Летом её не согласовывая.
Кого привлечь к заговору, было очевидно. Вот что пишет о настроениях преторианских когорт Геродиан: «В то время как в жизни водворялось такое добронравие и благораспорядок, одни только телохранители, досадуя по поводу настоящего положения, тоскуя по грабежам и насилиям, происходившим при прежней тирании, и по возможности проводить время в распутстве и попойках, замыслили устранить Пертинакса, так как он был для них несносным и ненавистным, и поискать кого-нибудь, кто вернёт им прежний неограниченный и разнузданный произвол».66
Собственно, настрой на новый переворот у преторианцев возник немедленно после гибели Коммода, когда им не понравилось начавшееся свержение статуй погибшего императора. И вот уже в ночь со 2 на з января 193 года преторианцы привели в свой лагерь знатного сенатора Триария Матерна Ласцивия и провозгласили его императором вместо Пертинакса. Ласцивий, очевидно совершенно неготовый к столь решительному повороту в своей судьбе, о каковом он, похоже, и близко не помышлял, от незваных благодетелей удрал и явился к Пертинаксу. Засвидетельствовав свою лояльность новому владыке Рима, он, на всякий случай, счёл за благо вообще покинуть столицу и удалился в неизвестном окружающим направлении. Так вот, мелькнув на Палатине, доблестный Триарий Матерн Ласцивий навсегда вошёл в историю!
Заговор Квинта Эмилия Лета был более серьёзным. На сей раз преторианцы наметили в императоры действующего консула Сосия Фалькона, отличавшегося знатностью и богатством67. В пользу привлечения именно такого кандидата, возможно, говорило то, что именно он в сенате открыто упрекнул Пертинакса за то, что убийцы Коммода Лет и Марция не только не наказаны, но продолжают пребывать в добром здравии и неприкосновенности, а Лет сохраняет высший пост префекта претория. Любопытно, преторианцы сами нашли Фалькона, или же Лет простил ему выпад, в сенатской курии сделанный?
План заговорщиков был следующим: когда Пертинакс покинет Рим и будет проверять в порту Остии как идёт снабжение столицы привозным хлебом, Сосий Фалькон пребудет в стан преторианцев и провозгласит себя императором. Но и этот заговор быстро провалился, поскольку кто-то о появлении нежданного соперника своевременно предупредил Пертинакса. Тот стремительно, несмотря на почтенный возраст, вернулся в Рим и предстал перед сенатом римского народа. В своей краткой речи император напомнил о своей щедрости, проявленной в отношении воинов, и оскорбительно выразился об императорских либертинах. И те, и другие были возмущены, но прямо этого не высказали. Сенаторы решительно были настроены на ликвидацию заговора и на самое жестокое наказание для Фалькона. Вот свидетельство Диона Кассия, сенатора и участника этого заседания: «Когда же мы собирались проголосовать за постановление, осуждающее Фалькона, и уже стали именовать его врагом, Пертинакс поднялся и воскликнул: «Да не случится так, чтобы хотя бы один сенатор в моё правление был предан смерти, пусть даже по справедливому обвинению!» Так спасся Фалькон, который всё остальное время провёл в сельском имении, демонстрируя почтительность и осторожность».68
Но почва для нового заговора оставалась. Его нити продолжал плести державшийся в тени Лет. Не забудем, что помимо преторианского лагеря опасность таилась и в самом императорском дворце на Палатине, ибо дворцовая челядь и придворные ненавидели Пертинакса за резкое уменьшение своих доходов. У императора были, конечно, и преданные слуги, но он оставил их в распоряжении своего сына, пребывавшего вне дворца. Переворот случился 23 марта 193 года. Сам бунт произошёл, судя по всему, спонтанно. Лет, готовя свержение, вёл частую для заговорщиков двойную игру. С одной стороны он вербовал сторонников переворота, с другой клялся в верности Пертинаксу. Это смущало многих преторианцев. И вот, опасаясь, что Лет сдаст их императору и повторится судьба бесславного заговора Фалькона, около 200 (по другим сведениям, 300) воинов с обнажёнными мечами ворвались в Палатинский дворец. Пертинакс узнал об этом тогда, когда бунтовщики были уже на Палатине, о чём сообщили ему жена, а также немногие преданные слуги. Будучи не готов к отражению нападения, император решил попытаться начать переговоры с бунтовщиками и для этого направил к ним Лета. Надо сказать, Пертинакс сделал наихудший выбор! Префект претория вместо увещевания мятежников просто покинул дворец. Потому, когда те ворвались во внутренние покои, император был вынужден сам выйти к ним навстречу69. Дион Кассий так сообщает об этом: «Пертинакс повёл себя то ли благородно, то ли безрассудно, то ли еще каким-то образом – пусть такое поведение каждый называет, как ему угодно. В самом деле, располагая силами, скорее всего достаточными, чтобы перебить нападавших (ведь у него для защиты были и ночная стража, и всадники, и много других людей находились тогда во дворце), и, во всяком случае, имея возможность скрыться и найти себе убежище в том или ином месте, заперев ворота дворца и все прочие двери на пути внутрь, он не стал предпринимать ни того, ни другого. Вместо этого он, надеясь, что его вид устрашит, а речь убедит нападавших, вышел им навстречу, когда они уже проникли внутрь дворца».70 Следующие строки Диона Кассия показывают, почему у Пертинакса не было шансов спастись: «Дело в том, что никто из их сослуживцев-воинов не преградил им путь, а привратники и прочие императорские вольноотпущенники не только не заперли, но и открыли настежь все входы».71 Близкие сведения сообщает и Геродиан, говоря, что немногочисленная безоружная дворцовая прислуга разбежалась72. Пертинакс предстал перед мятежными воинами в сопровождении лишь одного человека – своего спальника Эклекта. Поначалу появление императора привело часть бунтовщиков в смущение, иные даже опустили мечи. Однако, их предводитель – некто Таузий, по происхождению германец-тунгр, выбежал вперёд и нанёс Пертинаксу удар мечом. Его примеру немедленно последовали другие… Эклект отважно защищал своего государя, убив двоих воинов, ранил нескольких и героически погиб в неравной схватке. Дион Кассий, знавший его, так написал о гибели Эклекта: «После этого я, и раньше считавший его прекрасным человеком, преисполнился настоящим восхищением перед ним».73
Убийцы отрубили голову Пертинаксу и, насадив её на копьё, долго носили по городу, гордые своим преступным деянием. Таков был печальный конец этого императора, чьё правление длилось лишь 87 дней, а прожил он полных 66 лет. История, как общеизвестно, не терпит сослагательного наклонения. Мы не можем знать, каким бы было дальнейшее правление Пертинакса, не стань он жертвой убийц. Но даже столь недолгое его царствование говорит о том, что он заслуживает немалого уважения. Ведь Пертинакс прекратил все процессы по обвинению в «оскорблении величества», сосланных по нему приказал освободить, погибших посмертно реабилитировал. Было восстановлено традиционное римское правосудие, где в процессах равно участвовали представители и обвинения, и защиты. Пертинакс решительно отказался от практики произвольных расправ лишь по воле императора. Вернулась гармония в отношениях августа и сената. «Отцы, внесённые в списки» регулярно видели правителя на своих заседаниях. Пертинакс твёрдо гарантировал отказ от наследия «плохих императоров» – казни неугодных им сенаторов. Была усовершенствована денежная система. Повышение массы денария и доли серебра укрепило прочность финансов Империи. Пертинакс подавал римлянам очевидные надежды на возвращение к благословенным временам, когда правили Траян, Антонин Пий, Марк Аврелий… Увы, «бунт, бессмысленный и беспощадный», ибо не было у его участников никаких разумных целей, одна лишь лютая злоба, умело раздутая, не дал утвердиться на Палатине ещё одному «хорошему императору». В Империи наступали смутные времена, грозившие кровавой гражданской войной за высшую власть, каковой она не знала с далёкого 70-го года.
Но пока что убийцы Пертинакса воображали, что судьба высшей власти Рима находится исключительно в их окровавленных руках. Потому, кому быть преемником убитого императора, решалось отнюдь не на Палатине или в сенатской курии, а в стане преторианских когорт. У такового как раз оказался тесть Пертинакса Тит Флавий Сульпициан, который, собственно, был послан в лагерь принцепсом, дабы навести там порядок и не допустить мятежных настроений. К сей ответственной миссии он, похоже, не успел приступить. Но вот, когда стало известно об убийстве правителя, доблестный Сульпициан немедленно отважился изъявить претензии на освободившееся место на Палатине. Потому он сразу повёл разговор с преторианцами, прямо предлагая именно себя без долгих раздумий провозгласить императором. Воины, однако, встретили его властные претензии без энтузиазма и в лагерь он допущен не был. Преторианцев не могло не смутить родство претендента с убитым ими принцепсом. Они вправе были предположить, что, оказавшись владыкой Империи, тот возжелает отомстить за убийство своего царственного зятя74. Тут же выяснилось, что Сульпициан вовсе не единственный претендент на императорский пурпур. У стен лагеря появился ещё один соискатель Палатинского дворца – Марк Дидидий Север Юлиан. Его преторианцы встретили куда более приветливо и, спустив лестницу, позволили ему подняться на лагерную стену. Ворота отворять они не спешили, поскольку сначала хотели выяснить пределы щедрости новоявленного кандидата в августы и его действительные денежные возможности. Они ведь не простили Пертинаксу именно меньших выплат, нежели было обещано.
О происшедшем далее сведения в источниках расходятся. Дион Кассий рисует замечательно яркую картину натурального торга обоих претендентов за право стать императором: «За этим последовала постыдная и недостойная Рима сцена: словно на рынке, как на какой-то распродаже, и сам Город, и вся его держава стали продаваться с торгов. Продавцами выступали люди, убившие своего императора, а покупателями – Сульпициан и Юлиан, надбавлявшие цену в состязании друг с другом, один – изнутри, а другой – снаружи. Понемногу увеличивая ставки, они дошли до суммы в пять тысяч денариев каждому воину, причём Юлиану сообщали: «Сульпициан даёт столько-то, а ты сколько надбавишь?», а Сульпициану говорили: «Юлиан обещает столько-то, а ты сколько дашь сверх этого?» И Сульпициан победил бы, поскольку уже находился внутри лагеря, носил звание префекта Города и первым назвал сумму в пять тысяч, если бы Юлиан не перестал набавлять цену мало-помалу и не предложил бы сразу на целых тысячу двести пятьдесят денариев больше, чем соперник, прокричав об этом громким голосом и показав цифру на пальцах. Воины, зачарованные величиной надбавки и вдобавок опасавшиеся, что Сульпициан будет мстить за Пертинакса, что внушал им Юлиан, впустили последнего в лагерь и провозгласили императором».75
У Геродиана события выглядят иначе. Прежде всего, по его сведениям, Сульпициан находился как раз вне лагеря, а Юлиан оказался на его стене с позволения преторианцев, где и объявил им о своих планах. «Поднявшись, он пообещал им восстановить память о Коммоде, почести и изображения, которые уничтожил сенат, а также дать им свободу делать всё, которую они при нём имели, а каждому воину столько серебра, сколько они не надеялись ни потребовать, ни получить, с деньгами не будет задержки – он сейчас же затребует их из дома. Убеждённые этим и окрылённые такими надеждами воины провозглашают Юлиана императором и требуют, чтобы он вдобавок к своему собственному и унаследованному имени стал называться Коммодом. Подняв военные значки и вновь прикрепив на них изображения последнего, они стали готовиться сопровождать Юлиана. Юлиан, принеся в лагере установленные императорские жертвы, вышел в сопровождении воинов, охраняемый большим их числом, чем это принято; ведь, купив власть путем насилия и вопреки воле народа, с позорной и непристойной дурной славой, он, естественно, боялся, что народ будет ему противиться».76
Кто из авторов более достоин доверия, сказать сложно. Суждения историков здесь расходятся. Есть мнения, что Геродиан ближе к истине77, есть и те, кто не сомневаются в подлинности фактов, сообщённых Дионом Кассием78. Был или не был постыдный аукцион в стане преторианцев, или же это просто художественный домысел Диона Кассия – не столь важно. Главное в ином: в провозглашении Дидия Юлиана императором деньги сыграли решающую роль. И это позорная страница в истории римской императорской власти!
Добившись согласия преторианцев, Дидий Юлиан спешно направился на форум и далее в сенат, дабы узаконить своё провозглашение владыкой Рима79. Застигнутые врасплох и изрядно перепуганные сенаторы покорно выслушали в курии речь Юлиана. Тот не упустил случая ещё и откровенно поиздеваться над ними. «Я пришёл один!» – заявил он в то время, когда курия была окружена вооружёнными преторианцами, иные из которых нагло вошли в сам зал заседаний. В чувствах сенаторов к Дидию Юлиану замечательно переплелись ненависть и страх. Последний явно преобладал, ибо провозглашённый правитель тут же получил все необходимые постановления сената, узаконившие его власть. Отныне он стал именоваться официально Император Цезарь Марк Дидий Север Юлиан Август. Как видим, он не решился принять имя Коммода, хотя многие преторианцы на этом настаивали.
Кем же был этот нежданный владыка Рима? Уже немолодой человек, достигший шестидесятилетия. Карьера его была в целом благополучной и, можно сказать, успешной. Этому способствовали и родственные связи. Его дядей по матери был знаменитый юрист Публий Сальвий Юлиан (юо – 170 гг.), бывший в чести и активно участвовавший в государственной деятельности при Адриане, Антонине Пие и Марке Аврелии. Побывал он и префектом Рима, дважды удостаивался консульского звания. Сам Дидий с детства воспитывался в доме Домиции Луциллы – матери Марка Аврелия, чьё покровительство также способствовало его успешной карьере. Он раньше положенного срока стал продвигаться на государственной службе, побывав последовательно и эдилом, и квестором, и претором. Сам он сумел отличиться на военной службе. Командуя XXII легионом, Юлиан был наместником в Бельгике, где проявил себя хорошим полководцем, победно отразив вторжение германцев, за что удостоился консульства. Дидий успешно управлял рядом провинций: Далмацией, Нижней Германией, Вифинией, был проконсулом в Африке, где сменил на этой должности Пертинакса. С ним, кстати, Дидий Юлиан в 175 году был коллегой по консульству. В целом, перед нами человек, имевший немало достоинств. Когда же он возмечтал о престоле? Вопрос спорный. Согласно и Диону Кассию, и Геродиану, это была импровизация. Нежданная гибель Пертинакса, наличие богатства, позволившего дать щедрые обещания преторианцам, толкнули пожилого и до сей поры успешного человека на роковой путь борьбы за высшую власть в Империи. Другие историки указывают, однако, что Дидий Юлиан вступил в борьбу за власть уже во время правления Пертинакса. Так Евтропий пишет, что тот «был убит взбунтовавшимися преторианцами в результате козней Юлиана80». Примерно то же сообщает и Аврелий Виктор, говоря, что убийцы Пертинакса были подбиты на это позорное дело как раз Дидием81. Думается, историки – современники событий, коими являются Дион Кассий и Геродиан, заслуживают большего доверия, нежели поздние авторы, писавшие в IV веке.
Биограф Дидия Юлиана Элий Спартиан утверждал, что новый император с самого начала старался привлечь побольше людей на свою сторону, прежде всего, денежными раздачами как преторианцам, так и простому народу. Искал он активно и поддержки в верхах общества, приглашая в императорский дворец представителей сенатского и всаднического сословий82.
Но все эти меры популярности новому императору не прибавили. Римляне не скрывали своей враждебности к нему, открыто называя его «похитителем власти», а иные даже стали браться за оружие. Наконец, недовольные, собравшись в Большом Цирке, воззвали к помощи извне против ненавистного Дидия Юлиана. Спасителем Рима им представлялся Песцений Нигер, возглавлявший легионы в Сирии83. Как здесь не вспомнить знаменитый вывод, сделанный Публием Корнелием Тацитом в рассказе о вспыхнувшей в Риме гражданской войне в 68-м году: «разглашённой оказалась тайна, окутывавшая приход принцепса к власти, и выяснилось, что им можно стать не только в Риме»84.
Примечания ко II главе
1 Евтропий. Краткая история. VIII. 13.1.
2 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 1 (1–2).
3 Юлий Капитолин. Марк Аврелий. XXVIII. 10.
4 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 1–2.
5 BirleyA.R. Septimus Severus, p. 69.
6 Элий Спартиан. Север. III. (7).
7 Там же.
8 Дион Кассий. Римская история. LXXIX. 8 (5).
9 Гомер. Илиада. 2. 478–484.
10 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 9 (1).
11 Геродиан. История империи после Марка. 1. 8.1–2; 9.1.
12 Элий Лампридий. Антонин Коммод. XIII. 5–6.
13 Bersanetti G.M. Perenne е Commodo. – Athenaeum. 1951, № S. Vol. 29, pp. 151–170.
14 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 10 (2).
15 Элий Спартиан. Север. IV. (1).
16 Геродиан. История…, ю. (1–7).
17 Кравчук Александр. Галерея…, с. 376.
18 Дмитров АД. Движение багаудов. – «Вестник древней истории». 1940 г. № з – 4, с. 101–114.
19 Аппиан. Гражданские войны. V. 132.
20 Князький И.О. Император Август и его время. СпБ., 2022, с. 294.
21 Тацит. Анналы. IV, 27.
22 Светоний. Тиберий. 37 (1).
23 Тацит. Анналы. II, 52.
24 Там же. XI, 18,19.
25 Там же. XI, 19.
26 Элий Спартиан. Север. IV. (3).
27 Там же. IV, 4.
28 Birley A.R. Septimus Severus, p. 69.
29 Ibidem, p. 84.
30 Элий Спартиан. Север. IV. (4).
31 Там же. IV, 7.
32 Элий Лампридий. Антонин Коммод. XIII. 5–6.
33 Евсевий. V. 21.
34 Там же.
35 Лебедев А.П. Эпоха гонений…, с. 213–214.
36 Геродиан. История…, 1,16.
37 Там же 1,15.
38 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 14 (1).
39 Там же. LXXIII. 15 (1).
40 Геродиан. История…, 1,16.
41 Кассий Дион Коккейан. Римская история. СПб., 2015, с. 208, прим. 105.
42 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 22 (4).
43 Крист Карл. История… Т-1, с. 458; Potter D. The Roman Empire at Bay, AD 180–395. London, 2004, pp. 85–93.
44 Аврелий Виктор. Извлечения… XVIII. (2).
45 Геродиан. История…, II. 1. (4).
46 Юлий Капитолин. Гельвий Пертинакс IV. (4).
47 Геродиан. История…, II. 1. (9).
48 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 1 (2).
49 Там же. LXXIV. 1 (4–5).
50 Геродиан. История…, II. 3, (11).
51 Юлий Капитолин. Пертинакс. V (4–5).
52 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 2 (4).
53 Юлий Капитолин. Пертинакс. V (5–7).
54 Светоний. Гальба. 16 (1).
55 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 5 (1).
56 Геродиан. История…, II. 4 (7).
57 Там же.
58 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство…, с. 86.
59 Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957, с. 334.
60 Геродиан. История…, II. 4 (6).
61 Юлий Капитолин. Пертинакс VII. (1).
62 Там же. IX. ю.
63 Там же. VI. 10 – и; VII, 6–7.
64 Ювенал. Сатиры. V, 16.1 – 17.
65 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 8 (1).
66 Геродиан. История…, II. 5 (1).
67 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 8 (2).
68 Там же. LXXIV. 8 (5).
69 Соломатин М.Д. Социальный состав оппозиции императорскому режиму в Римской империи в правление Пертинакса. – Межвузовский сборник научных статей «Античность Европы». Пермь, 1992, с. 57.
70 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 9 (3–4).
71 Там же.
72 Геродиан. История…, II. 5 (3).
73 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 10 (2).
74 Геродиан. История…, II. 6 (9).
75 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 11 (3–6).
76 Геродиан. История…, II. 11 (ю – 11).
77 Wotawa A. Didius. – Paulys Realencyclopadie der classischen Alter-umswissenschaft. Stuttgart, 1903, Bd. V, 1 – Koi. 418.
78 Грант M. Римские императоры. M., 1998, с. 130–131; Ковалёв С.И. История Рима. М., 1998, с. 719; Кравчук А. Галерея римских императоров. Принципат. Екатеринбург, 2010, с. 364–365.
79 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 12 (1).
80 Евтропий. Краткая история…, VIII. 16.
81 Секст Аврелий Виктор. О цезарях…, XVIII.
82 Элий Спартиан. Дидий Юлиан. IX. 3.
83 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 13 (5).
84 Тацит. История. I. 4.
Глава III
Гражданская война: торжество над Нигером и Альбином
Обращение римлян, возмущённых бесчестным приходом Дидия Юлиана к власти, к наместнику далёкой Сирии Песцению Нигеру как к спасителю от ненавистного узурпатора, а значит, и к будущему императору означало, что в столице помнили об открытии того самого «секрета императорской власти», о котором поведал Тацит. Это неизбежно приближало в Империи повторение бурных событий 68–70 гг., когда один за другим погибли четыре принцепса – Нерон, Гальба, Отон и Вителлий. Всё закончилось утверждением на Палатине династии Флавиев – рода, ранее совсем не знаменитого. Явная несостоятельность Дидия Юлиана в Риме означала, что, как и 125 лет назад, судьба высшей власти будет решаться вне столицы и находится она в руках тех, под чьим началом легионы.
К этому времени основные военные силы Империи составляли три мощные группировки: Западная, Центральная и Восточная. На Западе четыре легиона стояли на Рейнской границе, три находились в Британии. Войска на Рейне были армией не частых теперь военных действий. Зато британские легионы, испытанные в сражениях, оберегая крайне опасную каледонскую границу, являли собой очень серьёзную боевую силу1. Всего на острове римляне держали не менее 50 000 человек с учётом ауксилариев2. Римляне не забыли о гибели около 122 года Испанского легиона, угодившего здесь, скорее всего, в варварскую засаду3.
Традиционно мощной была Восточная группировка римских войск. Она насчитывала девять легионов и располагала огромными средствами, учитывая богатство региона4.
Но наиболее сильной и многочисленной была Центральная группировка, в которую входило двенадцать легионов. Это стало следствием долгих и кровавых Маркоманских войн времён Марка Аврелия, когда римская граница по Дунаю являлась главным театром военных действий.
В каждой из трёх группировок выделялись наиболее авторитетные военачальники, в которых события в Риме не могли не пробудить крайне честолюбивых замыслов. Падение Коммода в армии встретили спокойно. Пертинакс был уважаемым человеком и в войсках, и в сенате, и в народе. Септимий Север, к примеру, немедленно принёс присягу Пертинаксу, совершив положенные жертвоприношения. Похожим образом повели себя тогда Клодий Альбин в Британии и Песцений Нигер в Сирии. Но вот то, что случилось 28 марта 193 года, неизбежно вызвало иную реакцию. Дороги в Империи были прекрасны, и скорбные вести из Рима о постыдных обстоятельствах прихода Дидия Юлиана к власти дошли очень быстро. Клодий Альбин, как писал Эдуард Гиббон, относившийся к Пертинаксу с гордой и двусмысленной сдержанностью, решительно не принял захвата власти Юлианом5. Ряд источников, правда, сообщает о причастности Альбина к убийству Пертинакса. Это Аврелий Виктор, Евтропий и Орозий6. Но поскольку современники событий Дион Кассий и Геродиан ни о чём подобном не писали, то доверием известия весьма поздних источников (конца IV – начала V века) не пользуются. В честолюбивых замыслах Децима Клодия Альбина сомневаться не приходится, но проявится это в дальнейшем… Очевидно он не спешил их обнаружить, осознавая свою удалённость от столицы и, главное, недостаточное количество легионов для победного марша на Рим.
Гая Песцения Нигера новости из столицы весьма вдохновили. То, что на улицах Вечного города люди его, пребывающего в далёкой Антиохии, восхваляют и заранее наделяют императорским званием, немедленно убедило этого военачальника в возможности успешного захвата высшей власти. Нигер тут же стал вызывать к себе на дом офицеров и видных воинов, рассказывая им о вестях из Рима. Надо сказать, что командующий сирийскими легионами был среди своих солдат и командиров, а также среди населения многолюдной и очень богатой провинции Сирия чрезвычайно популярен. Он постоянно устраивал для народа всевозможные зрелища, великодушно предоставлял населению возможность справлять многочисленные праздники и предаваться веселью. Потому и почитался как правитель, делавший для народа всё то, что народу нравилось7.
Проведя необходимую подготовительную работу, Нигер велел собрать в назначенный день воинов и решился выступить с обращением к ним и массе людей, также пришедших на сбор. С трибуны он пояснил, что не сам жаждет высшей власти, но римляне просят протянуть им руку спасения8.
«После такой его речи немедленно всё войско и собравшаяся толпа провозгласили его императором и назвали Августом; набросив на него императорскую порфиру и наскоро собрав прочие знаки императорского отличия, они ведут Нигера с преднесением факела в храмы Антиохии и доставляют в его жилище, считая последнее уже не частным домом, а императорским дворцом и украсив его извне всеми императорскими символами».9
Произошедшее в Антиохии стало хорошо известно и соседям римских владений. Оттуда начали прибывать посольства к Нигеру как к уже признанному императору. Правда, зависимые от Рима восточные правители обещали ему помощь, догадываясь, что борьба за высшую власть в Империи вовсе не завершена. Нигер же, хотя и был этим явно польщён и щедро награждал восточных посланников богатыми дарами, от прямой поддержки извне отказывался. Он заявлял, что положение его уже достаточно прочно и что он намерен утвердиться в Риме и править без пролития крови. В таком поведении не должно видеть одну лишь самоуверенность. Нигер не мог не понимать, что, если он станет добывать власть с помощью восточных царей, пусть и вассальных Империи, то римляне едва ли отнесутся к этому с пониманием и симпатией. Контролируя огромную территорию, поскольку его поддержали наместники восточных провинций от Азии до Египта, и располагая девятью легионами, в них находящимися, Гай Песцений Нигер, уповая и на поддержку в Риме, тем не менее, не спешил переходить к активному наступлению. Похоже, ему казалось, что время работает на него. На деле же своей медлительностью Нигер только развязал руки самому выдающемуся из претендентов на Палатин, каковым, согласно мнению Диона Кассия, с которым нельзя не согласиться, являлся наш герой – Луций Септимий Север10.
Север должно быть первым из всех возможных претендентов получил известие о гибели Пертинакса и немедленно приступил к решительным действиям по овладению высшей властью. Уже 13 апреля он выступил на сходке воинов с речью: «Вашу верность и благочестие по отношению к богам, которыми вы клянётесь, ваше уважение к государям, которых вы почитаете, вы обнаружили тем, что негодуете на дерзостный поступок находящихся в Риме воинов, которые служат больше для торжественных шествий, нежели для проявления мужества. И мне, никогда раньше не имевшему в мыслях такой надежды (ведь вам известно моё повиновение по отношению к прежним государям), желательно теперь довести до конца и завершить то, что угодно вам, и не смотреть безучастно на повергнутую Римскую державу, которая прежде, до Марка, управлялась с соблюдением достоинства и казалась священной; когда же она досталась Коммоду, то хотя кое в чём он по молодости допускал оплошности, однако последние прикрывались его благородным происхождением и памятью отца; и его проступки вызывали больше сожаление, чем ненависть, так как большую часть того, что происходило, мы относили не к нему, а к окружавшим его льстецам, одновременно советчикам и слугам неподобающих дел. Когда же власть перешла к почтенному старцу, воспоминание о мужестве и порядочности которого еще прочно в наших душах, они этого не вынесли, но устранили такого мужа путём убийства. Некто, позорным образом купивший столь великую власть над землёй и морем, ненавидим, как вы слышите, народом и уже больше не внушает доверия тамошним воинам, которых он обманул. Их, если бы даже они, оставаясь преданными, стали ради него в строй, вы все вместе превосходите числом, а каждый в отдельности – храбростью; вы закалены упражнениями в военных делах и, всегда выстроенные против варваров, привыкли переносить всякие труды, презирать морозы и жару, ступать по замёрзшим рекам и пить выкапываемую, а не черпаемую из колодца воду. Вы закалились на охотах, и во всех отношениях у вас имеются благородные данные для проявления мужества, так что если бы даже кто-нибудь захотел противостать вам, он не мог бы сделать это. Проверка воинов – напряжение, а не роскошная жизнь; взращённые в ней и предаваясь попойкам, они не будут в состоянии вынести ваш крик, а не то что битву. Если же кто-нибудь относится с подозрением к тому, что происходит в Сирии, то он мог бы заключить о плохом состоянии и безнадёжности тамошних дел из того, что те не осмелились выступить из своей страны и не решились задумать поход на Рим, охотно оставаясь там, и считают достижением для своей ещё не прочной власти один день роскошной жизни. Сирийцы обладают способностью остроумно, с шуткой насмехаться и особенно жители Антиохии, которые, как говорят, привержены к Нигеру; остальные же провинции и остальные города за неимением теперь того, кто будет достоин власти, за отсутствием того, кто будет властвовать, управляя мужественно и разумно, явно притворяются, что подчиняются ему. Если же они узнают, что иллирийские силы проголосовали единодушно, и услышат наше имя, которое для них не является безвестным и незначительным со времени нашего управления там в качестве наместника, будьте уверены, что они не будут обвинять меня в нерадивости и вялости и, значительно уступая вам в росте, выносливости в трудах и в рукопашном бою, предпочтут не испытать на себе вашу крепость и стойкость в бою. Итак, поспешим раньше занять Рим, где находится императорское жилище; двигаясь оттуда, мы без труда будем управлять остальным, доверяясь божественным прорицаниям и мужеству вашего оружия и ваших тел».11
Сходка трёх легионов Верхней Паннонии провозгласила Луция Септимия Севера императором, который тут же принял имя Пертинакса, обозначая себя как преемника законного правителя и мстителя за него. Далее Север разослал своих людей в соседние провинции, привлекая командующих легионами на свою сторону. И, надо сказать, это ему полностью удалось. В итоге он обеспечил себе поддержку 16 легионов из Верхней и Нижней Панноний, Верхней и Нижней Мёзий, Дакии, Реции, Норика, Верхней и Нижней Германий. Таким образом, Север изначально получил в своё распоряжение больше войск, нежели имели другие возможные претенденты12. Более того, он сумел договориться с Альбином, направив ему послание, в котором уже как действующий император назначал его цезарем. Альбин, решив, что станет соправителем Севера, оставался на месте, а новопровозглашённый император, подчинив себе все римские владения в Европе, кроме города Византия, повёл войска на столицу13.
Действовал Луций в лучших традициях римских полководцев – решительно, стремительно, разделяя со своими воинами все трудности похода: «Север же, не давая времени для промедления, приказал им снарядиться как можно легче и объявил об отправлении к Риму; распределив средства и припасы на дорогу, он двинулся в путь. Поход он совершал быстро, форсированным маршем и с сильным напряжением, нигде не задерживаясь и не давая времени для передышки, разве что настолько, чтобы воины, немного отдохнув, продолжали путь. Он разделял с ними их труды, пользовался простой палаткой, и ему подавали ту же пищу и то же питье, какие, как он знал, были у всех; нигде он не выставлял напоказ императорскую роскошь. Поэтому он обеспечил себе ещё большую преданность воинов; уважая его за то, что он не только вместе с ними переносит трудности, но первый берет их на себя, воины ревностно выполняли всё».14
Весть о походе Севера на Рим вскоре достигла столицы. Встревоженный Дидий Юлиан стал принимать свои меры противодействия грозному сопернику. Сам он был достаточно опытным полководцем, одержавшим немало побед, но беда его была в том, что в отличие от Севера и Нигера он не располагал боевыми легионами! Со времён Августа на землях Италии не было постоянных войск, исключая преторианские когорты. А они в силу ограниченной численности и отсутствия настоящего боевого опыта (случаи отправки преторианцев на войну за пределы Италии были редки) воинской доблестью никак не блистали. Потому Юлиан с самого начала надеялся исключительно на успешную оборону столицы.
Сенат послушно принял затребованное Дидием постановление, объявлявшее Луция Септимия врагом Рима, а сам город стал готовиться к отражению наступающих войск. Дион Кассий – очевидец, и весьма заинтересованный очевидец, ибо никак он не мог желать успеха Дидию Юлиану, дал очень яркое описание тогдашнему состоянию столицы Империи: «Город в эти дни превратился не во что иное, как в военный лагерь, расположенный словно во вражеской стране. Среди тех, кто занял позиции, царил полный беспорядок, поскольку в учениях участвовали люди, кони и слоны, каждый на свой лад, а остальных охватил великий страх при виде вооружённых людей, которых они ненавидели. Бывало и так, что нас охватывал смех, так как и преторианцы не совершали ничего, что соответствовало бы их званию и притязаниям, поскольку они привыкли к изнеженному образу жизни, и моряки, вызванные из флота, стоявшего в Мизене, даже не знали, как заниматься боевой подготовкой, а слоны, которых обременяли башни, больше не хотели терпеть на своей спине погонщиков и сбрасывали их на землю».15 Беда была в том, что слоны эти содержались в Риме исключительно для торжественных шествий и потому вовсе не желали быть грозными боевыми великанами.
В отчаянии, понимая безнадёжность противостояния легионам Севера, Дидий Юлиан попытался избавиться от соперника, подослав к нему наёмных убийц. Любопытно, что он посылал «мастеров кинжала» и к Песцению Нигеру. Судя по всему, безрезультатно. Попытка устранения Севера также провалилась, хотя среди посланных убийц был и некто центурион Аквилий, известный рядом успешных ликвидаций неугодных сенаторов16. Не удалось и воздействовать на армию Севера сообщением об объявлении его сенатским постановлением «врагом отечества». Послы сената, прибыв в стан наступающих легионов, то ли осознав обречённость своей миссии, то ли получив приличную мзду от провозглашённого императора, выступили перед воинами и горячо поддержали Севера.
Весть об измене посланцев сената совсем удручила Юлиана, и он попытался договориться с противником. По его повелению были казнены убийцы Коммода Лет и Марция. Наконец, созвав сенат, Дидий повелел издать постановление о назначении Севера своим соправителем, наивно полагая, что тот удовлетворится званием цезаря при августе17. На Севера предложение Юлиана, подкреплённое традиционно покорным единогласным голосованием «отцов, внесённых в списки», ни малейшего впечатления не произвело. Более того, он отправил гонцов в Рим, доставивших преторианцам письмо, в котором давалось обещание, что они не понесут никаких наказаний, если выдадут убийц Пертинакса и сохранят спокойствие, не оказывая никакой поддержки Дидию Юлиану. На это послание воины резво отреагировали, постаравшись сразу же выслужиться перед приближающимся к Риму претендентом на Палатин. О своих действиях, как и о бездействии, они немедленно доложили консулу Мессалле. Тот, осознав серьёзность происходящего, сразу же пригласил сенаторов собраться в храме Минервы. Там он сообщил им о подлинных настроениях преторианских когорт. Сенаторы, замечательно осознавая, что не сможет быть императором тот, кого никто не собирается защищать силой оружия, сразу же преисполнились отваги. Как сообщает активный участник этого заседания Дион Кассий, его коллеги «приговорили Юлиана к смерти, провозгласили императором Севера, а Пертинаксу назначили божественные почести»18.
Во исполнение принятых решений к Луцию Септимию Северу Пертинаксу, как он себя именовал, направилась делегация из высших должностных лиц и самых видных сенаторов, дабы поднести ему все знаки достоинства августа19. К Дидию Юлиану же были посланы палачи, быстро и беспощадно прекратившие его жизнь. Сведения о самом убийстве несколько противоречивы, но какая, собственно, разница, кто именно его совершил из посланных сенатом: рядовой воин или же воинский трибун, убийц возглавлявший? Расправа состоялась в самом дворце на Палатине. Дидий Юлиан прожил 6о полных лет, а правление его длилось всего-то 66 дней. Над мёртвым телом убийцы глумиться не стали, а выдали его жене и дочери покойного для достойного погребения. Они и похоронили Дидия Юлиана в усыпальнице его прадеда.
Тем временем Дунайские легионы уверенно продвигались по Италии к Риму. Север не зря приказал своим солдатам снарядиться в поход как можно легче. Это позволило армии двигаться форсированным маршем по 20 миль (30 км) в сутки. В результате в течение 34 дней легионы к 1 июня 193 года достигли столицы Империи. У стен Рима Север узнал о гибели Дидия Юлиана. К этому времени он уже получил от сенатского посольства и постановление, утверждавшее его императором, и все соответствующие знаки достоинства августа. Так что в Вечный Город должен был вступить совершенно законный владыка Империи. Однако Север решил с этим повременить, дабы сначала разобраться с преторианцами. Цену им он знал прекрасно и не обманывался их кажущейся покорностью и готовностью якобы верно служить новой власти. Они убили Пертинакса, замечательно легко отреклись от Дидия Юлиана. Потому обезопасить себя от возможного предательства можно было, только распустив преторианские когорты, покарав предварительно непосредственных убийц Пертинакса.
Действовал Север умно и тонко. Ещё подходя к Риму, он разослал письма трибунам и центурионам преторианских когорт, в которых обещал им полную неприкосновенность, чтобы они убедили воинов беспрекословно повиноваться приказам нового императора. Будучи уже у стен города, Септимий Север отправил уже общее послание всей преторианской гвардии. В нём преторианцам повелевалось, оставив в лагере всё оружие, кроме парадных мечей, выйти в одеждах для торжественных шествий, неся с собой лавровые ветви. Таким мирным строем преторианцы обычно выходили перед императором во время празднеств. На сей раз им было обещано, что после принятия присяги Северу все они останутся на службе, став телохранителями нового властелина Рима. Послание указывало и место, где преторианцы должны были построиться, ожидая приветствия императора. А находилось оно близ лагеря подошедших к столице легионов… И вот, как только преторианцы оказались на назначенном для построения поле, их стремительно окружили солдаты Севера. Для большей убедительности легионеры потрясали копьями, дабы преторианцы и подумать не могли о сопротивлении. При этом, следуя приказу Севера, никого не поражали и не ранили. И вот, когда все когорты оказались пленёнными, новый властелин Империи обратился к ним с трибуны громким и гневным голосом: «Что мы превосходим вас и хитростью, и воинской силой, и численностью соратников, – это вы видите на деле: вы легко захвачены и взяты в плен без всякого труда. Я могу сделать с вами то, что мне будет угодно, и вы уже лежите как жертвы нашего могущества. Если бы кто-нибудь поискал наказание за ваши дерзновенные поступки, то не мог бы найти кару, наложение которой было бы подходящим для содеянного. Почтенного старца и превосходного государя, которого следовало бы спасать и охранять, вы убили; всегда славную власть над Римом, которую наши предки приобрели благодаря доблестному мужеству или получили по наследству благодаря благородному происхождению, вы постыдно и бесчестно продали за деньги как какое-то частное имущество. Но и того, кого вы таким образом выбрали в властители, вы оказались не в состоянии оберечь и спасти, но трусливо предали его. За столь великие проступки и дерзновенные дела вы достойны бесчисленного количества смертей, если бы кто-нибудь пожелал определить кару. Вы видите, что вам следует претерпеть; но я пощажу вас и не убью и не буду подражать делам ваших рук; однако так как было бы и нечестиво и несправедливо, чтобы вы оставались телохранителями государя, – вы, кощунственно нарушившие присягу, запятнавшие свои правые руки родственной и императорской кровью, предавшие верность и надёжность стражи, – получите как дар моего человеколюбия ваши души и тела, но воинам, оцепившим вас, я велю разжаловать вас и, сняв с вас имеющуюся на вас воинскую одежду, отпустить вас обнажёнными. Приказываю вам уйти как можно дальше от Рима; угрожаю, клянусь и заявляю, что если кто-нибудь из вас окажется ближе сотого мильного камня от Рима, он поплатится головой».20
И действительно, немедленно исполнив приказ императора, легионеры отобрали у преторианцев их парадные мечи, обильно украшенные серебром и золотом, сорвали с них воинские одежды и погнали их с поля подальше от столицы. Обезоруженные, в одних нижних туниках, распоясанные (в римской армии лишение пояса было позорнейшим наказанием) преторианцы удалились с поля своего бесславия. Утешало их лишь то, что они остались живы. Иные, правда, сокрушались о проявленной доверчивости, о том, что не прибыли в полном вооружении… Но в этом случае произошла бы чудовищная резня!
Таков был жалкий и унизительный конец преторианских когорт, учреждённых ещё Августом и два с лишним столетия игравших немаловажную роль в римской истории. Не раз они становились решающей силой, приводившей на Палатин нового императора. Можно вспомнить, как после гибели Калигулы в 41 году именно воины-преторианцы, обнаружив спрятавшегося за портьерой трясущегося Клавдия, доставили его в свой лагерь, где он и был провозглашён принцепсом21. Преторианцы, отрекшись от присяги Нерону, обрекли его на гибель в 68 году. А вскоре они же убили Гальбу, приведя к власти Отона… Теперь же именно их дерзновенное и оскорбительное для римских традиций стремление только самим решать, кто будет править Империей, и погубило прежнюю императорскую гвардию. Правда, Север быстро сформировал новую, созданную по иным лекалам. Число войск, расквартированных в Италии, теперь резко возросло. Со временем их стало около 50 тысяч22. Но, если былые преторианцы набирались из италиков, которых со временем частично дополняли уроженцы Македонии, Норика и Испании, то отныне императорскую гвардию формировали из солдат пограничных легионов, неважно из каких мест происходивших, главное, «отличающихся силой, мужеством и верностью»23.
Вернёмся к нашему герою, торжественно вступающему в Рим. По словам Геродиана, «Народ и сенат принимали с пальмовыми ветвями первого из людей и государей, бескровно и без труда завершившего столь великие начинания».24 Не возразишь: Римом недавний командующий тремя легионами Верхней Паннонии овладел действительно без кровопролития. Но настоящая борьба за власть в Империи была ещё впереди…
Подробности вступления Севера в Рим описаны Дионом Кассием, принимавшим участие в этом торжественном событии: «Север вступил в Рим. До городских ворот он ехал верхом в кавалерийском облачении, но здесь переоделся в гражданское платье и пошёл пешком в сопровождении всего войска, пешего и конного, в полном вооружении. И это было самое блистательное зрелище из всех, какие мне доводилось видеть. Весь город был украшен цветами, лавровыми венками и разноцветными полотнищами, всюду горели огни и курильницы, а люди, облачённые в белые одежды, ликовали и выкрикивали радостные приветствия; и вооружённые воины, словно на каком-то празднестве, выступали особо торжественным маршем, и, наконец, мы сенаторы шествовали во всём блеске. Толпа волновалась, страстно желая увидеть императора и услышать, не скажет ли он чего-нибудь, как будто он в чём-то изменился от удачи, и некоторые поднимали друг друга повыше, чтобы сверху разглядеть его».25
Впечатляющее шествие пешего и конного войска в полном вооружении и с принцепсом во главе эффектно подтверждало, что подлинная опора Императора Цезаря Луция Септимия Севера Пертинакса Августа – армия26. Но есть сведения, что именно она в первый же день подпортила картину всеобщего ликования в столице. Элий Спартиан описывает это событие заметно иначе, нежели Дион Кассий и Геродиан: «Вступив в Рим, он, сам вооружённый, поднялся с вооружёнными воинами на Капитолий. Оттуда он в таком же виде двинулся дальше в Палатинский дворец, причём перед ним несли отнятые им у преторианцев значки, склонённые вниз, а не поднятые. Затем воины разместились по всему городу – в храмах, в портиках, в здании Палатинского дворца, словно на своих квартирах. Вступление Севера в Рим вызвало чувства ненависти и страха: воины грабили всё, ни за что не платя, и грозили городу опустошением».27
Можно ли целиком доверять этому сообщению? «Писатели истории августов» – «Scriptores Historiae Augustae» – источник конца IV века. Многие историки не склонны ему особенно доверять. Можно, конечно, допустить возможные эксцессы, связанные со вступлением в огромный и богатый город многотысячной армии, утомлённой долгим тяжёлым маршем в многие сотни миль. Иные легионеры, ощущавшие к тому же себя победителями, могли и позабыть о хвалённой римской дисциплине, каравшей мародёрство. Но массового характера оно носить не могло. И сам Север, и офицерский состав его легионов никак не могли допустить такого поведения своих солдат в столице Империи.
Что на самом деле должно было тревожить императора, так это то, что в Риме единственной альтернативой Дидию Юлиану еще при его жизни значительная часть населения почитала Гая Песцения Нигера. Его сторонники (наверняка их было немало) едва ли считали борьбу за высшую власть завершённой. Да, сенат провозгласил Септимия Севера императором. Но ведь совсем недавно так же единогласно «отцы, внесённые в списки» признавали законными принцепсами и Пертинакса, и Дидия Юлиана… Потому наверняка Луций понимал, что настоящая битва за власть в Империи только начинается.
На следующий день Север явился в сенат, где всемерно демонстрировал самое благожелательное отношение и к нему в целом, и к каждому его члену по отдельности «речами, преисполненными добрых надежд28». Правда, при этом он прибыл в курию почему-то «окружённый вооружёнными людьми – не только воинами, но и друзьями29». Осторожность, думается, не лишняя. Все владыки Рима помнили печальную судьбу Гая Юлия Цезаря, легкомысленно пренебрегшего даже положенной ему по статусу охраной из 24 ликторов. А Север был вправе предположить, что среди «отцов, внесённых в списки», вполне могут быть и его недоброжелатели, до поры до времени скрывающие свои подлинные настроения. Да и, учитывая высокую популярность в Риме Песцения Нигера, естественно было полагать наличие его сторонников не только среди тех, кто собирался не так давно в цирке, провозглашая его императором, но и в самом сенате римского народа. Был и соответствующий исторический опыт. Некогда Октавиан заявился в сенат в сопровождении немалого числа друзей, почему-то очень неловко прятавших под одеждой оружие. После этого сторонники Марка Антония – 300 сенаторов и оба консула – резво удалились не только из курии, но из Италии вообще. Теперь же бывшие в сенате сторонники Нигера даже не попытались как-то себя проявить.
В курии Север сразу же обратился к высокому собранию с предложением принять постановление, согласно которому принцепсу запрещалось казнить сенаторов, не получив на то санкции сената. Здесь он прямо продолжил достойную традицию «хороших императоров». Так в своё время поступали Нерва, Траян, Адриан, Марк Аврелий и Пертинакс. Антонин Пий, если и не прокламировал такую политику, то на практике ей добросовестно следовал. Исключение составил лишь Адриан, чьё правление и в самом начале, и на исходе омрачилось внесудебными расправами, правда, немногочисленными.
Постановление, предложенное Севером, было немедленно принято. Сам император в цветистой речи поведал сенаторам, что начинающееся правление доставит подвластным полнейшее благоденствие. Никто без суда не будет отныне казнён, никто не лишится по произволу своего имущества. К доносчикам будет абсолютная нетерпимость – здесь Север обещал следовать опыту Траяна и Пертинакса. И вообще, принцепс во всех своих делах будет как бы соревноваться с Марком Аврелием, кто наряду с Пертинаксом является для него образцом правителя. Такая речь, что неудивительно, стала бальзамом на сердца сенаторов, перед которыми вдруг явился новый «наилучший принцепс». Так некогда их исторические предшественники восторженно именовали Марка Ульпия Траяна. Можно ли представить себе лучшее начало правления? Были всё же среди сенаторов и те, кто усомнился в подлинности таких прекрасных намерений Севера. «Однако некоторые из старших, знавших его нрав, предсказывали втайне, что он – человек изворотливый и умеющий искусно браться за дела, в высшей степени способный прикинуться и притворно выказать всё, что угодно, а также достигнуть того, что ему выгодно и полезно; это впоследствии и обнаружилось на деле».30
О неискренности речей Севера в курии написал и Дион Кассий, «…он сгоряча пообещал нам то же, что и хорошие императоры прежних времен, а именно – что не казнит ни одного сенатора, и принёс соответствующую клятву; более того, он приказал утвердить это общим постановлением, объявив, что врагом государства будет считаться и сам император, и тот, кто возьмётся помогать ему в подобном деле, а также их дети. Однако сам же он первым и преступил этот закон…»31
Думается, Луций действительно изначально лукавил. Чтобы получить как можно более широкую поддержку в столице, он должен был сказать именно то, что мечтали услышать римляне от нового императора. На самом деле Север прекрасно осознавал, что ситуация гражданской войны в Империи никак не способствует образцовому правлению. Потому втайне он оставлял себе право действовать согласно складывающимся обстоятельствам, не щадя своих очевидных противников или же тех, на кого падали сильные подозрения.
Пребывание Луция Септимия Севера в сенате, если полагаться на сообщение Элия Спартиана, было омрачено наглым требованием воинов, возжелавшим получить по 10 000 сестерциев на каждого. Оказывается, и легионеры хорошо знали римскую историю. Октавиан, окончательно утвердившись в Риме, одарил каждого из своих легионеров именно такой суммой. В этом ему, как известно, помогло обретение в присоединённом Египте несметных сокровищ Птолемеев. Ни сенат, ни Север подобными богатствами и близко не располагали. Легионеры, похоже, на такое вознаграждение и не рассчитывали. Главным было произвести на власти как можно более сильное впечатление и получить столько, сколько те реально в состоянии были выплатить. Потому, получив десятую часть того, что требовали, доблестные воины угомонились. В мятеж требование этой внеочередной платы не переросло.
Важнейшим идеологическим мероприятием Севера в те дни стало проведение невероятно пышных символических похорон Пертинакса. Собственно, этот злосчастный принцепс уже был кое-как погребён безо всяких торжеств. Теперь же не правивший и трёх месяцев Пертинакс удостоился упокоения подобно величайшим властелинам Рима. Север распорядился воздвигнуть храм в его память, «повелел, чтобы его золотую статую возили в цирк на колеснице, запряжённой слонами, и чтобы в других амфитеатрах в его честь были установлены три позолоченных кресла32». На погребальные носилки уложили восковую статую покойного в триумфальном одеянии. Более того, дабы создать иллюзию подлинности происходящего, специально приставленный мальчик добросовестно отгонял павлиньими перьями от изображения мух, как бы даже не от мёртвого, а от спящего. В прощании участвовали все сенаторы вместе с жёнами в траурных одеждах. Женщинам повезло больше: если их мужья стояли на открытом месте в римскую летнюю жару, то жены разместились в тени портиков33. Север, поднявшись на ростры, произнёс похвальную речь в память Пертинакса, которая сопровождалась возгласами сенаторов, приличествующими траурной церемонии. Самые громкие восклицания прозвучали при завершении императорской речи. Должно быть, в благодарность за её окончание. Ведь, судя по текстам сохранившихся или же воссозданных речей, Север любил блеснуть красноречием, и краткость, похоже, не была его сильной стороной. Наконец, носилки с восковым «покойником» поместили в трёхярусную башню, являвшую собою подлинно августейший погребальный костёр. Когда консулы поднесли огонь, из башни вылетел заранее там помещённый и своевременно выпущенный орёл, символизирующий апофеоз – обожествление Пертинакса. Так Север исполнил свои обещания: Пертинакс отомщён, достойно августа погребён и обожествлён.
Теперь окончательно утвердившийся в Риме император обратился к делам насущным, каковых было предостаточно. Самым неотложным стала подготовка к походу на Восток, где пребывал другой претендент на владычество в Империи, обладавший немалым числом легионов и большими ресурсами восточных провинций державы. Дабы закрепить своё влияние в столице и авторитет в армии, Септимий провёл традиционную раздачу народу, организовал всевозможные зрелища – гладиаторские бои, состязания атлетов, гонки на колесницах в цирке. Преторианцев он быстро сумел заменить отобранными из своих легионов лучшими воинами, в основном иллирийцами. Число их изначально составило 15 000. Куда же делись прежние, за сотую милю от Рима изгнанные преторианцы? Ни к каким мирным трудам эти люди – профессиональные военные годны не были, да и не стремились к таковым. Потому выбирали себе занятия иного рода. Часть их умножило число гладиаторов в провинциальных цирках, но основная масса занялась разбоем, сделав дороги Италии небезопасными, чего не наблюдалось со времён царствования Тиберия (14–37 гг.). При нём, как известно, италийские земли были избавлены от разбойников. Теперь борьба с ними ложилась на плечи новой императорской гвардии.
Север тем временем самым энергичным образом готовился к восточному походу. Его действия свидетельствуют о выдающемся таланте военного организатора, что и обеспечило ему конечную победу в противостоянии с соперниками. Для начала он укрепил свой тыл в столице. Префектом претория стал уроженец Лептиса и возможно родственник Луция по матери Гай Фульвий Плавциан. Оба зятя принцепса – Аэций и Проб стали консулами, получив от тестя и немалую денежную поддержку. Новым префектом Рима был назначен преданный Северу Домиций Декстр. Не обошлось и без чистки сторонников Дидия Юлиана в высшем эшелоне власти. Выступив в сенате, принцепс потребовал присудить их к конфискации имущества и смертной казни. Поскольку он добился одобрения сенаторами этого жестокого деяния, то формально не нарушил клятвы и по его же инициативе принятого постановления. Расправа прошла не беззаконно, но по приговору императора и с официального одобрения сената. Особую активность Север проявил в делах судебных. Невольно вспоминается, что в детстве он более всего любил игру, где ему отводилась роль судьи. На сей раз ему пришлось разбирать и дела судей, на которых поступили многочисленные жалобы провинциалов, изобличавших недостойных служителей Фемиды в коррупции и прочих злоупотреблениях. Север стремился действовать справедливо и строго, чтобы поднять свой престиж в народе, да и навести порядок в правовой системе. Римляне также должны были быть ему благодарны за то, что он в короткий срок сумел улучшить снабжение столицы хлебом, пришедшее в упадок за недолгое правление Дидия Юлиана.
После этого Север обратился к собственно делам военным. Войска, получившие приказ готовиться к походу, стягивались со всех сторон. В италийских городах был проведён набор воинов. Дабы обезопасить африканскую житницу Рима, туда были направлены легионы. Ведь Песцений, обладавший Египтом и Ливией, вполне мог оттуда двинуть войска на запад34. В то же время стоявшие в Мёзии на Нижнем Дунае легионы под командованием Мария Максима прошли через Фракию к Византию, который, увы, уже был под контролем антиохийского претендента на Палатин35. В передвижении войск на Восток Север активно задействовал оба флота – Мезенский и Равеннский. Помимо них были привлечены и торговые суда, на которых разместились тяжеловооружённые воины. Корабли перевозили легионеров через Адриатику в Диррахий, откуда те двигались в Грецию и Македонию. Это было крайне необходимо, ибо, обладая провинцией Азия и опираясь на Византий на европейском берегу, войска Песцения Нигера вполне могли, начав внезапное наступление, захватить эти важные провинции. А оттуда уже и до Италии недалеко… Для этого с величайшей быстротой Север и собрал большие и разнообразные силы36. Не была забыта и дунайская граница. Своего брата Публия Септимия Гету император обязал оставаться с войсками на пограничных землях, чтобы не давать задунайским варварам надежду на беспрепятственное вторжение в римские владения.
Энергично готовя армию и флот к войне, Луций не забывал и о дипломатии, поскольку отвлечение большинства сил на Восток могло вызвать искушение у Альбина двинуться на Рим. В письмах к нему Север подтверждал, что наместник Британии остаётся цезарем при нём, августе, и умолял его заботиться о державе. Сам он, дескать, крепко болен подагрой, а дети его ещё очень малы. Луций известил и сенат о своём доверии Альбину, а, дабы у того не осталось никаких сомнений в своём статусе, приказал отчеканить монеты с его изображением и распорядился воздвигнуть статуи соправителя. Теперь ничто не мешало легионам Севера двинуться навстречу армиям Востока.
Теперь должно обратиться к другому претенденту на Палатин – Гаю Песцению Нигеру, который получил известие об утверждении Севера императором и его военных приготовлениях. Похоже, это стало для него малоприятным сюрпризом. Обладающий богатыми восточными провинциями, популярный в Риме, где и родилась мысль о провозглашении его принцепсом, Нигер, должно быть, и впрямь уверился, что высшую власть он в состоянии обрести, избежав гражданской войны. Об этом, как мы помним, он уже говорил. Действительность оказалась совершенно иной. Решительный соперник, стремительно двинувшись с берегов Дуная, быстро достиг берега Тибра, где сенат немедленно признал его законным императором. Теперь противостояли друг другу не два провозглашённых претендента, но легитимный владыка Рима, на Палатине обретающийся, и самопровозглашённый императором наместник провинции Сирия… Первую партию в борьбе за Империю Север очевидно выиграл.
Новости с Запада принудили, наконец, Нигера перейти к активным действиям. Прежде всего он разослал всем наместникам провинций, признававшим его власть, приказы об усилении охраны морских гаваней и сухопутных подходов от нападения сторонников Севера. Забыв о своём высокомерном отказе принять помощь со стороны восточных царей, союзных Риму, Гай Песцений Нигер обратился за поддержкой к исконному врагу римлян – Парфии, с которой не так давно (при Марке Аврелии) шла жестокая война. Подобные просьбы были направлены царю Армении и правителю арабского племени атренов в Хатру. Результат обращения оказался скромным. Армянский царь прямо отказал в помощи Нигеру, заявив о своём нейтралитете в противостоянии римских полководцев, уточнив, что сам будет оберегать своё царство и от Севера. Парфянский владыка – молодой Вологез IV вроде бы откликнулся на призыв, пообещав разослать приказы своим сатрапам о сборе войска. Но это вовсе не означало своевременной действительной помощи, поскольку Парфянское царство было весьма обширно. Оно простиралось от Евфрата до Окса (Аму-Дарьи), от Закавказья до гор Гиндукуша на рубежах Индии и от Каспия до Персидского залива. Сбор войска должен был занять немало времени, да и обещания выступить с таковым против Севера Нигер вообще-то не получил… Единственный, кто решился на деле ему помочь, так это царь атренов Барсемий. Он немедленно выслал в Антиохию отряд конных лучников, которыми арабы заслуженно славились на Востоке. Основу же войска Нигера составили находившиеся в контролируемых им провинциях легионы, усиленные за счёт добровольцев. Известно, что в Антиохии множество местных горожан, прежде всего молодёжь, охотно пошли в армию претендента37.
Военные распоряжения Песцения Нигера показывают, что он вовсе не утратил полководческого дара. Не исключая вторжения войск неприятеля вглубь Малой Азии, он повелел «укрепить теснины и ущелья горы Тавра мощными стенами и валами, полагая, что эти укрепления сделают проходящие на восток дороги неприступными»38. Передовым же войскам был отдан приказ овладеть Византием. Город этот, многонаселённый, богатый и процветающий, имел очень важное стратегическое значение в силу своего географического положения. Византий находился на северном побережье Пропонтиды (Мраморного моря) у пролива Босфор, благодаря чему он контролировал проход в Понт Эвксинский (Чёрное море). Город был отменно защищён самой природой. Он стоял на полуострове, омываемом с одной стороны морем, с другой – глубоким морским заливом. Более того, как писал Геродиан: «Город был окружён мощной, очень высокой стеной, сделанной из мельничных четырехгранных камней, так плотно скреплённых и соединённых между собой, что всякий счёл бы, что сооружение сделано из единой глыбы, а не составлено из разных частей. Еще и теперь, когда видишь сохранившиеся обломки и остатки этой стены, удивляешься и искусству первоначальных строителей и силе последующих разрушителей. Нигер считал, что он таким образом весьма предусмотрительно обезопасил себя».39 Обладание Византием обеспечивало плацдарм для продвижения вглубь Фракии и далее в Македонию. Особенно важным было то, что население города поддержало Нигера. Это был его несомненный успех. Стремясь развить таковой, он предпринял наступление на город Перинф, также расположенный на европейском берегу Мраморного моря, в девяноста километрах от Византия. Здесь, однако, восточные войска ждала неудача. Пришлось отступить к берегам Босфора. Полководец Севера Аврелиан, преследуя противника от стен Перинфа, подошёл к Византию. Песцений Нигер после этого, переправившись на азиатский берег, отступил в город Никею в провинции Вифиния. Но покинутый им Византий продолжил упорное сопротивление. Помимо мощных укреплений и их многочисленных защитников способности этого города выдерживать долгую осаду способствовало наличие сотен судов, готовых доставлять в гавань необходимые продовольствие и снаряжение. В мирное время эти корабли, числом до пятисот, составляли рыболовецкие флотилии. Рыбная ловля была важной статьёй доходов византийцев. А флот Севера до Пропонтиды ещё не добрался…
Полководцы войск Запада, узнав, что Византий остаётся в руках противника и являет собой сильнейшую крепость, решили переправляться через Мраморное море в южной его части. Проконсул провинции Азия Эмилиан двинулся им навстречу. Первые большие бои между северианцами и нигерианцами развернулись близ города Кизика и у Геллеспонта (пролив Дарданеллы) в ноябре и декабре 193 года. Сражения носили упорный характер, но в итоге армия Севера победила. Эмилиан был схвачен и убит40. Войска Севера после этого вступили в провинцию Вифиния, где на их сторону перешёл город Никомедия (былая столица Вифинского царства). Никомедийцы, узнав об исходе битвы у Кизика, сразу же направили послов к победителям, обещая принять в городе их войска и предоставить всё необходимое для продолжения похода. Другой же важнейший город провинции – Никея сохранил верность Нигеру. Сюда вскоре подошли и главные силы Востока во главе с ним самим. В январе 194 года здесь развернулось новое большое сражение. Рельеф местности, где происходила битва, был очень непростым. Помимо равнины здесь были и высоты, и побережье многоводного озера Аскания близ самой Никеи. Войсками Севера командовал Тиберий Клавдий Кандид, многоопытный военачальник, начавший свою карьеру ещё при Марке Аврелии во время Маркоманских войн в Подунавье. Яркое описание сражения дал Дион Кассий: «После этого в теснинах между Никеей и Киосом противники сошлись в большой битве, которая шла с переменным успехом. Одна часть войск сражалась на равнине в ближнем бою, другие, заняв высоты, бросали в противника сверху камни и копья, третьи, сев на корабли, обстреливали врагов из луков с озера. Сначала северианцы, предводительствуемые Кандидом, одерживали верх, так как вели бой с позиций, расположенных на высотах; но после того, как на поле битвы появился сам Нигер, положение в корне переменилось и победа склонилась на сторону войск Нигера. Тогда Кандид, схватив знаменосцев, повернул их лицом к неприятелю и обрушился с бранью на бегущих воинов; находившиеся рядом с ним бойцы, устыдившись, развернулись и вновь одолели противников, и они полностью перебили бы врагов, если бы город не находился рядом и не опустилась бы ночная тьма».41 Кандид в этом сражении повторил опыт Суллы в битве при Херонее с войсками Митридата (86 г. до н. э.) и Юлия Цезаря в решительной схватке с помпеянцами при Мунде (45 г. до н. э.).
Войско Нигера вынуждено было отступить, Геродиан говорит даже о бегстве42. Но борьба продолжалась, и пока окончательного перелома в боевых действиях не произошло. Отошедшие из Вифинии войска Востока укрепились в теснинах гор Тавра, где уже были выстроены укрепления, о которых заранее дальновидно позаботился Песцений Нигер. Сам он, полагаясь на их прочность и на достаточные для защиты горных проходов силы, отправился в Сирию, где в Антиохии занялся сбором денег, необходимых для формирования новой армии.
Войско Севера после успешных сражений при Кизике и Никее сначала уверенно и быстро продвигалось вглубь Малой Азии, прошло Галатию, но вот в Каппадокии было остановлено, столкнувшись с укреплениями нигерианцев. Геродиан сообщает: «Здесь его ждали немалые трудности, так как дорога была камениста, узка и потому трудно проходима, а осаждённые, стоявшие за зубцами стены, бросали на них сверху камни и отважно отбивались. Немногие воины легко удерживали большое войско. Одну сторону узкой тропы защищает очень высокая гора, а с другой стороны – глубокая пропасть, образованная стекающими с гор потоками. Вот это место и было укреплено Нигером со всех сторон, чтобы воспрепятствовать проходу войска. Так обстояли дела в Каппадокии».43
Таким образом Гай Песцений Нигер не без основания рассчитывал на продолжительную передышку. Она должна была позволить его войскам оправиться от первоначальных неудач, получить серьёзные подкрепления и со временем вступить в бой с противником, измотанным преодолением горных теснин и возведённых на них укреплений, защищаемых стойкими солдатами восточных легионов. Казалось, время вовсе не благоприятствует делу Луция Септимия Севера Пертинакса. Но неожиданно ситуация в горах Тавра изменилась. На помощь северианцам внезапно пришла тамошняя природа. Как известно, погода в горах зимой непредсказуема. И вот, когда воины Севера пали духом и были близки к отчаянию, изверившись в возможности преодоления столь отважно защищаемых мощных природных и рукотворных укреплений, случилась резкая перемена погоды. В одну из ночей хлынул сильнейший дождь, перемежавшийся обильным снегопадом. В результате огромный селевой поток обрушился как раз на укрепления защитников главного перевала. Возведены они были в спешке, продолжительного удара стихии не выдержали и оказались большей частью смыты. Солдаты Нигера, крайне озадаченные столь нежданным поворотом дел, сочли за благо покинуть свои позиции и отступили вглубь страны. Войска же Севера, вдохновлённые произошедшим и, убедившись в отходе противника, теперь уже свободно владели перевалом и из Каппадокии устремились в приморскую Киликию.
Успехи армии Запада резко ухудшили позиции Гая Песцения Нигера в провинциях Востока. В феврале 194 года наместник Египта объявил о переходе на сторону Севера. Его примеру последовал легат Каменистой Аравии (совр. Южная Иордания и Синай). Вспыхнули волнения в Финикии и Сирии, на землях, считавшихся главным оплотом Нигера. Тот, узнав о захвате мятежниками Лаодикеи и Тира, сумел принять самые решительные меры. Против обоих бунтующих городов были посланы отряды мавританских копейщиков и лучников. Действия их носили самый безжалостный характер. «Мавританцы, весьма кровожадные, отчаянные, легко дерзающие презирать и смерть и опасность, ворвались неожиданно в Лаодикею и подвергли народ и город всяческому поруганию. Оттуда они поспешили к Тиру, где подожгли весь город и учинили великий грабёж и резню».44
В мае 194 года произошло решающее столкновение между армиями Запада и Востока. Сам Септимий Север, правда, находился весьма далеко от места сражения. Собственно, он даже не покидал Европу, предоставив действовать в Азии своим надёжным полководцам. Таковыми на сей раз стали Луций Валерий Валериан и Публий Корнелий Ануллин, которому и принадлежало верховное командование в этой битве.
Место, где сошлись обе армии, было историческим. Поздней осенью ззз года до н. э. здесь, у города Исса, произошло важнейшее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, решившее судьбы Передней Азии45. Победа открыла тогда Александру путь в Финикию, Сирию и далее в Египет. В 194 году тут вновь сошлись силы Запада и Востока, но на сей раз война была гражданской – решалась судьба высшей власти в Римской империи. Природа создала для сражавшихся близ Иссы армий немалые сложности, могущие при умелом их использовании превратиться в преимущества. Полем битвы стали так называемые «Сирийские ворота», откуда шла дорога из Киликии в Сирию. С юга был берег морского залива, с севера поднимались высокие горы, покрытые густыми лесами. Казалось, что все преимущества на стороне обороняющихся, но при условии, что наступающие не сумеют найти путей обхода. Войска Нигера, им и возглавляемые, заняли очень прочную позицию. С левого фланга её защищал крутой обрыв, спускающийся к морю, справа же высилась большая гора, заросшая непроходимым, как казалось, лесом46. Лагерь нигерианцев расположился на хорошо укреплённом холме. Создав такую мощную оборону, о которую должно было разбиться наступление армии Севера, Нигер исключил отступление своих войск. В тылу он велел поставить обозы, чтобы солдаты не могли бежать даже, если бы очень этого захотели.
Основу восточной армии составляла тяжёлая пехота, подкреплённая легковооружёнными воинами. Слабостью был недостаток конницы. Войско Севера же располагало многочисленной кавалерией. Правда, поле битвы не очень-то способствовало успешному её применению. Нигер построил свою пехоту следующим образом: тяжеловооружённые воины стояли впереди у подножия холма, легковооружённые же (метатели дротиков, пращники) находились выше на склоне, а над ними расположились лучники, чтобы иметь возможность, не рискуя поразить своих, обстреливать неприятеля. План сражения, очевидно, предполагал сначала отразить наступление противника, осыпав его градом дротиков, камней и стрел. Затем тяжеловооружённая пехота должна была нанести решающий удар. У противника было меньше пехоты, чем у Нигера47. Потому главнокомандующий армией Запада Публий Корнелий Ануллин решающую роль в предстоящей битве отводил своей кавалерии, возглавляемой Луцием Валерием Валерианом. Армия северианцев была выстроена следующим образом: впереди тяжеловооружённая пехота, легковооружённые же воины, стреляя поверх голов своих соратников, должны были обеспечивать им возможность наступать вверх по склону холма48. Впрочем, по замыслу Ануллина, не столкновение пехотинцев должно было решить исход сражения. Валериан получил приказ любым способом обойти поросшую лесом гору и ударить по армии Нигера с тыла. Внезапная атака с самого неожиданного направления непременно должна была принести успех.
Битву традиционно начали легковооружённые, затем в бой вступила тяжёлая пехота. Воины Севера умело применили построение, именуемое «testudo» («черепаха»). Для этого передовые солдаты выставляли щиты перед собой, а идущие за ними прикрывались щитами сверху. Таким образом удалось по меньшей мере ослабить град дротиков, камней и стрел и приблизиться к неприятелю. И началось продолжительное и жестокое рукопашное сражение. Легионеры Нигера уступали воинам Севера в опыте и силе, но не испытывали недостатка в рвении, компенсируя отвагой недостаток боевой подготовки49. Потому бой долгое время шёл на равных, но постепенно стали сказываться численное превосходство восточной армии и более удобная её позиция, поскольку она наступала по склону холма вниз. Казалось, воины Нигера вот-вот добьются полной победы, как вдруг на стороне армии Запада вновь выступили силы природы. Начиналось сражение в ясную погоду, но постепенно собрались густые тучи, затем подул яростный ветер, раздались раскаты грома, сверкнули молнии и хлынул сильнейший ливень. И хлынул-то он вслед за ветром в спину воинам Севера и в лицо солдатам Нигера. Потому сражающиеся восприняли разгул стихии по-разному. Если северианцы решили, что боги пришли им на помощь в трудную минуту, то дух нигерианцев оказался смущён, ибо им могло показаться, что божественная сила не на их стороне50. Но решило исход сражения другое: кавалерия Валериана сумела обойти и горы, и леса, которые Нигер напрасно счёл непроходимыми. Она мощно атаковала противника с тыла, не смущаясь тем, что ветер и дождь били ей в лицо. Теперь армии Востока пришлось сражаться на два фронта, не имея возможности ни для отступления, ни для прорыва. Закончилось сражение полной победой армии Запада. Самому Нигеру с немногими воинами удалось спастись, но возможности продолжать сопротивление он уже не имел. Уж больно велики оказались потери! А войска Севера торжествовали, благословляя майскую грозу и, главное, воинское искусство Луция Валерия Валериана, сумевшего своевременно прийти с конницей на поле боя.
Побеждённый претендент укрылся в Антиохии, но она никак не могла стать ему надёжным убежищем. Прибыв в город верхом на могучем коне, которому, очевидно, он и был обязан спасением, Нигер, как обнаружилось, мог положиться только на совершенно незначительное число сторонников. Потому, не надеясь более на какой-либо успех, он попытался продолжить бегство, но и тут удача была не на его стороне. По сообщению Диона Кассия, доверие к которому присутствует в историографии51, Нигер пытался достигнуть Парфии, но был перехвачен преследователями, убит и обезглавлен. В то же время Геродиан пишет, что тот скрывался в каком-то пригороде Антиохии, где был найден преследователями и обезглавлен52. Сходные сведения имеются у историка IV века Аммиана Марцеллина: «Так некогда Песцений Нигер, которого римский народ неоднократно призывал на спасение гибнущего государства, благодаря промедлению в Сирии, был побежден Севером у Исского залива в Киликии, где Александр разбил Дария, и, будучи обращён в бегство, пал от руки простого солдата в одном из пригородов Антиохии».53 Север, направлявшийся в Сирию и получивший известие о гибели соперника, приказал отрубленную голову злосчастного претендента на Палатин доставить к стенам непокорного Византия, там насадить её на копьё и, высоко подняв, показать осаждённым, дабы они убедились в полной бессмысленности сопротивления. Однако упрямый город решил не сдаваться. Север не стал здесь задерживаться, хотя и был крайне раздражён, но сирийские дела представлялись ему куда более важными. Должно было навести порядок в освобождённых от сторонников Нигера провинциях и разобраться с ситуацией в Месопотамии, где резко возросла активность Парфии, а вассалы Рима повели себя неподобающим для своего статуса образом.
Прибыв в Сирию, император прежде всего произвёл её административный передел. Провинция была разделена на две части: северная стала называться Келесирией, наместник её должен был назначаться сенатом; южная Сирия с Финикией образовали императорскую провинцию Финикия. В первой располагались два легиона, во второй – один. Первым наместником Финикии стал Тит Манилий Фуск54. Далее Север занялся наказанием тех, кто был сторонником Нигера или же таким казался. По словам Диона Кассия, из-за такого рода обвинений пострадали многие люди, Нигера никогда не видевшие и ничем ему не содействовавшие55. Дело было в том, что принцепс очень нуждался в деньгах, поскольку война на Востоке оказалась делом, не только не лёгким, но и очень дорогим. А казна Империи и до этого пребывала в печальном состоянии. Карая тех, кто был причислен к его противникам, Север постарался соблюсти клятву, данную в сенате: ни один из римских сенаторов не был казнён. Но вот неприкосновенностью собственности он решительно пренебрёг. Многие лишились своих состояний и были отправлены в ссылку на различные острова. Особо пострадали те, кто прямо финансово поддерживал Нигера, причём независимо от того, делалось это добровольно или же принудительно. Наказание касалось как частных лиц, так и общин. Деньги взыскивались в четырёхкратном размере пожертвованных Нигеру сумм. Севера не смущало, что жестоко ограбленные люди и целые общины клянут его последними словами за откровенный грабёж. Главное – деньги поступали в казну. Но в некоторых случаях Север проявлял великодушие, оценив правдивость и смелость подсудимого. Дион Кассий приводит пример с сенатором Кассием Клементом, отважно возвысившим свой голос против очередной несправедливости: «Кассий Клемент, сенатор, когда его судили в присутствии самого Севера, не стал скрывать правду, но смело заявил примерно следующее. «Я, – говорил он, – не был знаком ни с тобой, ни с Нигером, но, оказавшись в его окружении, вынужден был приспосабливаться к наличным обстоятельствам, не ради того, чтобы воевать против тебя, а чтобы низложить Юлиана. Поэтому я не совершил никакого преступления ни тогда, когда я сначала стремился к той же цели, что и ты, ни потом, когда я не перешёл на твою сторону, отказавшись покинуть того человека, с которым мне однажды по воле божества суждено было оказаться. Ведь и тебе бы не понравилось, если бы кто-то из тех, кто сейчас заседает рядом с тобой в суде, предал тебя и переметнулся на его сторону. Поэтому не на личности наши смотри, не на наши имена, но на самую суть дела. Ибо всё то, за что ты нас осудишь, ты можешь вменить в вину и себе самому, и своим друзьям; и пусть даже ты совершенно неуязвим для судебного обвинения и приговора, тем не менее, в памяти людей, которая сохраняется навечно, ты останешься тем, кто обвинял других в том, к чему сам был причастен». Север, восхищённый такой смелостью его речи, позволил ему сохранить половину своего имущества».56
Восхитился Луций, думается, искренне, но беззаконие убавил лишь наполовину. Что делать, забота о казне…
Благодарность за сопротивление Нигеру Север проявил в отношении мятежных недавно городов. К примеру, Лаодикея была повышена в ранге, ей даже подчинили Антиохию, исторический центр провинции. Облагодетельствованы были и финикийские города. Милосердие оказалось проявлено и к рядовым солдатам побеждённой армии Песцения Нигера. Дело в том, что многие из них бежали за Евфрат во владения Парфии. Для римлян это выглядело прямой изменой отечеству, учитывая историю отношений с этой грозной державой. Потому легионеры, не последовавшие столь дурному примеру и оставшиеся в римских владениях, были Севером полностью амнистированы.
Теперь на первый план выходила проблема отношений с Парфией, царь которой энергично воспользовался гражданской войной в Римской империи, чтобы прибрать к рукам царства Северной Месопотамии – Осроену и Адиабену. Их римляне ещё при Марке Аврелии сумели подчинить своему влиянию57. Для парфян это был бы реванш за проигранную тогда войну. В самый разгар противостояния между Нигером и Севером Вологез IV через своих верных людей устроил в этих царствах мятежи против римской ориентации их правителей. После этого осроенские и адиабенские отряды осадили сторонников Нигера в Нисибисе. Когда же его дело оказалось вчистую проигранным и сам он бесславно погиб, то к Северу были отправлены послы с требованием оплатить этим царствам ту помощь, которую они ему якобы добросовестно оказывали, сражаясь с его лютым врагом. Победоносному же императору великодушно было обещано вернуть всю захваченную во время военных действий добычу и, в первую очередь, пленных римлян. В то же время недавние вассалы Рима отказывались покинуть захваченные в Северной Месопотамии города и впустить туда римские гарнизоны. Более того, они требовали, чтобы с земель Осроены и Адиабены были выведены задержавшиеся там отряды римских войск58.
Такие требования северомесопотамских царьков Север не мог не счесть вопиющей наглостью. Понятно, что и Осроена, и Адиабена, и Хатра рассчитывали на прямую поддержку парфян. Не зря ведь Вологез IV сообщал Нигеру, что разослал письма своим сатрапам с объявлением о сборе войск царства. Нигера нет, но войско-то собирается и вполне может двинуться против Севера. Уже собственно в парфянских интересах… Вологеза должно было опередить. Потому Луций, утвердившись в Сирии, в конце весны 195 года двинулся со своими легионами на земли к востоку от Евфрата. Царь Осроены Абгар IX немедленно осознал глубокую ошибочность ориентации на Парфию и счёл за благо вновь подчиниться римлянам. В Эдессе, столице царства, он предстал перед Севером и в подтверждение своей возобновлённой лояльности отдал сыновей в заложники. В знак доверия император позволил Абгару принять имя Септимий59. Когда римская армия перешла Евфрат, то оказалась в пустынной и крайне бедной водой местности. Воины жестоко страдали от жажды, как некогда шедшие этим же путём легионы Марка Лициния Красса… Реальной стала угроза потери большого числа солдат. Для полного несчастья разразилась песчаная буря, от которой войско сильно пострадало. Дион Кассий рисует такую картину: «Изнурённые походом и солнцем, они вдобавок сильно пострадали от песчаной бури, так что уже не могли ни идти, ни даже говорить и твердили только одно: «Воды, воды!» Когда же она появилась, то сначала из-за её странного вкуса она показалась им совершенно негодной; тогда Север потребовал себе чашу и, наполнив её водой, осушил на виду у всех. После этого и некоторые другие тоже выпили её, и силы вновь вернулись к ним».60
Преодолевая столь непростые природные препятствия, войско достигло Нисибиса, где император и устроил свою главную ставку. Далее он разделил армию на пять частей. Две из них под командованием Тита Секстия Латерана, старого друга Луция, и Тиберия Клавдия Кандида, отличившегося в битве с Нигером при Никее, должны были закрепить римскую власть на прилегающих землях. Три других отряда возглавили Публий Корнелий Ануллин, победитель при Иссе, Проб, возможно, зять Севера, и Юлий Лет. Они направились в область под названием Архэ, чьё местонахождение историками до сих пор точно не установлено61. Двинувшись с трёх сторон, римляне с немалым трудом ею овладели. В Адиабене возникли трудности, но Север успешно их преодолел, организовав там государственный переворот. Парфянский ставленник был устранён, царём стал проримский правитель Нарсес. Но полностью подчинить Адиабену пока не удалось. В целом же кампания 195 года была успешной. Север объявил о создании новой провинции Осроена. В ней были расквартированы два легиона, а центром её стал Нисибис. Верный Риму город, выдержавший осаду осроенцев и адиабенцев, удостоился почестей и получил статус римской колонии под названием Colonia Septima. От былого царства Абгару IX великодушно была оставлена Эдесса с окрестностями. Север очень гордился своими успехами. От сената он получил три приветствия с присвоением ему титулов Парфянский Арабский, Парфянский Адиабенский и Парфянский Великий62. Благодарно приняв два первых, от третьего он отказался. И это было благоразумно, поскольку самих парфян он не победил, а такой титул мог их разозлить и подвигнуть на прямые военные действия. Вологез и так направил свои войска навстречу римлянам, но Северу удалось договориться о мире ценой уступки Парфии части Восточной Армении63.
Во время торжеств по случаю успеха в Северной Месопотамии произошёл забавный случай, описанный Дионом Кассием. «И в то время как Север весьма гордился этими успехами, словно он превзошёл умом и храбростью всех людей, случилось совершенно невероятное событие: некий разбойник по имени Клавдий, который орудовал в Иудее и Сирии и поэтому с особым усердием разыскивался, однажды явился к Северу в сопровождении всадников, словно какой-то военный трибун, поприветствовал и поцеловал его; и ни тогда его сразу не изобличили, ни позднее не поймали».64
Славный разбойник блистательно посмеялся над могущественным императором. Оказывается, достаточно облачиться как римский воинский трибун, и никому в голову не придёт, кто может в таком обличии скрываться. Не удивительно, что столь отважного рискового грабителя так и не сумели поймать.
На волне празднований Север принял решение, которое неизбежно вело к разрыву с Клодием Альбином. В 195 году, находясь в Месопотамии, Луций объявил, что его старший сын Бассиан отныне будет носить имя Марк Аврелий Антонин65. Для обоснования этого решения Север назвал себя самого сыном Марка Аврелия, став таким образом заодно и названным братом Коммода66. Отсюда следовала неизбежная реабилитация и обожествление того, о ком в Риме вспоминали, мягко говоря, безо всякого почтения. Со временем Север откажется от имени Пертинакс, как явно в таком соседстве неуместного. Когда точно произошли принятия новых имён Северами, во многом неясно. Как справедливо пишет немецкий исследователь Карл Крист: «Хронология событий тех месяцев недостоверна, взаимодействие акций и реакций однозначно реконструировать невозможно».67 Известно только, что впервые Бассиан в качестве цезаря появляется вместе с Севером на рескрипте, датированном 1 января 196 года68. Понятно, что стал он таковым ранее.
Действия Луция ясно показывают стремление к полной легитимизации семейного императорского статуса путём включения и себя, и потомства в число Антонинов. Явно обнаруживается желание создать настоящую правящую династию. Здесь сразу вспоминается Веспасиан, гордо заявивший о своих сыновьях Тите и Домициане сенату, «что наследовать ему будут или сыновья, или никто»69. Да и Марк Аврелий, завещавший власть Коммоду, был для Севера образцовым примером. Беда, однако, была в том, что Децим Клодий Альбин за два с лишним года уже привык, что цезарем при августе Севере является именно он и никаких соперников у него быть не должно. К тому же вёл себя Альбин совершенно лояльно в отношении правящего императора. Пожелал даже посодействовать восстановлению сирийских городов, разрушенных Нигером после случившихся там мятежей. Правда, это можно было истолковать и как стремление снискать среди их населения личную популярность… Но ведь тогда ещё противостояние Альбина с Севером даже не предполагалось. Кто же стал инициатором разрыва? Безусловно, правящий император. Как утверждает Геродиан: «После гибели Нигера Альбин казался ему лишним и обременительным; к тому же он слышал, что тот слишком по-императорски упивается именем Цезаря, что многие особенно видные сенаторы в своих частных тайных письмах уговаривают его идти на Рим, пока Север занят и отсутствует. Ведь патриции предпочитали иметь его правителем, так как он был из хорошего рода и, кроме того, как говорили, у него был добрый нрав».70
Что ж, ничего не скажешь: перлюстрация приватной переписки в Империи работала отменно, конечно же, поощряемая высшей властью… Насколько справедливы обвинения Децима в упоении своим статусом – сказать сложно. Не похоже, чтобы был он столь примитивным духовно. А вот то, что находились в Риме люди, желавшие избавиться от нелюбезного им Севера и привести на Палатин Альбина, сомневаться не приходится. Подобные настроения в столице не могли не встревожить Луция, и он решил, не переходя к открытому противостоянию, избавиться от опасного соправителя тайно. План Севера состоял в следующем: его доверенные люди, которым он поручал свою почту, должны были предстать перед Децимом и вручить ему письмо от августа. При этом надо было попросить цезаря отойти в сторонку, якобы для передачи особо секретных указаний. Когда же Альбин оказался бы без своего окружения и телохранителей, посланцы императора должны были неожиданно напасть на него и убить на месте. На всякий случай у них с собой был яд, которым, сумев уговорить кого-либо из поваров или виночерпиев, можно было цезаря отравить. Но не сработал ни один из вариантов задуманного устранения Альбина. У того оказалось в окружении достаточно верных друзей, доверия к Северу не испытывавших, а ряд жестокостей, проявленных им на Востоке, заставил их насторожиться. На многих мрачное впечатление произвела безжалостная расправа над женой и детьми Нигера. Пока шла война, с ними обходились хорошо, пусть и держали в заложниках. Но после победы было приказано немедленно их казнить. Возможно, до прибытия посланцев императора из Рима от доброжелателей Альбина пришло предупреждение о враждебном настрое Севера. Во всяком случае, Децим окружил себя большой стражей и запретил пропускать к себе посланных августом людей, предварительно их не обыскав. Когда же посланцы принцепса прибыли, то их схватили. Энергично проведённый допрос дал результат. Признание было получено и убийство сорвано. Альбин приказал покарать преступников и стал готовиться к открытому противостоянию с Севером. Мы не знаем, получил ли он уже к этому времени известие об удивительном родстве Бассиана с Марком Аврелием, но и без этого иного выбора у соправителя не оставалось. Действительным же виновником возобновившейся гражданской войны следует считать Луция Септимия Севера71.
Сам император вовсе не был смущён случившимся. Более того, он немедленно обратился к выстроенному по его приказу войску с трибуны, изобразив благородное негодование по поводу неблагодарности Альбина, коего он так замечательно облагодетельствовал. Геродиан приводит эту речь полностью. Каким образом она попала на страницы его исторического сочинения? Дело в том, что Север написал свою автобиографию, до нас, увы, не дошедшую. А уж в ней император не мог упустить возможность поместить текст, полностью его обеляющий, а соперника очерняющий. В любом случае, ознакомиться с этой речью небезынтересно. «Пусть никто не обвинит меня в легкомыслии за мои прежние действия и не сочтёт меня неверным и бессовестным по отношению к тому, кто был моим другом. Ведь я всё дал ему, разделив с ним могущество императорской власти, то есть то, что с трудом делят даже с родными братьями: то, что вы вручили мне одному, я разделил с ним. Но за все мои великие благодеяния Альбин отплатил мне неблагодарностью. Он собирает против нас оружие и войско, презрев ваше мужество и пренебрегая своим долгом, желая в своей ненасытной жадности, несмотря на опасности, овладеть целиком тем, часть чего он получил от меня без войны и сражений; он не постыдился богов, которыми он часто клялся, не пощадил ваших трудов, которые вы перенесли с такой славой и доблестью. Ведь он извлёк выгоду из ваших подвигов, а если бы сохранял верность, то имел бы и больше почестей, полученных нами обоими от вас. Подобно тому, как несправедливо начинать мерзкие дела, так и малодушно не защищаться обиженному. К войне против Нигера нас привёл не столько какой-либо благовидный предлог, сколько неизбежность вражды. Он вызвал нашу ненависть не тем, что стремился похитить имевшуюся у нас власть; каждый из нас с одинаковым честолюбием стремился к брошенной и ставшей предметом спора власти. Альбин же, презрев клятвы и договоры, хотя он и получил от меня всё, что обычно дают только родному сыну, предпочёл стать мне врагом вместо друга, противником вместо близкого человека. Подобно тому, как прежде мы, благодетельствуя Альбину, украсили его честью и славой, так теперь мы оружием изобличим его неверность и трусость. Ведь его немногочисленное войско, состоящее из островитян, не выдержит вашей мощи. Вы одни только благодаря своему рвению и мужеству победили в стольких битвах и покорили весь Восток; так неужели же ныне, когда у вас появились такие сильные союзники, когда почти всё римское войско находится здесь, неужели теперь вы не одолеете с легкостью немногочисленных врагов, находящихся под командой человека и не отважного, и не трезвого? Ибо кто не слыхал о его изнеженности, так что его образ жизни больше подходит для хороводов, чем для военного строя. Итак, смело двинемся с нашим обычным рвением и мужеством, полагаясь на богов, которых он оскорбил ложными клятвами, и, помня о трофеях, которых мы воздвигли так много, а он презрел».72
Речь, конечно, насквозь лживая, но ведь яркая, впечатляющая и очень убедительная. На войско она произвела именно то впечатление, которого Север и добивался. Легионеры единодушно объявили Альбина «врагом отечества», восторженно прославляли своего императора, громкими криками обещая ему всяческую поддержку. Дабы закрепить ораторский эффект, Север приказал тут же раздать воинам щедрые денежные выплаты, что, конечно же, было встречено с радостью. После этого можно было выступать в поход. К этому времени, в конце 195 года, Луций уже находился в Паннонии среди наиболее верных ему дунайских легионов. Известие о разрыве между августом и цезарем достигло Рима в середине декабря 195 года, как раз во время празднования Сатурналий. 15 декабря сенат, следуя поступившему обращению правящего императора, послушно объявил Децима Клодия Альбина «врагом отечества», тем самым окончательно узаконив начало новой гражданской войны. При этом должно отметить, что настроения в столице Империи были вовсе не однозначными. Сенат, безропотно исполнявший все пожелания Севера, отнюдь не был един в одобрении его дел. Дион Кассий так характеризует настроения в римских верхах в те дни: «Хотя весь мир пришёл в волнение из-за такого положения дел, мы, сенаторы, тем не менее сохраняли спокойствие, во всяком случае те из нас, кто не разделял с ними опасностей и упований, открыто склоняясь на сторону того или другого».73 Получается, в сенате образовались три группы: сторонников Севера, приверженцев Альбина и молчаливого большинства, сохранявшего спокойствие, понимая риск прямого обнаружения своих пристрастий. Настроения же простого народа были далеки от одобрения новой схватки за власть в Империи. Римляне, несмотря на Сатурналии – самое любимое празднество потомков Ромула, открыто выражали своё недовольство. Даже во время состязания колесниц – наипопулярнейшего зрелища зрители повели себя необычно. Не прозвучало ни одного голоса в поддержку участников. Но вот после заезда стали раздаваться многочисленные и громкие восклицания: «Доколь нам это терпеть? Сколько ещё воевать нам друг с другом?» Но если Северу и донесли о таких настроениях в столице, то, думается, он едва ли обратил на это внимание. В те дни у него появился ещё один повод с оптимизмом смотреть в будущее. То ли в самом конце 195 года, то ли в начале 196-го наконец-то пал Византий, выдерживавший осаду со 193 года. Едва ли его защитники сражались за проигранное дело Нигера, очевидно, просто не желали повиноваться именно Северу. Потому они становились естественными союзниками Альбина. Вот Луций и, не скрывая радости, повторял, обращаясь к солдатам и офицерам своей армии: «Взяли мы и Византий!»
С павшим городом обошлись очень жестоко. Все представители власти и те, кто сражался на стенах, были казнены. Византий лишился самоуправления и гражданских учреждений, горожане потеряли своё имущество. Сам город с его земельными владениями был передан в ведение Перинфа, стойко отразившего нападение войск Нигера. Жители последнего, желая угодить Северу, унижали византийцев, как могли74. Великодушие император проявил только к захваченному в Византии уроженцу Никеи Приску – замечательному военному инженеру, создавшему грозные машины, обрушивавшие во время осады на неприятеля куски скал и тяжёлые брёвна, метавшие на большое расстояние камни, копья и стрелы. Были и такие сложные механизмы со специальными крючьями, которые цепляли вражеские корабли и то внезапно опускали их, то внезапно поднимали… Военное изобретение, достойное великого Архимеда! Не исключено, что Приск изучал его инженерные достижения времён знаменитой осады Сиракуз в 214–212 гг. до н. э. во время Второй Пунической войны. Север отменил ранее вынесенный изобретателю смертный приговор и зачислил его к себе на службу. Сгоряча Луций распорядился снести крепостные стены ненавистного города. Их разрушили. И только после этого император сообразил, что «римлян он оставил без сильного оплота и плацдарма против варваров Понта и Азии75». Должно быть, речь идёт о сарматах Причерноморских степей и аланах, вторгавшихся в малоазийские провинции Империи. Последовало новое распоряжение уже о восстановлении Византия! Были построены крепостные стены, а заодно горожан осчастливили новым ипподромом и термами. Работы эти длились долго и завершились уже при преемнике Севера Каракалле.
С рубежа Востока и Запада вернёмся в те владения Империи, где запылала гражданская война. Клодий Альбин в силу сложившихся обстоятельств был принуждён принять вызов Севера и перейти к активному противодействию его силам. Все три подчинённых Дециму легиона переправились на континент. Вместе с ними остров покинули и многочисленные вспомогательные войска. Напомним, что общая численность легионеров и ауксилариев в Британии составляла не менее 50 000 человек. Сила, достаточно грозная! Правда, устремившись всей своей мощью за пролив, Альбин совершенно оголил оборону опасного северного рубежа римских владений в Каледонии. То ли он не опасался нападения воинственных варваров, то ли полагал, что, победив в главной войне, сумеет восстановить прежнее положение на границе, если таковое будет поколеблено. А, может, он и договорился с каледонцами о мирном их поведении на время римской междоусобицы…
Находясь в постоянном противостоянии на северных рубежах острова с опасным и сильным врагом, опасаясь частых бунтов на покорённой территории Британии, тамошние легионы обладали высокой боеспособностью, что и сказалось в первых их сражениях с войсками Севера на земле Галлии.
Навстречу пересекшим пролив легионам Альбина двинулся наместник Нижней Германии Вивий Луп. В его распоряжении были два легиона, в этой провинции традиционно располагавшиеся: I Минервы и XXII Фортуны Первородной. Луп таким образом также оголял римскую границу по Нижнему Рейну, благо она в то время была относительно спокойной.
Первое столкновение закончилось не в пользу войск Севера. Луп был разбит, легионы его понесли большие потери76. Укрепившись после победы в Галлии, разместив свой лагерь близ Лугдуна (совр. Лион), Альбин сразу же отправил своих посланников во все соседние провинции с требованием подчиниться ему и в знак этого немедленно прислать денег и продовольствие для армии77. Нашлись и такие, что послушно это выполнили, но были и те, кто не рискнул открыто признать власть того, кто в глазах многих и многих римлян выглядел нежданным претендентом на Палатин. Север-то после двух с лишним лет своего правления явно уже стал восприниматься как законный император. Потому в Галлии даже после первых успехов британских легионов далеко не все были готовы признать Альбина августом, пусть он себя таковым и провозгласил и даже стал чеканить свою монету. Да и сопротивление сторонников Севера продолжалось. Хорошо укреплённая Аугуста Треверов (совр. Трир) оказала сопротивление войскам претендента вполне успешно78. Не всегда и легионы шли за наместниками провинций, Альбина признавших. Луций Новий Руф, возглавлявший Тарраконскую или же Ближнюю Испанию, перешёл на сторону Децима, но вот стоявший там VII Сдвоенный легион сохранил верность правящему императору79. Нашёлся и удивительный бескорыстный и, главное, успешный энтузиаст дела поддержки Севера в Галлии. Некий Нумериан, по роду занятий скромный школьный учитель, обучавший мальчиков и девочек грамоте, отправился за Альпы по каким-то своим делам. Но, прибыв в провинцию, вдруг объявил себя сенатором, получившим поручение императора набирать войска. Небольшой отряд он действительно сумел создать и, более того, добился успехов в ряде нападений на солдат Альбина. Север, узнав об этом отважном партизане, решил, что это настоящий сенатор, послал ему письмо с похвалой и приказал набирать побольше войск. Нумериан действительно сумел увеличить свои силы и стал добиваться поистине поразительных успехов. Ему удалось захватить какую-то местную казну, содержавшую 70 миллионов сестерциев! Её он благополучно отправил Северу. Когда война закончилась, Нумериан предстал перед императором и честно рассказал ему, кто он такой. При этом отказался просить чего-либо в награду, хотя по всем статьям её заслуживал. Остаток жизни он скромно провёл в деревне, согласившись получить от Севера лишь небольшое пособие на повседневные нужды. Поведал эту незаурядную историю Дион Кассий80.
Военные действия между войсками Альбина и Севера велись на земле Галлии в течение всего 196 года и шли с переменным успехом81. Луцию удалось заблокировать альпийские переходы и не допустить вторжения противника в Италию. Перезимовав в Паннонии, он прибыл на театр военных действий, чтобы лично ими руководить. Здесь Северу удалось одержать первую победу над соперником в сражении близ города Тинурция82. Он принял в битве личное участие и в ходе её подвергся огромной опасности из-за падения своего коня. Легионеры подумали, что принцепс погиб, сражённый свинцовой пулей, и, как утверждает Элий Спартиан, войско уже собралось избирать нового императора83. Если это сообщение верно, то кого же войско могло объявить новым властелином Рима? Едва ли это был бы малолетний Бассиан, недавно переименованный в Марка Аврелия Антонина. Скорее всего, в случае гибели Севера речь могла бы пойти о ком-либо из видных военачальников…
А вдруг бы легионы решились покориться Альбину? Окажись свинцовая пуля, пущенная каким-то пращником, точнее и не было бы в истории Рима династии Северов!
Луций уцелел, первый успех был достигнут, но судьбу противостояния это ещё не решило. Генеральное сражение произошло близ Лугдуна. Дион Кассий приводит данные о численности обеих армий. Согласно его утверждению, в каждой из них было по 150 тысяч воинов. Вопиющее преувеличение такого их количества очевидно. Около 300 тысяч человек насчитывали все вооружённые силы Римской империи. Не исключено, что Дион Кассий, называя число 150 тысяч, имел в виду общее количество сражавшихся в битве. В последующих же редакциях его текстов численность эта была ошибочно распространена на каждую из противостоящих друг другу армий. В любом случае в битве при Лугдуне 19 февраля 197 года сошлись войска, каждое из которых исчислялось десятками тысяч.
Описание сражения нам известно со слов и Диона Кассия, и Геродиана. «… успех неоднократно склонялся то на одну, то на другую сторону»84. «Сражение было очень упорным, и исход его долго оставался неясным. Ведь британцы храбростью и кровожадностью ничуть не уступают иллирийцам; так как оба войска сражались отважно, то одинаково трудно было обратить в бегство одно из них».85 Север, как и при Тинурции, присутствовал на поле битвы. Альбин же, по утверждению Геродиана, послал армию в бой, оставшись за стенами Лугдуна. Если сравнить обоих командующих как полководцев, то Север имел больший опыт военных кампаний, Альбин же превосходил противника в практике руководства войсками на полях сражений. Ведь Луций ранее предоставлял командование в битвах подчинённым ему полководцам86.
Кровопролитное противостояние продолжалось с крайним ожесточением, но постепенно на флангах обнаружилось превосходство каждой из сторон. Если левый Альбина не выдержал натиска более опытных войск Севера, то на другой стороне складывалась противоположная ситуация. Свой правый фланг британцы хитроумно защитили умело замаскированными ямами и рвами. В ходе сражения воины Альбина, подойдя к ним вплотную, стали осыпать противника дротиками, после чего начали пятиться назад, как бы смущённые превосходящими силами северианцев. Те же, ошибочно приняв действия врага за проявление слабости, безудержно ринулись вперёд. Последствия этой непродуманной атаки подробно описал Дион Кассий: «Воины Севера, раздражённые непродолжительным наступлением противника и исполненные презрения к врагам из-за их скорого бегства, бросились на них, полагая, что расстояние между ними легко преодолимо, но, когда они достигли рвов, их постигло страшное несчастье. Дело в том, что те, кто находился в передних рядах, стали падать в ямы, как только обрушились наземные перекрытия, а те, которые следовали за ними, стали спотыкаться о тела передних, терять равновесие и проваливаться вниз. Остальные в страхе отступили назад, но внезапность поворота привела к тому, что они не только сбивали с ног друг друга, но и опрокинули тех, которые шли в арьергарде, столкнув их в глубокий овраг. Многие из них погибли, как и многие из тех, которые провалились в ямы, кони и люди вперемешку. В этой сумятице погибали и те, которые находились между рвами и оврагом, осыпаемые стрелами и метательными снарядами».87 Север, видя, что его войско терпит неудачу, во главе преторианцев ринулся спасать положение. Но его личное участие в бою второй раз подряд, если вспомнить сражение при Тинурции, едва не обернулось наихудшим исходом – гибелью главнокомандующего. Атака преторианцев провалилась. Они не только не сумели остановить легионы Альбина, но под угрозой полной гибели обратились в бегство. Левый фланг северианцев был полностью разгромлен88. Луций, как и в предыдущей битве, лишился коня и находился в смертельной опасности. Его поведение тогда историки описывают по-разному. Дион Кассий сообщает, что, видя бегство своей армии, Север, разорвав свой плащ и обнажив меч, ворвался в ряды беглецов, надеясь, что либо они, вдохновлённые отвагой императора, вновь повернутся лицом к неприятелю (такие случаи не раз бывали в римской военной истории), либо он сам честно погибнет в бою. Геродиан же рисует совсем не героическую картину. «Север бежал, упал с лошади, но, сбросив с себя императорский плащ, оставался незамеченным».89 Традиционно потеря плаща в сражении считалась для полководца величайшим позором. Конечно, избавившись от пурпурного одеяния, прямо указывавшего на него как на августа, Луций спасал свою действительно драгоценную для армии жизнь. Но то, что он сам его сбросил… Может, поэтому Дион Кассий и смягчил ситуацию90. Геродиан же репутации императора не пожалел.
Казалось, войско Альбина вот-вот будет торжествовать победу. Полный успех на левом фланге компенсировал неудачу на правом. Там войска Севера немало преуспели, ворвались даже во вражеский лагерь, где, однако, увлеклись его разграблением… А на левом фланге было повальное бегство не только легионеров, но и преторианской гвардии во главе с самим императором! Воины Альбина уже запели победные песни… Но, как, спустя шестнадцать столетий, укажет Наполеон, на войне ситуация меняется с каждой минутой… Внезапно на поле боя появилась многочисленная конница, ведомая Юлием Летом. Ход сражения повернулся в другую сторону. Нет для армии, уже торжествующей победу, худшего потрясения, чем появление свежих сил казалось уже поверженного противника! Таких примеров в мировой военной истории предостаточно. Можно вспомнить и Куликовскую битву, и Маренго, и Ватерлоо…
Итак, легионы Севера вышли победителями в сражении при Лугдуне. Цена, правда, оказалась очень высокой, на что справедливо указал Дион Кассий. «Так Север одержал победу, но римская армия потерпела тяжёлое поражение, поскольку с обеих сторон пало неисчислимое множество воинов. Это несчастье заставило скорбеть даже многих из числа победителей. Действительно, перед их взором простиралась равнина, целиком заполненная мёртвыми телами людей и коней; некоторые из них лежали изувеченные множеством ранений, словно порезанные на куски, другие, не получив ран, были завалены кучами мёртвых тел, везде было разбросано оружие и струились целые ручьи крови, которые даже стекали в реки».91 Потери победителей немногим уступали потерям побеждённых92.
Теперь вернёмся к доблестному полководцу, чьи решительные действия и обеспечили Северу победу. Прелюбопытно, что и Дион Кассий, и Геродиан вовсе не восхищаются его молодецким всесокрушающим ударом по армии Альбина, но обвиняют Юлия Лета в поведении, откровенно подлом. Он-де сам мечтал о верховной власти и дожидался гибели Севера, а лучше и Альбина заодно, чтобы оставшиеся без вождей легионы его самого признали императором93. Насколько это может соответствовать истине? Напомним, ударила-то конница, возглавляемая Летом, в самый решающий момент и блистательно выполнила возложенную на неё задачу. А то, что её предводитель затягивал атаку и приказал наступать, лишь узнав о падении августа с лошади, – обвинение и голословное, и странное. Возможно, здесь отразилась печальная судьба Юлия Лета, впоследствии казнённого по приказу императора. Единство же трактовок Диона Кассия и Геродиана можно объяснить их общим источником – автобиографией Севера. Справедливости ради отметим, что не всегда Дион Кассий доверял августейшим рассказам. Сообщая о печальной судьбе Альбина и обращении Севера с его мёртвым телом, переживший императора сенатор-историк подчеркнул, что он рассказывает не то, что было написано властителем, а то, что происходило на самом деле94.
Злосчастный цезарь и несостоявшийся август погиб вскоре после проигранной битвы. Сведения об обстоятельствах его смерти разноречивы. То ли он сам покончил с собой, осознав безысходность своего положения, то ли был убит настигшими его солдатами Севера. Мёртвое тело доставили победителю. Далее слово Диону Кассию: «Увидев тело Альбина, Север сполна насладился этим зрелищем, потешив и глаза, и язык, а затем велел отрезать ему голову и выбросить всё остальное, а голову отослал в Рим и выставил на шесте. Показав этим поступком, что у него нет никаких оснований считаться хорошим императором, он тем самым внушил и нам, и народу еще больший страх, чем тот, который вызывали его предписания, присылаемые в Рим».95
Здесь должно вспомнить, что в античном мире отказ в погребении пусть даже лютого врага почитался поступком, крайне недостойным, оскорбляющим законы богов, данные людям. Вспомним великую трагедию Софокла «Антигона»… У римлян к тому же любование телом поверженного врага было делом постыдным. Некогда Октавиан, о чём сообщает Светоний, не смог отказать себе в удовольствии взглянуть на труп Марка Антония, но, спохватившись, произнёс скорбные слова о погибшем былом соратнике. Он даже пролил «крокодильи слёзы», что описал Плутарх96. Похоже, в случае с телом Альбина с Севера слетела римская оболочка и обнажилась его пуническая сущность. А, может, он отождествил себя с Ахиллесом, грозившим Гектору перед поединком: «Тебя птицы и псы разорвут!» А победив, жестоко глумился над мёртвым троянским царевичем.
Жертвой мести Севера стал и сам Лугдун. Альбин разместил там свою ставку, заручившись поддержкой населения. И вот пришло время расплаты. Император ещё перед боем, дабы вдохновить легионеров, пообещал им отдать Лугдун на полное разграбление. Как будто это был вражеский, а не римский город, пусть и с «заблудшими» жителями! В итоге крупнейший и процветавший центр Галлии после такого погрома так и не восстановился. Единственным напоминанием о былой значимости Лугдуна остался продолживший там свою работу монетный двор. На первое же место в Галлии теперь выдвинулась Аугуста Треверов, доблестно не покорившаяся Альбину97.
Далее Север занялся расправой со сторонниками поверженного претендента, не слишком-то вникая, насколько те добровольно или же по вынужденным обстоятельствам, а то и по принуждению его поддерживали. Всё имущество их конфисковывалось. Наиболее подробные сведения о произведённых репрессиях и их последствиях поведал Элий Спартиан. «Было убито бесчисленное количество сторонников Альбина, среди них много первых лиц в Риме, много знатных женщин; имущество всех их было конфисковано и увеличило средства государственного казначейства. Одновременно было убито много видных испанцев и галлов. Наконец, он выдал воинам столько жалования, сколько не выдавал ни один из государей. Своим сыновьям он в результате этих конфискаций оставил такое состояние, какого не оставлял ни один из императоров, так как большую часть золота, имевшегося в Галлиях, Испаниях и Италии, он сделал императорской собственностью. Тогда было впервые учреждено управление частным имуществом императора».98
Многие сообщения Эллия Спартиана и других авторов жизнеописаний августов вызывают у историков справедливое недоверие. Но не все. Приведённые сведения представляются верными, поскольку уж больно они соответствуют духу правления Луция Септимия Севера.
Пребывая в Галлии, император провёл в провинции ряд назначений, вознаграждая тех, кто проявил верность ему в сложное время гражданской войны. Так Вирий Луп стал наместником Британии. Там ему пришлось сразу же столкнуться с последствиями увода Альбином всех военных сил на континент. Воинственное северо-британское племя меатов, прорвав построенный при Антонине Пие пограничный вал, стало разорять римские владения к югу от него. Действуя энергично, новый наместник сумел окружить варваров, но к тем на помощь пришли более многочисленные каледонцы, хотя с ними у Рима был мирный договор. Лупу пришлось выпустить из окружения меатов и дать им свободно вернуться на север, за пределы вала99. Но, главное, граница была восстановлена. Отличившийся в войнах и на Востоке, и на Западе Тиберий Клавдий Кандидий стал наместником Тарраконской Испании, поскольку прежний недальновидно объявил себя сторонником Альбина. В Лузитании, где также британский претендент был популярен, наместником был назначен Гай Юний Фаустин Плацид Постумиан100. В Нижнюю Германию на место Лупа пришёл Гай Валерий Пуденс. Легатом Лугдунской Галлии стал Тит Флавий Секунд Филиппиан. Тиберий Клавдий Клавдиан сменил Дакию сначала на Нижнюю Паннонию, а через пару лет возглавил Паннонию Верхнюю. Новый наместник появился и в Норике. Эта должность досталась Марку Ювентию Сурусу Прокулису101. Далее всех отправился Юлий Лет, оказавшийся в Нисибисе, на севере Месопотамии.
Закончив основные дела в провинциях, Север направился в Италию. Совершив положенные жертвоприношения богам 4–7 мая 197 года, император двинулся в путь. Шёл он к столице во главе всего войска, дабы, как язвительно замечает Геродиан, «показаться более страшным»102. В Рим Север прибыл 9 июня 197 года. Вечный Город встретил своего владыку «со всякими почестями и славословиями, неся лавровые ветви»103. Неверным было бы полагать, что эти чувства римского простонародья к правителю были неискренними. Во-первых, все действительно были рады окончанию гражданской войны. Ведь до этого её не было в Империи с далёкого-далёкого 70-го года! Новая кровавая междоусобица не могла не потрясти сознание римлян и не заставить их горячо желать возвращения привычного внутреннего мира в державе. Помимо этого все понимали, что победоносный император непременно организует пышные празднества, подарив народу самые разнообразные великолепные зрелища и, что особенно важно, устроит щедрую всенародную денежную раздачу.
Прибыв в Рим, Север взошёл на Капитолий, где в храме Юпитера совершил традиционное жертвоприношение. Затем его путь лежал на Палатин, в императорский дворец. Первые же распоряжения правителя оказались радостными для народа: в честь своих побед он устроил вожделенные раздачи денег. Но вот в сенате прибытия принцепса ожидали с немалой и совершенно обоснованной тревогой. И здесь наихудшие предположения сбылись. Его речь не доставила «отцам, внесённым в списки» ни малейшего удовольствия. Чтобы никто не сомневался в сути нового курса, Север прежде всего обозначил свои исторические приоритеты. Он восхвалил суровость и жестокость Суллы, Мария и Августа, назвав их самым надёжным способом правления. А вот божественного Юлия и Помпея Великого он осудил за милосердие, ставшее губительным для них самих104. Перейдя к конкретике, Север обрушился с упрёками на находящихся в сенате друзей Альбина. Чтобы они не сомневались в обоснованности обвинений, император продемонстрировал их тайные письма, обнаруженные им при тщательном исследовании секретных бумаг покойного цезаря105. Далее последовала речь в защиту памяти Коммода. И это было неудивительно. Ведь, когда он в 195 году провозгласил себя усыновлённым скончавшимся за полтора десятилетия до этого Марком Аврелием, а сыну своему Бассиану присвоил имя покойного августа, то Коммод стал его «братом» наравне с Вибией Аврелией, благополучно здравствовавшей дочерью императора-философа, отныне «сестрой» Севера. Теперь, в 197 году, Коммод был объявлен «божественным». И Луций с самым серьёзным видом воздал ему соответствующие почести. Зная, что сенаторы потрясены столь грандиозной переменой в его родословной, Север решил свои действия обосновать. «Если Коммод, – говорил он, – и давал повод для негодования тем, что собственноручно убивал диких зверей, то ведь и один из вас, старый консуляр, вчера и позавчера в Остии забавлялся с блудницей, изображавшей самку леопарда. Однако, о боги, он же участвовал в гладиаторских боях! А из вас разве никто не участвует? Зачем же тогда и для чего некоторые купили его щиты и те самые золотые шлемы?»106
Закончив эту издевательскую и не лишённую юмора речь, сенаторов явно удручившую, Север решил поднять им настроение, неожиданно явив не очень-то свойственное ему милосердие. Он повелел немедленно освободить 35 человек, обвинённых в поддержке Клодия Альбина. А это были люди, далеко не последние в сенате римского народа! Более того, в дальнейшем Луций никогда не попрекал их прошлым, как будто и не было никаких обвинений. Но тут же, правда, император напомнил высокому собранию, что никакой перемены с ним не произошло, что не нужно обольщаться этим нежданным великодушием. Последовало официальное обращение августа, дабы сенат тут же провёл открытое законное голосование и обрёк на смерть 29 других обвиняемых в сочувствии делу Альбина. Среди этих обречённых оказался и незадачливый претендент на Палатин Сульпициан, тесть погибшего и чтимого Севером Пертинакса107. Уж он-то чем был опасен? Высшей знатью принцепс не ограничился. Нарцисс – тот самый убийца, придушивший выжившего после отравления Коммода, был брошен на съедение львам108. Своевременная, конечно, кара – спустя четыре с половиной года после совершённого злодеяния! Но, главное же, Север вновь не нарушил данную в сенате клятву. Все 29 «преступников» были казнены согласно приговору самого сената.
Эллий Спартиан в своей биографии Луция приводит иные сведения о его расправах над представителями сенатского сословия. По его словам, без суда и следствия были убиты 42 человека. Более того, он приводит полный список жертв императорского произвола109. Таковой однако не вызывает у историков особого доверия, поскольку, как установлено, имена казнённых в значительной степени являются вымышленными110. Есть, правда, и исследователи, не сомневающиеся в подлинности сведений Элия Спартиана111. Но стоит обратить внимание на такую немаловажную деталь: Дион Кассий, участник этого исторического заседания, сообщает, что судьбу обвиняемых решило голосование. Биограф же Севера, писавший почти два столетия спустя, говорит об убийстве без суда и следствия.
Казнь 29 сенаторов и помилование 35, тем не менее, не означала прекращения преследования симпатизировавших Альбину. Здесь Север решил прибегнуть к услугам доносчика. А, чтобы его сообщениям доверяли, Луций попробовал вовлечь в это грязное дело очень известного и уважаемого в римских верхах человека – Гая Юлия Эруция Клара Вибиана. Тот был консулом в недавнем 193 году. И вот здесь у всевластного правителя нашла коса на камень. Эруций Клар категорически отказался осквернить свою репутацию презренным доносительством. Север уговаривал его, обещая полную безопасность, но гордый консуляр был непреклонен. Покончив с собой, он доказал, что предпочитает смерть бесчестию. Были ещё в Вечном Городе люди, не утратившие древней римской гордости!
Север всё-таки нашёл среди сенаторов человека, согласившегося стать доносителем. Им оказался некий Юлиан. Любопытно, что император, тем не менее, контролировал его деятельность, тщательно сверяя полученные доносы с показаниями самих обвиняемых. При этом он не обращал внимания на то, что добывались-то они под пытками!112
Но не только истреблением крамолы, как действительной, так и предполагаемой, занимался Луций во время своего пребывания в Риме после сокрушения Альбина. Он прекрасно понимал, что победой в гражданской войне обязан исключительно доблести и верности своей армии. Наполеон любил говорить: «Большие батальоны всегда правы!» Что ж, за шестнадцать столетий до него Луций Септимий Север мог столь же уверенно заявить о непререкаемой правоте больших легионов! После победы при Лугдуне он щедро одарил воинов, но это было разовое благодеяние. Потому в Риме Север занялся глубокими преобразованиями повседневной жизни римской армии. Вот что сообщает об этом Геродиан: «… воинам подарил большие деньги и разрешил многое из того, что раньше им не было позволено. А именно, он увеличил им содержание, позволил носить золотые кольца и брать себе жён. Все это прежде считалось чуждым воинскому воздержанию, так как мешало готовности к войне. Север первый поколебал твёрдый, суровый образ жизни воинов, их покорность и уважение к начальникам, готовность к трудам, дисциплину и научил их любви к деньгам, жадности, открыв путь к роскоши».113
Увеличивая солдатам жалование, Луций повторил Домициана (81–96 гг.). Последний из Флавиев на четверть увеличил выплаты легионерам114. Разрешение носить золотые кольца – знак всаднического достоинства – распространялось не на всех воинов, а только на младших офицеров (центурионов). Важным нововведением стало появление системы снабжения солдат провиантом. Ранее это были только отдельные выплаты натурой115. Но важнейшим преобразованием стало разрешение солдатам вступать в законный брак. Ранее такое позволялось только высшему командному составу (легатам) и старшим офицерам (трибунам, префектам). Перемены, очевидно, были обусловлены реальными изменениями в жизни легионеров. Это и система комплектования, и возросшее жалование, и снабжение провиантом, и сложившиеся в предшествующие десятилетия отношения солдат с женщинами116. Ведь на самом деле запрет заключения законных браков вовсе не означал невозможности для легионеров просто сожительствовать с представительницами прекрасного пола. Естественным следствием такового становилось появление солдатских детей. То обстоятельство, что в I и II веках комплектование легионов всё более и более опиралось на население тех провинций, где эти воинские соединения и стояли в своих лагерях, не могло не способствовать многочисленным внебрачным союзам с местными уроженками. Это подтверждается множеством документальных свидетельств. А вот сведений о каких-либо наказаниях солдат за внебрачное сожительство нет. Отсюда справедливым представляется вывод, что неверно говорить о запрете на брак для военнослужащих. Речь шла о непризнании такого сожительства с правовой точки зрения. Поэтому при Севере фактически произошла легализация существующего положения. Несомненно, император своими нововведениями повысил и свою популярность в армии, и привлекательность самой военной службы117.
Улучшать положение в вооружённых силах государства – дело, для властителя всегда необходимое. Для Севера это было вдвойне актуально, поскольку вести, приходившие с Востока, не оставляли сомнения, что там предстоит очередная война с Парфией.
Примечания к III главе
1 Карл Крист. История времён римских императоров. Ростов-на-Дону. 1997, Т– 2, с. 235.
2 Широкова Н.С. Римская Британия. Очерки истории и культуры. СПб., 2016, с.373.
3 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима. М., 2013, с. 450; Паркер Г. История легионов Рима. М., 2017, с. 130; Князький И.О. Адриан. М., 2020, с. 153–154.
4 Карл Крист. История времён…, Т– 2, с. 235.
5 Гиббон Эдуард. Закат и падение…, с. ш.
6 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX. (9); Евтропий. Краткая история VIII. 18. 4; Орозий. История против язычников. VII. 17. 5.
7 Геродиан. История… II. 7. (10).
8 Там же. II. 8. (2).
9 Там же. II. 8. (6).
10 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 15 (1).
11 Геродиан. История… II. 10. (1–9).
12 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 124.
13 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 15 (2).
14 Геродиан. История… II. 11. (1).
15 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 16 (2–3).
16 Элий Спартиан. Север. V. (8–9).
17 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 16 (5); 17(1–3).
18 Там же. LXXIV. 17 (4).
19 Геродиан. История… II. 12. (6).
20 Там же. II. 13. (5–9).
21 Светоний. Божественный Клавдий, ю. (1–2).
22 Гиббон Эдуард. Закат и падение…, с. 125.
23 Там же.
24 Геродиан. История… II. 14. (1).
25 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 1 (3–4).
26 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 195.
27 Элий Спартиан. Север. VII. (1–3).
28 Геродиан. История… II. 14. (3).
29 Элий Спартиан. Север. VII. (4).
30 Геродиан. История… II. 14. (4).
31 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 2 (1–2).
32 Там же. LXXV. 4 (1).
33 Там же. LXXV. 5 (1–5).
34 Элий Спартиан. Север. VIII. (7).
35 Геродиан. История… II. 14. (6). Прим. 106.
36 Там же. II. 14. (7).
37 Там же. III. 1. (4).
38 Там же. III. 1. (5).
39 Там же. III. 1. (6).
40 Элий Спартиан. Север. VIII. (16).
41 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 6 (4–6).
42 Геродиан. История… III. 2. (16).
43 Там же. III. 3. (1–3).
44 Там же. III. 3. (9).
45 Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1999, с. 172.
46 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 7 (3).
47 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима, с. 509.
48 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 7 (4).
49 Геродиан. История… III. 4. (1).
50 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 7 (7).
51 Федченков ДА. От Антонинов к Северам. Система принципата на рубеже II–III веков н. э. – Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03. Всеобщая история. Великий Новгород, 2006, с. 107–108.
52 Геродиан. История… III. 4. (6).
53 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXVI. 8.15.
54 Геродиан. История… Прим. 28.
55 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 9 (4).
56 Там же. LXXV. 9 (1–4).
57 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 162.
58 Там же.
59 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 162.
60 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 2 (2).
61 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 162.
62 Чернявский Станислав. Парфянская империя. М., 2019, с. 222.
63 Там же.
64 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 2 (4).
65 BirleyA.R. Septimus Severus…, p. 117.
66 Федченков ДА. От Антонинов к Северам…, с. 113.
67 Карл Крист. История времён…, Т– 2, с. 241.
68 Геродиан. История… III, прим. 32.
69 Светоний. Божественный Веспасиан. 25.
70 Геродиан. История… III. 5. (2).
71 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 120.
72 Геродиан. История… III. 6. (1–7).
73 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 4 (2).
74 Там же. LXXV. 14 (1–2).
75 Там же. LXXV. 14 (4).
76 Там же. LXXIV. 6 (2).
77 Геродиан. История… III. 7. (1).
78 Birley A.R. Septimus Severus…, р. 119.
79 Федченков Д.А. От Антонинов к Северам…, с. 115.
80 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 5 (1–3).
81 Элий Спартиан. Север. XI. (1).
82 Там же.
83 Там же. XI. (2).
84 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 6 (2).
85 Геродиан. История… III. 7. (2).
86 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима, с. 514; Савин НА. Военная история Римской империи от Марка Аврелия до Марка Макрина. 161–218 гг., СПб., 2023, с. 296.
87 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 6 (3–5).
88 Савин НА. Военная история Римской империи…, с. 298.
89 Геродиан. История… III. 7. (3).
90 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 6 (7).
91 Там же. LXXIV. 7 (1–2).
92 Савин НА. Военная история Римской империи…, с. 302.
93 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 6 (8); Геродиан. История… Ш. 7 (4).
94 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 7 (3).
95 Там же.
96 Светоний. Божественный Август. 17. (4); Плутарх. Антоний. LXXVIII.
97 Савин НА. Военная история Римской империи…, с. 302–303.
98 Элий Спартиан. Север. XII. (1–3).
99 Савин НА. Военная история Римской империи…, с. 305.
100 Там же, с. 304–305.
101 Там же, с. 306–309.
102 Геродиан. История… III. 8. (2).
103 Там же. III. 8. (3).
104 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 8 (1).
105 Геродиан. История… III. 8. (6).
106 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 8 (2–3).
107 Там же. LXXIV. 8 (3–4).
108 Элий Спартиан. Север. XIV. (1).
109 Там же. XIII. (1–7).
110 Рябов А.Ю. Антисенатские тенденции в политике Септимия Севера. – Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2002, с. 204; Alfoldy G. Eine Proskriptionliste in der Historia Augusta, – Bonner Historia Augusta – Colloquium. Bonn, 1970, s. 1 – 12.
111 Савин H.A. Военная история Римской империи…, с. 310–311.
112 Дион Кассий. Римская история. LXXIV. 9 (5–6).
113 Геродиан. История… III. 8. (3–5).
114 Светоний. Домициан. VII. 3.
115 Геродиан. История… III, прим. 56.
116 МахлаюкА.В., НегинА.Е. Повседневная жизнь римской армии в эпоху Империи. СПб., 2021, с. 361–362.
117 Там же, с. 369–370.
Глава IV
Война на Востоке. Последнее расширение Империи
Не успев прийти в себя после войны внутренней, Империя была вынуждена вступить во внешнюю. В Парфии внимательно следили за происходящим в римских пределах и, думается, были хорошо осведомлены, сколь значительные силы сражались на Западе. Потому было бы странно, если бы Вологез IV этим не воспользовался. Собрав большую армию, парфянский царь двинулся в Северную Месопотамию. Перед местными правителями вновь встала проблема политической ориентации. Ещё недавно проримский царь Адиабены Нарсес бодро присягнул Парфии и в благодарность за это сохранил своё монаршее положение, пусть и зависимое от могучего восточного соседа. А вот царь Осроены Абгар, не очень-то уверенный в превосходстве парфян над римлянами, предпочёл остаться верным Северу. В результате он был изгнан из своих владений, но продолжал надеяться на очередной счастливый для себя поворот судьбы, когда римляне соберутся с силами. Но вот важнейший город на северо-месопотамском театре военных действий – Нисибис стал камнем преткновения для парфянского войска. Его оборону возглавил Юлий Лет, тот самый предводитель конницы, решивший своей атакой судьбу и битвы при Лугдуне, и всей гражданской войны в пользу Севера. Надо полагать, после победы император счёл за благо направить Лета на Восток оберегать пределы державы на берегах Тигра. Учитывая стратегическую важность этого региона, где Рим ещё далеко не закрепил за собой новые земли, такое назначение надо признать разумным. И Юлий Лет доверие августа действительно немедленно оправдал. Дион Кассий сообщает, что парфяне чуть было не взяли Нисибис. Но Лет уверенно и умело организовал защиту города и выдержал осаду1. «Благодаря этому он умножил свою славу, будучи и без того замечательным человеком и в частной, и в общественной жизни, и в дни войны, и во время мира». Так оценил этого явно незаурядного полководца Дион Кассий2. Да, Юлий Лет был равно на высоте и на поле боя, и при обороне крепостных стен. Осада Нисибиса затянулась. А тут ещё внезапная смута в Парфянском царстве, принудившая её правителя отвлечься от Северной Месопотамии3.
Против Вологеза IV восстали наместники Мидии на северо-западе Ирана и Персиды – на юге страны, где некогда был центр державы Ахеменидов. Поначалу царские войска добились больших успехов. Разбив поочерёдно мидян и персов, Вологез загнал мятежников в пределы Хорасана (северо-восток Ирана). Но здесь, чрезмерно увлекшись преследованием казалось бы поверженных врагов, царская армия угодила в умело подготовленную мидянами засаду. Застигнутые врасплох парфяне бежали, постыдно бросив табуны своих лошадей. Повстанцы даже загнали правительственные войска в горы4. Вологез, однако, не пал духом. Возглавив остатки своей армии, он сумел восстановить её боеспособность, добрался до верных ему сатрапий, где пополнил свои войска и людьми, и лошадьми, и вооружением5. Мидяне рано торжествовали победу. В новом сражении они были наголову разбиты, царь преследовал их вплоть до побережья Каспия. Более того, на обратном пути он победил и персов, предводительствуемых Папаком, сыном Сасана. Если мидяне были жестоко подавлены, то с персами Вологез пошёл на компромисс. Род Сасана продолжил править в Персиде, вновь признав власть парфянского царя6.
Покончив с мятежами, Вологез IV вернулся в Адиабену. Тамошний царёк Нарсес, в очередной раз усомнившись в могуществе Парфии, в каковое он так недавно вновь поверил, отказался помогать её владыке в войне с повстанцами Мидии и Персиды. Будучи захвачен, он предстал перед Вологезом. Тот немедленно свершил над ним суд, скорый и беспощадный. По царскому повелению Нарсеса утопили в водах реки Большой Заб7.
Тем временем Север энергично готовился к новой восточной кампании. Понёсшая огромные потери в междоусобице армия пополнялась тремя новыми легионами, получившими названия I, II и III Парфянские. Это означало, что формировались они именно для войны с Парфией. У трёх новых армейских соединений была одна и та же эмблема – изображение кентавра. Согласно греческим мифам, полулюди-полулошади были родом из Македонии. Отсюда, думается, вполне оправдано мнение, что набирались легионы именно в этой провинции, а также в соседней с ней Фракии8.
Пока формировались новые соединения и подтягивались войска с западных территорий, император, не мешкая, уже в июле текущего 197 года, прибыл в Брундизий с теми силами, которыми располагал в Италии. В августе Север был уже в Сирии, куда прибыл по морю9. Общая численность римской армии, двинувшейся в очередной парфянский поход, могла насчитывать около 6о 000 человек. Костяк её составили легионы, базировавшиеся в Сирии, – IV Скифский и XVI Флавиев Стойкий. С Севером на Восток приплыли преторианцы, а также части ряда легионов с Запада10, а вновь созданные Парфянские прибыли позднее. Высшие командные посты в императорской армии занимали Гай Фульвий Плавциан, префект претория и в то время очевидный второй человек в государстве, а также военачальники Стацирий Барбар, Луций Фабий Цилон, Квинт Лолий Генциан11.
Парфянский царь столь быстрых действий от римского владыки не ожидал. Сил для решительного противостояния у него не хватало, поскольку междоусобица с Мидией и Персидой принесла немалые потери. Да и из вассальных царств ожидаемые подкрепления не прибыли. Утопление Нарсеса не обеспечило войск из Адиабены. Абгар из Осроены всё время норовил держать сторону Рима как своего более близкого и потому более грозного соседа. А армянский царь Вахаршапат II однозначно стал на сторону Севера. Здесь решающую роль могло сыграть грозное послание императора с требованием права беспрепятственного прохода легионов через армянские земли на Нисибис. Получив таковое, Вахаршапат II заодно согласился и на уступку части своих земель Риму, послал августу богатые дары, деньги и заложников. Наконец, и сам оказался в стане Севера. Возможно, именно его пребывание там, поскольку он был родственником Вологеза IV, и было воспринято как присутствие в римской армии родного брата парфянского царя12. Но это мог быть и действительно царский брат (тоже Вологез), поскольку он уже давно находился в Риме в качестве заложника. Север мог использовать его как желанного для римлян претендента на парфянский трон.
Уже в сентябре 197 года римская армия перешла через Евфрат у города Зевгмы – важнейшей и наиболее часто используемой переправы. Вологез IV не стал дожидаться подхода войск Севера и отступил из Северной Месопотамии в центральные области Парфии13. Эти его действия объяснялись, должно быть, не столько страхом перед мощью римлян, сколько необходимостью предупредить вспышки очередных мятежей в самом царстве. В итоге Север без особых усилий восстановил римское господство в Осроене и Адиабене, освободив Нисибис от осады.
Теперь пред римским владыкой стоял следующий выбор: удовлетвориться достигнутым, закрепив за Империей Северную Месопотамию, не притязая на большее, либо пойти по пути Траяна и Авидия Кассия и вторгнуться вглубь парфянских владений, где захватить Селевкию, Вавилон и столицу царства Ктесифон. На решение императора могло повлиять и то обстоятельство, что отвод Вологезом войск в центральный Иран действительно оказался своевременным, поскольку в Мидии и Персиде вновь начались волнения.
Надо сказать, что и у Рима возникли дополнительные проблемы. Нежданный мятеж случился в Палестине, где восстали иудеи вкупе с самаритянами14. Вот что пишет Павел Орозий о действиях Севера: «Попытавшихся возмутиться иудеев и самаритян он усмирил силой оружия».15 Судя по всему, римляне быстро восстановили порядок в вечно мятежной провинции. Кто непосредственно из римских военачальников руководил там усмирением, неизвестно. Но формальным командованием Север удостоил своего сына-подростка, которого совсем недавно сенат по представлению императора официально утвердил цезарем при августе-отце. Об этом свидетельствует решение «отцов, внесённых в списки» назначить Марку Аврелию Антонину триумф за победу над Иудеей16. Более того, великодушный Луций разрешил юнцу таковой даже отпраздновать, несмотря на необычность ситуации. До сих пор дети полководцев могли принимать участие в триумфах с отцами, но самостоятельно таковых никогда не удостаивались! Север несправедливо лишил этой чести того, кто на деле, руководя военными действиями, подавил бунт.
Любопытно, что тем же 197 годом датируется надпись, обнаруженная предположительно на стене синагоги в Кацыоне в Восточной Галилее: «Во здравие наших господ императоров-цезарей Луция Септимия Севера Пия Пертинакса и его сыновей Марка Аврелия Антонина и Луция Септимия Геты, согласно обету, данному евреями».17 Должно быть, не вся территория Палестины была охвачена этим восстанием, оно носило скорее локальный характер, затронув лишь те земли, где иудейское население непосредственно соседствовало с самаритянами. Последние, как известно, в своё время поддержали Нигера. А поскольку, по настоянию Плавциана, в Сирии Север возобновил преследование нигерианцев, то это и могло подтолкнуть его бывших сторонников на бунт.
Военная экспедиция под номинальным началом юного цезаря Марка Аврелия Антонина, недавнего Бассиана и будущего Каракаллы, похоже, не отвлекла слишком много сил. Потому в ноябре 197 года начался большой поход римских легионов вглубь Месопотамии. При этом Север наверняка опирался на предварительно изученный опыт «лучшего из принцепсов» Траяна. Тогда римский император, зная о безлесности ландшафта центра и юга этой страны, замечательно использовал лесные богатства её севера. Благодаря изобилию там древесины были построены многочисленные суда, позволившие римским войскам успешно наступать вниз по рекам, производя ошеломляющее впечатление на противника18.
Север преуспел в своём походе никак не менее знаменитого предшественника. Вот как повествует об этом Дион Кассий: «Благодаря тому, что построенные корабли были чрезвычайно быстроходными и хорошо снаряжёнными (а лес вдоль Евфрата и окрестная местность предоставили Северу запас древесины в полном изобилии), он быстро взял Селевкию и Вавилон, оставленные противником. Захватив вслед за тем Ктесифон, Север позволил воинам разграбить его целиком и перебил множество людей, а живыми взял в плен около ста тысяч человек. Впрочем, он не стал ни преследовать Вологеза, ни даже удерживать Ктесифон, но ушел оттуда, словно единственной целью его похода было разграбление этого города. Такое решение объяснялось отчасти незнанием местности, отчасти недостатком припасов. Возвращался он другим путём, поскольку древесина и фураж для скота, обнаруженные на прежней дороге, были израсходованы полностью. Из его воинов одни шли пешком вверх по течению Тигра, а другие плыли на судах».19
В походе легионы достигли того места, где Траян приказал вырыть канал для соединения течений Тигра и Евфрата, дабы римские корабли могли быстро переходить из одной реки в другую. Тогда его остановило сообщение о том, что у Евфрата более высокое течение, потому в случае соединения с Тигром он был бы обезвожен. Интересно, что Аммиан Марцеллин сообщает и об усилиях Севера по прорытию этого канала. Описывая поход императора Юлиана Апостата (361–363 гг.) против персов в 363 году, историк свидетельствует: «Отсюда мы пришли к каналу, называющемуся Наармальха, что значит «Царская река»; в данное время в нём не было воды. Траян и после него Север с большими усилиями прокопали здесь большой канал, чтобы, пропустив воду из Евфрата в Тигр, открыть путь для судов».20
Захватив Ктесифон, Север не стал искушать судьбу. Может, он и мечтал повторить достижение Траяна, двинувшись далее на юг от парфянской столицы. Тогда римлянам удалось, подчинив себе небольшое царство Месену, достичь побережья Персидского залива. Оценка своих реальных возможностей заставила Луция двинуться в обратный путь. Потому и удовлетворился он в Ктесифоне принятием титула «Парфянский Величайший» 28 января 198 года. День этот был выбран наверняка не случайно, ибо ровно сто лет назад императором Рима стал Марк Ульпий Траян, лавры которого, конечно же, не давали Северу покоя. Теперь же он заслуженно поставил себя в один ряд с «наилучшим принцепсом»21. Более того, во время похода Траяна парфянский царь находился в глубинных землях страны, где шла жестокая междоусобица, чем римляне замечательно воспользовались. А вот при приближении легионов Севера к столице Парфии Вологез бежал22. При этом брошенными оказались все его сокровища и сама царская казна. Добыча Траяна была много скромнее – трон царя царей. Геродиан, однако, не был склонен высоко оценивать военные достижения Луция: «Так Север, скорее случайно, чем по обдуманному плану прославил себя победой над парфянами».23
Настоящие проблемы в восточном походе начались у римской армии во время возвращения из Ктесифона. Север вознамерился реально превзойти Траяна, овладев крепостью Хатра и подчинив себе арабское племя атренов. Напомним, что попытка Марка Ульпия овладеть этой твердыней в самом конце его похода провалилась, а сам император под её стенами тяжко заболел. И хворь эта оказалась последней в его жизни…
Вот здесь-то Север и совершил непростительную для опытного полководца ошибку, явно недооценив силу противника, а мощь своих войск соответственно переоценив. Прежде всего, Хатра была неплохо защищена самой природой, поскольку её окрестности были почти безводны, лишены не только леса, но и подножного корма для лошадей. Потому осаждать её крупными воинскими соединениями было невозможно. Главное же, как пишет Геродиан: «Город находился на вершине очень высокой горы, окружён мощной и крепкой стеной и был силён своими многочисленными лучниками».24 Надо помнить и следующее: царь атренов Барсемия был союзником врага Севера Песцения Нигера. После поражения его войска при Иссе и утверждения северианцев в Сирии многие воины побеждённого претендента, спасаясь от жестокостей победителей, укрылись в Хатре. Барсемия радушно принял их, высоко ценя римские военные знания и практический опыт их применения, особенно искусство изготовления разного рода метательных орудий, крайне необходимых при обороне крепостей25. Потому-то непродуманная попытка Севера без серьёзной подготовки, а с ходу, с налёта взять Хатру с треском провалилась. По свидетельству Диона Кассия, самонадеянный император «… ничего не добился; напротив, его осадные машины были сожжены, погибло множество воинов, и очень многие были ранены. Отступив оттуда, Север снялся с лагеря и двинулся дальше».26
Геродиан также описывает неудачу римской армии под Хатрой, рисуя весьма красочную картину. «Войско Севера прилагало все усилия, пытаясь взять город; всевозможные машины придвигались к стенам, были использованы все виды осады. Однако атрены храбро защищались и, пуская сверху стрелы и бросая камни, причиняли войску Севера немалый урон. Наполняя глиняные сосуды крылатыми мелкими ядовитыми тварями, они бросали их на осаждающих. Попадая на лицо или на какую-либо другую обнажённую часть тела, эти существа, незаметно впиваясь, наносили опасные раны. Многие воины были не в состоянии переносить душного воздуха и палящего солнца и умирали от болезней, так что большая часть войска погибла по этой причине, а не от руки врагов. От всего перечисленного войско теряло мужество; осада ничуть не продвигалась вперёд, и римляне больше терпели вреда, чем наносили его. Север, чтобы не пропала вся армия, ничего не добившись, отвёл назад войско, крайне недовольное тем, что осада не привела к желаемому результату».27
Геродиан, правда, сообщает об единственной попытке римлян взять Хатру – в 197 году, в первой половине похода. Тогда легионы шли на юг к Селевкии, Вавилону и Ктесифону. У Диона Кассия же описаны две осады крепости атренов, обе в 198 году. Первая, когда Север возвращался после захвата и разграбления парфянской столицы, и вторая, когда он вознамерился взять реванш за полный провал предыдущей попытки. Думается, справедливо согласиться с мнением, что славный сенатор-историк явно ближе к истине. Неудача под Хатрой неизбежно принуждала Севера реваншироваться. Ведь там были сосредоточены огромные богатства – результат успешной транзитной торговли и приношений в тамошний знаменитый храм Солнца. Нельзя недооценивать и стратегического значения крепости, поскольку она замыкала цепь укреплённых городов на рубежах Рима и Парфии. Пальмира, Дура-Европос, Нисибис и Зингара были в руках римлян. Исключением являлась одна Хатра28. Неудача сильно раздосадовала не только самого Севера, но и армию. К поражениям в этой кампании воины не привыкли. Потому случившееся воспринималось иными остро. Так один из трибунов преторианских когорт Юлий Крисп не ко времени, хотя и к месту процитировал стихи из «Энеиды» Вергилия. Там речь шла о войне между латинами и рутулами. Царь последних Турн должен был жениться на Лавинии, дочери царя Латина. Но тот, заключив союз с Энеем, решил выдать дочь за троянца. Вспыхнула жестокая война, в которой лились потоки крови. И вот один из рутулов посетовал, что приходится погибать лишь ради того, чтобы Турн сделал Лавинию своей женой. Слова Криспа услышал преторианец по имени Валерий, прекрасно уловивший смысл цитирования. Понимая, что Северу крепко не понравится отождествление его с Турном, солдат донёс на трибуна. Думается, он не сомневался, что знатока Вергилия за такую многозначительную цитату ждёт расправа, а вот доносчика – благодарность, возможно, и повышение… Как тут не вспомнить язвительное рассуждение Александра Дюма-отца: «… ведь в армии, начиная с дивизионных генералов, желающих смерти главнокомандующему, и кончая солдатами, жаждущими смерти капрала, всякий желает чьей-нибудь смерти».29
Север доносу немедленно внял. Трибун – поклонник «Энеиды» был казнён. В своём отношении к доносительству Луций совершенно не походил ни на Траяна, ни на Пертинакса, чьё имя он себе присвоил и пока ещё носил. Валерий же, погубив своим доносом Криспа, действительно не прогадал. Император сразу же его повысил в трибуны как раз на место казнённого. И такая форма ротации офицерского состава была, оказывается, присуща воссозданной Севером преторианской гвардии!
Злосчастный трибун стал не единственной жертвой императора в эти дни. Север предал смерти также и Юлия Лета. Причина этой расправы чётко изложена Дионом Кассием. Лет погиб лишь потому, что «был гордым человеком и пользовался любовью воинов, которые поговаривали, что не пойдут в поход, иначе как под командой Лета. Вину за это убийство, которому не было никакого явного основания, кроме зависти, Север свалил на воинов, якобы дерзнувших совершить это против его воли».30
Луций даже не затруднил себя изобретением сколь-либо правдоподобной версии расправы над заслуженным полководцем. Какие такие легионеры посмели бы убить столь почитаемого в армии военачальника? В неудаче под Хатрой была вина только самого императора, что не вызывало сомнений. А растущая в таких условиях популярность Лета должно быть сильно уязвила самозваного пасынка Марка Аврелия. Про того, кстати, говорили, что он не приказывал, а только допустил, чтобы убили Авидия Кассия, мятежного полководца, провозгласившего в 175 ГОДУ в Сирии себя императором. Север же погубил военачальника, и близко не собиравшегося восставать против него. Убийство Лета – один из самых подлых и бесчеловечных поступков Луция. Без доблести того принцепс бесславно мог погибнуть при Лугдуне. Тогда история Рима вообще бы не знала династии Северов. Должно заметить следующее: приказать в ходе войны, да ещё с учётом предстоящей повторной осады могучей крепости, убить, возможно, лучшего из своих военачальников – очень неразумный поступок со стороны главнокомандующего.
К новому походу на Хатру Север готовился очень серьёзно. Учитывая трудности пребывания армии в ненаселённой и неплодородной местности, окружавшей крепость, император велел взять с собой как можно больший запас продовольствия. Пришлось восстанавливать и парк уничтоженных арабами осадных машин. Уцелели лишь самые мощные из них, построенные под руководством славного последователя Архимеда Приска31.
Новая осада, тем не менее, шла никак не успешнее предыдущей. Вокруг римского лагеря действовали летучие отряды арабской конницы, стремительно и яростно нападавшие на фуражиров и истреблявшие их. Более того, с помощью бывших солдат Песцения Нигера атрены сумели наладить свою крепостную артиллерию. У них на вооружении оказалось немалое число дальнобойных метательных машин. Стрельбу они вели так, что, согласно сообщению Диона Кассия, «попадали даже в телохранителей Севера, причём одним выстрелом они метали сразу по два снаряда, и в стрельбе участвовало одновременно множество рук и множество метательных приспособлений. Однако больше вреда они причинили осаждающим, когда те подступили к стенам, и еще намного больше, когда они обрушили некий участок стены, ибо атрены стали метать на них, помимо прочего, ту самую асфальтовую нефть, о которой у меня написано выше, и сожгли дотла осадные машины и всех воинов, на которых попало это вещество. Север созерцал всё это с высокого помоста».32
Тем не менее, несмотря на все трудности осады и отчаянное сопротивление арабов, римлянам удалось с помощью стенобитных машин (конструкции, должно быть, Приска) обрушить часть стены Хатры. Обрадованные долгожданным успехом легионеры готовы были решительной атакой проложить себе дорогу в крепость, сломив сопротивление её защитников. Такой счастливый поворот битвы представлялся римлянам реальным… Но Север, что было для всех и неожиданно и удивительно, приказал дать сигнал к отступлению. Громкие звуки медных букцин дошли до слуха штурмующих. Римская дисциплина взяла верх над жаждой достичь уже близкой, казалось, победы… Падения Хатры не состоялось. Чем же был вызван сей престранный приказ? Наиболее распространённая версия вытекает из рассказа об этом событии Диона Кассия. Север опасался упустить ожидаемую огромную добычу. Ворвавшиеся в город легионеры, разъярённые тяжёлой осадой и кровопролитным штурмом, разграбили бы всё подчистую. Сомневаться в этом не приходилось. Север же желал, чтобы всё поступило в императорскую казну помимо тех выплат, непременно щедрых, которыми он бы вознаградил доблесть победителей. Император почему-то вообразил, что царь Барсемий, осознав безнадёжность сопротивления после обрушения части стены, решится на сдачу города. Население же, скорее всего, его поддержит, опасаясь, что в ином случае всем грозит либо погибель, либо обращение в рабство. Но властелин Рима крепко просчитался. День, который, как он полагал, станет последним в осаде Хатры, все его надежды перечеркнул. Завоёванное с большими потерями преимущество было утрачено. Арабы сумели за ночь восстановить разрушенную часть стены. Когда при свете дня легионеры увидели заделанный пролом и полных решимости и далее защищать свой город атренов, дух римской армии оказался смущён.
Недовольство воинов было серьёзным. Не желая нести новые жестокие потери, солдаты прибывших с Запада легионов отказались повиноваться императору33. Дион Кассий приводит такой случай: «Из-за этого Север оказался в настолько затруднительном положении, что в ответ на обещание одного из своих приближённых захватить город, если император даст ему всего пятьсот пятьдесят воинов – уроженцев Европы, при этом не подвергая опасности остальную часть войска, Север произнёс во всеуслышание: «А откуда мне взять столько воинов?» Он имел в виду, что воины ему не повинуются».34 На настроение легионов влияли и сама природа, и климат местности, которые тяжелее всего переносили именно уроженцы Запада. Геродиан утверждает, что от душного воздуха, палящего солнца и всякого рода хворей в римской армии погибло больше людей, чем в боях с арабами35. Идя по пути Траяна, войско Севера испытало под Хатрой такую же жестокую неудачу. Любопытно, что Траян тогда чудом избежал гибели, когда при обстреле со стен крепости был убит находившийся рядом с ним телохранитель. Мы помним, что и Север лишился охранников из-за вражеских снарядов. Возможно, именно из-за неудачи под Хатрой и отказался Луций от назначенного ему сенатом триумфа, сославшись на болезнь ног, не позволявшую ему стоять на колеснице36. Впрочем, он и на самом деле страдал подагрой.
В Нисибис Север вернулся летом 198 года. После взятия Ктесифона его старший сын цезарь Бассиан Антонин был возвышен до статуса августа, став на тринадцатом году жизни соправителем отца. Его младший брат Гета на одиннадцатом году стал цезарем. Вторая неудача под Хатрой после двадцатидневной осады, конечно, испортила настроение и императору, и всей армии, но не перечеркнула общей победы над Парфией. Дабы закрепить этот достигнутый успех надо было усилить инфраструктуру Северной Месопотамии, во многом недостаточную для обороны римских владений37. Потому вторую половину 198-го и весь 199-ый год Север занимался обустройством пограничных вновь обретённых в текущей войне земель38. На них были размещены прибывшие из Европы новые легионы: в Зингаре (между непокорной Хатрой и Нисибисом) – I Парфянский, а к западу от него (между Нисибисом и Эдессой) – III Парфянский39. Тем временем Вологез IV, понимая, что не располагает достаточными силами для отвоевания у римлян Северной Месопотамии, согласился наличное свидание с императором. В результате стороны договорились о мире, согласно которому Осроена и Адиабена с Эдессой и Нисибисом перешли под власть Империи. Префектом новой провинции Месопотамия был назначен представитель всаднического сословия. Парфию Север утешил признанием её прав на часть Восточной Армении40. В честь победного мира и приобретения новой провинции, ставшей, кстати, последним завоеванием Римской империи, высокого титула удостоилась и супруга императора Юлия Домна. Отныне она стала «mater castrorum» – «матерью лагерей». Это означало, что в каждом военном лагере рядом с изображением императора должно было находиться и изображение императрицы41. Ничего принципиально нового в этом не было, поскольку ещё в 174 году такой титул был присвоен супруге Марка Аврелия Фаустине после победы в Паннонии римлян над сарматами, где императрица сопровождала супруга.
Пожалование «матери лагерей» Юлии Домне, прибывшей к мужу в армию, имело важное и политическое, и идеологическое значение. Сам Север объявил себя усыновлённым Марком Аврелием. Потому, приравняв супругу к жене своего «усыновителя», он формально поставил её даже выше себя… Впрочем, собственное родство с угасшей условной династией Антонинов Луций продлил далеко вглубь времён, доведя таковое до Нервы (96–98 гг.)42. Новый титул особо подчёркивал связь императрицы с армией – главной опорой воцарившейся в Риме династии Северов. Изображения Юлии Домны появились на монетах. На одной из них – золотой чеканки 201 года – Луций был изображён как Солнце, а она как Луна. Оба светила символизировали вечность Империи43. Столь настойчивое внедрение семьи Севера в родство с Антонинами обуславливалось и вполне конкретным материальным интересом. В своё время Антонин Пий вывел личное имущество принцепса из наследственного родового имущества – патримония. Оно заметно возросло при Коммоде за счёт многочисленных, прежде всего, земельных конфискаций у репрессированных. Вводя себя и жену с детьми в число Антонинов, Север присваивал своей семье право распоряжаться личным имуществом былых властелинов Империи. А таковое было столь велико, что ещё при Коммоде появился специальный чиновник – прокуратор личного имущества императора44.
Итак, Север в сопровождении Юлии Домны и старшего сына, помимо звания августа получившего трибунские полномочия как соправитель императора, а также второго своего сына – цезаря Геты, также обретшего имя Антонин, объезжал и вновь завоёванные, и старые владения Империи. Надо отдать Луцию должное как умелому и заботливому правителю. Интересы государства в его делах здесь решительно возобладали. Совсем недавно он жестоко покарал Антиохию за стойкую поддержку Гая Песцения Нигера. Теперь же победитель Парфии великодушно вернул исторически главному городу Сирии и автономию, и все прежние права, дарованные Антиохии его предшественниками45. В отношении экономически важной Пальмиры Север продолжил дело императора Адриана. Тот возвысил её в ранг «свободной общины» – «civitas libera». Теперь Пальмира получила статус римской колонии, вследствие чего в ней появились народное собрание и городской совет – структуры развитого самоуправления46. Такое внимание неудивительно: Пальмира была центром торговли Империи с зарубежным Востоком, включая Индию. Кроме того, будучи сильной крепостью, этот город являлся важной опорой римских рубежей, защищая провинцию Сирия от набегов воинственных арабских племён из глубин Аравии.
Укрепив Северную Месопотамию и облагодетельствовав Сирию, Север с семьёй прибыл в Палестину. Так со времён Третьей Иудейской войны (132–135 гг.) по повелению Адриана именовались земли, бывшие ранее Израилем и Иудеей. Посетив Элию Капитолину (как римляне переименовали Иерусалим), Север в храме Юпитера принёс жертву в память Помпея Великого, первого римского полководца, овладевшего этим городом в 63 г. до н. э. Тогда знаменитый военачальник потряс иудеев тем, что в сопровождении своей свиты вошёл в «святая святых» Иерусалимского Храма, куда только раз в год имели право доступа лишь иудейские первосвященники. Впрочем, доблестный Помпей менее всего думал о чувствах верующих. Он просто удовлетворил своё любопытство. Теперь на месте храма Соломона стоял языческий храм Юпитера, в котором побывал наш герой.
Пребывание в Палестине Север не ограничил лишь почитанием Помпея Великого. Поскольку совсем недавно самаритяне и примкнувшие к ним иудеи подняли бунт, то император счёл необходимым укрепить римскую власть в этом вечно неспокойном регионе. Самария стала Себастой – колонией, населённой римскими гражданами, прежде всего, ветеранами легионов. Подобное поселение здесь было и ранее, со времён Первой Иудейской войны (66–73 гг.). Тогда оно возникло по распоряжению Тита Флавия. Возможно, колония пострадала во время бунта, а Север её восстановил47. Далее путь семьи императора лежал в Египет. И там он отдал дань памяти Гнея Помпея, посетив его могилу в Пелусии. Гробница полководца была восстановлена по повелению императора Адриана48.
Напомним, выступая в 193 году в сенате, Север порицал как Юлия Цезаря, так и Помпея Великого за их чрезмерное великодушие, погубившее и того, и другого. Но теперь он отдавал должное военным заслугам великого полководца, чьи завоевания и создали Римский Восток.
Далее Луций посетил Нижний Египет49. Там он побывал в Мемфисе – древней столице фараонов, осмотрел пирамиды, сфинкса, а также статую царя эфиопов Мемнона, бывшего, согласно мифу, сыном Тритона – брата царя Трои Приама и богини утренней зари Эос. Созерцание этой знаменитой скульптуры огорчило Севера. Строго говоря, с Мемноном греки отождествили гигантское изображение фараона Аменхотепа III (1381–1351 гг. до н. э.). В 27 году до н. э. статуя пострадала от сильнейшего землетрясения. После этого колосс вдруг «заговорил». Во время утренней зари он стал издавать звуки, похожие на звон лопнувшей струны. Так «царь эфиопов» разговаривал вплоть до 130 года, когда Египет посетил Адриан. Любознательный император, с удовольствием послушав голос Мемнона, огорчился, увидев на статуе многочисленные трещины. Из самых лучших побуждений он повелел отреставрировать каменного колосса. Волю правителя исполнили. Но эффект оказался неожиданным: Мемнон навсегда замолчал. Оказывается, «разговаривала» статуя именно благодаря трещинам, когда при появлении солнечных лучей происходила резкая перемена температуры воздуха. Увы, Север Мемнона так и не услышал…
В древней стране Луций побывал не только ради достопримечательностей. Как и ранее в Сирии, он осуществил в Египте важные административные преобразования. По повелению принцепса в Александрии был возрождён городской совет, некогда, в далёком 30 г. до н. э., упразднённый Октавианом. Тогда последняя эллинистическая держава превратилась в римскую провинцию. Теперь же сходные с Александрией права получили и другие крупные города Египта, немедленно возродившие своё самоуправление. Не стоит сомневаться, что египтяне и прежде всего греки, ибо они составляли основу городского населения Египта, были счастливы и благословляли визит августа в провинцию. Нельзя не заметить следующее: отменяя былые распоряжения Октавиана, ущемлявшие права египетских городов, Север в то же время привлекал на сторону власти эллинское население провинции, поскольку именно оно здесь оказывалось в выигрыше. А политика опоры на греков на римском Востоке в целом восходит как раз к правлению Августа. То есть, продолжая курс основателя Принципата, Север одновременно исправлял его не самые справедливые решения.
В Нижнем Египте при знакомстве с главными его достопримечательностями император не мог не уделить внимание и гробнице Александра Македонского. Посетив её, Север повелел усыпальницу величайшего завоевателя запереть, дабы никто больше не мог созерцать его мумифицированное тело50. Далее путь принцепса лежал вверх по течению Нила. Здесь он также постарался осмотреть достопримечательности этой части Египта вплоть до границы с Эфиопией. Но побывать на южных рубежах провинции ему не удалось, поскольку там разразилась чума51. Следует помнить, что Эфиопией в те времена назывались земли, с юга прилегающие к Египту, именовавшиеся также в разные эпохи Нубией или страной Куш. На территории современных Эфиопии, Эритреи и Южного Йемена с I по X век располагалось царство Аксум. Основатель манихейства Мани (216–277 гг.) числил эту страну как одну из четырёх великих держав наряду с Римской империей, Сасанидской Персией и Китаем52.
Покидая Египед, Луций увёз с собой великое множество книг, хранившихся в этой древней стране с давних времён. Вот что сообщает Дион Кассий: «Он тщательно изучал всё, даже то, что держалось в тайне, поскольку был таким человеком, который не оставит без внимания ни одной вещи – ни человеческой, ни божественной. Потому-то он и забрал все книги, содержащие какие-то тайные знания, по крайней мере, те, которые смог найти, почти изо всех святилищ страны, чтобы никто больше не мог прочитать, что в них написано».53 Понятно, что верхушка египетского жречества, тамошние интеллектуалы и мистики были огорчены таким проявлением императорской любви к собиранию книг. Но в большинстве своём египтяне должны были быть довольны пребыванием властелина Рима в провинции. Север ведь уделил большое внимание общему состоянию дел в Египте, добросовестно ознакомился с многочисленными петициями на своё имя и дал на них целый ряд ответов. Провинция получила от принцепса право быть представленной в римском сенате. Центры египетских номов также получили теперь городские формы организации и, соответственно, право иметь свои городские советы54. Так что пребывание Луция Септимия Севера на берегах Нила оставило положительный след в жизни одной из богатейших провинций Империи. Сам он поездкой был совершенно удовлетворён и «… всегда говорил, что это путешествие было для него приятным – и благодаря поклонению богу Серапису, и благодаря ознакомлению с древностями, и благодаря необычности животного мира и природы этих мест; действительно, он тщательно осмотрел и Мемфис, и статую Мемнона, и пирамиды, и лабиринт».55
Далее Север направился в Сирию. Проезжая через Палестину, император в начале 202 года издал указ, касавшийся иудеев и христиан. В полном виде он не сохранился, а церковные историки этот эдикт ни единым словом не упоминают56. Упоминание об указе Севера имеется только у Элия Спартиана: «Под страхом тяжёлого наказания он запретил обращение в иудейство; то же он установил в отношении христиан».57 Традиционно этот указ рассматривается как враждебный христианам, поскольку очевидно, что издан он был не для того, чтобы выразить им благоволение римского государства58. Более того, иные христианские авторы пусть о самом эдикте и не упоминают, но уверенно пишут о Севере как о гонителе почитателей Христа. Павел Орозий называет Септимия виновником жестокого преследования церкви: «Он подверг христиан пятому после Нерона гонению, и многие святые в разных провинциях приняли венец мученичества».59 Предшествующие гонители – Нерон, Домициан, Траян, Марк Аврелий. Евсевий сообщает о большом числе репрессий: «Когда Север начал преследовать Церковь, то борцы за веру повсюду завершили своё блистательное свидетельство мученичеством. Особенно много было их в Александрии; из Египта и со всей Фиваиды сюда, словно на огромную арену, отправлены были борцы Божии; с великим терпением и мужеством переносили они разные пытки, умерли разной смертью – и возложены на них венцы от Господа. В числе их был и почитаемый отцом Оригена Леонид, которого обезглавили; он оставил совсем юного сына. С каким усердием стал с этого времени юноша заниматься словом Божиим..».60
Иные исследователи связывают с именем Луция ряд вспышек преследований христиан в Империи в 202–203 гг. в Египте, в провинции Африка и даже, возможно, в Галлии61. В то же время в исторической науке присутствует и другое мнение о роли самого Севера в бедствиях, обрушившихся тогда на почитателей Христа. Сомнения в оценке этого императора как гонителя высказываются ещё с XIX века62. К настоящему времени можно говорить о наличии целой историографии по этой проблеме63. Анализируя известное содержание указа императора 202 года, нельзя не обратить внимание на то, что он касается, прежде всего, иудеев. Более того, другими распоряжениями Север предписал римским гражданам не допускать обрезания по иудейскому обряду своих рабов. Врачи, обрезавшие рабов, пожелавших перейти в иудаизм, наказывались смертной казнью. Самих же обрезанных должно было ссылать навечно. Если же сами иудеи обрезали приобретённых рабов-иноплеменников, то они подлежали смерти, в лучшем случае, ссылке. В то же время иудеи, не уличённые в прозелитизме, могли занимать общественные должности и исполнять обязанности, не противоречащие их религии64. Более того, согласно Элию Спартиану, Север «утвердил много прав за жителями Палестины»65. Известно, что с иудейского населения были сняты тяжёлые подати и прочие ограничения, наложенные ранее за поддержку Нигера66. Так что в отношении иудеев в политике Луция суровость сочеталась с толерантностью, а порой и с милосердием.
Каковы же причины пусть и локального, но гонения на христиан?67 Если обратиться к первоисточникам, то Спартиан вообще ничего не говорит о гонениях на них, но только о запрете христианам заниматься прозелитизмом. Орозий в самых общих чертах сообщает о преследовании церкви. О действительных расправах, причём очень жестоких пишет Евсевий. При этом, говоря о жертвах гонений в Египте на десятом году царствования Севера, он связывает произошедшее с личностью тогдашнего наместника провинции Квинта Меция Лета. Именно при нём «… В разгоревшемся пожаре преследования на очень многих возложен был венец»68. Историк церкви подробно перечисляет тех, кто погиб в это время в Александрии. В большинстве своём они принадлежали к школе, которую после гибели своего отца Леонида возглавил Ориген. Первый из тех мучеников носил имя Плутарх. «… вторым мучеником был Серен, Оригенов ученик, в огне доказавший принятую им веру. Третьим мучеником из того же училища был Ираклид, за ним четвёртым – Ирон; первый ещё оглашаемый, второй только что крещённый: обоих обезглавили. Из этой же школы вышел пятый борец за веру – Серен второй. После пыток, перенесённых им с величайшим терпением, он был, говорят, обезглавлен. Ираида, из оглашаемых, получив, по его словам, Крещение в огне, скончалась. Седьмым среди мучеников посчитаем Василида. Он вел на казнь знаменитую Потамиэну, которую до сих пор славят ее земляки. Охраняя девственную чистоту своего тела, оборонялась она от влюблённых (а была в полном расцвете душевной и телесной красоты) и после страшных пыток – от одного рассказа о них содрогаешься – была сожжена вместе с матерью Маркеллой».69
Василид, воин, сопровождавший Потамиэну на казнь, сам был христианином и обращался с несчастной жалостливо и доброжелательно. Спустя некоторое время он открыто признался товарищам по оружию, что исповедует Христа. Те отправили его к судье, и по приговору Василид был обезглавлен. Далее Евсевий сообщает, что в Александрии многим Потамиэна являлась во сне и звала к Христу, после чего люди «толпами обращались к вере Христовой»70. Получается, что репрессии только поспособствовали росту числа приверженцев христианства в крупнейшем городе Египта.
Из числа других мучеников времени правления Септимия Севера наиболее известны Ириней Лионский, а также погибшие 7 марта 203 года в Карфагене на арене цирка Перпетуя, Фелицитата и их единоверцы71. Но вот насколько эти события действительно связаны с действием указа Севера от 202 года? Реальных оснований для такой трактовки нет. Преследования христиан в Римской империи шли давно. Траян в своём знаменитом ответе легату Вифинии писателю Плинию Младшему чётко определил, что доказанный христианин подлежит наказанию. А поскольку Плиний ранее сообщал императору, что изобличённых христиан он уже отправлял на казнь, то очевидно, какое именно наказание имел в виду «лучший из принцепсов»72. Потому на местах наместники и судьи могли обрекать христиан на казнь, руководствуясь сложившейся практикой, возможно, и знанием позиции Траяна по этому вопросу, и, наконец, общественным мнением, каковое, к последователям Христа в Империи было, увы, не очень-то милосердным. Потому соизволения Луция Септимия Севера для каких-либо репрессий в отношении церкви вовсе не требовалось. Более того, если обратиться к личности самого императора и особенностям его религиозных взглядов, то он мало похож на человека, склонного к конфессиональной нетерпимости. Север – не забудем о его пунических корнях – вряд ли мог быть так же предан римской религии, как идейный гонитель христиан Марк Аврелий. Как справедливо подчеркнул ещё во второй половине XIX века видный французский историк раннего христианства Бенжамен Обэ, Север «по самой природе своей не был фанатически предан грекоримскому полетеизму». Сам дух религиозного космополитизма, заметный с начала правления Луция, мог быть благоприятным и для христианства. С таким подходом солидаризовался крупнейший русский исследователь эпохи гонений на христиан в Римской империи А.П. Лебедев73. Особо должно отметить свидетельство Тертуллиана, современника правления Севера. В третьей главе своего труда «К Скапуле», написанном в 212 году, этот христианский автор приводит такой эпизод времени осады Византия. Когда капитуляция стала неизбежной, предводитель осаждённых префект Цецилий Капелла, обращаясь к христианскому населению города, сказал: «Возрадуйтесь, христиане!»74 То есть, он был уверен, что почитатели Христа полагают Севера доброжелательным к их вере. Не забудем и следующее. При дворе Коммода его возлюбленная Марция вовсе не была единственной христианкой. Её единоверцев было немало среди тех, кто занимал на Палатине различные невысокие должности. В дальнейшем эти люди служили уже при дворе Севера75. Известно сообщение, что кормилицей у Бассиана, старшего сына императора, была христианка76. Это свидетельство Тертуллиана считает вполне достоверным современный исследователь религиозной политики Септимия Севера А.В. Каргальцев77. Отсюда вполне допустимым представляется мнение, что император мог, по меньшей мере, не испытывать к христианам враждебности78. В то же время гонение в Африке совпало с пребыванием зимой 202–203 годов Севера с обоими сыновьями в его родном Лептисе. Отсюда делается вывод, что Луций не мог не знать о произошедшем в марте 203 года на арене Карфагена… Однако, всё же нет оснований говорить о системном гонении на христиан по всей Империи при Септимии Севере. Если бы преследования почитателей Христа действительно проводились согласно эдикту императора, то они никак не ограничились бы лишь Александрией и Карфагеном, да и длились годы. Ничего подобного мы не наблюдаем. Более того, гонителем Севера назвал Евсевий, причём спустя более века после ухода императора из жизни. Тертулиан же (16о – 220 гг.), то есть, современник династии, настойчив в подчёркивании спокойного отношения Луция к христианам79. Да, преследования их были, но никак не связанные с эдиктом Севера о запрете прозелитизма апологетам этой веры80.
Кого же надо рассматривать в качестве инициаторов гонений христианской церкви в те годы? В первую очередь, это легаты провинций. Не случайно Евсевий непосредственным виновником расправ в Александрии называет наместника Египта Лета, как уже указывалось. Возможно, сходная ситуация была и в Карфагене. Порой наместники руководствовались и личными причинами. Так легат Каппадокии Клавдий Иеронимиан разгневался на христиан, поскольку те обратили в свою веру его жену. Нельзя не учитывать, что наместники часто шли на поводу у общественного мнения в своих провинциях. Толпа в амфитеатрах обычно наслаждалась мучениями несчастных, даже некоторое сочувствие к ним от страшной участи жертвы не избавляло. Обратимся к подробностям уже упомянутой расправы над Перпетуей и Фелицитатой в Карфагене. «Их раздели донага, обмотали сетью и в таком виде бросили на арену. Даже толпа пришла в ужас, когда увидела, что одна была совсем ещё юной девушкой, а другая – женщиной, у которой капало молоко с грудей после деторождения. И тогда их вернули и одели в туники без поясов». Британский исследователь Адриан Голдсуорти дал этому язвительный комментарий: «Судя по всему, толпа была счастлива видеть, как одетые женщины были затоптаны насмерть».81
Север, несмотря на отсутствие личной антипатии к христианам, не собирался препятствовать жестоким расправам над ними. Ведь прекращение гонений Марка Аврелия при Коммоде не означало правового отказа от их практики. Да, Север был безжалостен к любому, от кого чувствовал угрозу своей личной власти82. Но вот именно со стороны христианской церкви ощущал ли он таковую? Едва ли, поскольку её в ту эпоху ещё не было. В этом Луция вполне могла убеждать личная практика общения с христианами при дворе.
Есть, правда, версия, что император изменил своё раннее терпимое отношение к почитателям Христа под влиянием префекта Плавциана и знаменитого юриста Ульпиана83. Но первоисточниками она не подтверждается. Согласно сообщению Диона Кассия, Плавциан действительно пользовался необъятным расположением Севера немало лет84. Но вот оснований полагать, что префект использовал таковое, дабы учинить гонения на христиан, нет. Ульпиан, великий юрист, глубоко уважаемый Луцием, выдвинулся на первые роли только в 205 году, став ассесором при новом префекте претория Папиниане, и потому никак не мог влиять на императора в 202–203 годах, когда и случились преследования.
Вернёмся же к пребыванию Севера в родной ему Африке, где его сопровождали супруга Юлия Домна, оба сына и префект претория Гай Фульвий Плавциан. Одной из целей этой поездки предполагалась инспекция созданной в 198 году под руководством Квинта Анисция Фауста провинции Нумидия85. Надо отдать должное доблестному легату: за пять лет он заметно укрепил позиции Империи на её рубежах в Северной Африке. Появились создаваемые с 198 года новые крепости, где стояли римские гарнизоны. В 202 году воинами III Августова легиона в 250 километрах от Лептиса был построен форт Голайя86. Вдохновлённый успехами римского оружия на столь родной и близкой ему африканской земле Север решился лично возглавить поход в Сахару, во владения гарамантов. Этот многочисленный народ, населявший земли к югу от римских владений в основном на территории современной центральной и южной Ливии, уже не раз доставлял римлянам неприятности87. В 2о г. до н. э. бывший оруженосец Гая Юлия Цезаря, ставший при Августе проконсулом провинции Африка, Луций Корнелий Бальб сумел нанести гарамантам серьёзное поражение и овладел их главным городом Гарамой. Добыча была столь велика, что Бальб с соизволения принцепса пожертвовал из неё крупную сумму на украшение Города и ради славы в потомстве88. Далее славный проконсул 27 марта 19 года до н. э. справил заслуженный триумф, ставший последним подобным торжеством, которого удостоился человек, не принадлежавший к императорской семье89.
Но закрепиться тогда на этой земле римлянам не удалось. В правление Тиберия (14–37 гг.), с 17 по 24 год гараманты приняли активное участие в восстании ряда североафриканских племён против римского владычества под предводительством Такфарината. В 70 году Веспасиан был вынужден направить в Африку III Августов легион для противодействия прежде всего гарамантам. В правление Домициана (81–96 гг.) в 89 году царь Мрсис подписал договор с римским императором, согласно которому гараманты обязались охранять торговые пути через Сахару. Они даже позволили римлянам разместить свой гарнизон в Гараме. Но во II веке эти обитатели пустыни восстановили свою независимость. И вот в начале III века в поход против гарамантов отправился Север. Как пишет об этом Аврелий Виктор, «в Триполитании, в городе которой Лептисе он родился, он даже отогнал воинственные племена»90. Считается, что во многом в кампаниях 198–202 годов Фауста и 203 года самого Севера успех римлян обеспечило использование верблюжьей конницы. Для закрепления достигнутого была построена сеть небольших укреплений числом до двух тысяч. Эти успехи в Африке наряду с созданием провинции Месопотамия стали последними завоеваниями Империи.
Для провинции Африка визит семьи императора принес немалые хорошие перемены. Крупнейший её город Карфаген обрёл италийское право, благодаря чему был избавлен от провинциального налогообложения. Такие же права получили Утика и родной Луцию Лептис Магна. Ряд других городов удостоился статуса муниципия. Возможно, такое великодушие Севера связано и с тем, что, прибыв в провинцию впервые за годы своего правления, он обнаружил там едва ли не на каждом шагу свои статуи и посвящения себе, а также изображения Юлии Домны и своих сыновей. Не была забыта и первая жена императора Пакция Марциана, также уроженка Лептиса91. Наверняка с удовольствием принцепс лицезрел скульптуры своих родителей и деда. Ну как было не оценить такую преданность земляков и не вознаградить их самым великодушным образом? В провинции началось активное строительство. Понятно, что особое внимание было уделено Лептису. Там вырос новый форум, появилось много общественных зданий, через всё городское пространство проложили широкий – 18 метров – проспект с колоннадой по обеим сторонам. Не зря земляки императора воздвигли к его приезду триумфальную арку в Лептисе.
Примечания к IV главе
1 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 9 (1).
2 Там же. LXXV. 9 (2).
3 Чернявский Станислав. Парфянская империя, с. 222.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же, с. 222–223.
7 Там же, с. 223.
8 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима, с. 517.
9 Савин Н.А. Военная история…, с. 316.
10 Там же, с. 316–317.
11 Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство, с. 164.
12 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 9 (3).
13 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима, с. 517
14 Орозий. История против язычников. VII. 17. 3.
15 Там же.
16 Элий Спартиан. Север. XIV. (7); Birley A.R. Septimus Severus…, р. 135; Pummer R. Early Christian Autors on Samaritan and Samaritanism: Texts, Translations and Commentary. Tubingen, 2002, p. 185.
17 Галилея в эпоху Мишны. – Евреи в Римской империи в эпоху Талмуда (период Мишны с 70 по 220 гг. н. э.). Книга 1. Сборник цитат. Тель-Авив, 1999.
18 Дион Кассий. Римская история. LXVIII. 26 (2–3).
19 Там же. LXXV. 9 (3–5).
20 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV. 6.1.
21 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 130.
22 Геродиан. История… III. 9. (11).
23 Там же. III. 9. (12).
24 Там же. III. 9. (4).
25 Савин Н.А. Военная история…, с. 320.
26 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 10 (1).
27 Геродиан. История… III. 9. (4–7).
28 Савин НА. Военная история…, с. 320–321.
29 Александр Дюма. Трилогия о мушкетёрах. Том первый. М., 2009, с. 578.
30 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 10 (2).
31 Там же. LXXV. 11 (2).
32 Там же. LXXV. и (3–4).
33 Там же. LXXV. 12 (5).
34 Там же.
35 Геродиан. История… III. 9. (3).
36 Элий Спартиан. Север. XVI. (3–6).
37 Савин Н.А. Военная история…, с. 325.
38 Там же.
39 Там же, с. 331.
40 Геродиан. История… III. Прим. 77.
41 Колосовская Ю.К. Римский провинциальный город, его идеология и культура. – Культура Древнего Рима. Т. II, М., 1985, с. 193–194.
42 Corpus inscriptionum Latinarum. VI 954.1032.
43 Карл Крист. История времён…, Т– 2, с. 256.
44 Там же, с. 257–258.
45 Савин НА. Военная история…, с. 334.
46 Там же.
47 Там же, с. 337.
48 Дион Кассий. Римская история. IXIX. 11 (2–3); Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана. XIV. (6).
49 Lewis N. When Did Septimins Severus Reach Egipt? – Historia, 1979, Bd.28. Hft. 2. P. 253–254.
50 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 13 (2).
51 Там же. LXXV. 13 (1).
52 Munro-Hay Stuart. Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity. Edinburgh, 1991, p. 17.
53 Дион Кассий. Римская история. LXXV. 13 (2).
54 Карл Крист. История времён…, Т– 2, с. 251.
55 Элий Спартиан. Север. XVII. (4).
56 Лебедев АН. Эпоха гонений на христиан, с. 226.
57 Элий Спартиан. Север. XVII. (1).
58 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан, с. 227.
59 Орозий. История против язычников. VII. 17. 4.
60 Евсевий. Церковная история. VI. 1.
61 Каргалъцев А.В. Религиозная политика Септимия Севера в свете антихристианских гонений. – Религия. Церковь. Общество. 2018. Выпуск VII, с. 157.
62 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан, с. 221.
63 Обширная библиография исследований, посвящённых религиозной политике Септимия Севера, приводится А.В. Каргальцевым в его статье. См. ссылку 373, с. 157.
64 Савин НА. Военная история…, с. 337.
65 Элий Спартиан. Север. XVII. (1).
66 Савин НА. Военная история…, с. 337.
67 Каргальцев А.В. Религиозная политика…, с. 156.
68 Евсевий. Церковная история. VI. 2. (2).
69 Там же. VI. 4 (1–3); 5 (1)
70 Там же. VI. 5 (5–7)
71 Бахметьева А.Н. Полная история Христианской церкви. М., 2008, с. 222–224; Федченков С.А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность. Сергиев Посад. 1917, с. 550.
72 Плиний Младший. Письма. Переписка с Траяном. 96. (8).
73 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан, с. 220–221.
74 Тертуллиан. К Скапуле. 3.
75 Aube В. Les chretiens dans L’Empire romain de la fin des Antonins an milieu du III ciecle (180–249). Paris, 1881, p. 91–92; Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан, с. 223.
76 Тертуллиан. К Скапуле. 4.
77 Каргальцев А.В. Религиозная политика…, с. 161.
78 Daguer-Gagey A. Septime Severe, un empereur persecuteur des chretiens? – Revue de’etudes augustiniennes et patrisiques. 2001. F. 47. P. 4–5.
79 Каргальцев А.В. Религиозная политика…, с. 165; Тертуллиан. К Скапуле. 4–5.
80 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан, с. 223; Каргальцев А.В. Религиозная политика…, с. 166.
81 Адриан Голдсуорти. Падение Запада…, с. 159 – 16о.
82 Каргальцев А.В. Религиозная политика…, с. 164.
83 Кравчук Александр. Галерея…, с. 421; Савин НА. Военная история…, с. 347.
84 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 14 (6).
85 Геродиан. История… III. Прим. 81.
86 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 152.
87 Буданова В.П. Варварский мир эпохи великого переселения народов. М., 2000, с. 189.
88 Тацит. Анналы. III. 72.
89 Мэри Бирд. SPQR. История Древнего Рима. М., 2017, с. 459.
90 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX. (19).
91 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 149.
Глава V
Север как преобразователь Римской державы
Вернёмся в 202 год, когда Луций Септимий Север с невероятной пышностью отметил своё возвращение в Рим из восточного похода, а также юбилей царствования. Свидетельствует Дион Кассий: «По случаю десятилетия своего правления Север раздал всем жителям Рима, получающим хлеб, и преторианцам по столько золотых монет, сколько лет он находился у власти. Он чрезвычайно гордился этой щедростью, ибо и в самом деле ни один император никогда не одаривал такой суммой всех сразу; в целом же на этот подарок было израсходовано пятьдесят миллионов денариев. Была отпразднована и свадьба Антонина, сына Севера, и Плавтиллы, дочери Плавциана; последний дал дочери такое приданое, которого хватило бы и пятидесяти женщинам царского рода. Мы видели эти дары, когда их несли через форум во дворец. Мы также приняли участие в свадебном пиршестве, устроенном отчасти с царственной, отчасти с варварской роскошью, и получили в подарок не только всевозможные обычные кушанья, но также сырое мясо и живых животных разного рода. В это же время имели место и всевозможные игры по случаю возвращения и десятилетия власти Севера, а также его побед».1
Невиданные зрелища длились все семь дней празднества, начавшегося 9 июня, когда и отмечалась годовщина вступления Луция в Рим. Победы в Парфии (о злосчастной осаде Хатры как-то все позабыли) должно было увековечить архитектурно. Потому в следующем – 203 году начались работы по строительству триумфальной арки, завершившиеся в 205 году. Место выбрали в начале Форума, между ростральными колонами, которые увековечили торжество римлян над пунами на море, и курией – местом заседания сената. Впрочем, по мнению выдающегося специалиста по античному искусству Г.И. Соколова, этот выбор оказался не самым удачным. Как отметил он насчёт арки, «три пролёта её – центральный и соединявшиеся с ним поперечными проходами более низкие боковые, не обрамляли, однако, таких значительных и красивых видов, как арка Тита или арка Адриана в Афинах»2. Второй Флавий увенчал свой триумфальный въезд в конце Форума близ Палатина. Арка же третьего Антонина была поставлена на дороге, которая вела из старого города Тесея в новые Афины – город Адриана.
Надпись на арке Севера гласит: «Императору Цезарю Луцию Септимию Северу, сыну Марка, благочестивому и упорному августу, Отцу отечества, парфянскому аравийскому и парфянскому адиабенскому, Великому понтифику, одиннадцать раз ставшему народным трибуном, провозглашённому в одиннадцатый раз императором, трижды консулу, проконсулу – и императору Цезарю Марку Аврелию Антонину, сыну Луция, благочестивому и счастливому августу, шесть раз ставшему народным трибуном, консулу, проконсулу, Отцу отечества, – наилучшим и наимогущественным властителям – за спасение государства и расширение владений римского народа, и за их выдающиеся заслуги на родине и вне её – сенат и римский народ» (установили этот монумент)».3
На надписи хорошо заметна переделка четвёртой строки, посвящённой второму сыну императора Гете. Она была уничтожена в 212 году, когда наследник и преемник Севера его старший сын Бассиан Антонин Каракалла убил младшего брата в присутствии их матери вдовствующей императрицы Юлии Домны. Острые на язык римляне тогда немедленно дали императору прозвище «Гетский». Это как бы означало «победитель гетов», с которыми Каракалла и близко не воевал. Истребление имени попортило надпись, но не избавило Бассиана от «славы» братоубийцы.
Вернёмся к расположению арки на Форуме. Место для её строительства выбрал сам Север. Руководствовался он вовсе не видами, из неё открывавшимися. Арка была воздвигнута в историческом сердце политической жизни Рима со времён ещё республиканских. С одной стороны – ростры, где располагалась трибуна, с которой выступали на протяжении столетий знаменитые римские ораторы и политики. С другой – курия, где заседал сенат римского народа. Перед аркой – часть Форума, именовавшаяся комициум, место собрания трибутных плебейских комиций, имевших с 287 г. до н. э. высшие законодательные права. В 14 году, правда, Тиберий упразднил комиции за очевидной ненадобностью, передав их и без того уже фиктивные права сенату. Таким образом Луций Септимий Север увековечил свои военные победы на Востоке в самом престижном месте столицы Империи.
Основание арки, к которому вели ступени с площади Форума, было возведено из известкового туфа, добывавшегося близ Рима в Тибуре и потому именовавшегося «тибурским камнем». Сама арка была отделана белым мрамором. Её высота около 21 метра, ширина 23 метра. Всё строение богато украсили скульптурами. Над основным пролётом – фигура Марса, над боковыми – изображения других божеств4. На перемычках – летящие Виктории, на вершине арки изначально стояла скульптурная квадрига, на которой находились статуи императора и его сыновей. Она, увы, не сохранилась. По всей арке располагалось множество рельефов, основные находились на четырёх больших панелях. Они посвящены войнам Рима против Парфии под водительством Септимия Севера. На первом рельефе отражены события 195 года. Множество фигур изображают сражение, в котором император, победив царей Осроены и Адиабены, утвердился в Нисибисе. Содержание второй панели трактуется по-разному. Наиболее распространённая версия – показ соглашения между римским императором и городом-крепостью Хатра. Север здесь держит копьё остриём вниз, что не предполагает воинственных намерений, а его противник стоит, не склонившись, значит, отказывается от подчинения. Третья группа рельефов отразила события главной кампании римлян против Парфии, когда легионы глубоко вторглись в Месопотамию. Солдаты атакуют город Селевкию, воины противника бегут, а горожане сдаются в плен. Последний четвёртый рельеф показывает взятие столицы Парфянского царства Ктесифона. Среди изображений выделяется большая осадная машина, творение, надо понимать, славного Приска. Присутствует на панели в правом верхнем углу и сам властелин Рима Север с сыновьями. Повествование сюжетных рельефов развёртывается от боковой левой части арки далее направо. Такое расположение естественным образом вызывало желание не пройти сквозь триумфальное сооружение, но обойти его, дабы насладиться созерцанием всех скульптурных сцен5.
Имя архитектора – создателя арки Севера до нас не дошло, но высочайший уровень его мастерства сомнению не подлежит. Она была воздвигнута в короткий срок, замечательно прочной и высокохудожественной. Присутствует, правда, и критический взгляд на это произведение римского архитектурного искусства. Указывается, что в рельефах арки развивались художественные тенденции, появившиеся ранее в декоре колонны Марка Аврелия. Фигуры на рельефах кажутся изваянными наспех, с небрежением. Они сходны друг с другом, хотя и сохранили некоторое индивидуальное своеобразие6.
Ко времени правления Септимия Севера относится и сооружение монументальной арки, состоявшей из большого свода в центре и небольших сводов с обеих сторон в Пальмире. В отличие от той, что на Форуме, где многочисленные барельефы передают батальные сцены, на этой видна витиеватая резьба, изображающая различные растения и геометрические орнаменты. К несчастью, в текущем XXI веке, в 2015 году, эта арка была разрушена исламистскими фанатиками. Ныне ведётся её реставрация.
Римлянам недолго пришлось дожидаться новых великолепных торжеств, дарованных им Септимием Севером. В ночь с 31 мая на 1 июня 204 года в столице Империи открылись очередные Секулярные игры. Они проводились с республиканских времён примерно раз в столетие, дабы никто не мог увидеть их и насладиться удивительным зрелищем дважды. Луций отнёсся к проведению этого столь редкого, согласно его исторической сути, праздника в Риме самым серьёзным образом. Его великолепие, пышность должны были лишний раз показать квиритам истинно римский дух правления новой династии, воцарившейся на Палатине. Был, естественно, очередной раз подчёркнут семейный характер высшей власти. Императору традиционно сопутствовали его супруга августа Юлия Домна и оба сына. Второго июня на Капитолии, у храма Юпитера, состоялось торжественное жертвоприношение главному римскому божеству. Затем был жертвенный пир, в котором вместе с императорской семьёй участвовали префект претория Гай Фульвий Плавциан и коллегия из пятнадцати жрецов. Далее все перешли во внутреннее святилище храма супруги Юпитера богини Юноны. Здесь присутствовали также две весталки и сто девять матрон сенатского и всаднического сословий, имевших детей. Император зачитал обращение к Юноне о сохранении и возрастании власти римского народа, о его вечном единстве, победах и силе, о защите римского народа и его легионов, о целостности и дальнейшем расширении Римского государства. После этого все приняли участие в селлитернии Юноне – жертвенном пире, где среди пирующих пребывала и сама богиня, в данном случае её изображение. На следующий день селлитерний проходил с изображениями Юноны и Дианы. 4 июня селитернии продолжились. Для их проведения зарезали молодых свиней и употребили жареное мясо на жертвенном пиру. Он завершился традиционными плясками в честь богинь.
Население Рима в эти дни наслаждалось щедрыми угощениями, раздачами и, само собой, зрелищами самих игр. Простому народу столицы было за что любить своего императора. Жестокость Септимий Север проявлял исключительно к представителям верхов общества, поскольку только оттуда могла исходить угроза его власти.
Следующий 205 год принёс сокрушительный поворот в жизни и судьбе, казалось бы, прочнее прочного утвердившегося во властных верхах Гая Фульвия Плавциана. Префект претория, с 200 года после устранения своего коллеги Квинта Эмилия Сатурнина единственное высшее должностное лицо в Империи, подчинённое только принцепсу, с 202 года тесть Бассиана Антонина – старшего сына Севера… Кто мог предположить бесславный финал такой карьеры?
В римской истории фаворитизм нельзя назвать традиционным явлением. Но временами на Палатине близ царственных персон появлялись и сильные временщики. В первую очередь, здесь памятен Сеян, префект претория при Тиберии. Но его могущество, выглядевшее непоколебимым, в октябре 31 года внезапно оборвалось. Фаворит был казнён, тело его стало предметом глумления римской толпы. Ювенал в своей X сатире увековечил эту омерзительную сцену. При Калигуле (37–41 гг.) временщиком попытался стать преемник Сеяна Макрон. Но опасавшийся его Гай Цезарь достаточно быстро от наглеца избавился. А вот при Клавдии (41–54 гг.) государственная власть оказалась в руках «великих либертинов», среди которых наиболее известны имена Каллиста, Нарцисса, Палланта, Полибия, Посида. Надо отдать им должное: при них государственная машина Империи работала без сбоев. Что особо удивительно, несмотря на замечательную склонность вольноотпущенников-управителей к казнокрадству, имперские финансы восстановились после нелепых трат и безумств Калигулы. При Нероне (54–68 гг.) к временщикам можно отнести Тигеллина, на совести которого немало кровавых дел, включая первую в истории расправу над христианами. При Флавиях фаворитизм, казалось, ушёл в прошлое. В эпоху Антонинов это явление также не наблюдалось. При Коммоде, правда, иные префекты претория пытались сыграть роли новых Сеянов, но и финал их жизни был соответствующим, о чём уже говорилось.
И вот при Луцие Септимии Севере, вне всякого сомнения, сильном незаурядном и уверенном в себе правителе, в Империи появился не просто временщик, но человек, о котором Дион Кассий прямо пишет, «что Плавциан обладал таким могуществом, какого не было ни у одного из людей, и имел власть, достигающую императорской»7. Историк-сенатор винит в сложившейся ситуации принцепса: «Самым главным виновником этого был Север, который до такой степени уступил Плавциану все полномочия, что тот играл роль императора, а сам Север – роль префекта».8 Обращаясь ко времени правления Тиберия, Дион Кассий приходит к выводу, что Плавциан был могущественнее Сеяна. Здесь можно вспомнить, что преемник Августа отверг попытку префекта претория породниться с семьёй принцепса, когда Сеян возжелал стать мужем Ливии Ливиллы, племянницы Тиберия. Север же, как мы знаем, благосклонно отнесся к браку дочери Плавциана со своим старшим сыном. Кем же был Гай Фульвий Плавциан, сделавший такую умопомрачительную карьеру, не имевшую подобия в более чем двухсотлетней истории Принципата?
Родом префект был из Лептиса. Уже это могло способствовать расположению Луция к земляку. Более того, родовое имя позволяет предполагать родственную связь Плавциана с Севером по женской линии, поскольку мать императора звалась Фульвия Пия. Точная дата рождения будущего временщика неизвестна, но, скорее всего, он был примерно одного возраста с Луцием. Согласно Геродиану, Плавциан своим возвышением был обязан исключительно Северу. При этом он не указывает сколь-либо серьёзных причин такого расположения властителя к подданному. «Про него, человека в ранней молодости незначительного, некоторые говорили, что он подвергся изгнанию, уличённый в заговорах и многих преступлениях. Он был соотечественником Севера (ведь он тоже – ливиец): одни утверждали, что он – родственник Севера, а другие злословили, утверждая, что он в цветущем возрасте был его любовником. Как бы то ни было, Север, выведя его из низкого и незначительного состояния, обеспечил ему высокое положение, наградил его необыкновенным богатством, даря ему имения казнённых, и чуть ли не делил с ним власть. Злоупотребляя властью, Плавтиан в своих действиях не останавливался ни перед жестокостью, ни перед насилием и стал, наконец, страшнее всех когда-либо властвовавших. Соединив его дочь со своим сыном, Север соединялся с ним домами».9
Насколько сообщение Геродиана соответствует действительности, сказать сложно. Писал-то историк, уже ведая судьбу фаворита, и потому едва ли мог стремиться к объективности. При этом, однако, он подчёркивал разницу между утверждениями одних и злословием других. Первое относится к объяснению покровительства Плавциану как к земляку и родственнику Севера, а злословие представляет императора и временщика любовниками. Напомним, что традиционный римский взгляд на однополые связи радикально отличался от эллинского. Светоний однозначно относил таковые к «несмываемому позору»10. Траян, кстати, предпочитавший для любовных утех мальчиков, публично всегда демонстрировал крепкую истинно римскую семью, в чём ему добросовестно помогала императрица Плотина. Безусловно следующее: доверие Севера к Плавциану было исключительным. Хотя подлинные причины такового остаются скрытыми.
Поразительно, что не только сам префект возгордился выше всех разумных пределов, но и окружение его держало себя в соответствии с амбициями патрона. Дион Кассий приводит два исторических анекдота, подтверждающих это. «Так, однажды, когда Север навестил его, лежавшего больным в Тианах, воины, охранявшие Плавциана, не позволили свите Севера войти в дом вслед за ним. И человек, устанавливавший порядок рассмотрения судебных дел императором, как-то в ответ на приказание Севера, в тот момент ничем не занятого, представить на его рассмотрение какое-нибудь дело, отказался выполнить распоряжение, заявив: «Я не могу этого сделать, пока мне не прикажет Плавциан».11
Стоит ли удивляться, что нашёлся человек, осмелившийся даже обратиться к Плавциану как к «четвёртому цезарю», ставя его напрямую в один ряд с Севером и его сыновьями. Думается, Дион Кассий прав, виня в таком повороте дел в Империи самого Севера. Ведь славный сенатор был не просто современником, но и свидетелем всего, творившегося на Палатине. Потому и стоит отнестись с доверием к его сообщениям. «Действительно, помимо прочего, Плавциан в точности знал всё, что Север говорил и делал, а в тайны самого Плавциана не был посвящён никто. Север обручил его дочь со своим сыном, обойдя вниманием множество девушек из почтенных семейств, назначил его консулом и чуть ли не молил богов о том, чтобы Плавциан стал его преемником на посту императора, а однажды даже написал следующее: «Я люблю этого человека так, что молюсь о том, чтобы умереть раньше него».12
Благорасположение и благодушие Севера настолько вскружили голову префекту претория, что он позволял себе в походах располагаться в более удобных домах, нежели сам император и имел стол, более обильный и роскошный, чем у него. В конце концов, такая беспредельная дерзость не могла не вызвать у окружения принцепса, и прежде всего у членов его семьи, крайнего раздражения. Таковое неизбежно перешло в возмущение. Потому процесс этот мог завершиться только самым решительным образом.
Отношения с августейшей семьёй у Плавциана ухудшались шаг за шагом. Причем префект своими поступками сам этому способствовал. Он не скрывал откровенно враждебного отношения к самой августе. «Её он ненавидел до глубины души и никогда не упускал случая серьёзно опорочить её перед Севером, проводя расследования её проступков и допрашивая под пыткой женщин знатного рода. Из-за этого она начала заниматься философией и проводила целые дни среди софистов. А сам Плавциан превратился в самого распущенного из людей. Он изрыгал съеденное прямо на пиру, когда уже не мог переваривать пищу из-за обилия снеди и вина; шла дурная слава и о том, как он использовал девушек и юношей, но при этом собственной жене он никогда не позволял ни видеть кого-либо, ни появляться перед кем-либо, даже перед Севером и Юлией, не говоря уже о прочих».13 Об этом сообщает Дион Кассий.
Похоже, Плавциан настойчиво информировал Севера о супружеской неверности августы. Разговоров об этом на Палатине хватало… Более того, столь обидная репутация Юлии Домны пережила века и тысячелетие… Вот, что писал о ней знаменитый представитель французской новеллистики эпохи Возрождения Брантом (1540–1614 гг.) в книге «Галантные дамы»: «Также и император Север не озаботился бесчестием жены своей, известной беспутным поведением; он и не помышлял исправлять её, говоря, что, коли её зовут Юлией, надобно прощать ей, ибо во все времена женщины, носившие это имя, были бесстыдными развратницами и наставляли рога мужьям; да и сам я знаю многих дам, наречённых теми или иными именами (которые здесь называть не стану из уважения к нашей святой религии) и из-за этих имён приверженных распутству и трудящихся передком куда усерднее других, иначе зовущихся; ни одна из них не избежала этой участи».14
Если предположить, что рассказ правдив, то Север имел в виду известных распутниц дочь и внучку Августа. В своей же терпимости к Юлии Домне Луций мог опираться на пример почитаемого им Пертинакса, который «так же милостиво обошёлся со своей женой Флавией Сульпицианою: он не прогонял и не возвращал её, но, зная, что она занимается любовью с певцом и музыкантом и увлечена им, предоставил ей полную свободу действий, сам же взял в любовницы двоюродную сестру свою, некую Корнифацию»15.
Если дела в семье Севера обстояли подобным образом, то, пороча августу, Плавциан не мог настроить императора против неё. А вот добиться от Юлии Домны глубокой ненависти к себе вполне. Гнев же августейшей особы рано или поздно становится смертельно опасным для подданного, сколь бы высоко он не взлетел. Более того, здесь дело не ограничивалось одной императрицей. Брак Плавциллы и Бассиана Антонина, который должен был укрепить влияние префекта претория на Палатине, введя его в семью принцепса, привёл к совершенно обратному результату. Свидетельствует Геродиан: «Не слишком довольный браком и женившись более по принуждению, чем по своей воле, Антонин враждебно относился и к молодой женщине, и к её отцу: не делил с ней ни ложа, ни трапезы, чувствовал к ней отвращение и часто грозил убить и её, и её отца, как только станет единственным обладателем власти. Обо всем этом молодая женщина постоянно рассказывала отцу, сообщая ему о ненависти её мужа к браку и возбуждая гнев отца».16
Плавциан, крайне раздражённый рассказами дочери, мог сколько угодно гневаться на старшего сына императора, но такой недруг был ему явно не по зубам. Север решительно готовил Бассиана в преемники. Возведение его в цезари, а затем в августы недвусмысленно об этом свидетельствовало. Потому такая вражда не могла разрешиться каким-либо примирением сторон, а неизбежно должна была закончиться гибелью одного из её участников. А, учитывая, что за сыном стояла августа-мать, вопрос о победителе не стоял. Дело было только во времени. И оно работало не на префекта претория. Да и отношения Севера с Плавцианом не всегда были ровными. Однажды, это было, скорее всего, в 201 году, Луций обратил внимание на дерзкое помещение среди статуй членов императорской семьи изваяний префекта. Раздражённый этим принцепс повелел отправить их на переплавку. Это известие стремительно распространилось по просторам Империи и вызвало неподдельную радость во многих провинциях. Слава у Плавциана была недоброй. Он «отличился» на Востоке, преследуя сторонников Нигера, а заодно и тех, кого можно было обвинить в сочувствии к павшему претенденту на Палатин. Всем было очевидно, что такое усердие префекта носило не столько верноподданнический, сколько корыстный характер, поскольку собственность казнённых присваивалась им. Сохранился папирус, содержащий сведения о том, что Плавциан расследовал дела чиновников, обвиняемых в злоупотреблениях. Это также не добавило ему симпатии в глазах имперской бюрократии. Короче, в ряде городов стали уничтожать изображения префекта, полагая, что немилость императора к статуям это и прямое предвестие падения и погибели самого ненавистного многим и многим временщика. Все помнили, что не раз в римской истории сносились статуи низвергнутых фаворитов, утративших доверие властителей. Это было делом обыкновенным. Но, чтобы приказано было отправить на переплавку статуи действующего временщика, сохраняющего свою высокую должность, такого не то, что не было, а и вообразить было невозможно. И вот на тебе! Те, кто переусердствовал в истреблении изображений Плавциана, оказались перед судом. Одним из таковых стал наместник Сардинии Раций Констант. Любопытно, что в суде над ним участвовал сенатор Кассий Дион Коккейян. Он же и засвидетельствовал этот процесс и слова обвинителя, заявившего, «что скорее небо упадёт на землю, чем Плавциан хоть в чём-то будет ущемлён Севером»17. Более того, сам император горячо подтвердил судьям: «Невозможно, чтобы мною Плавциану был причинён даже малейший вред»18. Но, как известно: «Никогда не говори «никогда»!
С каждым годом статус Плавциана становился всё выше и выше. С 200 года он остался единственным префектом претория, в 202 году был введён в состав сената в ранге консуляра, а год спустя стал консулом совместно со старшим братом императора Публием Септимием Гетой. Последнее событие оказалось роковой гранью в судьбе Гая Фульвия Плавциана. Но пока ещё все казалось благополучным… В народе же многие почитали префекта как первое лицо в державе, обладающее большей властью, нежели сама августейшая семья. Однажды, будучи в цирке, Плавциан плохо выглядел, был бледен, не мог скрыть дрожь, скорее всего, по причине нездоровья. Это заметили, и люди, бывшие с ним по соседству, стали выкрикивать: «Что ты дрожишь? Почему бледность? У тебя в руках же больше, чем у троих!»19 Очень оскорбительные слова для Севера. Ведь «трое» – это он сам и его сыновья… Вот так репутация властелина Рима в народе! Но для самого Плавциана такое мнение народное было смертельно опасным. Ни один правитель не простит даже лучшему другу подобного унижения…
Мы не знаем, как именно у Севера вызревало решение избавиться от зарвавшегося фаворита. Здесь опять вспоминается далёкий 31 год, когда громом среди ясного неба для римлян стали падение и казнь Сеяна. Подлинные причины своего внезапного гнева Тиберий унёс с собой в могилу. Что же касается описываемых событий, то, со слов Диона Кассия, нам известно, что очень важную роль здесь сыграл как раз коллега Плавциана по консулату. Публий Септимий Гета смертельно заболел и незадолго до кончины пожелал встретиться с братом, дабы открыть ему глаза на истинное лицо префекта и на опасность для высшей власти его замыслов. На смертном одре не лгут, потому Луций отнёсся к словам Публия с должным доверием. Неизвестно, явились ли для императора откровения старшего брата совершенной новизной, или же он уже начал утрачивать доверие к префекту претория. Возможно, слова Публия Септимия Геты оказались тем самым последним пёрышком, сломавшим спину верблюду. 204 год стал последним благополучным в жизни Гая Фульвия Плавциана. Собственно, в наступившем 205 году префект прожил чуть более трёх недель. Вероятная дата его гибели 22 января. Но вот обстоятельства случившегося у двух ведущих историков этого века описаны по-разному. Дион Кассий главным действующим лицом, погубившим зарвавшегося временщика, считает Бассиана Антонина. Между старшим сыном Севера и его тестем существовала глубокая взаимная ненависть. И здесь все преимущества были на стороне молодого августа, поскольку он располагал большими возможностями. Предсмертные откровения Публия Септимия Геты поколебали доверие императора к Плавциану, но не настолько, чтобы падение фаворита стало возможным в ближайшее время. Север почтил память брата установкой бронзовой статуи на Форуме, а в знак доверия к его разоблачениям лишил префекта значительной части его полномочий и оказания ему прежних почестей. Любопытно, что временщик связал эти неприятные для себя перемены не с инициативой самого императора, но со зловредным влиянием на него старшего сына. По словам Диона Кассия, Плавциан стал еще более свирепо нападать на Бассиана20. В чём это проявлялось и как на такое реагировал отец, видевший в старшем сыне своего законного преемника, сенатор-историк, увы, не пояснил. Но вот реакцию молодого Антонина он описывает подробно. Тот, понимая, что отец пусть и утратил прежнее безграничное доверие к фавориту, но всё еще не склонен от него избавиться, решил ускорить события, прибегнув к откровенной клевете и провокации. «С этой целью он через своего воспитателя Эвода подговорил центуриона Сатурнина и еще двух других людей того же звания сделать ему заявление о том, что десять центурионов, в числе которых были и они, получили от Плавциана приказ умертвить и Севера, и Антонина; и они зачитали какую-то записку, которую будто бы получили в связи с этим заговором. Это произошло неожиданно во время празднества, устроенного во дворце в честь обожествлённых предков, когда зрелища уже завершились и должен был начаться пир. Это обстоятельство отнюдь не поспособствовало обману, ибо Плавциан никогда не решился бы отдать подобный приказ сразу десяти центурионам ни в Риме, ни во дворце, ни в тот день, ни в тот час и уж тем более в письменном виде. Тем не менее, Север посчитал это свидетельство заслуживающим доверия, потому что накануне ночью ему приснилось, что Альбин жив и готовит против него заговор».21 Своим снам Север доверял, как сулящим доброе, так и тем, что содержали дурные предзнаменования. Всё вкупе на императора подействовало, он решил немедленно вызвать к себе Плавциана. Должно быть, тому сообщили о срочности исполнения повеления Севера, поскольку префект так спешил на Палатин, что, если до конца доверять источнику, мулы, запряжённые в его повозку, въехав во двор дворца, пали замертво. Наверное, Плавциан связал такой внезапный вызов с намерением принцепса восстановить его былое могущество… Но уже у входа префекта смутила непривычная жёсткость привратников, допустивших в императорские покои только его самого без сопровождающих. Это был дурной знак, но отступать было поздно, да и невозможно. Север заговорил с фаворитом как всегда дружелюбно, но вопрос, им заданный, звучал убийственно: «Что подвигло тебя так поступить? Почему ты решил нас убить?» Правда, немедленно Плавциану была предоставлена возможность высказаться в своё оправдание. Поклонник с отроческих лет славных традиций римского правосудия Луций твёрдо следовал одному из краеугольных его принципов: «Audeatur et altera pars!» – «Да будет выслушана и другая сторона!». Понятно, что временщик выразил крайнее изумление по поводу предъявленного ему обвинения и стал решительно всё отрицать. Нельзя усомниться в том, что поражён словами Севера Плавциан был совершенно искренне и в отрицании своей виновности в приписываемом ему преступном замысле вовсе не лгал. Ведь Бассиан всё измыслил, а Эвод и Сатурнин послушно это подтвердили, подсунув ещё и липовое письменное «свидетельство». И вот, поскольку префект претория говорил чистую правду и потому наверняка был совершенно убедителен, молодой Антонин, опасаясь, как бы отец не понял сути происходящего, немедленно перешёл к действиям. Вскочив с места и, выхватив у Плавциана меч (получается, того допустили к императору при оружии), он ударил префекта кулаком, а, когда отец остановил его, тут же приказал одному из своих рабов убить временщика на месте. Тот очевидно был хорошо выдрессирован своим господином, поскольку немедленно повеление исполнил, не смущаясь присутствием императора, вроде как виновным Плавциана ещё не признавшим… Север, похоже, обвинению всё-таки поверил, ибо, остановив кулачную расправу, не помешал применению оружия. Кто-то из присутствовавших при убийстве и явно этим довольный вырвал из бороды мёртвого префекта клок волос и тут же отнёс его в покои, где находились Юлия Домна и Плавцилла, ничего, понятное дело, о случившемся ещё не знавшие. Увидев волоски и услышав: «Вот ваш Плавциан!», женщины восприняли это по-разному. Плавцилла, поняв, что отец погиб, была ввергнута в скорбь. А вот августа не могла скрыть радости22. Зная об отношениях Юлии Домны и Плавциана, усомниться в таком её поведении невозможно. Была ли она сама причастна к заговору сына против ненавистного им обоим зарвавшегося фаворита? Элий Спартиан прямо пишет о её виновности23. Такой взгляд присутствует и в современной историографии24
Тело убитого временщика было вышвырнуто из дворца. Скорее всего, его должна была постигнуть участь останков Сеяна, изувеченных беснующейся чернью и брошенных в Тибр. Север, однако, не позволил глумиться над телом того, кто долгие годы был его ближайшим соратником, и распорядился о погребении. Если все члены семьи Сеяна после его гибели были казнены, то дочь и сына Плавциана сослали на один из Эолийских островов на юге Тирренского моря, где они «влачили жизнь, полную страха, бесчисленных бедствий и лишений25». Когда же после смерти Севера в 211 году власть перешла к Антонину Каракалле, то брат и сестра были убиты. Любопытно, что та же участь постигла и сообщников Бассиана по заговору – Сатурнина и Эвода. Удостоенные почестей сразу после гибели Плавциана они, как только их благодетель сменил отца на Палатине, были казнены. Очевидно именно потому, что лучше всех знали об истинных обстоятельствах расправы над временщиком.
Падение и гибель Гая Фульвия Плавциана не менее подробно, чем у Диона Кассия, описаны и у Геродиана. Но его версия этих событий совершенно иная. Заговорщиком, задумавшим убийство Севера и Антонина, у него является сам префект претория. Согласно Геродиану, временщик, встревоженный уменьшением своих полномочий, решил добиться для себя императорской власти, избавившись от обоих августов. Для осуществления задуманного префект попробовал воспользоваться услугами исключительно преданного ему трибуна Сатурнина (у Диона Кассия Сатурнин – центурион). Вроде как тот уже не раз выполнял некие тайные поручения префекта и умел хранить молчание. Более того, именно Сатурнин отвечал за смену ночной стражи во дворце и потому имел прямой доступ в императорские покои. Потому Плавциан подробно изложил своему сообщнику, что тот должен совершить на Палатине, подчеркнув, что такой сильный человек, как он, легко справится со стариком и мальчишкой (Северу шёл пятьдесят девятый год, к тому же он жестоко страдал от подагры. Каракалле было уже восемнадцать лет – возраст, совсем не мальчишеский.) Сатурнину были обещаны высшие почести в случае успеха. Но оказалось, что временщик плохо знал своего приспешника. Тот – человек, достаточно рассудительный, не захотел рисковать, добывая императорскую власть для Плавциана, но задумал изобличить его, выслужившись перед законной властью. Дабы у префекта не возникло сомнений в его преданности и готовности совершить двойное убийство, трибун склонился ниц пред временщиком, как перед императором. Но, тем не менее, Сатурнин попросил выдать ему письменное распоряжение, дабы выглядеть не просто убийцей, а воином, исполнившим приказ начальника. Плавциан якобы настолько был ослеплён жаждой высшей власти, что немедленно согласился. Более того, он дал указание трибуну сразу известить его о свершившемся, дабы он мог, своевременно явившись во дворец, захватить императорскую власть.
Имея такое убедительное доказательство злодейского умысла Плавциана, Сатурнин отправился на Палатин с единственной целью: известить императора о намерениях временщика. Геродиан упоминает, что трибун был родом сириец, а, значит, человек хитроумный, как и все восточные люди26. Возможно, это и намёк на то, что, будучи уроженцем Сирии, трибун испытывал особое расположение к супруге Севера и потому не желал его убийства. Представ перед императором, Сатурнин всё честно ему изложил. Но вот Север якобы долго не хотел ему верить, сохраняя сердечную привязанность к Плавциану. Более того, принцепс даже стал винить в коварстве и изобретении клеветы своего старшего сына. Но твердость Бассиана, отрицавшего все обвинения, и письменный приказ, выданный самим префектом, заставили императора заколебаться. Последним аргументом стало предложение трибуна немедленно пригласить Плавциана во дворец, сообщив ему, что всё удалось и оба августа мертвы. Далее Геродиан подробно описывает сцену появления префекта в императорских покоях, где тот, изумлённый тем, что увидел Севера и его старшего сына живыми, тем не менее, не растерялся. Более того, в ответ на укоры Луция временщик так красноречиво и убедительно напоминал о своей былой преданности, что едва не убедил императора в своей невиновности. Но в этот самый момент его подвела распахнувшаяся верхняя одежда, под которой оказался защитный панцирь. Заметивший это Бассиан немедленно объявил доспех неопровержимой уликой, доказывающей злодейские намерения префекта. После этого молодой август, не советуясь с отцом и не запрашивая у того дозволения, приказал трибуну и другим вооружённым людям немедленно покончить с изобличённым врагом. «Те немедленно выполняют приказание юного государя, убивают Плавтиана и тело его выбрасывают на людную улицу, чтобы все его видели и чтобы враги надругались над ним. Так умер Плавтиан, потерявший рассудок в ненасытной жажде владеть всем и попытавшийся в конце жизни опереться на неверного подчинённого».27
Рассказ, что и говорить, красочный, но какой-то малоубедительный. Не упомянут Эвод, центурион Сатурнин назван трибуном, само убийство происходит не днём, а ночью. При этом близ дворца людная улица… Главное же, Каракалла – не предводитель заговора, а изобличитель злодея… Похоже, Геродиан добросовестно изложил официальную версию властей, согласно которой был казнён злоумышленник, собиравшийся избавиться одновременно от обоих августов28. Странным представляется и вот что: почему-то забыт цезарь Гета, в случае смерти отца и брата совершенно законный их преемник во главе Империи.
Конечно, не исключено, что Дион Кассий, крепко не жаловавший Каракаллу, мог преувеличить его роль в организации рокового для Плавциана заговора. В таком случае можно предположить решающую роль в сокрушении фаворита августы Юлии Домны29. Впрочем, с учётом особенностей её взаимоотношений с временщиком участие императрицы в этом деле очевидно. Дело только в степени.
Ещё одну версию чудесного спасения Септимия Севера и роли в этом его старшего сына изложил Аммиан Марцеллин. По его словам, когда император лежал однажды в спальне, то он «подвергся неожиданному нападению со стороны центуриона Сатурнина по наущению префекта Плавциана и был бы заколот, если б не оказал ему помощи его уже взрослый сын30». Сообщение позднеримского историка сильно расходится с описаниями современников принцепса. Хотя и те, как мы видим, крайне противоречивы. Зная очевидную пристрастность Диона Кассия, ненавидевшего Каракаллу, и осторожность Геродиана, совсем сбрасывать со счетов любопытный рассказ Марцеллина, возможно, и не стоит.
Вернёмся к трагическим событиям января 2005 года. Сам Север воздержался от обвинений в адрес убитого на его глазах и при очевидном его же согласии фаворита. Выступая в курии на заседании сената о деле Плавциана, император наверняка изумил многих, не выдвинув ни одного обвинения в адрес убитого префекта претория. Единственный прозвучавший упрёк – слабость человеческой природы, свойственная покойному, оказавшемуся неспособным перенести почести, коих его сам принцепс и удостоил. Здесь Север самокритично укорил себя за чрезмерную любовь к Плавциану и почитание его. Далее он предоставил слово тем, кто изобличил заговор префекта, но при этом удалил с заседания тех, «чьё присутствие не было необходимым, чтобы самим отказом дать им понять, что не вполне им доверяет31». Таким образом, из-за связи с Плавцианом и подозрений императора многие сенаторы подверглись опасности, а некоторые лишились жизни32. Правда, надо сказать, что, если под подозрение попало немало сенаторов, то погибли всё же немногие. Луций старался чтить свою клятву не казнить «отцов, внесённых в списки» без суда, по одному лишь подозрению… Но исключения всё-таки были. К примеру, видный сенатор, консуляр, женатый на дочери Марка Аврелия – Аннии Аврелии Фадилле, значит, теперь как бы и «родственник» самого Севера, был принуждён к самоубийству. Здесь Луций прямо уподобился Нерону! Дион Кассий отмечает, что за это император подвергся осуждению, надо полагать, очень осторожному и в узком кругу… Сенатор-историк, являя свою объективность и верность правде жизни, указывает, что Север «предал смерти и многих других сенаторов, причём некоторых после того, как им должным образом в его присутствии предъявляли обвинения, давали выступить в свою защиту и выносили приговор33».
Дион Кассий приводит наглядный пример такого правосудия. Апрониан, весьма достойный человек, побывавший консулом в 191 году при Коммоде, а в 204 году при Севере – наместником провинции Азия, был осуждён за то, что его кормилица якобы видела сон, предвещавший легату императорскую власть. Показания против Апрониана были даны под пыткой, что не скрывалось. Но сенаторов это не смутило. Когда же во время слушаний дела в сенате в присутствии самого принцепса стали выяснять, кто, собственно, слышал об этом злополучном сне и кто передал его содержание, то один из «свидетелей» упомянул некоего лысого сенатора… Историк-очевидец описал, что происходило в курии после этого показания. «Услышав это, мы ощутили весь ужас своего положения. И хотя никакого имени ни осведомитель не назвал, ни Север не записал, все были настолько ошеломлены, что страх охватил даже тех, кто никогда не бывал в доме Апрониана, причём напуганы были не только те, кто вовсе не имел волос на голове, но даже люди с залысинами на лбу. И хотя никто уже не был уверен в своей безопасности, кроме тех сенаторов, которые могли похвастаться густой шевелюрой, все озирались кругом, высматривая вероятных подозреваемых, и перешёптывались: «Это, должно быть, такой-то», «Нет, такой-то». Не стану умалчивать и о том, что тогда случилось со мной, каким бы нелепым это ни показалось. Я пришел в такое смятение, что начал ощупывать волосы на своей голове. То же самое происходило тогда со многими другими сенаторами. И все наши взоры были обращены к более или менее лысым, словно тем самым мы пытались убедить себя в том, что опасность угрожает не всем нам, а исключительно этим людям».34
Наконец, осведомитель, которого едва заметным кивком направили в нужную сторону, указал на совершенно лысого эдила Бебия Марцеллина. Бедняга лишился головы… Казнён был и наместник Азии… Так вот в сенате римского народа в те дни решались судьбы даже столь значимых людей, как легаты и эдилы.
205 год? когда произошла расправа над Плавцианом, был отмечен событием, весьма досадившим Северу. Вплоть до 207 года, около двух лет, Италия страдала от жестоких разбоев. И это при том, что в Риме в те годы пребывал император с сыновьями, а на Аппенинах, в отличие от предшествующей эпохи, стояли многочисленные войска. Некий италиец, прозванный Буллой, собрал банду численностью около боо человек и вовсю занялся разграблением метрополии Империи. Такого наглого разбоя в Италии не было уже около двух столетий. Ещё Тиберий, возглавив державу после Августа в 14 году, принял все возможные меры против потрясений на Аппенинах и, главное, для предупреждения их. Как свидетельствует Светоний: «Более всего он заботился о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего».35 С тех пор, надо полагать, италийское население позабыло о масштабных разгулах преступности. Но вот при Севере, увы, всё изменилось не в лучшую сторону. Во многом здесь была и его вина. Разогнав прежнюю преторианскую гвардию, как мы помним, Луций сам толкнул часть италийской молодёжи, оставшуюся без средств к существованию, но недурно владеющую оружием и, главное, не отягощённую нравственными устоями, на занятие разбоем. С того времени прошло двенадцать лет и среди италийских бандитов выделился высокоодарённый предводитель, с чьей многочисленной шайкой сладу не было. Вот что пишет Дион Кассий о Булле: «Ибо, хотя за ним гонялось множество людей, и сам Север ревностно его разыскивал, он так и оставался неузнанным, даже когда его узнавали, ненайденным, – когда его находили, неохваченным, – когда его захватывали, – и всё это благодаря его щедрым взяткам и изворотливости. Он имел сведения обо всех, кто покидал Рим и кто прибывал в Брундизий, кто и в каком числе там находится и кто сколько с собой имеет. Большую часть людей он, обобрав, тут же отпускал, а вот ремесленников удерживал на некоторое время и затем, воспользовавшись их мастерством, отправлял назад с подарками. Когда однажды двое членов его шайки были схвачены и их вот-вот должны были отправить на растерзание зверям, он пришёл к тюремщикам под видом начальника своей родной области, которому-де требуются люди с такими приметами, и, получив их, таким образом спас своих сообщников. Он также явился к центуриону, которому было поручено уничтожить его шайку, и, притворившись кем-то другим, сам сделал на себя донос, обещал центуриону, если тот последует за ним, выдать разбойника и так, под тем предлогом, что отведёт его к Феликсу (это было другое прозвище, которым он пользовался), завёл его в низину, поросшую густым кустарником, и без труда взял в плен. Затем, облачившись в платье должностного лица, он взошёл на трибунал, вызвал этого центуриона, приказал обрить ему половину головы и сказал: «Передай своим господам, пусть они кормят своих рабов, чтобы те не обращались к разбою».36
Север, которому сообщали обо всех случаях дерзких разбоев Буллы, с которыми местные власти никак не справлялись, пребывал в крайнем раздражении. В 207 году в далёкой Британии начались военные действия с непокорными племенами независимой от Рима северной части острова. Там наместник провинции Луций Алфен Сенецион и легат II Августова легиона Юлий Юлиан добились успехов. И вот в это же время в сердце Империи, на италийской земле, где присутствует сам император, какой-то дерзкий разбойник остаётся неуловимым, да ещё и откровенно, а главное, прилюдно, издевается над властями уже два года подряд! Последовало высочайшее повеление трибуну из числа телохранителей принцепса непременно захватить вконец обнаглевшего бандита и доставить его живым. Во исполнение столь решительного поручения доблестный воин получил в своё распоряжение большой отряд конницы. Но главным стимулом должно полагать угрозу страшного наказания, если он с этим делом не справится. Трибун, зная, что Север не из тех правителей, кто шутит такими предостережениями, нашёл-таки способ изловить злодея. И прибёг он не к военной силе, каковой ему выделили предостаточно, но к хитрости, затребовав все сведения о деятельности и образе жизни Буллы. Оказалось, что у того есть любовная связь с некоей женщиной, у которой при этом был муж. Скорее всего, он догадался, с кем его супруга наставляет ему рога, и, что неудивительно, счёл за благо донести до властей эту скорбную для его семейного благополучия весть. Новость трибун немедленно оценил. Обиженного мужа он приветил и повёл через него тайные переговоры с любовницей неуловимого бандита. Ей трибун обещал совершенное освобождение от наказания за связь с преступным предводителем. Очевидно, что был он в своей просьбе и обещании очень убедителен, да и рогатый муж в деле усердно помогал, лелея мысль об отмщении. Короче, любовница Буллы, взвесив все обстоятельства, поняла, что наилучшим для неё исходом будет выдача властям возлюбленного. Наверняка ей были известны места укрытий, используемые славным разбойником. В одном из них он и был схвачен во время сна. Пещера, используемая Буллой для ночлега, должно быть, не имела второго выхода, да и застали его, судя по всему, врасплох. Была ли достойно вознаграждена любовница-предательница, неизвестно. Муж же её наверняка был счастлив достойным отмщением за свой поруганный семейный очаг.
Сама эта история о роковой роли женщины, губящей своего возлюбленного, сразу вызывает в памяти знаменитые предания. Как тут не вспомнить ветхозаветную Далилу, выдавшую обессиленного ею Самсона филистимлянам! Приходит на ум и Деянира, жена Геракла. Она, правда, мужа не предавала, но, дабы сохранить его любовь, натёрла плащ героя кровью кентавра Несса, не зная о том, что она ядовита. Несс ведь, умирая от стрелы Геракла, дабы не остаться неотомщённым, солгал Деянире о волшебном свойстве своей крови. Якобы, если натереть ею одежду Геракла, то тот никогда не разлюбит свою жену… И Геракл погиб в невероятных мучениях. Нельзя обойти также исторический пример. Клеопатра предала Антония в надежде на благосклонность Октавиана, но это её не спасло…
Мы не знаем, насколько правдива история поимки Буллы с помощью женского коварства. Но надо сказать, что весь рассказ об этом разбойнике Диона Кассия историк Томас Грюневальд, специально исследовавший мифы и реальность бандитизма в Римской империи, твёрдо полагает вымыслом37. В то же время не стоит исключать, что подлинная история Буллы могла обрасти мифологическими подробностями.
О печальной судьбе схваченного смутьяна Дион Кассий сообщает, что тот предстал в Риме перед префектом претория Эмилием Папинианом, который спросил: «Почему ты стал разбойником?» Булла дерзко ответил: «А почему ты стал префектом?» После столь краткого диалога по приказу Папиниана, объявленного римлянам глашатаем, разбойник был отдан на растерзание диким зверям в цирке, «а его шайка была рассеяна – вот до такой степени вся сила этих шестисот человек заключалась в нём одном»38.
Этот диалог префекта и пленника также вызывает в памяти исторические аналогии, причём разных времён и с участием разных исторических персонажей. К примеру, Марк Туллий Цицерон в своём трактате «О государстве» привёл разговор Александра Македонского с неким пиратом, давшим царю смелый ответ на его вопрос: «… ибо, когда его спросили, какие преступные наклонности побудили его сделать море опасным для плавания, когда он располагал одним миопироном, он ответил: «Те же, какие побудили тебя сделать опасным весь мир».39 Несколько подробнее этот эпизод приводит Блаженный Августин в своём труде «О граде Божьем»: «Прекрасно и верно ответил Александру Македонскому один пойманный пират. Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором».40
О схожем диалоге властителя и преступника повествует Публий Корнелий Тацит, сообщая о том, как перед императором Тиберием предстал некий раб Клемент, посмевший выдавать себя за внука Августа Агриппу Постума. «Рассказывают, что на вопрос Тиберия, как же он стал Агриппою, Клемент ответил: «Так же, как ты – Цезарем». Его не смогли принудить выдать сообщников. И Тиберий, не решившись открыто казнить Клемента, повелел умертвить его в одном из глухих помещений дворца, а труп тайно вынести. И хотя говорили, что многие придворные, а также всадники и сенаторы снабжали Клемента средствами и помогали ему советами, дальнейшего расследования произведено не было».41
Должно отметить, что бесчеловечный приговор Булле вынес префект претория Папиниан, знаменитейший юрист, один из столпов римского правоведения. Именно он был главным юридическим советником Севера. Имя Эмилия Папиниана и в наши дни известно каждому образованному юристу42. По глубине правовой мысли Папиниан заслуженно считается самым значительным представителем древнеримской юриспруденции. У него были высокоталантливые молодые помощники-коллеги Юлий Павел и Домиций Ульпиан43. О величайшем юристе всей эпохи Римской империи, тем не менее, сохранились очень скудные биографические сведения. Даже примерная дата его рождения колеблется между 142 и 150 годами. Порой, правда, указывается март 142 года. Также смутны сведения и о месте его рождения – то ли Финикия, то ли Сирия, то ли Африка… Существует предположение, что Папиниан был братом Юлии Домны, откуда и возникли его прекрасные отношения с Луцием. А ежели Эмилий был уроженцем Африки, то мог заслужить расположение Севера как земляк. В столице Империи Папиниан пребывал, скорее всего, с юных лет. Считается, что юриспруденцию он освоил, пройдя обучение у знаменитого римского правоведа Квинта Цервидия Сцеволы. Возможно, в те же годы среди учеников главного юриста Рима пребывал и Луций Септимий Север. Если эта версия верна, то их дружба насчитывала десятилетия…
Свою профессиональную карьеру Эмилий начал в правление Марка Аврелия. Первая его известная должность – адвокат фиска, казны, подчинённой лично императору, куда поступали деньги из провинций, управляемых легатами, назначаемыми принцепсом. Фиск был учреждён с самого начала единоличного правления Октавиана после окончания гражданских войн. О карьерном росте Папиниана говорит упоминание о том, что он достиг должности помощника префекта претория ещё при жизни императора-философа. Но подлинный взлёт его пришёлся, что неудивительно, на годы правления Луция Септимия Севера. Уже в начале его царствования в сентябре 194 года Папиниан вступил в ответственную должность начальника ведомства петиций. Круг обязанностей его был очень широк. Требовалось своевременно и юридически точно отвечать на бесчисленные прошения, обращения к императору как должностных, так и частных лиц. Мы помним, сколь внимательно и добросовестно Луций относился к петициям с мест от самых разных людей. Потому работа Папиниана носила нелегкий, напряжённый характер. Здесь требовались тщательность, даже скрупулёзность рассмотрения поступавших на имя правителя державы письменных обращений, точная их правовая оценка и обоснованные юридически выверенные ответы. Неудивительно, что именно в годы трудов на этой очень ответственной должности Папиниан издал свой первый юридический сборник «Вопросы» из 37 книг, завершённый и опубликованный в 198 году. В нём Папиниан не только рассматривал доводы и обоснования позиций полемизирующих сторон, но и предлагал, действуя как судья, конкретные решения по обсуждаемым вопросам.
205 год стал вершиной карьеры Эмилия Папиниана. После падения Плавциана именно его, своего старого доброго знакомого, уже зарекомендовавшего себя первоклассным правоведом, Север назначил новым префектом претория. Не единственным, правда. Печальный опыт с временщиком Плавцианом, присвоившим себе совершенно непомерную власть, был императором учтён. Вновь в Имприи появилось два префекта претория. Коллегой Папиниана стал Квинт Меций Лет, в недавнем прошлом префект Египта. Именно во время его наместничества случилось преследование христиан в Александрии, описанное в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. Логику Луция в таких назначениях понять можно: с одной стороны, выдающийся юрист, законник, имеющий не только труды по юриспруденции, но и колоссальный практический опыт правовой работы, с другой – человек с немалым и успешным административным опытом, обретённым в обширной, многонаселённой и экономически значимой провинции Египет. О достоинствах Лета как наместника Север мог судить вполне предметно по впечатлениям от своего пребывания на берегах Нила. И такой тандем префектов, когда у каждого из двух высших чиновных особ Империи была строго своя сфера деятельности, не пересекающаяся напрямую с делами коллеги, обеспечивал прочность властной верхушки державы и исключал какую-либо узурпацию власти, подобную случившейся при Плавциане. Впрочем, как мы помним, вину за это в сенате официально взял на себя сам принцепс.
Выбор Папиниана на важнейший пост префекта претория, отвечающего за правовую систему Империи, объясняется не только лично хорошими отношениями юриста и императора. Как мы помним, судопроизводство ещё с детства было любимейшим занятием Септимия Севера. Потому он хорошо знал цену правоведам своего времени. Папиниан, достойнейшим образом проявивший себя в служении государству именно как первоклассный правовед – и практик, и теоретик, – вне всякого сомнения, был лучшим кандидатом на пост первого юриста Империи. Выбор принцепса здесь нельзя не признать безупречным. Важно и то, что, как уже говорилось, у нового префекта были и достойные помощники, справедливо сказать – соратники. Юлий Павел занял при Папиниане должность секретаря (magister memoriae). Гней Домиций Ульпиан был при префекте ассесором, Север сделал его членом императорского совета. Об исключительной роли этих юристов в формировании правовой системы Империи лучше всего говорит степень их участия в составлении Дигест – собрания извлечений из трудов авторитетных римских юристов, важнейшей части римского гражданского права. Всего фрагментов дигест числится до 9200. Из них Папиниану принадлежит 595, Павлу 2083 и Ульпиану 2462. Более половины! Конечно, не все они были составлены в правление Севера. Но ведь именно при нём, при его покровительстве и содействии деятельность этих великих правоведов достигла творческого расцвета. Когда два с лишним века спустя, в 426 году, при императорах Валентиниане III (Запад) и Феодосии II (Восток) был очерчен круг юристов, чьим мнением должны были руководствоваться судьи обеих Империй, то были указаны имена: Папиниан, Юлий Павел, Ульпиан, Гай и Модестин. Гай – знаменитый юрист эпохи Антонинов, Модестин – ученик Ульпиана, чья деятельность пришлась на более позднее время. Но трое – правоведы времени правления Севера. Особо отметим следующее: в случае возникновения при судебном разбирательстве противоречий следовало руководствоваться мнением большинства. Но, если голоса распределялись поровну, то решающим должно было стать мнение Папиниана. Вот и официальное признание его авторитетнейшим правоведом Древнего Рима!
Чем же наиболее знамениты соратники Папиниана? Гней Домиций Ульпиан сформулировал основные принципы права. Его определение: «право есть искусство доброго и справедливого» неоспоримо. Так же, как и «основные принципы права: жить достойно, не причинять вреда другим людям, воздавать каждому по заслугам». Ульпиану же принадлежит разделение права на три составные части: ius naturale (естественное право), ius gentium (право народов), ius civile (гражданское право).
Юлий Павел помимо выдающейся роли в составлении дигест прославился «Комментарием к преторскому праву» в 8о книгах и «Трактатом о гражданском праве» из 16 книг.
В целом же, оценивая развитие права в правление Севера, нельзя не признать полную правоту Эдуарда Гиббона, что «римская юриспруденция, вступившая в тесную связь с монархической системой, как полагают, достигла в этот период времени своего полного развития и совершенства»44, что в значительной мере предопределило и предвосхитило грандиозную работу по кодификации всего римского права45. И главная роль принадлежала Папиниану, Павлу и Ульпиану, трудами которых было составлено более шестидесяти процентов объёма дигест46. Важно и то, что сам Септимий Север и контролировал, и направлял творческую деятельность правоведов. Явление, которого не было в предшествовавшую эпоху! Оно привнесло ряд особенностей, отличающих его от деятельности римских юристов более раннего времени47. Личное влияние Севера на правоведение в Империи соответствовало необъятным размерам его власти. На всю державу Луций, как это справедливо было отмечено ещё в XVIII веке, смотрел как на свою собственность48.
Но именно поэтому император искренне желал улучшить положение дел в державе. И как раз правосудие представлялось ему оптимальным средством. Правильные законы, неуклонное их исполнение, жёсткий властный контроль, безжалостность к противящимся и явно недовольным – вот лучший путь к процветанию Империи и установлению в ней образцового порядка. Думается, Север искренне старался, чтобы правосудие в государстве отличалось вниманием, разборчивостью и беспристрастием. Но вот на деле совместить эти прекрасные принципы как-то не всегда получалось. Вспомним его «правосудие» в сенате и после победы над Альбином, и в деле Плавциана, а также нелепое судилище по поводу сна некоей кормилицы, сулящего её былому вскормленнику императорскую диадему… Впрочем, отличавшийся, как и большинство его современников, суеверием Север очень серьёзно относился к снам. И к своим, и к чужим, если, конечно, удавалось узнать об их содержании… Надо сказать, что жертвами его жестокости становились преимущественно представители знати. В этом справедливо можно увидеть всегда и везде свойственную деспотичным правителям склонность унижать гордыню верхов общества, низводя «всех подданных до общего им всем уровня абсолютной зависимости»49. Конечно же, здесь играли роль и подозрения принцепса относительно недобрых чувств к нему со стороны традиционной римской знати, и наличие в этой среде честолюбцев, мечтающих о власти50. Отсюда многие его действия в интересах бедных и угнетённых подданных совершались отнюдь не из подлинного человеколюбия, но лишь по политическому расчёту51. Известно, что Луций часто проявлял заботу о низших слоях населения52. А им, как это было, есть и будет во все времена, очень импонировала жестокость, пусть часто и несправедливая к представителям элиты общества.
Вот в такой непростой обстановке и наступил «золотой век» римской юриспруденции. Император, отдадим ему должное, сам уделял огромное внимание вопросам права и судопроизводства. В этом отношении он, безусловно, выделяется и среди своих предшественников, и среди своих преемников. Север значительную часть дня посвящал делам судебным, глубоко в них вникая. Внимательно прислушиваясь к мнению своих советников-юристов, принцепс, тем не менее, часто принимал самостоятельные решения, с их позициями не всегда совпадавшие53. Особое внимание он уделял правовой и судебной компетенции высших чиновников. Яркий пример – письмо Севера к префекту Рима, в котором подробно разбирались права и обязанности этого должностного лица, обладавшего высшей полицейской и судебной властью в столице Империи54. Не забудем, что без поддержки и доверия Луция ни Папиниан, ни Павел, ни Ульпиан не достигли бы таких высот в своей деятельности55. Направляемые императором юристы внесли большой вклад в разработку тех областей права, которые недостаточно затрагивались в предшествующую эпоху. Особенно активно исследовалось уголовное право. Появилось множество работ в области административного, военного и фискального права56. Была и такая важная особенность трудов северовских юристов: их сочинения основывались не столько на трудах их коллег более ранних времён, сколько на императорских постановлениях, так называемых constitutiones57. Надо сказать, что в этом Север и его верные правоведы имели предшественника эпохи столь почитаемых ими Антонинов. Это был император Адриан (117–138 гг.). Именно в годы своего правления он стал заменять традиционные постановления сената римского народа (Senatus consulta) императорскими указами. Не случайно в годы царствования Диоклетиана (284–305 гг.), когда по его поручению знаменитые юристы Григориан и Гермоген проведут кодификацию этих самых constitutions, то начинаться сборник императорских указов, имевших силу закона, будет именно со времени Адриана58.
Как некогда в республиканском Риме Законы XII таблиц, принятые в 451–450 гг. до н. э., постепенно вытеснялись постановлениями сената, так теперь императорские указы, имеющие силу закона, всё более теснили сенатские постановления59. В то же время Север юридически не отнял у сената его законодательной компетенции, право которого издавать законы формально не оспаривалось. Собственно, такая двойственность формальных прав и реальной практики в Империи никакой новизной не отличалась и восходила к основателю Принципата Августу. Как тут не вспомнить его «восстановленную республику» – монархию в республиканских одеждах, которые являли собой «платье голого короля»! В то же время было бы несправедливо представлять политику Септимия Севера как сугубо и однозначно антисенатскую. Конечно, немалое число «отцов, внесённых в списки» при нём было репрессировано, о чём уже говорилось. Но Луций – поклонник законности и правовых отношений между ветвями власти – не был бы самим собой, если бы не сохранил пусть и не очень искренние, но добрые внешне отношения принцепса с возглавляемым им древнейшим властным органом Рима, созданном ещё при основателе города Ромуле. Напомним, что и при нём отношения царя и сената были не лучшими…
Свой жестокий отпечаток на взаимодействие Севера с сенаторами не могла не наложить гражданская война, когда многие из членов этого высокого собрания оказались в стане врагов Луция, явно симпатизируя то Песцению Нигеру, то Клодию Альбину. Но в целом Север старался в отношениях с сенатом следовать примеру Антонинов60.
Здесь, однако, стоит подчеркнуть, что даже лучшие из них, такие, как Траян, Антонин Пий, Марк Аврелий, вовсе не были склонны делиться с сенаторами реальной властью. Да и сам сенат столь дерзким мечтам не предавался. Он желал всегда чувствовать со стороны своих властных принцепсов уважение, подкреплённое твёрдыми гарантиями личной безопасности «отцов, внесённых в списки». Север действительно добросовестно старался демонстрировать уважение к сенату, но вот насчёт личной безопасности… Правда, напомним, что наиболее значительные нарушения таковой были всё же связаны с гражданской войной и с падением Плавциана, но не носили системного характера. Возможно, определённый отпечаток на взаимоотношения Луция с римской элитой наложило отпечаток его провинциальное африканское происхождение…61
В целом же, политика Септимия Севера в отношении всей государственной системы Римской империи эпохи Принципата никак не была направлена на однозначный разрыв с ней62. Она была естественным продолжением всей предшествовавшей эволюции власти в державе. На преобразования, проводимые Луцием Септимием Севером, сильно повлияли обстоятельства его прихода к власти в результате многолетних гражданских войн, потому и главной опорой своей он видел армию, но никак не традиционные римские государственные структуры. Сенат при всей его покорности Север не мог воспринимать подлинно всерьёз. И как было это делать после того, как сенат римского народа безропотно признал законным императором Дидия Юлиана, вульгарно купившего у мятежных преторианцев право на высшую власть? По большому счёту, можно сказать, что Север отнёсся к сенаторам даже лучше, чем они того заслуживали. Напомним, что, строго говоря, легионы изначально были опорой властителей эпохи Принципата, начиная с Августа. Знаменитый «секрет императорской власти», описанный Тацитом, по большому счёту, был «секретом Полишинеля». То, что, опираясь на преданные себе легионы, можно обрести в Риме единоличную власть, замечательно доказал всем ещё Луций Корнелий Сулла в гражданской войне восьмидесятых годов до новой эры. Правда, он использовал её, скажем так, не по назначению. Доблестному победителю армий Митридата VI и сокрушителю сторонников Гая Мария при всём его могучем интеллекте и в голову не приходило установить в Риме ту или иную форму монархии. Завоёванную в тяжелейшей войне единоличную власть он употребил единственно для сохранения и укрепления сенатской олигархии, после чего сложил с себя диктаторские полномочия. Божественный Юлий презрительно сказал, что Сулла, отрёкшийся от диктаторства, не знал и азов власти. Сам же Цезарь, обретя владычество над Римом благодаря верным ему легионам, строил грандиозные планы и имел великие замыслы на будущее… Увы, мечи и кинжалы поклонников насквозь прогнившей республиканской олигархии не дали ему всё это осуществить. Гай Октавий, пусть сам и лишённый полководческого таланта, но умело использовавший одарённых друзей, не только захватил власть, опираясь на армию, но и преобразовал Римскую державу в монархию, именуемую историками Принципатом. Так что изначально легионы, преданные принцепсу, были фундаментом, на котором и стояла Империя. Из властелинов Рима об этом, пожалуй, забыл лишь Нерон. Пока он расправлялся только с представителями столичной и частью провинциальной элиты, полководцы, возглавлявшие легионы, ни о каких мятежах не помышляли. Но, когда жертвами «артиста на троне» стали видные военачальники (братья Скрибонии, Корбулон), положение радикально изменилось. Намеченный Нероном на расправу Гальба повёл легионы на Рим и утвердился на Палатине. Но тут оказалось, что честолюбивых полководцев в Империи предостаточно. Вот и случилась столетие спустя со времён торжества Октавиана новая гражданская война, приведшая к власти династию Флавиев – Веспасиана и двух его сыновей Тита и Домициана. Гибель последнего никак не была связана с армейскими делами, явившись следствием сугубо придворной интриги. Но вот сменивший его сенатский ставленник престарелый и больной Нерва немедленно усыновил Марка Ульпия Траяна именно как наиболее авторитетного представителя римской военной элиты. Так что и условная династия славных Антонинов обязана своим появлением позиции армии. Новые императоры не только опирались на войско, что было естественно, но и умели, когда возникала необходимость, крепко держать в узде полководческие кланы. Так Адриан, только-только придя к высшей власти, немедленно избавился от четырёх «гордых маршалов Траяна», по определению Эрвина Давидовича Гримма. Причём проделал принцепс это руками сената… Таким образом в самом способе прихода Луция Септимия Севера к власти ничего принципиально нового для римлян не было. А то, что он старался как можно лучше отблагодарить и укрепить ту силу, что завоевала для него императорский венец, являлось совершенно естественным и разумным с его стороны. Но вот именно власть Севера большинство историков, как справедливо пишет А.В. Махлаюк, рассматривают как «военную», «солдатскую» монархию, «военно-бюрократический строй». Отсюда и в наши дни проблемы политической подоплёки и последствий военных реформ для трансформации государственного строя Империи, социальной её опоры остаются дискуссионными63. Издавна споры учёных ведутся и в зарубежной, и в отечественной историографиях64. Приведём наиболее яркие оценки наиболее известных историков-антиковедов. К примеру, Ф.Ф. Зелинский утверждал, что именно при Севере «началась милитаризация Империи. Это была самая заметная черта нового государственного строя… Следует добавить, что Септимий Север и гражданские должности охотно доверял своим ветеранам. Со времени «просвещённого абсолютизма» Антонинов императорская бюрократия занимала постепенно места, которые традиционно принадлежали сенаторам, тогда эта бюрократия была всаднической. Теперь она стала военной: префекты, прокураторы и прочие назначались из высших чинов армии. Правительство Антонинов было правительством интеллектуалов; теперь наступили иные времена».65 Правда, говоря о деятельности Папиниана, Павла и Ульпиана, историк подчёркивает, что она «способствовала расцвету римского права в период чудовищного падения духовной культуры, который наступил именно при Северах»66.
М.И. Ростовцев, анализируя систему управления, сложившуюся на рубеже II–III веков, писал: «Север начал проводить систематическую милитаризацию управления, полностью бюрократизированного его предшественниками. Военизированное чиновничество и на его вершине – монарх с автократическими властными полномочиями и с правом наследования власти внутри своей семьи, прочность положения которого обеспечивается преданностью армии и государственных чиновников, а также культом личности императора, – таковы были цели, поставленные Севером. Милитаризация чиновничества неизбежно означала его варваризацию. Ибо армия состояла теперь исключительно из крестьян малоцивилизованных стран, входящих в империю, а также из детей солдат-переселенцев и ветеранов. Для достижения этой цели… представителей прежнего верхнего слоя постепенно отстраняли от командования в армии и от управленческих постов в провинциях и заменяли их представителями новой военной аристократии. Как и самих императоров, эту аристократию набирали из рядов римских солдат».67
Несомненно, М.И. Ростовцев считал, что Север стал первым императором, который твёрдо и неприкрыто строил свою власть, опираясь на армию. Строго говоря, многие императоры опирались, прежде всего, на военную силу, но открыто это не прокламировали. Так что принципиальная новизна в политике Луция состояла в её откровенности, но не в её сущности. Главное, для такой подчёркнутой опоры на легионы у императора были самые веские основания. После кровавой гражданской войны, охватившей сначала Восток, а затем и Запад Империи, Север не мог не сделать армию главным проводником своей воли на просторах державы, потрясённой смутой. Легионы были наиболее действенной силой в сохранении единства государства. Их верность центральной власти была сильнейшей прививкой от повторения событий 193–197 гг. Кроме того, поскольку смута расшатала военную мощь Рима, надо было восстанавливать обороноспособность на границах и вести наступательные действия там, где это было необходимо. Ну и, конечно, следовало преодолеть возникшие трудности в комплектовании армии68. Битвы с легионами Нигера и Альбина заметно обескровили вооруженные силы Империи. Верность армии – главный залог и не повторения гражданской войны, и единства державы, и действенности проводимой императором и его правительством внутренней и внешней политики. Что до интеллектуалов в окружении правителя, то его опора на великих правоведов говорит сама за себя. Они, кстати, только вершина. Едва ли стоит сомневаться в высокой образованности и развитом интеллекте сотрудников этих ведомств, каковых, думается, весьма тщательно подбирали. А уж, если говорить о культуре на Палатине в широком смысле, то чего стоит только круг общения императрицы Юлии Домны, куда входил, к примеру, выдающийся автор труда «Жизнеописания и мнения знаменитых философов» Диоген Лаэртский. Его книга стала своеобразным учебником греческой философии. Другой приближённый – Флавий Филострат по инициативе высоко просвещённой августы создал жизнеописание Аполлония Тианского. Великий врач и философ Гален, известный софист Фил иск из Фессалии также входили в этот круг интеллектуалов. Само собой присоединились к нему и правоведы Папиниан, Ульпиан и Павел. Возможно, что и историк Дион Кассий принадлежал к блистательному окружению императрицы69.
Да, Юлия Домна являлась уроженкой Востока. Но уже половину тысячелетия это был эллинистический Восток, причём два с половиной столетия входивший в состав Римской державы. Потому едва ли стоит увлекаться объяснением многих важных политических решений Севера, указывая на его пунические корни и сирийское происхождение Юлии Домны. Отсюда во многом справедливым представляется такой вывод М.И. Ростовцева: «Однако было бы ошибкой видеть в Севере основателя восточной военной деспотии. Его военная монархия была по сути своей не восточной, а римской. Север полностью милитаризировал принципат Августа; правитель Рима был теперь в первую очередь императором, генералиссимусом римской армии, но по-прежнему оставался верховным чиновником Римской империи, а армия, как и прежде, была гражданской армией Рима. Несмотря на то, что центр тяжести империи теперь в равной мере распределился по всем римским провинциям и что приоритетное положение итальянской метрополии, которое Траяну удавалось сохранять, а Адриану не отрицать публично, теперь было навсегда ею утрачено, всё же это не означало внезапного отрыва от прошлого. Всё это было результатом нормального поступательного процесса, начала которому положили гражданские войны и которому шаг за шагом способствовали все римские императоры. Север активно вмешался в этот процесс, провинциализировав армию и открыв значительному числу провинциалов доступ к руководящим должностям в управлении государством. По сути дела, он лишь сделал выводы из той политики, которую уже давно сформировали правители империи».70
Конечно, благосклонность Луция к выходцам из Африки и Сирии очевидна71. Но ведь провинциалы уже в течение двух веков постепенно осваивали столицу. В конце концов, выходцы из Испании Траян и Адриан, пусть последний и родился в Риме, достигли высшей власти. Север лишь продолжил ими созданную традицию. Да и неважно, из какой провинции вышел тот или иной государственный деятель или даже простой чиновник. Главное, чтобы они были преданы Риму и верно служили Империи. Впрочем, Италия не была в забвении. В окружении «африканца на Палатине» было немало италиков72. Справедливо здесь говорить о продолжающейся «провинциализации» как местных властей, так и центрального аппарата Империи73. Да, Сирия была скорее эллинизированная провинция, нежели романизированная. Но в имперскую эпоху это пороком не считалось. Что до Африки, то там проблемы со знанием латыни были. У самого Луция сохранялся характерный африканский акцент, а родную сестру ему пришлось отправить из Рима на родину в Лептис, ибо её латынь позорила в столице семью принцепса. Но разве это сколь-либо мешало Северу блюсти римские имперские интересы как во внешней, так и во внутренней политике?
Конечно, на первый взгляд, многие действия императора противоречили привычным традициям, хотя исторически новыми не были. Это и временами жёсткий курс по отношению к сенату, и предпочтение всадников и представителей офицерского корпуса при замещении мест в администрациях, и ряд правовых решений явно в пользу низших слоёв населения… Но ведь в основе своей все эти решения вызывались необходимостью и являлись давно уже назревшими74. Или же повторяли крайности иных предшествовавших правлений. Отсюда справедливо утверждение, что политика Луция Септимия Севера никак не могла быть направлена на разрыв с предшествующей эволюцией политической системы Империи75. Безусловно, действия Севера по управлению государством фундаментально опирались на военную силу, приведшую его к власти, в которой он справедливо видел главную свою опору76, но вот можно ли при этом говорить о наступившей милитаризации всего государственного управления? Армия всегда в Римской империи поставляла кадры для гражданской бюрократии. Военная карьера была отличным трамплином для занятия высоких должностей в провинциях и в столице. Но до поры до времени это вовсе не означало, что именно армия – главная кузница кадров государственного управления. А разве недостаток почтения к сенату был чем-то новым в римской истории? Ещё Тиберий, покидая сенатскую курию, презрительно говорил: «О люди, созданные для рабства!»77 Слова эти он произносил по-гречески, полагая, должно быть, что столь жалкие люди благородной латыни не достойны. Можно вспомнить и Нерона, которого шут веселил словами: «Я ненавижу тебя, Нерон, потому что ты сенатор!» Более того, принцепс-артист «намекал часто и открыто, что и остальных сенаторов он не пощадит, всё их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а войска и провинции поручит всадникам и вольноотпущенникам»78. На этом фоне отношение Севера к сенаторам – едва ли не верх доброжелательности.
Надо сказать, что критический взгляд на тезис о милитаризации государственного управления при Севере уже не раз высказывался в исторической науке79. Проведённый А.Л. Смышляевым тщательный анализ эволюции римского государственного аппарата позволил ему отказаться от определения «милитаризация государства» в пользу другого – «бюрократизация государственного управления»80. Эта концепция встретила у коллег как поддержку, так и критику81. Думается, что термин «бюрократизация» более убедителен. Лишь со временем, когда римская армия, ощутив себя окончательно главной силой политической жизни державы, взвалит на свои плечи эту непредусмотренную для неё ранее роль, дело закончится острейшим кризисом, потрясшим Империю в III веке82. Эти события 235 _ 2§ 4 гг. и войдут в историю как «Эпоха солдатских императоров». Кстати, первая попытка легионов самим решить вопрос о новом принцепсе восходит к 14 году. Тогда войска, стоявшие на Рейне, возжелали видеть на Палатине не наследника Августа Тиберия, а наместника Галлии Германика… Так что у претензии армии на то, чтобы по своей воле ставить правителей Империи, были глубокие корни…
Вернёмся к политическим достижениям Септимия Севера. Главными из таковых должно признать предотвращение раскола державы, консолидацию элит, укрепление внешнеполитических позиций Рима83. Ну и, конечно же, у Луция огромные заслуги в развитии римской юриспруденции. «Он издал весьма справедливые законы» – писал об этом императоре Аврелий Виктор84. Главным историк полагал то, что Север «не оставлял безнаказанным ни малейшего грабежа, потому что сей опытный муж понимал, что такое происходит обычно по вине вождей или из-за вражды партий85».
Основатель новой династии стремился оставить свой след в римской истории и в строительстве, в чём продолжил традиции многих своих предшественников, в первую очередь, Августа, как известно, гордившегося тем, что принял Рим кирпичным, а оставил мраморным. Луций украсил центр Рима не только великолепной аркой, но и целым рядом новых архитектурных сооружений. На Палатине императорский дворец был обновлён грандиозным фасадом, представлявшим собой сложное сочетание стенных массивов, колонн и арок. Сооружение дополняли многочисленные скульптуры, появились даже фонтаны. Всё это великолепие, имевшее несколько ярусов, получило название Септизониум86. Также в правление Севера было воздвигнуто много новых храмов. В большинстве своём они были посвящены давно уже ставшим привычными в Риме восточным божествам – Исиде и Серапису. Ярко характеризует эту эпоху также распространение в столице Митреумов – святилищ иранского божества Митры. Он почитался как бог, приносящий победу, и пользовался особенной любовью в военной среде. Потому неудивительно, что при Септимии Севере покровительство митраизму проявляется и на высшем уровне. Восточные культы, однако, не затмили совсем уж античных греко-римских божеств. Так по распоряжению Севера был воздвигнут огромный храм Геркулеса и Диониса. В тронном зале Палатинского дворца Луций восседал между статуями этих божеств.
Не было забыто и бытовое строительство. Городские когорты получили новые казармы. Широко велись реставрационные работы. Были восстановлены дворцы Августа и Тиберия, портик Октавии. Появились и новые дворцовые сооружения, не только императорские. Что характерно, на отреставрированных зданиях сохранялись имена их строителей. Здесь Север, возможно, следовал славному примеру Адриана, при котором на восстановленном Пантеоне было оставлено имя его создателя Марка Випсания Агриппы. Самым же грандиозным строительством, начатым по повелению Луция, стало возведение невиданных ранее по размеру и великолепию терм. Но поскольку завершились эти работы уже в правление сына Севера, то и вошли они в историю как термы Каракаллы (211–217 гг.).
Понятно, что одним Римом строительная активность принцепса не ограничивалась. Прежде всего, прокладывались многочисленные новые дороги в провинциях. Неудивительно, что центр тяжести императорских строительных инициатив помимо столицы пришёлся на родную Луцию Африку87.
Конец II и начало III века стали заметной страницей в развитии римской скульптуры, прежде всего, скульптурного портрета. Таковой в эти годы претерпевал особо заметные изменения88. Да, он сохранял преемственность в технических приёмах времён Антонинов, но смысл образов резко изменился. Философскую задумчивость на лицах заменили настороженность и подозрительность. Подчёркивания таких настроений проявились даже в изображениях женщин и детей89. Интересное мнение о римском скульптурном портрете этого времени высказал знаменитый швейцарский искусствовед минувшего века Карл Буркхардт: «Бюст и статуя имеют большое преимущество по долговечности перед нарисованными картинами, на которых нынешнее занятое человечество думает предстать перед потомками. Но в бюстах и статуях есть так мало лестного, что римское искусство упрекали в слишком грубом и трезвом изображении действительности… Какими бы ни были оформление и одежды, остаётся факт, что лучшие римские портреты беспощадно и с большим жизнеощущением выражают характер и черты портретируемого».90 Замечательным образцом скульптурного портрета времён правления Севера является мраморное изображение августы Юлии Домны, находящееся в Мюнхенской глиптотеке. Оно удивительно точно передаёт сущность этой выдающейся женщины. Спереди густые волосы мягкими волнами спадают на плечи, а сзади они уложены в сетке. Причёска обрамляет её выразительное, умное, с правильными чертами лицо. Портрет как бы живёт контрастом между пышной копной причёски и мягкими задумчивыми чертами лица91. А вот скульптура старшего сына Севера отражает черты его характера, печально проявившиеся в полной мере после его восшествия на престол – жестокость и нетерпимость92.
Как видим, развитие культуры, как материальной, так и духовной, свидетельством чего было блистательное интеллектуальное окружение Юлии Домны, в годы правления Септимия Севера оставило достойный след в римской истории. Сама же августа вполне заслуживает звания Мецената своего времени. «Мать лагерей» играла незаурядную роль в делах Империи. Не зря в свой последний военный поход Север отправился вместе с ней.
Примечания к V главе
1 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 1 (1 – з).
2 Соколов Г.И. Римское искусство. – Культура древнего Рима, т. I, М., 1985, с. 412.
3 Фёдорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976, с. 206.
4 Соколов Г.И. Римское искусство…, с. 413–414.
5 Там же, с. 414.
6 Там же, с. 415.
7 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 14 (6).
8 Там же. LXXVI. 15 (1).
9 Геродиан. История…, III. 10 (6–7).
10 Светоний. Божественный Юлий. 49 (1).
11 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 15 (4–5).
12 Там же. LXXVI. 15 (1).
13 Там же. LXXVI. 15 (6).
14 Брантом Пъер. Галантные дамы. СПб., 2007, с. 53.
15 Там же.
16 Геродиан. История…, III. 10 (8).
17 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 16 (3).
18 Там же. LXXVI. 16 (4).
19 Там же. LXXVI. 2 (2).
20 Там же. LXXVI. 2 (5).
21 Там же. LXXVI. 3 (2–4).
22 Там же. LXXVI. 4 (4).
23 Элий Спартиан. Север. XVIII. (8).
24 Levick Barbara. Julia Domna. Syrian Empress. London. New York, 2007, p. 74–80.
25 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 6 (3).
26 Геродиан. История…, III. 11 (8).
27 Там же. III. 12 (12).
28 Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV–LXXX. СПб., 2015, с. 266, прим. 11.
29 Геродиан. История…, III, прим. 95.
30 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIX. 1.17.
31 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 161–162.
32 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 5 (1–3).
33 Там же. LXXVI. 7 (3).
34 Там же. LXXVI. 8 (3–5).
35 Светоний. Тиберий. 37 (1–2).
36 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 10 (1–5).
37 Griinewald Th. Bandits in the Roman Empire. Myth and Riality. London, New-York, 2004, p. 111.
38 Дион Кассий. Римская история. LXXVI. 10 (7).
39 Цицерон. О государстве. III. (XVI, 24).
40 Аврелий Августин. «О граде Божьем». IV. 4, 25.
41 Тацит. Аналы. II. 40.
42 Кравчук Александр. Галерея…, с. 420.
43 Там же, с. 420–421; Савин НА. Военная история…, с. 362.
44 Гиббон Эдуард. Закат и падение…, с. 127.
45 Смышляев А.Л. Септимий Север и римская юриспруденция. – Правоведение. 1975. № 5, с. 62.
46 Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956, с. 65.
47 Смышляев А.Л. Септимий Север…, с. 68.
48 Гиббон Эдуард. Закат и падение…, с. 123.
49 Там же, с. 124.
50 Кравчук Александр. Галерея…, с. 421.
51 Гиббон Эдуард. Закат и падение…, с. 124.
52 Кравчук Александр. Галерея…, с. 421.
53 Смышляев А.Л. Септимий Север…, с. 63.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же, с. 68.
57 Нетушил Н.В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894, с. 37; Schulz F. History of Roman legal Science. Oxford, 1946, p. 246.
58 Князький И.О. Император Диоклетиан и закат античного мира. СПб., 2010, с. 53.
59 Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1996, т. II, с. 422.
60 Рябов А.Ю. Антисенатские тенденции…, с. 206.
61 Рябов А.Ю. Цели военных реформ Септимия Севера и их влияние на эволюцию имперской политической системы. – Жебелёвские чтения. Тезисы докладов научной конференции 29–31 октября 2001 г. СПб., 2001, с. 188.
62 Лебедев П.Н. Трансформация власти в Римской империи в III в. н. э. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03. Всеобщая история. М., 2010, с. 16.
63 Махлаюк А.В. Политические последствия военных реформ Септимия Севера. – Римская слава. Политика, государство и право. 16 ноября 2009 г. https://www.roman-glory.com/maxlayuk-reformy-severa
64 Там же.
65 Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 1999, с. 352.
66 Там же, с. 353.
67 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство…, т. II, с. 158.
68 Махлаюк А.В. Политические последствия…
69 Махлаюк А.В. Историк «века железа и ржавчины». – Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги. LXXIV–LXXX, СПБ., 2015, с. 381.
70 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство… т. II, с. 118.
71 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 196.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Крист Карл. История времён римских императоров, т. II, с. 260.
75 Лебедев П.Н. Трансформация власти…, с. 16.
76 Birley A.R. Septimus Severus…, р. 195.
77 Тацит. Анналы. III, 65.
78 Светоний. Нерон. 37 (3).
79 Смышляев А.Л. Императорская бюрократия при первых Северах. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. М., 1977, с. 19.
80 Там же.
81 Лебедев П.Н. Трансформация власти…, с. 12; Махлаюк А.В. Политические последствия…
82 Сергеев И.П. Римская империя в III веке: проблемы социально-политической истории. Харьков, 1999, с. 187.
83 Крист Карл. История времён римских императоров, т. II, с. 261.
84 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX. (23).
85 Там же. XX. (21).
86 Соколов Г.И. Римское искусство…, с. 412.
87 Крист Карл. История времён римских императоров, т. II, с. 254.
88 Соколов Г.И. Римское искусство…, с. 415.
89 Соколов Г.И. Скульптурный портрет мальчика из ГМИИ. – Советская археология, 1965, № 4, с. 137–143.
90 Цит по: Крист Карл. История времён римских императоров, т. II, с. 176.
91 Там же, с. 262; Хафнер Герман. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. М., 1984, с. 294–295.
92 Хафнер Герман. Выдающиеся портреты…, с. 143.
Глава VI
Последний поход
Падение Плавциана, в котором столь заметную роль сыграл старший сын Севера, состояние дел в императорской семье не только не улучшило, но, что крепко удручило её главу, только ещё больше ухудшило. Оба историка-современника Дион Кассий и Геродиан рисуют самую неприглядную картину поведения обоих сыновей правителя и, что особенно характерно, ни одного из них не выделяют в сколь-либо положительную сторону. Дион Кассий свидетельствовал: «Сыновья Севера, Антонин и Гета, словно бы избавившись в лице Плавциана от надсмотрщика, пустились во все тяжкие. Они путались с женщинами и растлевали мальчиков, сорили деньгами, приятельствовали с гладиаторами и колесничими, состязались друг с другом там, где имели общие интересы, но ссорились там, где их устремления расходились, ибо если один увлекался чем-то, то второй непременно выбирал прямо противоположное. В конце концов, они затеяли друг с другом некое состязание, устроив гонки на упряжках пони, и соперничали столь сильно, что Антонин свалился со своей двуколки и сломал ногу».1
Луций, как писал Геродиан, «хотел отучить сыновей от их образа жизни в Риме и приучить к более дельному, так как видел, что они склонны к непристойным и неподобающим государям зрелищам. Это пристрастие к зрелищам и соперничество, вызывавшее между ними постоянные расхождения и противоположность мнений, возбуждало души братьев и разжигало огонь раздора и вражды».2 Впрочем, беда была не только в пристрастиях к непристойным зрелищам и в различных мнениях братьев по тем или иным вопросам. Сам образ жизни что Антонина, что Геты был отвратительным и не сулил Римской империи ничего хорошего, когда сей братский тандем естественным образом однажды окажется у власти…
Север, человек государственного ума, не мог не видеть, сколь наследники его далеки от добродетели. Перспектива передать правление в такие руки, конечно же, не могла его не угнетать. Потому он со своей отцовской стороны пытался воздействовать на обоих, дабы образумить их и направить буйные страсти, в них бушевавшие, на разумные дела во благо процветания Империи. Сам он, обладая огромной властью, не покладая рук трудился, дабы оберегать Рим от внешних врагов и поддерживать должный порядок внутри государства. Да, многие его деяния были жестоки, порой несправедливы, но, в чём едва ли стоит сомневаться, сам Север полагал их необходимыми и полезными для процветания державы. Потому особо горько было ему видеть, насколько чужд долгу правителя образ жизни обоих его преемников. О том, какие усилия Луций прилагал, пытаясь вразумить пустившихся во все тяжкие сыновей, писал Геродиан: «Север постоянно старался помирить сыновей, внушить им единомыслие и согласие, напоминая о старинных сказаниях и трагедиях, рассказывая о несчастьях братьев-царей, всегда бывавших следствием раздоров. Север показывал им сокровища и храмы, полные денег. Указывал, что богатств и денег столько, что не будет нужды добывать их кознями, когда дома всё имеется в таком изобилии, что воинов можно свободно и щедро награждать, что в Риме их силы увеличились вчетверо, а перед городом размещено столько лагерей, что никакие внешние враги не могут равняться или противостоять им ни численностью войска, ни ростом воинов, ни количеством денег. Однако, говорил Север, от всего этого нет никакой пользы, если братья враждуют друг с другом и идет внутренняя война. Часто, настоятельно повторяя что-нибудь в этом роде или упрекая, он старался образумить и примирить их, они же не слушались, делаясь все необузданнее и хуже. Льстецы тянули каждый в свою сторону пылких юношей, которые под сенью императорской власти ненасытно стремились ко всем приманкам наслаждения, и не только угождали их прихотям и самым постыдным желаниям, но и постоянно изыскивали что-нибудь новое, чтобы еще больше ублажить одного и опечалить тем самым другого. Север уже наказал некоторых из них, уличив их в подобном поведении».3
Судя по всему, отцовское воздействие на неразумных сыновей не достигло цели. Они уже полагали себя взрослыми и считали себя вправе вести образ жизни, наиболее для них приятный, не слишком-то считаясь с наставлениями отца. Очевидно, Луций упустил время, благоприятное для воспитания, хотя и брал Антонина и Гету в походы и поездки по Империи. Возвышая их в цезари, а старшего и в августы, Север не мог не говорить сыновьям о том, какую ответственность эти высочайшие титулы на них накладывают. Да они и сами не могли не видеть, сколь много сил отец отдаёт делам державным. Но ведь разгул для людей, только-только вступающим во взрослую жизнь, увы, является опаснейшим соблазном. Особенно, когда в силу принадлежности к августейшему семейству, они могли пользоваться вседозволенностью. К строгим мерам по отношению к сыновьям Луций, как мы видим, не прибегал, ограничиваясь увещеваниями. Истина из басни Крылова, что должно «речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить», увы, была тогда ещё неведома. А, возможно, делать это было уже и поздно… Что до высокоодарённой царственной матери наследников Луция, то Юлия Домна, похоже, слишком увлеклась своим, конечно же, наидостойнейшим продолжением традиций Мецената на Палатине. Потому она охотно передоверила воспитание сыновей отцу. В конце концов, подготовка преемников во имя сохранения во главе Империи династии Северов – это его прямая и непременная задача!
Необходимо отметить, что как раз в эти годы (205–208) Север проявил решительную заботу как раз об укреплении незыблемости положения своей семьи у власти именно как родоначальницы новой правящей династии. Расправа над Квинтиллом вовсе не была следствием свирепости правящего принцепса. Злосчастный Марк был ведь последним из приёмных сыновей Марка Аврелия… А вот обе дочери императора-философа были выданы замуж за людей, безусловно верных Луцию. Корнифиция стала супругой всадника Луция Дидия Марина. Вибия Сабина обрела мужа в лице Луция Аврелия Агаклита, сына вольноотпущенника, включённого за свои заслуги во всадническое сословие4.
Стремясь приучить сыновей к государственной деятельности и наладить их взаимодействие, Север дважды назначал Антонина и Гету консулами – в 205 и 208 годах5. Но и это не привело к примирению братьев.
Тем временем из далёкой Британии пришло известие от наместника Луция Алфения Сенеция. Согласно сообщению легата, «тамошние варвары восстали, разоряют страну набегами, производят много опустошений; потому он нуждается в большом войске для защиты страны или в появлении самого императора6». Север воспринял донесение Сенеция самым серьёзным образом и решил откликнуться на обе его просьбы. В Британию были направлены многочисленные войска, а возглавил их сам властелин Империи. Здесь Север учитывал два обстоятельства: во-первых, армия уже несколько лет всерьёз не воевала, явно расслабилась от праздности; во-вторых, участие обоих сыновей вместе с отцом в большом военном походе отвлекло бы их от роскошного образа жизни, чему бы очень поспособствовала строгая военная обстановка7.
Кампания, надо сказать, римлянам предстояла нелёгкая. Британию можно уверенно назвать самой непокорной из провинций Империи, пусть и господствовала она там на значительной части острова уже более полутора столетий. Первым на британской земле побывал ещё в 55 и 54 годах до н. э. Гай Юлий Цезарь. Однако из-за встреченного там серьёзного сопротивления бриттов и недостатка собственных сил попытки закрепиться на острове он не предпринял. К реальному завоеванию Британии римляне приступили только в 43 году при Клавдии (41–54 гг.) силами четырёх легионов. Тогда удалось установить римское господство в южной и частью центральной части острова. Сопротивление британцы оказывали отчаянное и с властью завоевателей мириться не желали. В ответ римляне действовали предельно жестоко. Как результат бесчеловечной политики прокуратора провинции Ката Дециана в Британии вспыхнуло «великое восстание» 59–61 гг. во главе с царицей Боудикой. В память об этой героической странице британской истории на набережной Темзы установлен памятник славной предводительнице борьбы за свободу, где она изображена на боевой колеснице. Не без труда римлянам удалось подавить восстание. Учитывая уроки случившегося, римские власти попробовали изменить политику. Наместник Британии в 77–84 годах Гней Юлий Агрикола старался действовать более разумно и учитывать интересы местного населения. Он начал в провинции активную политику романизации, полагая её залогом упрочения римской власти. В то же время в отношении непокорных племён наместник был совершенно беспощаден. Агрикола же сделал попытку подчинить Риму весь остров. В 84 году в битве при Гравпии он одержал блистательную победу над каледонцами на землях современной Шотландии, а римский флот обогнул северную оконечность Британн. Но утвердиться в Каледонии римлянам всё же не удалось. В правление Адриана британцы причинили Империи очень серьёзные неприятности. В 119 году на острове вспыхнуло восстание, для подавления которого пришлось перебрасывать туда дополнительные войска с континента. Верно оценивая опасность положения римских рубежей на острове, Адриан повелел соорудить пограничный вал, отделяющий провинцию от независимых племён Каледонии. Его протяжённость – от залива Солуэй-Форт в Ирландском море до впадения реки Тайн в Северное море – составила 128 километров. Но и вал не оградил римлян от тяжелейшей неудачи. В 122 году британцам удалось уничтожить IX Испанский легион. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца не ясны. Возможно, это был результат внезапного восстания бриттов на севере провинции8. Не исключено, что каледонцы умело заманили римлян в засаду на землях к северу от пограничных укреплений9.
Но вот при Антонине Пие в 142–143 гг. удалось добиться успехов в Британии. Тогда рубежи провинции продвинули на север на 16о километров. Был построен новый вал на широте современных Эдинбурга и Глазго. Правда, в 184 году при Коммоде римляне отступили к югу на прежнюю границу по валу Адриана. Благополучной она всё равно не была. Во время гражданской войны между Севером и Клодием Альбином британское племя меатов стало дерзко нападать на римские владения. Тогда Луций поручил Вирию Лупу добиться мира с ними, пусть и купить таковой за большие деньги. В то же время совсем расставаться с землями между валами Адриана и Антонина римляне не собирались. Потому большая война на острове действительно представлялась неизбежной.
Планы Севера в этой кампании были самыми решительными. Дион Кассий утверждает, что император собирался покорить весь остров10. Вторая попытка со времён похода в Каледонию Гнея Юлия Агриколы! На войну Луций отправился со всей семьёй. Ему сопутствовали и «мать лагерей» августа Юлия Домна, и второй август Антонин Каракалла, и цезарь Публий Септимий Гета. Самочувствие императора оставляло желать лучшего: в 63 года он выглядел уже глубоким стариком, жестоко страдал от усиливающейся подагры, из-за чего большую часть пути проделал на носилках. При этом, как отметил Геродиан, духом «он был крепче всякого юноши»11. Наверное, благодаря именно этому Север прибыл в Британию удивительно быстро. «Переправившись через океан, он появился перед британцами; отовсюду собрал воинов, составивших значительную силу, и приготовлялся к войне».12 Прибытие самого императора на остров, мощное подкрепление, усилившее стоявшие там легионы, ошеломили британцев. Они сочли за благо отправить в стан принцепса послов для ведения мирных переговоров и готовы были даже покаяться в прежних винах перед римскими властями. Север, однако, вовсе не был настроен на такое завершение противостояния, полагая, что добьётся своего только силой оружия. А, собственно, как иначе он мог вернуться в Рим победителем, воздвигнуть победные трофеи и получить почётное прозвание «Британский»? Потому послов отослали ни с чем, а легионы стали готовиться к войне. Какими же силами располагал Луций для решительного вторжения в Каледонию и, возможно, действительного достижения северной оконечности Британии? Согласно подсчётам современного финского историка Илкка Сивенне, всего Север располагал восьмьюдесятью пятью тысячами пехотинцев и двадцатью двумя с половиной тысячами конных воинов13. Если эти подсчёты верны, то, получается, что со времён походов Траяна на Дакию и Парфию римляне для одной кампании столь огромных сил не собирали.
Приготовление к началу военных действий были непростыми. Требовались большие работы для успешного преодоления природных факторов театра военных действий. Север уделил этому самое серьёзное внимание: «Особенно он старался пересечь плотинами болотистые местности, чтобы воины могли легче пройти эту местность и сражались, стоя на крепкой земле. Ведь большая часть британской земли затопляется непрерывными приливами океана и поэтому болотиста; варвары обыкновенно переплывают или переходят болота, погружаясь до пояса. Они ведь почти совсем без одежды, и ил не мешает им. Они не знают платья, пах и шею прикрывают железом, считая его украшением и признаком богатства, как прочие варвары – золото. Тела они татуируют разноцветными рисунками и изображениями разных зверей. Они и не одеваются для того, чтобы не закрывать рисунки на теле. Они весьма воинственны и кровожадны; оружие у них – только узкий щит, копье и меч, который висит на голом теле. Панциря и шлема они не знают и считают помехой при переходах через болота, от которых поднимаются густые испарения и воздух над всей страной постоянно кажется туманным. Приготовления Севера должны были в этих условиях помочь римскому войску, а также сдерживать и сковывать натиск варваров».14
Каковы же были в начале III века знания и представления римлян о Британии, её населении в незамирённой части острова, где армии Луция предстояло вести военные дейстивия? Слово Диону Кассию: «Самыми главными народами Британии являются два – каледонцы и меаты, а названия других, так сказать, слились в эти два. Меаты обитают за той самой стеной, что разделяет остров на две части, а каледонцы дальше за ними; оба племени населяют дикие и бедные водой горы, пустынные и болотистые равнины, не имеют ни стен, ни городов, не возделывают полей, но кормятся благодаря своим стадам, охотничьей добыче и кое-каким диким плодам, ибо рыбы, которая там водится в несметном количестве, они не едят. Живут они в шатрах, не пользуясь ни одеждой, ни обувью, женщинами владеют сообща и всё потомство воспитывают вместе. По большей части имеют они народное правление и весьма охотно занимаются грабительскими набегами; по этой причине они выбирают своими предводителями самых отважных мужей. Сражаются они и на колесницах, используя небольших и быстрых лошадей, и в пешем строю; в беге они чрезвычайно стремительны и очень устойчивы в обороне. Вооружены они щитами и короткими копьями с прикреплёнными внизу древка бронзовыми шаровидными погремушками, которые при сотрясении гремят и устрашают неприятелей; имеются у них также и кинжалы. Они умеют переносить и голод, и стужу, и всякого рода тяготы; ведь, погрузившись в болото так, что над водой остаётся только голова, они проводят так по многу дней, а в лесах питаются корой и кореньями и на всякие чрезвычайные обстоятельства готовят особый вид пищи, съедая кусочек которой всего лишь размером с боб, они не испытывают ни голода, ни жажды.
Вот что представляет собой остров Британия, и таких имеет он жителей, во всяком случае, в незамирённой своей части. Ведь то, что это остров, было, как я уже говорил, с очевидностью доказано в то время. Он имеет в длину девятьсот пятьдесят миль, в ширину, в самом протяжённом месте, – триста восемь, а в самом узком – сорок. Из всей этой площади мы владеем немногим меньше половины».15
Разумеется, столь жесткие и нелестные оценки образа жизни британцев относятся, прежде всего, к независимым от римской власти землям. Провинции – Север в 197 году разделил островные владения Империи на две части: Британия Верхняя и Британия Нижняя – к началу III века были достаточно освоены римлянами и выглядели вполне цивилизовано. Очагами прогресса традиционно стали стоянки легионов, что было необходимо для закрепления господства на завоёванных землях. Со временем там вырастали города, представлявшие собой как бы микрокосм самого Рима16. В них присутствовали все блага римской цивилизации, становившиеся доступными и коренному населению. Города имели правильную планировку, в центре находился форум, базилики – общественные здания, наличествовали термы, амфитеатры, театры17. Но легионам Севера приходилось действовать в совершенно иной местности, так ярко описанной сенатором-историком18. Двинув легионы к северу от вала Адриана, император взял с собой в поход старшего сына. Публий Септимий Гета, произведённый подобно Каракалле в 209 году в августы, остался в городе Эбораке (совр. Йорк), где возглавил гражданское управление провинцией Нижняя Британия19. Там же пребывала и Юлия Домна. Повысив статус младшего сына, Север прямо обязывал братьев готовиться к соправительству после обретения престола. У августов были равные права. Правда, как покажут дальнейшие события, старший сын вовсе не был в восторге от отцовского решения…
Продвижение войск в Каледонию шло нелегко, столкнувшись с многочисленными природными препятствиями. Легионерам приходилось вырубать леса для прокладки дорог, строить переправы через реки, а иногда даже срывать препятствовавшие движению вперёд возвышенные места, а также засыпать встречавшиеся на пути армии болота. При этом, что было наиболее огорчительно, римляне ни разу ещё не вступили в сражение с неприятелем и даже не видели его боевых порядков20. Стычки и перестрелки с каледонцами начались, правда, с выступления в поход, когда легионы перешли реки и земляные насыпи на пограничье, но в серьёзные бои они не перерастали. Произведя нападение на римлян, британцы не ввязывались в сражение, а стремительно отходили. Это им делать было нетрудно, поскольку, прекрасно зная местность, они легко укрывались в лесах, а то и заманивали легионеров в болота21. Действовали британцы очень изобретательно. Поскольку у них в изобилии были стада крупного и мелкого скота, то они наловчились пускать животных большими массами перед римлянами. Расчёт был такой: те увлекутся захватом добычи, расстроят свои походные ряды, после чего их легче будет одолеть. Таким образом, каледонцы, избегая решительного боя, в котором их ополчение не могло устоять против римского строя, изматывали противника неожиданными нападениями, заманиванием отдельных отрядов легионеров в погибельные места. Плохая по качеству вода вызывала у солдат желудочные болезни, а то и отравления, ведь приходилось утолять жажду не только из рек, но и из болот. Поскольку такие нападения были многочисленными, то потери римлян множились. Самым же ужасным для них исходом был плен. Там легионеров ждали лютые мучения, поскольку ненависть британцев к завоевателям не знала предела. Дион Кассий писал, что, когда солдаты оказывались не в состоянии идти, «то сами умерщвляли друг друга, дабы избежать захвата в плен»22. Число потерь римской армии в Каледонской кампании Дион Кассий оценивает в 50 000 человек23. Получается, что войско практически ополовинилось. При этом ни одного большого сражения, ни одной кровопролитной осады… Поверить такому числу потерь просто невозможно. В этом случае армия просто не смогла бы продолжить поход. А Север и не думал останавливать движение на север Британии. Дион Кассий пишет, что, в конце концов, он «приблизился к крайнему пределу острова»24. Разумеется, едва ли римляне действительно дошли до северной оконечности Британии. Скорее всего, они добрались до побережья залива Морей-Форт на северо-востоке Шотландии25. Далее продолжать поход Север не решился, поскольку это означало бы длительную войну26. С учётом потерь, пусть и не половины армии, но наверняка значительных, а также способности каледонцев к дальнейшему сопротивлению, самым разумным представлялось завершение кампании. Тем более что британцы, множество селений которых было разорено римлянами, не возражали против мирных переговоров. Считать кампанию 209 года для римлян совсем уж неудачной не приходится. По распоряжению Севера удалось вновь отстроить ряд ранее оставленных укреплений на восточном побережье Каледонии между валами Адриана и Антонина. Появились и новые форты. Поскольку в сложившейся обстановке обе стороны были готовы к заключению мира, то таковой вскоре и был подписан. Каледонцы вернули римлянам былые их владения, обретённые при Антонине Пие и утраченные при Коммоде, но независимость свою отстояли. Попытка Севера подчинить Империи всю северную часть Британии не удалась. Тем не менее, было объявлено о победном завершении войны, в честь чего и Луций, и Антонин были удостоены титула «Британский». Север весь поход тяжело болел и большую его часть провёл на носилках. Каковы были военные заслуги Каракаллы в кампании 2009 года, сказать сложно. Геродиан так описал поведение молодого августа: «Но Антонин мало думал о войне с варварами; он старался расположить к себе войско, заставить всех смотреть только на него, всячески стремился к единовластию, клевеща на брата. Тяжело больной, медлящий умереть, отец казался ему тягостным и обременительным. Он уговаривал врачей и прислужников как-нибудь повредить старику во время лечения, чтобы скорее от него избавиться».27 Что ж, возвышение Геты до уровня августа ещё больше озлобило его старшего брата, который, видя, что болезнь отца только усиливается, всё более и более желал смерти старому императору, не отказываясь от мысли постараться ускорить роковой исход.
Дион Кассий сообщает о двух попытках Каракаллы реализовать свои замыслы. Первый случай выглядит достаточно странно. Якобы молодой август выскочил из своего шатра, возопив во всё горло, что над ним надругался либертин Кастор. Этот человек был очень близок к Северу, пользовался у него исключительным доверием и занимал две высокие должности при императоре – секретаря и спальника. Дион Кассий подчёркивает, что он был лучшим из отпущенников в окружении Севера28. На вопли Каракаллы отозвались воины, очевидно заранее подготовленные, поскольку немедленно стали кричать вместе с ним. Но тут внезапно появился сам император. Кричавшие сразу присмирели, а Луций распорядился наказать наиболее рьяных смутьянов29. Кара, похоже, была суровой. Возможным свидетельством этого стало обнаружение археологами в 2004 ГОДУ на римском кладбище, исследованном на территории современного Йорка, нескольких десятков скелетов. В 2005 ГОДУ была найдена ещё одна могила с останками 24 человек, 18 из которых были обезглавлены. Научный анализ костей показал, что это мужские скелеты людей не старше 45 лет, примерно одинакового роста около 174 сантиметров, крепкого телосложения. Изотопный анализ подтвердил, что в основном это были уроженцы Средиземноморья, Альпийских областей, частично Африки. Обезглавлены они были со спины грубыми ударами, что позволяет считать их жертвами казни. Казнь путём отсечения головы была привилегией римских граждан. Близость физических параметров жертв вызвала предположение, что это были воины-преторианцы30.
При обнаружении останков появилась версия, что это жертвы расправ Каракаллы над теми, кого он считал своими врагами после смерти отца. Позже, однако, выяснилось, что скелеты датируются четырьмя разными периодами. Что же касается обезглавленных предполагаемых преторианцев, то здесь допустима трактовка, что это как раз те самые смутьяны, поддержавшие вопящего Каракаллу и за то наказанные Севером31.
Вся эта подробно описанная Дионом Кассием история выглядит достаточно странно, если не сказать, малопонятно. Насилие императорского секретаря над молодым августом повод скорее для расправы над Кастором, но никак не для убийства отца пострадавшего… В то же время жестокая расправа над просто вопившими в унисон с Каракаллой воинами совершенно нелепа. Север, конечно, бывал достаточно жесток. Но для этого у него, как правило, были серьёзные резоны. Карать же смертью за какие-то вопли, это уж слишком… Возможно, они были далеко не безобидны и заключали в себе нечто оскорбительное или даже угрожающее в адрес императора. Ведь Кастор – один из его любимцев! Да и наверняка Север не в одиночку усмирил крикунов и задержал ретивых смутьянов. Должно быть, он появился близ шатра сына в достаточно многочисленном сопровождении преданных ему преторианцев. Отсюда и провал странного по форме и нелепого по исполнению первого «заговора» Каракаллы против отца.
Настоящая же попытка покушения Антонина на Севера состоялась, когда они оба в сопровождении воинов направлялись на встречу с каледонцами для завершения переговоров и заключения мира. Император, сильно страдавший от лютых болей в суставах из-за разгулявшейся подагры, всё же нашёл в себе силы отправиться на встречу верхом. Двигались оба августа, а также воины эскорта в тишине и в полном порядке. Но, когда они оказались близ строя каледонцев, случилось совершенно неожиданное. Каракалла вдруг осадил своего коня и обнажил меч. Казалось, он сделал это, собираясь поразить выдвинувшегося вперёд отца ударом в спину. По счастью, скакавшие сзади, увидев это, истолковали действие Антонина именно как намерение покуситься на жизнь императора и подняли крик. Каракалла смутился и не решился пустить оружие в ход. Север же, услышав крики, обернулся, увидел обнажённый меч в руке сына, совершенно неуместный в предстоящей церемонии, и только посмотрел на него, ничего, однако, не сказав. Надо полагать, растерявшийся Каракалла вернул меч в ножны. Если это и была попытка покушения, то ему явно не хватило хладнокровия и решительности. Или это был спонтанный жест, рокового удара не предполагавший? Да и время, и место покушения были явно не подходящие… Север, однако, воспринял всё всерьёз. Он хладнокровно поднялся на трибунал – помост для переговоров с каледонцами, где и был заключён мирный договор. Рубеж Империи вновь вернулся на вал Антонина Пия, в свою очередь, римляне обязались не вторгаться на свободные британские земли32.
Когда церемониал завершился, Север великодушно пригласил каледонских вождей и сопровождавших их жён погостить в его резиденции в Эбораке. В приёме гостей приняла участие и августа. В разговоре с супругой одного из вождей Юлия Домна шутливо прошлась по местным нравам, указав на уж больно свободные отношения британских женщин с мужчинами. Каледонская дама не смутилась и немедленно дала императрице ответ: «Мы гораздо лучше выполняем требования природы, нежели вы, римские женщины, ибо мы открыто вступаем в связь с наилучшими мужами, тогда как вы позволяете тайно соблазнять себя самым худшим».33
Север тем временем, вернувшись в Эборак, сразу же послал префекта претория к старшему сыну, дабы Антонин без промедления предстал пред очи отца. Дальнейшее подробно живописует Дион Кассий: «Тогда, вызвав сына, а также Папиниана и Кастора, он приказал положить меч так, чтобы его легко можно было взять, и упрекнул юношу за то, что тот вообще дерзнул на подобное, но в особенности за то, что тот готов был совершить столь ужасное преступление на виду у всех, как союзников, так и врагов, и в заключение сказал: «Если ты действительно хочешь меня зарезать, убей меня здесь. Ведь ты полон сил, тогда как я стар и немощен. Если же ты не отрекаешься от этого деяния, но не решаешься поразить меня собственной рукой, то рядом с тобой стоит префект Папиниан, которому ты можешь приказать меня умертвить: ведь он исполнит любой твой приказ так, словно ты и есть император». Сказав так, он тем не менее не причинил Антонину никакого зла, хотя сам не раз осуждал Марка за то, что тот тайно не устранил Коммода, и сам же не раз грозился так поступить со своим сыном. Однако подобные угрозы он всегда произносил в припадке гнева, тогда же он проявил большую любовь к своему отпрыску, нежели к государству; впрочем, поступая таким образом, он предавал другого своего сына, так как прекрасно понимал то, что произойдет в дальнейшем».34Думается, Дион Кассий прав: Север, конечно же, знал цену своему старшему сыну! Пример Марка Аврелия здесь неудачен. Коммод в свои девятнадцать лет не проявил и близко столько дурных наклонностей, как Каракалла и Гета. Поэтому «философ на коне» вполне мог надеяться, что благодаря мудрой опеке достойных советников, каковые составляли окружение молодого наследника, Коммод постепенно усвоит искусство власти. Луцию, увы, надеяться было не на что. Да и как поступить? Римская история знала примеры, когда отцы предавали казни преступных сыновей. Основатель Республики Луций Юний Брут в 509 г. до н. э. обрёк на смерть обоих своих сыновей, изобличённых как участников заговора с целью восстановления в Риме царской власти. Консул Тит Манлий Торкват приказал казнить сына, нарушившего его приказ, запрещавший вступать в бой во время Латинской воны (340–338 гг. до н. э.), пусть тот и одержал победу в поединке с предводителем вражеского отряда. Но ведь в этих случаях были и очевидные преступления против Республики, и неподчинение приказу консула. И то, и другое законно каралось смертью. Каракаллу, конечно, можно было бы и обвинить в покушении на жизнь императора, но ведь оно не состоялось… Возможно, Север попытался в последний раз, поразив сына своим благородством, направить его на путь служения отечеству. Не забудем и о состоянии Луция. Болезнь его усилилась. Всем, а в первую очередь ему самому, был очевиден её исход. Знал он и о вражде братьев. Но мог ли Север предположить, что год лишь спустя после воцарения августов-соправителей старший убьёт младшего, да ещё и в присутствии матери? Отказаться же от утверждения прямого династического правления он уже не мог, поскольку был бы не понят и в семье, да, пожалуй, и в армии…
Следующий 210 год принёс римлянам новую войну на британской земле. Меаты, ближайшие соседи Империи, недовольные всё же заключённым миром, лишившим их равнинных плодородных земель, восстали. Дела на острове уже в который раз принимали для Рима не лучший оборот. Надо было без промедления действовать быстро, энергично и беспощадно. Север собрал войско на сходку и, обратившись к воинам, «приказал им вторгнуться во вражескую страну и убивать всех, кто им попадётся35». Для большей убедительности он процитировал строки Гомера из «Илиалы», в которых предводитель ахеян царь Микен Агамемнон обращается к царю Спарты Минелаю, проявившему неуместное на войне великодушие к троянцу Адрасту:
«Чтоб никто не избег от погибели чёрной
И от нашей руки! Ни младенец, которого матерь
Носит в утробе своей, чтоб и он не избег погибели чёрной!»36
Поначалу император надеялся сам возглавить поход и стал к этому готовиться, но болезнь одолевала его всё сильнее и сильнее. Потому он был вынужден вручить управление войсками Каракалле37. Старший сын оценил своё новое положение. Армия устремилась на север, действуя именно так, как приказал принцепс. Антонин, впрочем, был озабочен не столько исполнением повелений отца, сколько завоеванием собственного авторитета в армии. Крайне жестокие действия римлян против меатов и каледонцев длились не слишком долго. Углубляться вновь в непокорённые северные земли острова Каракалла не решился. И здесь он руководствовался, пожалуй, не столько военными соображениями, сколько знанием о состоянии здоровья отца. Как бы в час его смерти младший брат – тоже август ненароком не захватил бы первенствующее положение. Каракалла успел завершить поход при жизни отца. При кончине Севера присутствовали оба сына. Император, чувствуя приближение смерти, пожелал увидеть урну, в которую будет помещён его прах. Она была сделана, по одним сведениям, из пурпурного камня – очевидно, порфира, по другим – из алебастра38. Осмотрев её, Луций сказал: «Ты остановишь человека, которого не мог остановить весь мир».39 Другие его слова были о тщете достижений в земной жизни: «Я был всем, и всё это ни к чему».40 Перед кончиной Север подвёл итоги своего правления: «Я принял государство, со всех сторон раздираемое восстаниями, а оставляю умиротворённым даже в Британии. Старый, с больными ногами, я оставляю моим Антонинам крепкую власть, если они окажутся хорошими, но бессильную, если они будут дурными».41 Он успел обратиться в свой последний час к сыновьям: «Живите дружно, обогащайте воинов, а на всех остальных не обращайте внимания».42 Испуская дух, Луций прошептал: «Давайте действовать, у нас ещё есть дела».43 По сведениям Элия Спартиана, Север даже успел дать трибуну пароль: «Будем трудиться».44 И в последний миг жизни Север пытался быть деятельным! Не зря он ранее сказал на сходке воинов: «Понимаете ли вы, что правит больше голова, чем ноги?»45
Скончался Луций Септимий Север в Эбораке 4 февраля 211 года, не дожив чуть более двух месяцев до своего шестидесятипятилетия. Погребальную урну с его прахом доставили в Рим и захоронили в императорском мавзолее, построенном Адрианом. По предложению обоих его сыновей – наконец-то они сошлись во мнении – покойный принцепс по постановлению сената был обожествлён.
Память о Луции Септимии Севере у римлян сохранилась добрая. Прежде всего, потому, что правление таких его преемников, как Каракалла (211–217 гг.) и Гелиогабал (218–222 гг.) оказалось очень скверным и для государства, и для народа. Добрые надежды, правда, подавал последний из династии – Александр Север (222–235 гг.). Но он вместе со своей матерью Мамеей оказался жертвой военщины, раздражённой недостаточными денежными выплатами. Роковым для династии Северов (193–235 гг.) стало несоблюдение последнего совета Луция, данного своим сыновьям… После гибели Александра в Риме наступила полувековая эпоха «Великого кризиса».
Можно ли упрекнуть Севера в том, что его царствование при всех его очевидных достижениях стало прологом столь печальных событий в Римской империи? Думается, это будет несправедливо46. При Луции держава реально укрепилась и даже в последний раз в своей многовековой истории сумела расширить свои пределы в Месопотамии и Триполитании. В Британии, правда, закрепить успех последней кампании не удалось. Как отмечал Теодор Моммзен: «…хотя Север незадолго до своей смерти сумел наказать каледонцев и меатов за сеяние смуты среди римских подданных в провинции Британия, но, как только старый император скончался в Эбораке, его сыновья добровольно вывели гарнизоны из этих территорий, чтобы избавиться от тяжёлой необходимости оборонять их».47
Если говорить о неоднозначных последствиях правления Севера, то, прежде всего, речь пойдёт о его военной реформе. Да, варваризация армии при нём не была столь значительной, каковой её порой представляют48. Но вот, став по сути оседлой, окончательно привязанной к местам расположения легионов, армия неизбежно утрачивала мобильность, столь необходимую в условиях, когда военные действия приходилось вести на самых разных рубежах необъятной Римской империи. Обретённая «домовитость», наличие законных семей также снижали желание легионеров отправляться в дальние походы, подвергая свои жизни опасностям. Главным же представляется другое: безудержное покровительство армии не только укрепляло её преданность престолу, но все более утверждало в воинах осознание того, что легионы – главная сила Империи, а потому именно они должны по своему желанию решать судьбы высшей власти. Как результат – «Эпоха солдатских императоров». Север никак не мог мечтать о таком итоге своего покровительства армии, поскольку его целью было утверждение на Палатине абсолютно легитимной династии, законной преемницы высокочтимых Антонинов.
Не во всём успешной представляется и экономическая политика императора. Резкий рост затрат на армию приводил ко всё большему вмешательству государства в хозяйственную жизнь страны, что далеко не всегда было для неё во благо. Лучшей демонстрацией этого стало распространение так называемой «военной анноны» – натурального налога, взимаемого с отдельных городов в случае государственной необходимости49. «Аннона» стала тяжелейшим налоговым бременем как для городских общин, так и для отдельных горожан. Во многом неудачной оказалась и финансовая политика Севера. От эпохи Антонинов ему досталась постоянно растущая инфляция – следствие непрерывных тяжёлых войн при Марке Аврелии и бездумных трат Коммода. Да и четыре года гражданской войны денежную систему тоже не укрепили. В итоге содержание чистого серебра в денарии опустилось до пятидесяти процентов. Приняв решительные меры – жёсткий контроль над расходами, ограничение безудержной эмиссии – удалось повысить содержание серебра в денарии до 79 процентов, как в лучшие времена при Антонине Пие. Ненадолго, правда. Через пару лет доля благородного металла в денарии упала на 28 процентов, вернувшись на прежний инфляционный уровень. Более того, в иных городах Империи появились чёрные рынки, где золотой aureus стоил больше, чем по официальному курсу 25 денариев50. Девальвация в Империи при Севере оказалась второй по уровню со времён Нерона (54–68 гг.).
В то же время продовольственный рынок державы в правление Севера окреп. После своей смерти он оставил запасов хлеба в Риме на семь лет, а оливкового масла, покрывавшего потребности Италии, на пять лет. Отметим, что главным поставщиком оливкового масла на Апеннины была провинция Африка, родина Луция.
Ещё один порой обсуждаемый вопрос: можно ли считать Севера выдающимся полководцем, подобным Тиберию, Веспасиану, Титу, Траяну? Действительно, на счету Луция, как мы помним, совсем не много побед, где он лично командовал легионами. Но и поражений он не терпел, исключая провальную осаду Хатры51. Впрочем, у стен этой крепости не снискал победных лавров и доблестный Траян… А вот умение назначать толковых командующих армиями, одерживающих победы, как раз качество, свойственное настоящим большим военачальникам.
Но вот главное, что не удалось Септимию Северу, так это подготовить себе достойного преемника. Сыновья его надежд не оправдали. Отсюда их пусть и разные, но равно трагические судьбы. И вообще все представители династии, правившие после Луция, умерли не своей смертью.
Наилучшей же эпитафией Септимию Северу можно счесть такие слова его биографа: «Он сочетал в себе здравый ум дельного правителя со столь большой жестокостью, что современники говорили о нём, что ему надо было вообще на свет не родиться, ибо был он очень жесток, или, если уж родился, то не
надо было умирать, ибо для государства был он очень полезен… Его очень любили после смерти – то ли потому, что злоба уже улеглась, то ли потому, что исчез страх перед его жестокостью… государство в течение долгого времени не видело ничего хорошего ни от его сыновей, ни после, когда многие устремились к власти и Римское государство стало добычей для грабителей».52
Примечания к vi главе
1 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 7 (1–2).
2 Геродиан. История…, III, 13. (1–2).
3 Там же. III, 13. (3–6).
4 Там же, прим. 104.
5 Birley A.R. Septimus Severus…, р. 16о, 177.
6 Геродиан. История…, Ill, 14. (1).
7 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 11 (1); Геродиан. История…, III, 14. (2).
8 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995, Т – V, с. 132.
9 Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима…, с. 458; Паркер Г. История легионов Рима. М., 2017, с. 130.
10 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 13 (1).
11 Геродиан. История…, III, 14. (2).
12 Там же. III, 14. (з).
13 Цит. по Савин НА. Военная история…, с. 379.
14 Геродиан. История…, III, 14. (5–8).
15 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 12 (1–5).
16 Широкова Н.С. Римская Британия…, с. 217.
17 Там же, с. 170.
18 Fergus Millar. A Study of Cassius Dio. Oxford, 1964, p. 177; Марков K.B. Дион Кассий о римском присутствии в Британии. – Британия: История, культура, образование: Тезисы докладов Международной научной конференции 28–29 мая 2008 г., Ярославль, 2008, с. 116–117.
19 BirleyA.R. Septimus Severus…, р. 18о.
20 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 13 (1, 2).
21 Геродиан. История…, III, 14. (9 – 10).
22 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 13 (2).
23 Там же.
24 Там же. LXXVII. 13 (3).
25 BirleyA.R. Septimus Severus…, p. 181.
26 Maxwell G.S. The Romans in Scotland. Edinburgh, 1989, p. 66.
27 Геродиан. История…, Ill, 15. (1–2).
28 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 14 (1).
29 Там же.
30 Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима…, с. 525–526.
31 Там же.
32 Там же, с. 524.
33 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 16 (5).
34 Там же. LXXVII. 14 (5–7).
35 Там же. LXXVII. 15 (1).
36 Гомер. Илиада. VI, 57–59.
37 Геродиан. История…, III, 15. (1).
38 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 15 (4); Геродиан. История…, III, 15. (7).
39 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 15 (4).
40 Элий Спартиан. Север. XVIII. (11).
41 Там же. XXXIII. (з).
42 Дион Кассий. Римская история. LXXVII. 15 (2).
43 Там же. LXXVII. 17 (4).
44 Элий Спартиан. Север. XXIII. (4).
45 Секст Аврелий Виктор. О цезарях. XX (26).
46 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 202.
47 Моммзен T. История Рима. Т – V, М., 2022, с. 168.
48 Birley A.R. Septimus Severus…, p. 196.
49 Крист Карл. История времён римских императоров… Т – 2, с. 253.
50 Там же, с. 254.
51 Campbell D. What Happened at Hatra? The problems of the Severan Siege Operations. – The Defence of the Romaan and Byzantine East. Oxford, 1986, p. 51–58.
52 Элий Спартиан. Север. XIX. (io, 6).
Хронология
11 апреля 146 г. – В городе Лептис-Магна в провинции Африка родился Луций Септимий Север.
164 или 165 г. – Север отправляется в Рим для продолжения образования.
169 г. – Север обретает квестуру.
173 г. – Север в 27 лет становится легатом при проконсуле провинции Африка.
174 г. – Луций удостоен решением Марка Аврелия должности народного трибуна.
– Женитьба Севера на Пакции Марцине.
177 г. – Север становится либо наместником Тарраконской Испании, либо легатом VII Сдвоенного легиона.
179 г. – Север стал легатом IV Скифского легиона в Сирии.
185 г. – Север, овдовев, женится на Юлии Домне.
185–188 гг. – Север – наместник Лугдунской Галлии.
186 г. – Восстание Матерна. Север участвует в его подавлении.
189 г. – Север – проконсул Сицилии.
190 г. – Север удостоен консульства.
192 г. – Север становится наместником провинции Верхняя Паннония, где в его подчинении три легиона.
31 декабря 192 г. – Убийство Коммода. Новым императором становится Публий Гельвий Пертинакс. Север изъявляет ему полную лояльность.
28 марта 193 г. – Убийство Пертинакса. Преторианцы продают императорский венец Дидию Юлиану. Наместник Британии Клодий Альбин, наместник Сирии Песцений Нигер и наместник Верхней Паннонии Луций Септимий Север не признают его законным правителем.
13 апреля 193 г. – Север на сходке легионов провозглашён императором.
1 мая 193 г. – Север двинул легионы на Рим.
9 июня 193 г. – Легионы Севера вступают в столицу. Сенат безропотно признаёт его законным императором.
9 июля 193 г. – Север выступает в поход на Восток против Песцения Нигера.
Ноябрь – декабрь 193 г. – Бои у Кизика близ Геллеспонта между войсками Севера и Нигера. Успех легионов Запада.
193–195/6 гг. – Осада Византия войсками Севера.
Январь 194 г. – Победа войск Севера у Никеи.
Февраль 194 г. – На сторону Севера перешёл наместник Египта.
Май (осень?) 194 г. – Решающее сражение при Иссе между армиями претендентов на Палатин. Полная победа северианцев.
Апрель 195 г. – Гибель Песцения Нигера.
Май 195 г. – Север, утвердившись на римском Востоке, двинул легионы за Евфрат против Парфии.
Конец 195 г. – Успешное завершение месопотамской кампании Севера. Создана новая провинция Осроена с центром в Нисибисе.
15 декабря 195 г. – Север объявляет Клодия Альбина «врагом отечества». Возобновление гражданской войны.
19 февраля 197 г. – битва у Лугдуна. Торжество Севера и гибель Альбина. Конец гражданской войны.
Август 197 г. – Север прибывает в Сирию. Начало новой парфянской кампании.
Сентябрь 197 г. – римская армия форсирует Евфрат.
28 января 198 г. – Север в захваченном Ктесифоне принимает титул «Парфянский Величайший».
Весна 198 г. – Неудача армии Севера под Хатрой.
Лето 198 г. – Возвращение Севера в Нисибис.
199 г. – Подписание мирного договора с Парфией. Рим закрепляет за собой Осроену и Адиабену, всю Северную Месопотамию.
– Юлия Домна получает титул «Mater Castrorum» – «Мать Лагерей».
– Север с семьёй посещает Нижний Египет.
202–203 гг. – Преследование христиан в Египте, Африке и, возможно, в Галлии.
202–205 гг. – Строительство арки Севера на римском Форуме.
203 г. – Поход Севера в Триполитанию против гарамантов. Последнее расширение Римской империи наряду с Северной Месопотамией.
22 января 205 г. ~ Падение и гибель Плавциана.
205 г. ~ Эмилий Папиниан стал префектом претория вместо Плавциана.
205 ~ 207 гг. ~ Разбои Буллы в Италии.
208–211 гг. – Британский поход Севера.
4 февраля 211 г. – смерть в Эбораке (совр. Йорк) императора Луция Септимия Севера.
Источники
Аврелий Виктор. О Цезарях. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. Пер. В.С. Соколова. Римские историки IV в. М., 1997.
Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1994.
Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. Пер. С.П. Кондратьева. Под ред. А.И. Доватура. М., 1992.
Геродиан. История императорской власти после Марка. М., 1996.
Евсевий Памфил. Церковная история. СПб., 1993.
Евтропий. Краткая история от основания города. Пер. А.И. Донченко. Римские историки IVb. М., 1997.
Кассий Дион Коккейан. Римская история. Кн. LXIV–LXXX. Пер. с древнегреческого под ред. А.В. Махлаюка. Коммент, и статья А.В. Махлаюка. СПб., 2011.
Павел Орозий. История против язычников. Книги VI–VII, пер., комментарий, указатели и библиография В.М. Тюленева. СПб., 2003.
Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле. СПб., 2005.
Zonaras. Epitome Historiarum. Leipzig, 1871.
Рекомендуемая литература
Адриан Голдсуорти. Падение Запада. Медленная смерть Римской империи. М., 2014.
Бахметьева А.Н. Полная история Христианской церкви. М., 2008.
Брантом Пьер. Галантные дамы. СПб., 2007.
Буданова В.И. Варварский мир эпохи великого переселения народов. М., 2ООО.
Галилея в эпоху Мишны. – Евреи в Римской империи в эпоху Талмуда (период Мишны с 70 по 220 гг. н. э.). Книга 1. Сборник цитат. Тель-Авив, 1999.
Гиббон Эдуард. Закат и падение Римской империи. – СпБ., 2020.
Голдсуорти А. Во имя Рима. Люди, которые создали империю. М., 2006.
Грант М. Римские императоры. М., 1998.
Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1996, т. II.
Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону. 1997.
Дмитров А.Д. Движение багаудов. – «Вестник древней истории». 1940 г. № з – 4, с. 101–114.
Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 1999.
Каргальцев А.В. Религиозная политика Септимия Севера в свете антихристианских гонений. – Религия. Церковь. Общество. 2018. Выпуск VII, с. 168–181.
Князький И.О. Адриан. М., 2020.
Князький И.О. Император Август и его время. СпБ., 2022.
Князький И.О. Император Диоклетиан и закат античного мира. СПб., 2010.
Ковалёв С.И. История Рима. М., 1998.
Колосовская Ю.К. Римский провинциальный город, его идеология и культура. – Культура Древнего Рима. Т. II, М., 1985.
Кравчук Александр. Галерея римских императоров. Екатеринбург – Москва, 2011.
Крист Карл. История времён римских императоров. Том 1, 2. Ростов-на Дону, 1997.
Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. М., 1994.
Лебедев П.Н. Трансформация власти в Римской империи в III в. н. э. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03. Всеобщая история. М., 2010.
Малькольм Колледж. Парфяне. Последователи пророка Заратустры. М., 2004.
Марков К.В. Дион Кассий о римском присутствии в Британии. – Британия: История, культура, образование: Тезисы докладов Международной научной конференции 28–29 мая 2008 г., Ярославль, 2008, с. 16–17.
Махлаюк А.В. Историк «века железа и ржавчины». – Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги. LXXIV–LXXX, СПБ., 2015, с. 372–437.
Махлаюк А.В. Политические последствия военных реформ Септимия Севера. – Римская слава. Политика, государство и право. 16 ноября 2009 г. https://www.roman-glory.com/maxlayuk-reformy-severa
Махлаюк А.В. Римские войны. М., 2003.
Махлаюк А.В., Негин А.Е. Повседневная жизнь римской армии в эпоху Империи. СПб., 2021.
Моммзен Т. История Рима. Т. V, М., 2022.
Мэри Бирд. SPQR. История Древнего Рима. М., 2017.
Нельсон Кэрол Дибвойз. Парфянское царство. М., 2019.
Нетушил Н.В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894.
Паркер Г. История легионов Рима. М., 2017.
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.
Ренан Эрнест. История первых веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991.
Ренан Эрнест. Марк Аврелий и конец античного мира. Ярославль, 1991.
Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи. СПб., 2ООО, т. I.
Рябов А.Ю. Антисенатские тенденции в политике Септимия Севера. – Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2002, с. 201 – 20б.
Рябов А.Ю. Цели военных реформ Септимия Севера и их влияние на эволюцию имперской политической системы. – Жебелёвские чтения. Тезисы докладов научной конференции 29–31 октября 2001 г. СПб., 2001, с. 187–190.
Савин Н.А. Военная история Римской империи от Марка Аврелия до Марка Макрина. 161–218 гг., СПб., 2023.
Сергеев И.П. Римская империя в III веке: проблемы социально-политической истории. Харьков, 1999.
Смышляев А.Л. Императорская бюрократия при первых Северах. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. М., 1977.
Смышляев А.Л. Септимий Север и римская юриспруденция. – Правоведение. 1975. № 5, с. 62–69.
Соколов Г.И. Римское искусство. – Культура древнего Рима, т. I, М., 1985, с. 336–430.
Соколов Г.И. Скульптурный портрет мальчика из ГМИИ. – Советская археология, 1965, № 4, с. 137–143.
Соломатин М.Д. Социальный состав оппозиции императорскому режиму в Римской империи в правление Пертинакса. – Межвузовский сборник научных статей «Античность Европы». Пермь, 1992, с. 56–61.
Стивен Дандо-Коллинз. Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской империи. М., 2013.
Федченков Д.А. От Антонинов к Северам. Система принципата на рубеже II–III веков н. э. – Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03. Всеобщая история. Великий Новгород, 2006.
Федченков С.А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность. Сергиев Посад. 1917.
Фёдорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976.
Фёдорова Е.В. Люди императорского Рима. Ростов-на-Дону, 1998.
Хафнер Герман. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. М., 1984.
Циркин Ю.Б. Политическая история Римской империи. Т – 1, 2. СПб., 2019.
Чернявский Станислав. Парфянская империя. М., 2019.
Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1999.
Широкова Н.С. Римская Британия. Очерки истории и культуры. СПб., 2016.
Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957.
Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987.
Alfoldy G. Eine Proskriptionliste in der Historia Augusta, – Bonner Historia Augusta – Colloquium. Bonn, 1970, s. 1 – 12.
Aube’ В. Les chretiens dans L’Empire romain de la fin des Antonins au milieu du III ciecle (180–249). Paris, 1881.
Birley A.R. Hadrian. The Restless Emperor. London, New York, 1997.
Birley A.R. Septimus Severus, the African Emperor. London; New York, 1999.
Bryant E. The Reign of Antoninus Pius. – Cambridge, 1995.
Bersanetti G.M. Perenne e Commodo. – Athenaeum. 1951, № 5. Vol. 29, p. 151–170.
Bury J.B. A History of the Roman Empire from its Foundation to the Death of Marcus Awrelius. London, 1893.
Campbell D. What Happened at Hatra? The problems of the Sever-an Siege Operations. – The Defence of the Romaan and Byzantine East. Oxford, 1986, p. 51–58.
Daguer-Gagey A. Septime Severe, un empereur persecuteur des chretiens? – Revue de’etudes augustiniennes et patrisiques. 2001. F. 47, p. 4–5.
Fergus Millar. A Study of Cassius Dio. Oxford, 1964.
Grunewald Th. Bandits in the Roman Empire. Myth and Riality. London, New-York, 2004.
Levick Barbara. Julia Domna. Syrian Empress. London. New York, 2007.
Lewis N. When Did Septimins Severus Reach Egipt? – Historia, 1979, Bd.28. Hft. 2.
Maxwell G.S. The Romans in Scotland. Edinburgh, 1989.
Munro-Hay Stuart. Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity. Edinburgh, 1991.
Potter D. The Roman Empire at Bay, AD 180–395. London, 2004.
Pummer R. Early Christian Autors on Samaritan and Samaritan-ism: Texts, Translations and Commentary. Tubingen, 2002.
Roman Epigraphy, – Ch. Bruun, J. Edmondson. Oxford; New-York, 2014.
Schulz F. History of Roman legal Science. Oxford, 1946.
Seyrig H. Le culte du soleil en Syrie à l’epoque romaine. – Siria, 1971, t. 48, fasc. 3–4, p. 337–373.
Syme R. Appendixes. – Tacitus, Vol. 2, Oxford, 1958.
Wotawa A. Didius. – Paulys Realencyclopadie der classischen Alterumswissenschaft. Stuttgart, 1903, Bd. V, 1 – Koi. 418.